
Бесплатный фрагмент - Прошедшее время
Перед вами книга коротких рассказов двух авторов: Рены Арзумановой и Александры Ходорковской. Обе живут в Соединенных Штатах, пишут давно и обе в этом году вышли в финал Международного литературного конкурса имени Исаака Бабеля. У каждого из этих авторов — свой стиль, своя манера, свои тематические предпочтения, и спутать их невозможно.
Александра Ходорковская работает в жанре автобиографии. Запоминаются детали, фразы, парой мазков нарисованные портреты близких людей. Удивительно точно «схвачена» эпоха и страна, из которой мы все родом.
Рассказы Рены Арзумановой — это, скорее, «скрытая драматургия». Они напоминают сжатую пружину, которую если распрямить — получится мини-пьеса: будь то трагедия или комедия. Авторов связывает многолетняя дружба, это своеобразный тандем, поэтому и книга получилась удивительной: цельной, и в то же время выстроенной на контрастах двух стилей, манер и художественных миров.
Я желаю книге «Прошедшее время» счастливого плавания и благодарных читателей, а Рене и Саше — творчества и неиссякаемого жизнелюбия.
Людмила Свирская (Прага),
Член Союза Российских писателей.
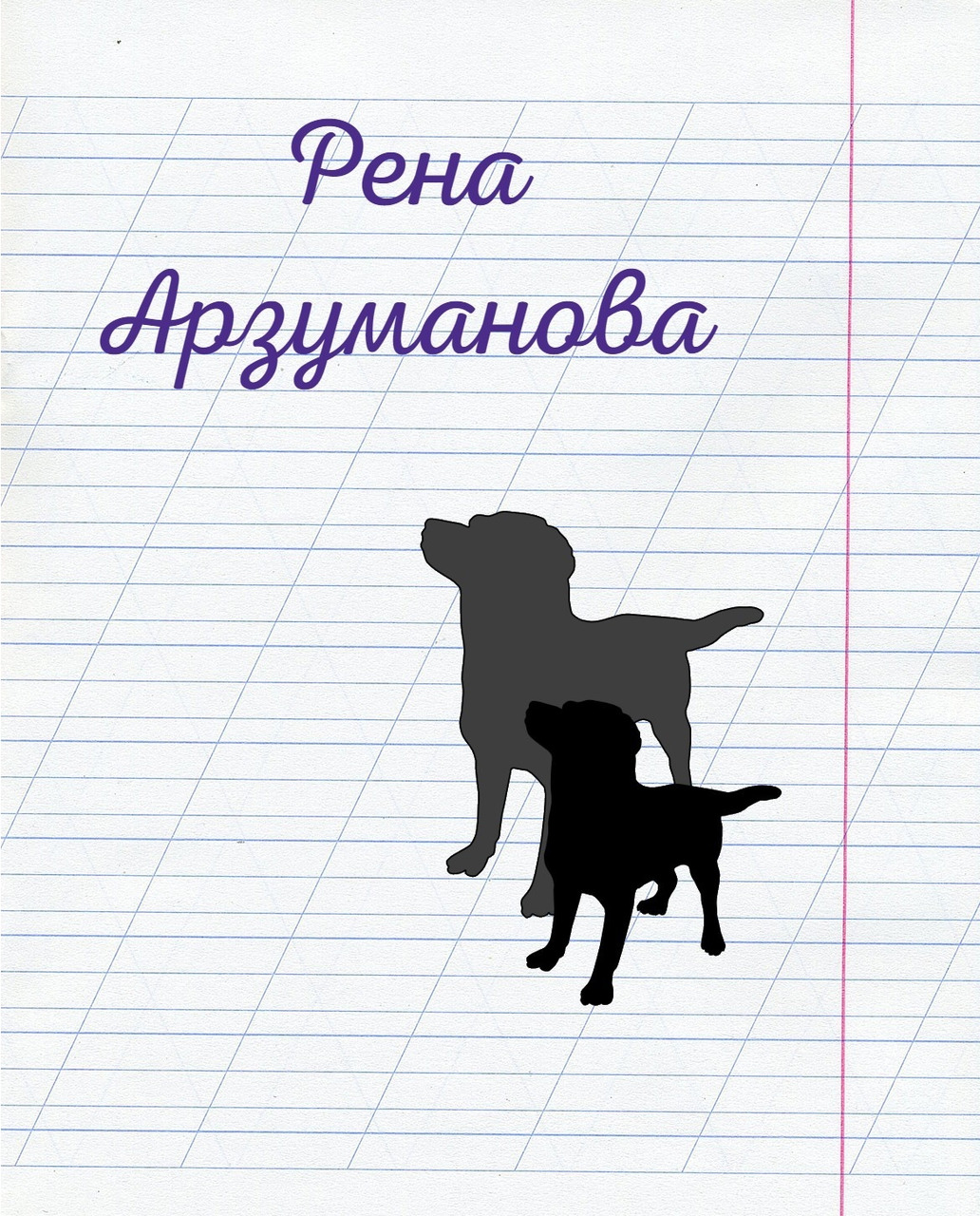
Приблуда

Пса, который лежал под лавкой, Ольга Михайловна заметила издалека. И сразу же испортилось настроение. Вечно к ней кого-то прибивает: к ней самой, ее квартире, ее могилам.
Ольга Михайловна не торопясь шла проложенной между оградами дорожкой, скользкой из-за утренних заморозков, и думала, что на кладбище ни души, а от этой собаки не знаешь, чего и ждать. А вдруг она бешеная? Или злая? А лопата лежит под той же самой лавкой, под которой затаилась собака. Получается, что собака вооружена и клыками, и лопатой, а она сама, как всегда, не готова к нападению. Мама так и говорила — живешь, как ковыль на ветру. Ни камня у тебя за пазухой, ни мыслей хитрых в голове. Оттого, по мнению мамы, к ней одни дураки липли. Другие, кто поумнее, от дураков отбивались, а Ольга… Но в этом вопросе Ольга Михайловна с мамой была не согласна. Правда, не возражала, в спор не вступала, отмалчивалась, но… Не соглашалась, нет. Никакие дураки к ней не липли. Она как вышла замуж за Михаила, так и прожила с ним тридцать лет, как один день. И, уж если быть честной, к ней и до Михаила никто так уж сильно не лип. И замуж она вышла не рано. Мама всех, кто появлялся на ее горизонте, приглашала в гости и давила интеллектом. Так давила, что тихо и интеллигентно выдавливала всех кандидатов на любовь и семейное счастье из жизни Ольги. А Михаил неожиданно остался. Сидел, глядя в угол, будущей теще не возражал, эрудицией не блистал, но и не искал путей к отступлению.
А еще Ольга Михайловна думала о том, что в городе уже весна, а на кладбище зима все еще хозяйничает. Все еще диктует свои условия. Почему так? Ольге Михайловне нравилось задавать самой себе вопросы, на которые не существовало однозначного ответа. Нравилось витать в облаках, как считала мама.
— Ну? — обратилась она к собаке, остановившись у ограды. — Иди отсюда! Иди давай! Тебя мне еще не хватало. Приблуда!
Собака, не издав ни звука, еще глубже забилась под лавку. Ее била крупная дрожь, и морду покрывал иней.
— Господи, — проговорила Ольга Михайловна и обреченно вздохнула. — И давно ты тут лежишь? Земля-то совсем холодная. Снег только-только сошел. Живешь-то ты где?
Собака жалобно заскулила и забила хвостом по земле. Ей очень хотелось сочувствия в виде чего-нибудь вкусного.
— Недавно… — Ольга Михайловна по-своему поняла собаку. — А мои тут давно лежат. Папа уже пятьдесят лет как умер. Я совсем девочкой была. Мамы десять лет как не стало. А Мишенька, муж мой, год как меня оставил. Вот так вот. Твоих тут нет. Ты, приблуда, могилой ошиблась. Шла бы ты подобру-поздорову.
Собака аккуратно выползла из-под лавки, села у могилы Михаила и опустила голову. Агрессии она не проявляла.
— Так я войду? — спросила Ольга Михайловна и, выждав минуту и убедившись, что собака продолжает смотреть внимательно, но не зло, открыла калитку в ограде и прошла к лавке. Поставила сумку, достала из нее аккуратно сложенное старое полотенце и бутылку с водой.
Собака внимательно следила за Ольгой Михайловной. Шевелила ушами и не проявляла никакого желания покинуть территорию.
— Сейчас мы с тобой памятники помоем, а потом помянем. Ты, поди, голодная? Я вот не очень голодная. Я, честно говоря, вообще как-то без аппетита в последнее время живу. Без интереса. Одной жить скучно. Помолчать не с кем. А как стало не с кем помолчать, я такой разговорчивой заделалась. Даже самой смешно. Так что можем с тобой поговорить, пока я памятники мою. Я вот тебе признаюсь, что при отсутствии аппетита дома, на кладбище я почему-то ем с удовольствием. Ем немного, но в охотку. Даже и не знаю почему. Вроде как на природе. Вроде как пикник. И тишина вокруг очень интересная. Птицы поют, электричка гудит вдалеке. И вроде как не одна… Со своими… — Ольга Михайловна смочила полотенце водой из бутылки и начала с памятника мужа. — Я вообще люблю на кладбище приходить. Тебе, приблуде, могу признаться. Да ладно, ты хвостом-то не бей. Я сама знаю, что странно это. Но мне тем не менее нравится. Может, конечно, потому, что мне больше ходить не к кому. Мои все тут лежат. Не к Райке же ходить? Райка не в счет. Я к ней ходить не люблю. Да и не хожу почти. Райка — это сестра моя. Двоюродная. Ехидна такая. Всю жизнь у нас в квартире юбкой мела. Тю-тю-тю да тю-тю-тю. Сколько раз и я, и мама ей на порог указывали, а с нее — как с гуся вода. Она даже одно время на Мишу моего навострилась. Так мне казалось. Райка, конечно, отказывалась. А кто в такой ситуации отказываться не станет? Миша в ее сторону даже и не смотрел. Верным он был очень. Но мама говорила, что не верный он, а себе на уме. Кто же из теплой квартиры да от полной тарелки уйдет? А я маме возражала, что у Райки, мол, тоже квартира. И готовить она любит. Но мама моих возражений не слушала, только рукой на меня махала. Мишу она не любила. Приблудой называла. Потому как лимитчиком он был. Без квартиры. Ну и что с того, что без квартиры, правда? Вот и ты со мной согласна. Киваешь. Да и как тебе не согласиться, если ты и сама приблуда. Самой жить негде. Так вот. Мама мужа моего просто не выносила. А Райка во всем ей поддакивала. Я так понимаю, что она свой интерес имела. Все надеялась, что Миша не выдержит и уйдет. От меня к ней уйдет. А он остался. И мама, как мне сейчас кажется, поэтому Райку и привечала, что рассчитывала нас развести.
Ольга Михайловна, закончив протирать могилы, выжала уже ставшее грязным полотенце, аккуратно сложила его в сумку. Села на лавочку. Собака внимательно смотрела на женщину. Помнила, что после уборки начнут поминать. Что такое «поминать», собака не очень понимала, но хотелось попробовать. Вдруг это «поминать» окажется вполне себе вкусным.
— Хорошо-то как, — тихо проговорила Ольга Михайловна. — Люблю я спокойно посидеть после уборки. Не знаю, подходит ли к кладбищу определение «благостно», но мне тут благостно. Только одна мысль все время мучает: кто меня хоронить будет? Я, конечно, помирать еще не собираюсь, но все же? Райка, поди. Больше и некому. А кто Райку потом похоронит? Эх, поторопился Миша. Права была мама: никакой от него пользы не случилось. Ты знаешь, пока мама жива была, я Мишу любила, а как мамы не стало, что-то со мной произошло. Начала его мамиными же словами попрекать. И приблуда он, и ленивый, и безрукий. И как-то раз в сердцах сказала, что и не мужик он вовсе. А после того, как и его не стало, все думаю: что же произошло со мной тогда? Получается, что я мужа любила вопреки маме? Чтобы ее позлить? Так у меня же и в мыслях не было злить ее. Для чего? И что со мной тогда произошло, что я стала вдруг вести себя, как мама? Молчишь? Не знаешь, что сказать? Вот и я не знаю…
Собака выжидательно смотрела на Ольгу Михайловну. Когда их взгляды встречались, собака красноречиво переводила взгляд на сумку. Она, конечно, готова была поддержать разговор с этой суматошной женщиной, но не на пустой же желудок. На пустой желудок на такие серьезные вопросы, которые перед ней ставит незнакомка, и не ответишь. Собака знала за собой эту черту: когда она голодная, она не может трезво рассуждать. Все, что в жизни с ней плохого случалось, — случалось на голодный желудок. А из сумки, которая стоит на скамейке, доносятся такие изумительные запахи! Сумка пахнет домом и любовью. Мясом и чем-то сладким. Если ей, собаке, предоставят выбор, то она, конечно, выберет мясо. А потом любовь и дом. А потом уже что-то сладкое. Но это на голодный желудок. А если бы она делала выбор на сытый желудок, то, само собой, сразу бы выбрала любовь. Она успела заметить, что к любви в этой жизни непременно примешиваются и дом, и мясо, и что-то сладкое для баловства.
— И деток у нас с Мишей не случилось. Это плохо, — вздохнула Ольга Михайловна и достала из отдельного пакета очередное чистое полотенце. Смочила его оставшейся в бутылке водой, протерла лицо и руки. — Если бы были детки, то я бы не беспокоилась, кто хоронить меня будет. Хотя, конечно, хочу я тебе сказать, случаются и такие дети, что и не захочешь, чтобы они тебя хоронили. У Райки тоже детей нет. Да Райка и замужем-то не была. Не нашлось на нее кандидата. Я вот в последнее время часто думаю: если бы я была с Мишей своим подобрее, может, он и пожил бы еще. Чего мне не хватало? Какого рожна? Ну, тихий он был. Неприспособленный. Зато и не ругался никогда. Я ему слово, а он в ответ молчит. Я — два, а он только плечами пожимает. Недоуменно так пожимает. Получается, что всю жизнь мужик недоумевал: за что ему жена с тещей такие сварливые попались? И как мне теперь с мыслями этими жить? Все мы, скажу я тебе, задним умом сильны. Или вот еще о чем думаю: если бы Миша устал от моего ворчания и ушел к Райке, может, у них и детки бы родились. И было бы кому нас с Райкой похоронить. И я бы сейчас не с тобой Мишу поминала, а с его детками. Или не поминала бы. Кто поминает бывших мужей?
Ольга Михайловна достала из сумки кусок старой клеенки, расстелила на лавке. Выложила на клеенку толсто нарезанную и завернутую в кальку колбасу, два вареных яйца, домашние пирожки и одно пирожное-картошку. Собака, шумно сглотнув слюну, не отводила взгляда от импровизированного стола. Она прекрасно понимала, что самой хватать продукты нельзя. Даже и думать об этом не стоит. За такое можно и по морде получить. В людях собака разбиралась хорошо. Знала, что никто не потерпит такого разнузданного поведения. А она потерпеть еще несколько минут вполне себе может. Когда уже понятно, чем твое терпение вознаградится, тогда и голод уже не так страшен. Собака подумала, что ей сегодня крупно повезло. Наткнуться на такого доброго человека, который руками не машет, не кричит да еще ласково называет приблудой, — это большая удача! Она, собака, о людях много чего знает. Много чего нелицеприятного. Но говорить об этом не торопится. Не в ее это правилах.
— Голодная, поди? — спросила Ольга Михайловна. — Если бы я знала, что буду не одна поминать, то больше бы продуктов захватила. А так беру всего понемногу. Пирожные вот мама любила. Приношу одно. Михаил большим любителем пирожков был. Очень он мои пирожки уважал, правда, я их ему нечасто пекла. Из вредности. А теперь, как на кладбище собираюсь, пеку. И все думаю: а оно ему теперь надо? Или это мне надо? Эх, кабы знать, что он так торопливо уйдет. Ничего мне напоследок не сказал. Ни слова. Молча жил, молча ушел. И мне не дал возможности повиниться при его жизни. Не захотел снять груз с моей души.
Ольга Михайловна вздохнула и посмотрела на фотографию мужа на памятнике. Где-то там, за горизонтом, прокричала электричка. Собака навострила уши. Она этот звук не любила. Столько с электричками неприятного связано. Последний хозяин привязал ее к лавке в вагоне и ушел. Для чего привязывал, спрашивается? Ему достаточно было просто ворота дома открыть, и она бы сама ушла. Или не ушла? Предавать и уходить — это не в собачьих правилах. Повезло с хозяином — твое счастье. Не повезло — тоже счастье. Жить без хозяина — это последнее дело. Собака позволила себе тихо заскулить. Гораздо тише, чем скулила эта электричка. Надо же как-то человеку о себе напомнить? Напомнить о том, что они собрались поминать, а не разговоры разговаривать.
Ольга Михайловна вздрогнула, оторвала взгляд от фотографии и принялась чистить яйца. Собака глубоко вдохнула воздух. Все, что было выложено на клеенке, очень вкусно пахло. Гораздо вкуснее, чем снег и свежий воздух, которым так любят наслаждаться люди. Но собака людей за это не осуждала. Она знала, что люди слабо разбираются в запахах. О чем говорить, если они не могут по запаху определить любовь. А это, на взгляд собаки, самый важный запах. Даже важнее запаха домашних пирожков и колбасы.
— А что любил папа, я не очень помню. Ему приношу колбасу. Мне кажется, что колбасу все мужчины любят. А яйца приношу для порядка. Какой пикник без яиц? Правда?
Ольга Михайловна протянула очищенное яйцо собаке. Та аккуратно взяла яйцо с ладони и проглотила. Даже разжевывать не стала.
— Какая же ты голодная! — поразилась Ольга Михайловна. — А я, честно говоря, даже и не думала, что собаки яйца едят. У меня собак никогда не было. Как-то раз хотела кошку завести, но мама сказала, что ей и мужа моего хватает. Сказала, что одного приблуды в доме достаточно.
Собака, отреагировав на уже полюбившееся слово «приблуда», забила хвостом и позволила себе негромко поскулить. Совсем-совсем негромко. Просто чтобы подтвердить, что яйца она любит. И колбасу любит. И домашние пирожки. И ей, собаке, совсем неважно, с чем эти пирожки. Она всякие за свою жизнь ела: и с картошкой, и с вареньем, и с сосиской. И даже пару раз ей перепадали пирожки с мясом. Свежими они уже, конечно, не были. Попахивали даже. Но ей, если уж быть откровенной, все равно мясные пирожки очень понравились. Гораздо больше, чем свежие с вареньем. Собака вообще считала себя не капризной. Считала, что очень подходит для любви и домашнего проживания. Она никого не переделывает на свой лад, в еде непривередлива. Честная и очень верная. В ней есть все те качества, которые люди упорно ищут друг в друге и не всегда находят. А если и находят, то тут же начинают сомневаться — любит, не любит. Верит, не верит. Это потому, что не различают запахи. Эх, если бы она, собака, могла говорить по-человечески, она бы людям все разъяснила. Хотя, с другой стороны, лучше не говорить. Любой разговор — себе дороже. Ей, собаке, достаточно и общения с себе подобными. Вот как-то раз, когда она еще жила на даче со своим хозяином, еще до того, как он ее привязанную в электричке оставил, собака, которая жила на соседнем участке за забором, рассказала, что ей хозяйка кашу варит. На мясном бульоне. Она, конечно же, соседской собаке сразу поверила. Собаки не врут. Но представить кашу на мясном бульоне не получилось никак! Она в дырку в заборе на соседскую собаку посмотрела. Такая замухрышка! Маленькая, ушки торчком, шерсти нет, только хохолок птичий торчит. А ей — кашу на мясном бульоне! Нет, людей понять очень сложно.
Ольга Михайловна, немного подумав, протянула собаке пирожок. Пирожок оказался мясным. Проглотив пирожок, собака от восторга закатила глаза и почувствовала готовность следовать за этой доброй женщиной хоть на край света. На самый-самый край. Туда, где нет электричек, хохлатых собак, но есть каша на мясном бульоне. Есть верность, любовь и уверенность в завтрашнем дне. Есть дом. Или будка во дворе. Или коврик у порога. Собаке никогда не было важно, где спать.
— Что же мне с тобой делать? — Ольга Михайловна сначала внимательно посмотрела на собаку, затем на продукты, выложенные на клеенке. — Я, конечно, могу все тебе отдать. Мне не жалко. Но вдруг тебе потом плохо станет? С непривычки?
Собака, поразившись сказанному, тихо гавкнула. Как это — станет плохо с непривычки? От еды? Плохо может быть только от голода, от нелюбви окружающих. Собака, вытянув шею, положила голову на колени женщины. Она не знала, как еще в этой ситуации объяснить, что она, собака, без каких-либо неприятных последствий для здоровья, может съесть все. Если ей, конечно, предложат. Если не пожалеют.
— Ах ты Боже мой… — Ольга Михайловна от неожиданности вся подалась назад и чуть не упала с лавки. Затем, подавляя страх, положила руку на собачью голову. Собака зажмурила глаза. Женщина погладила собаку. Наткнулась на веревку, обвязанную вокруг шеи. Под густой свалявшейся шерстью веревка была не видна. — Ах ты Боже мой!
Собака замерла. В этом, во второй раз произнесенном женщиной «Ах ты Боже мой» ей почудился явный запах любви. Запах был гораздо сильнее, чем от «приблуды».
— Кто же это тебе веревку на шее так затянул? Какой такой умник? Какой такой зверь?
Ольга Михайловна повела рукой вдоль веревки, чтобы нащупать узел, вдруг удастся развязать. Узел оказался крепким. Завязывали так, чтобы на всю оставшуюся собачью жизнь. Рядом с узлом болтался металлический жетон, на котором было выбито слово «Миха».
— Миха! — поразилась Ольга Михайловна. Она вскрикнула так громко, что собака моментально открыла глаза и отпрянула от женщины. — Тебя зовут Миха?
Собака смотрела во все глаза. Что-то изменилось. Что-то эту женщину так потрясло, что до ненависти остался всего один шаг. Или до любви. До такой любви, которая надолго. Собака замерла. Она боялась сделать что-то не так. Ненависти ей совсем не хотелось. Тем более сейчас, когда они так славно начали поминать и угощаться яйцами и пирожками. Наверное, лучше не признаваться, что ее зовут Миха. Ей, если честно, и самой это имя не нравится. Ни у кого не получалось произносить это имя нежно, с любовью. С той самой любовью, которая изумительно пахнет, когда женщина произносит «приблуда» или «ах ты Боже мой».
— Ах ты Боже мой! — повторила Ольга Михайловна и перевела внимательный взгляд с собаки на памятник. Она смотрела на портрет мужа и что-то сама себе придумывала. Затем взяла в каждую руку по пирожку и протянула собаке. Собака не заставила себя уговаривать. Она с удовольствием приняла угощение. К ее радости, и эти пирожки оказались мясными. Ольга Михайловна погладила собаку по голове.
— Извини меня. Извини меня, дуру. Я теперь буду часто печь пирожки. При жизни тебя не баловала, так хоть сейчас…
Собака подошла ближе, вновь положила морду на колени женщины и счастливо заурчала. Она очень любила урчать на сытый желудок и от счастья.
Ольга Михайловна не распознала в собачьем вое запаха счастья. Она уловила что-то совсем другое. Прикрыла лицо руками и горько заплакала. Плакала и понимала, что это как раз те слезы облегчения, которые она так ждала весь последний год. Собака подвывала.
— А знаешь что? — проговорила Ольга Михайловна сквозь слезы и нежно обняла собаку. — Пойдем домой! Пойдем домой, мой дорогой! Я буду тебя баловать и никогда больше не назову приблудой!
— Ах ты Боже мой, — радостно взвизгнула собака. — Ах ты Боже мой! За тобой — хоть на край света! Какая же ты замечательная!
* * *
— Какая же ты дура! Для чего ты привела в дом этого пса? Ты посмотри на него — грязный, облезлый! Еще, небось, и блохастый!
— Сама ты блохастая! — сорвалась на крик Ольга Михайловна.
— Вот обзываться ты всегда была мастерицей! А подумать, прежде чем что-то сделать, — это нет! Это не твое! Ноги моей больше не будет в твоей квартире! Ты и так чистоплотностью не отличалась, а уж с собакой твоя квартира в хлев превратится!
— И не приходи! Подумаешь! Тебя и сегодня никто не приглашал!
— Что значит — не приглашал? — Райка явно растерялась. — Сегодня же год, как Миши не стало. Помянуть надо. С кем еще тебе мужа поминать, как не со мной.
— Я вот с собакой уже помянула! — не сдержалась Ольга Михайловна. — С собакой куда лучше, чем с тобой! Спокойнее!
— С собакой лучше? С собакой спокойнее? — Райка вновь перешла на крик. — Ну и поминай с этой собакой приблудной! А я домой пошла.
Райка резко отодвинула стул и присела к столу. Поджала губы. Ни на сестру, ни на собаку она не смотрела. Смотрела на портрет Михаила, который висел на стене.
Собака тоже старалась ни на кого не смотреть. Она забилась в угол, мелко тряслась и думала, как бы не сделать чего лишнего, чтобы из дома не выгнали. Надо сначала разобраться, кто кому кем приходится. Эта горластая Райка, которая пришла незваной, только прикидывается злой, а на самом деле она добрая. Собака своему нюху доверяет. Надо бы, конечно, на эту Райку полаять для порядка, чтоб не очень-то она голос повышала. А вдруг она хозяйкина дочь? На ребенка гавкнешь, а тебе в ответ — по морде. Люди иногда не понимают, что полаять можно и для пользы дела. Не со зла, а в воспитательных целях. А в родственных хитросплетениях и разнице в возрасте собака не разбиралась вообще. Это не собачья тема. Ее дело — любить и защищать. А Олю, которая накормила и привела домой, собака уже полюбила всем сердцем.
— Где ты этого пса подцепила? — спросила Райка и пододвинула к себе сумку, которую, как пришла, так у дивана в сердцах и бросила. Вид этой облезлой собаки испортил ей настроение.
— На кладбище, — спокойно ответила Ольга Михайловна. Она знала, что Райка отходчива, и сама тоже никогда в бутылку не лезла.
— Оля! — Райка всплеснула руками. — Что ж ты дурная такая! С кладбища ничего нельзя домой приносить.
— Я ничего и не приносила. Собака своими ногами пришла.
— Своими ногами… — передразнила Рая и полезла в сумку.
Собака подалась вперед. Она давно почувствовала, что из сумки очень вкусно пахнет.
Рая аккуратно вынула и поставила на стол бутылку красного вина, банки с винегретом и салатом. Завернутую в фольгу и все еще теплую буженину. Достала маленькую кастрюлю с куриными котлетами, которые очень любила Ольга Михайловна. В отдельной кастрюле — картофельное пюре, заправленное жаренным на сливочном масле луком.
Собака громко сглотнула обильную слюну и забила хвостом по полу.
— Как ты все это донесла? — спросила Ольга Михайловна.
— Донесла. Не в первый раз. На тебя в плане еды положиться нельзя.
— Почему это? — моментально обиделась Ольга Михайловна. — Я с утра пирожков напекла, какие Миша любит. И еще у меня колбаса есть.
— Колбаса… — вновь передразнила Райка. — Неси свои пирожки. А колбасу собаке оставь.
Собака довольно заурчала. Она поняла, что не ошиблась в этой Райке. Нормальная женщина. Не вредная. Не может быть вредным человек, который не жалеет еды для незнакомой собаки.
— А ты мне не указывай, что делать! — вскипела Ольга Михайловна. — Колбасу тоже на стол поставим. А собаке я кашу потом сварю. На мясном бульоне. У меня бульон остался.
Собака замерла. Даже дышать перестала. Боялась неверным движением спугнуть то самое счастье, на которое даже не надеялась, но неожиданно дождалась. Она не могла ошибиться — Ольга говорила именно о каше на мясном бульоне. Видать, не только облезлым и хохлатым такое сытое счастье приваливает. Но и таким красивым, как она. Собака искренне считала себя очень красивой.
— Ты? Ты будешь варить кашу? — в голосе Райки слышался сарказм. — Ты даже мужу кашу не варила, а собаке будешь?
— Буду! Этой собаке буду!
Собака подошла к сидящей на диване хозяйке, положила морду ей на колени и преданно посмотрела в глаза. Ольга Михайловна нежно погладила собаку и улыбнулась. Вдруг подумалось: как давно она не улыбалась. Ей очень хотелось рассказать Райке, что это не просто собака. Это Мишина душа к ней вернулась. А раз вернулась, значит, простила все прочие обиды и прегрешения. Безгрешных людей не бывает. Но души умерших возвращаются только к тем, кто этого заслуживает. Только к тем, кто прощен. И, вдохновленная этим, в принципе, самой себе назначенным прощением, Ольга Михайловна решила быть впредь доброй и терпеливой со всеми, кто ее окружает. А окружают ее только Райка и собака. Райка окружает давно, а собака — с сегодняшнего дня. Очень хотелось рассказать сестре все, о чем она передумала с того самого момента, как прочла на жетоне имя «Миха». Но что-то останавливало. Наверное, боялась быть непонятой.
Райка внимательно смотрела на сестру. Что-то новое появилось в выражении ее лица. Что-то совсем Ольге несвойственное. Мягкость какая-то. Влюбилась она, что ли? И в кого? На старости-то лет? Уже пять лет на пенсии, а туда же… Хотя эта Оля всегда была какой-то блаженной. Как хотела, так и жила. И все ей легко давалось, в то время как Раю жизнь обошла по всем фронтам.
— А почему Мише кашу не варила, а этой собаке будешь?
— Мише не готовила, потому что дурой была.
— А теперь поумнела? — Райка с удивлением смотрела на сестру. На ее памяти Оля впервые высказала критику в свой адрес.
— Поумнела.
— И кого за это благодарить надо?
— Миху, — произнесла Ольга Михайловна после недолгого колебания и нежно почесала собаку за ухом.
— Какого Миху? — испуганно спросила Рая. Умом, что ли, Оля тронулась?
— Мужа моего. Покойного. — Ольга Михайловна улыбалась. Ей вдруг стало все равно, что о ней подумает сестра. Собака учуяла блаженство, исходящее от хозяйки, и счастливо прикрыла глаза. Она не любила плакать на людях, но так хотелось! Ей впервые хотелось плакать от счастья.
— Как пса-то назвала? — спросила Райка.
Ольга Михайловна вздрогнула и посмотрела на собаку. Та напряглась и отвела взгляд от хозяйки. Решалось что-то важное. Такие моменты собака хорошо чувствовала. Очень напряженный запах. Как бы не выгнали… Райка с удивлением смотрела то на сестру, то на собаку. Такое ощущение, что промеж ними есть какая-то тайна. Смешно, конечно. Какая такая тайна может быть у Ольги, да еще с собакой.
— Приблудой назвала. Как же еще? — Ольга Михайловна погладила собаку по голове и мысленно попросила у нее прощения за это маленькое предательство. Обещала ведь, что не будет называть приблудой. Ну, не повернулся язык назвать настоящее имя собаки.
Собака облегченно вздохнула и лизнула руку хозяйки. Она не ошиблась! Не зря ей сразу же понравилось слово «приблуда». Не зря! Теперь она знала точно, что Приблудам кашу варят. Приблуда — это тебе не Миха. Это что-то совсем другое. Это новая жизнь. Лучшая жизнь.
— В этом ты вся! Вся твоя вредная сущность. Мишу всю жизнь приблудой называла, теперь собаку! Найдешь у живого существа больное место — и бьешь по нему. Если ты ей действительно будешь кашу варить, то она этой кашей подавится!
Собака от возмущения зарычала. Ольга Михайловна придержала ее за веревку, которую до сих пор руки не дошли срезать.
— О! И собака тебе под стать! Ни добра в ней, ни порядочности. Рычит на меня! Ей дай волю — она и покусает.
Ольга Михайловна, продолжая удерживать собаку за веревку, гладила ее по голове. Поглаживанием призывала к молчанию. Успокаивала. Успокаивала собаку и прислушивалась к себе. К своим новым мыслям. Новым чувствам. Почему-то совсем не хотелось вступать с этой суматошной, но, в принципе, такой привычной Райкой в перепалку.
Собака думала, что, судя по всему, эта Райка совсем не последний человек в жизни хозяйки. Если не ребенок, то явно любимица. Иначе Ольга не стала бы ее, собаку, успокаивать. Иначе дала бы вволю полаять и порычать. Люди часто склонны выяснять отношения с недругом чужими клыками и лапами. Надо попробовать порычать еще раз. Громче и смелее. И внимательнее принюхаться к реакции. Собака глубоко втянула воздух. Вкусно пахло чем-то мясным и спокойствием, которое исходило от хозяйки.
А от Райки пахло недоумением. Она никак не могла уловить настроения Ольги. На скандал не ведется, непривычно тихая и даже какая-то умиротворенная. Точно влюбилась. А она, Райка, все время пролетает мимо любви. А ведь младше Ольги. Как-то не так она живет, что ли? Что-то не то делает?
Райка вздохнула о чем-то своем, затем положила котлету на кусок хлеба и протянула сестре. И собаку осенило! Видимо, Райка хозяйку подкармливает! Вот она ей кто! Поэтому хозяйка столь терпелива. И собака с ней согласна. На того, кто обеспечивает еду в твоей миске, голос лучше не повышать. Нет, пожалуй, больше не будет она рычать на их, теперь уже общую с хозяйкой, кормилицу.
Райка тем временем открыла бутылку вина и разлила по бокалам. Один из бокалов протянула сестре и, неожиданно для самой себя, достала из кастрюльки еще одну котлету и протянула собаке.
— Ешь, Приблуда. Твоя хозяйка кашу тебе еще не скоро сварит. Да ты, поди, к кашам и непривычная. А раз непривычная, то нечего и баловать.
Собака пропустила мимо ушей это «нечего и баловать». К котлетам она, между прочим, тоже непривычная. Котлетами ее прежде тоже не баловали. Собака порадовалась, что не ошиблась в Райке: ворчливая, но добрая. Она без лишних уговоров съела котлету и всхлипнула. Не могла поверить своему счастью. Боялась, что не справится с эмоциями и на радостях сделает лужу. А это уж точно никому не понравится. Жизнь собаку не баловала и многому научила.
Ольга Михайловна с бокалом в руке продолжала сидеть на диване. Думала, что уже очень давно они с сестрой так мирно не сидели. Все время что-то делили. Собачились. Не уступали друг другу ни в чем. А теперь, с появлением собаки, все изменится. Ольга почему-то была в этом уверена. С собакой в доме они все будут жить дружно. По-человечески жить будут, как под Мишиным присмотром. Ох, как она перед ним виновата! Как виновата! Замучила она его своими придирками. И ведь сама от злости своей удовольствия не получала. Ольга Михайловна смахнула слезу. Собака заскулила.
— Давай, Оленька, Миху твоего помянем, — Райка, не чокаясь, отпила из бокала вино. — Хороший был мужик. Спокойный. Терпеливый.
Собака навострила уши, перестала бить хвостом по полу и настороженно посмотрела на Райку. Она только сегодня познакомилась со словом «поминать», и оно ей очень понравилось. Поминать — это вкусное яйцо и мясные пирожки. А Миха — это ее прежнее имя. И как ее имя связано с поминками — она не понимала. Не понимала и очень боялась, что это непонимание выйдет ей боком. Боялась сделать что-то не так. Она готова не реагировать на имя Миха, но не реагировать на слово, которое пахнет мясными пирожками, у нее не получится. Она это точно знает.
— Хороший, — подтвердила Ольга Михайловна и тоже отпила вино и, неожиданно для себя самой, спросила: — Райка, скажи мне, хотела ты Мишу моего увести?
— Мишу? Увести? Куда? — Рая выглядела очень растерянной.
Ольга Михайловна не стала отвечать. Подумала, что Райка сейчас и сама все поймет. Поди, не дура. И, честно говоря, уже жалела о том, что спросила. Какой смысл сейчас, когда Миши нет, отношения выяснять.
Рая потрясенно смотрела на сестру. До нее начал доходить смысл вопроса.
Собака внимательно следила за женщинами. Понимала, что уже полюбила обеих. Такие они добрые, суматошные и беззащитные. И настроение у них меняется очень часто. Ну, ничего, она, собака, со временем во всем разберется. Все разнюхает. И будут они жить под ее присмотром и защитой. А когда человек под защитой, то и настроение хорошее. Собака это точно знает.
— Ты что такое говоришь, Оля? Как тебе такое в голову пришло?
— Прости меня. Прости меня, дуру, — Ольга Михайловна погладила сестру по руке и пожала плечами так, как когда-то пожимал Миша. Она вдруг поняла, что это пожатие помогает не втянуться в склоку. Помогает сохранить мир.
— Он всего раз ко мне пришел, — тихо произнесла Рая. Ольга Михайловна вздрогнула и моментально отдернула руку. — Без тебя пришел. Давно. Лет двадцать назад.
— А ты?
— А что я? Я борщ ему налила. Полную тарелку. Я как раз с утра борща наварила.
— А он?
— А что он? Начал есть. А как доел — закрыл лицо руками и заплакал.
— Кто заплакал? Миша?
— Да.
— А ты?
— Я не знала, что делать, когда мужчина плачет. При мне прежде никогда никто не плакал. А потом вдруг сказала ему: «Если хочешь — оставайся». Сдуру сказала, Оленька. Поверь мне, сдуру!
— А он?
— А он погладил меня по руке и сказал: «Пойду я. Оля тоже хорошо борщ готовит. А может, еще и детки будут. Не старые мы еще». А потом добавил: «Не могу я предавать. Мне, наверное, надо было собакой родиться».
— А ты? — Ольга Михайловна прикрыла глаза и негромко заплакала.
— А что я? — Райка пожала плечами. — Я-то ведь знала, что ты борщ варить не можешь. И этим было все сказано.
— И что? — спросила Ольга Михайловна и отдала собаке надкусанную котлету, которую все еще держала в руке.
— Ничего. Поняла, что он тебя любит.
— А я вот ничего не поняла из того, что ты тут наговорила.
Ольга Михайловна посмотрела на собаку. Собака моментально положила морду ей на колени и преданно заглянула в глаза.
— Грязная она какая-то, собака эта, — произнесла Рая. Она торопилась сменить тему неприятного разговора.
— Грязная, — согласилась Оля.
— И в проплешинах вся. Болеет, поди. Надо бы ее марганцовкой обработать. Или еще чем.
— Обработаю.
— Давай помогу.
— Давай, — Ольга Михайловна внимательно посмотрела на сестру. Вспомнила, как они вместе обрабатывали маме пролежни. Как она вообще могла об этом забыть?
— Только надо бы ее искупать сначала.
— Искупаем. Вода, слава богу, есть.
Собака сидела у ног Ольги и боялась спугнуть удачу. Если женщины планируют ее искупать и что-то чем-то будут ей обрабатывать, значит, точно не выставят ее на улицу. А обработку она потерпит. Это не самое страшное в жизни. И не надо ей никакой каши! Не надо! И подстилки красивой не надо! Ей достаточно знать, что она теперь Приблуда. Достаточно ладони хозяйки на голове, поминок, надкусанных котлет и той любви, которая сейчас витает в воздухе. Такой сильной любви она прежде и не встречала.
— Марганец-то у тебя есть?
— Есть.
— Молодец, — похвалила Рая. — Хозяйственная ты.
Ольга Михайловна улыбнулась и пожала плечами. Ее очень давно никто не хвалил. То ли было некому. То ли было не за что.
— А знаешь что? — неожиданно произнесла Ольга. — Переезжай-ка ты к нам жить. Что мы с тобой, как два сыча, по разным углам ютимся?
— К кому это — к вам? — уточнила Рая. Казалось, что предложение сестры ее ничуть не удивило.
— К нам — это ко мне и к Михе. Собака вздрогнула, но тут же взяла себя в лапы. Она давно уже научилась прощать ошибки и оговорки людям. Миха так Миха. Она не будет спорить и выяснять отношения. Собака еле заметно пожала плечами и улеглась так, чтобы находиться в одинаковой близости к обеим женщинам.
Рая внимательно смотрела на сестру. Какой Миха? Что-то Оля начала заговариваться. Может, что с головой не то. Они уже, конечно, обе не девочки. Действительно, надо бы съехаться. Ольге и самой уже пригляд нужен, а тут еще и собака прибилась к ним. Да, именно к ним.
— А квартиру твою сдавать будем, — Ольга Михайловна оживилась. — Какой-никакой, а доход. Ты сможешь с работы уйти. Будем с тобой гулять, на кладбище ходить вместе. И Михе, наверное, радостно будет.
Собака, услышав слово «гулять», моментально поднялась на лапы. Погулять бы ей совсем не помешало. Женщины продолжали сидеть. В воздухе сильно пахло тихой любовью. Собака могла различить много оттенков запаха любви. Гулять с ней никто не торопился. Ничего, подумала собака, она со временем приучит их к дисциплине. Любовь любовью, но и порядок должен быть во всем.
— Переезжай, Рая. Не сомневайся, — Ольга Михайловна погладила сестру по руке.
— Ну, если ты считаешь, что Михе от этого будет радостно…
Собака, не справившись с нахлынувшими на нее чувствами и запахами, громко залаяла и, подскочив к Райке, лизнула подбородок. Собака не любила, когда хозяева плачут. Даже если эти слезы не пахли ни обидой, ни злобой.
Солнце над домом
В той первой и единственной в жизни экспедиции всем было жарко. А ему было хорошо. Но он так и не решился никому в этом признаться. Он готов был не только сидеть часами на солнце, но и закапываться в горячий песок пустыни.
Многое забылось. Память подводит. И сама экспедиция практически не вспоминается, вот только то ощущение счастья от жаркого солнца время от времени накатывает. Особенно в серые осенние дни.
В экспедицию тогда подался за Тонькой. Он любил ее уже года два, да проклятая нерешительность… А тут встретились на улице и она ему с ходу: еду, мол, в экспедицию. В пустыню. За красивой жизнью. Мне деревня наша уже поперек горла стоит.
Ему деревня поперек горла не стояла. Жил себе и жил. Любил Тоньку от всех по секрету. Работал. Но идея экспедиции его захватила. Или же захватила идея быть рядом с любимой? Сейчас уже и не вспомнишь. И заработать, конечно, захотелось. Хотя тогда сразу подумалось: что там, в пустыне, в песках заработаешь? И, в принципе, оказался прав.
Тоня на его решение ехать вместе никак не отреагировала. Не проявила ни радости, ни каких других чувств.
Тонька нанялась в экспедицию поваром. Он — разнорабочим. Поехали вместе. Билеты купил он. Из-за нехватки жилья какое-то время жили в одной палатке. Как-то торопливо и бестолково жили. А потом Тонька выскочила замуж за начальника экспедиции, который ей в отцы годился, и перебралась в его палатку. А он вернулся в родную деревню. Не хотел досматривать, чем этот палаточный переезд закончится. Вернулся без длинного рубля, на который, впрочем, и не рассчитывал изначально. Без любимой девушки. Но с ощущением, что жаркое солнце — это счастье.
Больше из своей деревни надолго не уезжал. Если только по какой необходимости. А необходимостей с каждым годом становилось все меньше. Семьей так и не обзавелся, навещать в городе было некого. Без того слабый интерес к культурной жизни с годами становился все слабее, пока совсем не пропал.
А сейчас, на старости лет, вдруг начал сожалеть о том, что не погнался тогда за солнцем и пустыней. Надо было не домой возвращаться, а податься в другие места. В другие пески. Под другое жаркое солнце. К другой женщине.
Дмитрий Иванович поднялся с продавленного дивана, отодвинул давно не стиранную занавеску и посмотрел в окно. Смеркается. Дождь, который уже третий день размывает дороги, и не думает заканчиваться. «А чего еще ждать?» — подумалось. В его северных краях в октябре солнца и жары никто не обещает.
Ночью спал крепко. Давно такого не случалось. Сквозь сон слышался шорох песка. Как будто кто-то над самым ухом пересыпал чистый песок пустыни из одного детского ведерка в другое. Хотелось проснуться и открыть глаза, но никак не удавалось. Сон затягивал, как в омут, накрывал чернотой. Казалось, что кто-то держит за ноги и не дает выплыть. А песок все сыпался. И чудилось, что рядом с ним, на диване, спит безразличная ко всему на свете Тонька. Обнял ее, и стало теплее.
Как ни странно, утром его разбудило солнце, бьющее сквозь неплотно задернутую занавеску. Дмитрий Иванович посмотрел на часы. Восемь утра. Обычно в октябре в это время только светает. «Чудны дела твои, Господи!» Он откинул подушку, которую ночью принял за Тоню и крепко держал в объятиях, поднялся с дивана и выглянул в окно. Его двор заливало солнце. За забором сплошной серой стеной стоял дождь. И явственно слышался звук сыплющегося песка.
Поставив на плиту чайник, Дмитрий Иванович вышел во двор. Огляделся. Солнце пекло не по-утреннему жарко. С покатой крыши дома со стороны стены, в которой не было окон, тонкой струйкой сыпался песок. Белый, чистый и сухой. Словно просеянный. Именно такой, как в той пустыне. Он приставил к крыше лестницу и поднялся. Ничего нового. Крыша как крыша. Откуда берется песок — непонятно.
Дмитрий Иванович аккуратно спустился, взял лопату и начал равномерно рассыпать песок по двору. Земля на грядках, которая еще вчера была раскисшей от дождя, высохла и растрескалась. Он присыпал трещины песком и с корнем вырвал всю чахлую растительность.
— Мить! А Мить! — раздался звонкий голос соседки. — Что это за чудеса тут происходят?
Дмитрий Иванович оперся на черенок лопаты, внимательно посмотрел на бабу Маню и усмехнулся. Вчера еще девчонкой была. Машка-соседка. Влюбилась в него ровно в тот год, когда он положил глаз на Тоньку. Он это сразу понял по тому, как часто эта Машка стала случайно встречаться на его пути. С вызовом смотрела в глаза и теребила косу. И с экспедиции его дождалась. А через год после его приезда, устав теребить косу и ждать на крыльце погоды, выскочила замуж, родила двоих детей. Жила себе, жила и как-то незаметно из веселой Машки-соседки превратилась в состарившуюся бабу Маню. Может, потому, что рано овдовела.
— Мить! — вновь позвала соседка. Она стояла в высоких резиновых сапогах, старом дождевике, надетом поверх осеннего пальто, и под перекошенным зонтом. Две сломанные спицы неприкаянно болтались и, судя по всему, совсем не раздражали Машу. — Чего это солнце только над твоим домом светит?
— А тебе что, солнца жалко?
— Не жалко. Но чудно как-то.
Дмитрий Иванович повернулся спиной к соседке и принялся рассыпать по двору песок, которой продолжал золотой струйкой стекать с крыши.
— Мить! — вновь позвала Маша. — Чего ты кусты подергал-то? Поди под солнцем они разрослись бы.
«Вот настырная, — подумал Дмитрий Иванович. — Кусты ей мои дались. Где это она видела, что в песках зеленюха растет?»
— Мить, а можно у тебя во дворе чуток посидеть?
— Ты куда шла, Маша? — Дмитрий Иванович в раздражении откинул лопату на песок. — В магазин, поди?
— В магазин, — подтвердила соседка. — Вчера хлеб свежий подвезли.
«Дура. Вчерашний хлеб свежим называет», — Митя вновь повернулся к Маше спиной.
— Так посидеть под солнцем можно? Мить?
Он, не оборачиваясь, махнул рукой. Этот жест можно было понимать как хочешь. Можно решить, что тебе сказали — иди, мол, отсюда. Можно решить, что… Баба Маня именно так и решила. Она аккуратно приоткрыла калитку, вошла во двор. Прошла по песку к нагретой солнцем табуретке, которая, позабытая, стояла во дворе еще с прошлого года. Села. Подняла лицо к солнцу и зажмурилась от удовольствия. Потом стянула с ног резиновые сапоги, сняла носки и закопала ступни в горячий песок.
— Мить! — крикнула баба Маня, не открывая глаз. — Хорошо у тебя! Тепло. Как в раю.
Посидев так минут пять, соседка открыла глаза и оглянулась. Весь двор был засыпан ровным слоем золотого песка. Солнце стояло в зените. В центре двора в песок воткнута лопата. Дмитрия Ивановича нигде не было.
Он отметил, что стал хорошо спать. Глубоко, крепко и без тяжелых мыслей. Часто во сне видел Тоньку. Обнимал ее, прижимался всем телом и замирал. Большего ему не надо было. Вдруг вспомнилось, как он впервые Тоню обнял. Так, чтобы всю ее почувствовать. Это случилось в первый их день в пустыне. Они стояли у палатки начальника экспедиции, которого все называли Старшой. А Старшому тогда, поди, и сорока лет не было. Бритый наголо, вечно в военной выцветшей панаме, лицо ветром и солнцем выдублено до коричневого цвета. А глаза голубые-голубые.
Начальник тогда что-то выписывал из их паспортов в канцелярскую книгу. И тут из-за брезентовой палатки вышел верблюд. Тонька вскрикнула и сделала шаг назад. А он, отреагировав на ее крик, сделал шаг вперед. И столкнулись. Обхватил ее руками и прижался лицом к затылку. Со стороны могло показаться, что он верблюда испугался сильнее, чем Тоня, и спрятался за ее спиной. А ему в тот момент было наплевать, кто что подумает. Ему было хорошо.
— Вас в одну палатку селить, что ли? — спросил тогда Старшой.
Тоня безразлично пожала плечами, а он согласно кивнул.
— Ну, значит, в одну. — Начальник вернул паспорта. Но от взгляда Мити не ускользнуло, что Старшой проверил в Тонькином паспорте страницу, где ставят штамп о семейном положении. — У нас тут не гостиница класса люкс, так что отдельных палаток на каждого нет.
Верблюд стал вторым существом после Тони, к которому Митя прикипел всей душой. Его в этом животном завораживало все. Особенно нравилось внешнее безразличие верблюда к окружающей жизни. Мите казалось, что они этим очень похожи. Ему тоже ни до кого не было дела. Он бы мог тогда взвалить на спину Тоньку, как горб, и ходить с ней по пустыне. Мог и хотел. Но начальник экспедиции, видимо, предложил нечто большее. А он не придумал ничего лучше, чем изобразить полное безразличие к происходящему, а затем и покинуть экспедицию. Странно, но тогда, в молодости, этот поступок казался ему смелым. А сейчас, во сне, подумалось — а ведь он тогда труса праздновал. Повел себя как верблюд.
Дмитрий Иванович уже привык к тому, что утром его будит солнце и за окном слышится тихий звук сыплющегося с крыши песка. Но сегодня пустынную тишину солнечного утра тревожили какие-то посторонние звуки. Кто-то время от времени за окном громко вздыхал.
«Маньку, что ли, черти принесли?» — подумал он и представил, как соседка сидит на щербатой табуретке посреди двора, щурится на утреннее солнце и блаженно вздыхает. Он прислушался к себе и понял, что присутствие или отсутствие Мани в его жизни никак его не волнует. Пришла, и ладно. Не пришла — тоже хорошо.
Дмитрий Иванович не спеша оделся и вышел на крыльцо дома. Песок уже подобрался к первой ступеньке.
— Зейнаб… — выдохнул он.
Каким-то чудом это полностью забытое имя всплыло в голове. Именно так звали ту верблюдицу, которая напугала Тоньку.
Дмитрий Иванович торопливо спустился со ступенек крыльца, подошел к животному, которое мирно лежало на песке, гордо вскинув голову.
— Зейнаб… — Он обнял верблюдицу и прижался к ней всем телом. Как тогда к Тоньке. И впервые в жизни пожалел, что не завел семью. Что-то та пустыня в нем выжгла. Прожил жизнь колючкой, которой противопоказаны дожди и снега. Женщины после Тоньки у него, конечно, были, но как-то лениво. Без душевного трепета.
Он зарылся лицом в густую шерсть. Верблюдица пахла солнцем, пустыней и костром. И самую малость — Тонькой.
На грядках, которые давно уже изрядно присыпало песком, цвела верблюжья колючка. Мелкие зеленые листья и нежные сиреневые цветы. А у той стены дома, которая без окон, раскидистым небольшим деревом красовался саксаул.
— Мить! — раздался голос соседки. Она стояла за калиткой все под тем же перекошенным зонтом. — Это что за зверь такой?
«Сама ты зверь», — беззлобно подумал Дмитрий Иванович.
— Я зайду? — спросила Маня.
Дмитрий Иванович оторвался от верблюдицы и махнул рукой. Затем взял лопату и начал разбрасывать по двору песок.
Баба Маня по-своему расценила его жест, открыла калитку и вошла во двор.
— Ух ты ж какая! — восхитилась она верблюдицей, стоя на почтительном расстоянии. — Поди, хорошо ей тут, у тебя? Как на юге.
Соседка, аккуратно ступая по песку, как-то бочком и неуверенно, двинулась к табуретке. Прежде чем сесть, отряхнула.
Уже привычным движением стянула резиновые сапоги, сняла носки и закопала ступни в песок.
— Знаешь, Мить, посидела так прошлый раз у тебя на солнышке — и, не поверишь, ноги болеть перестали. А ведь всего минут десять посидела.
Дмитрий Иванович, продолжая разбрасывать песок, подумал, что и его уже неделю как радикулит не мучает.
— Мить, и долго у тебя такое будет?
— Какое?
— Такое, — Маня обвела рукой двор. — У нас-то вон дождь. Залило все к чертям собачьим. А у тебя как в санатории: солнце светит, зверь чудной по двору ходит.
— Можно подумать, ты в санаториях бывала.
— Не бывала. Но всегда думала, что там именно так: тепло и везде виноград растет. Лежишь себе на песке, а виноград прям над тобой. И вставать не надо, чтобы ягодку отщипнуть.
— Дура ты, — досадливо сказал Дмитрий Иванович и воткнул в песок лопату. — Кому в санаториях этот виноград нужен?
Баба Маня отвернулась и обиженно засопела. Дмитрий Иванович подошел к кустам верблюжьей колючки, слегка подергал за ствол. Колючка крепко держалась корнями за песок. «Совсем как я, — подумал он. — Держусь воспоминаниями за ту пустыню».
— Мить, а как это получается, что у тебя солнце, а у других нет?
— А я за других не думаю.
— Я ведь что пришла, Мить! — соседка встрепенулась и шлепнула себя ладонью по лбу. — Ты Тоньку-то помнишь?
Дмитрий Иванович повернулся к Мане спиной и решил не отвечать.
— Конечно, помнишь. Столько лет сохнешь по ней…
Маня все смотрела на Митю, ожидая, что тот повернется, но он продолжал стоять спиной и нежно гладил Зейнаб по голове.
— Ну и молчи, сыч старый! Всю жизнь бирюком прожил. И сейчас от тебя радости никакой. Даже солнца людям жалеешь.
Она натянула носки, надела резиновые сапоги, не забыла прихватить корявый зонт и направилась к калитке.
— Так что там с Тоней? — крикнул Дмитрий Иванович, когда Маня уже на несколько шагов отошла от забора.
— Померла Тоня.
Перед сном он позволил себе расслабиться и поплакать. Слезы текли по небритым щекам и закатывались за ворот рубашки. Выпил рюмку водки. Помянул. Вторую пить не стал. От водки ему всегда становилось плохо. От водки не шло ни успокоение, ни веселье.
Ночью, сквозь сон, он слышал, как кто-то по-хозяйски переставлял на кухне вещи. Звенела посуда, хлопали дверцы шкафа. Чем-то скребли по полу.
Встать и проверить, кто там, было лень.
«Поди, Маня пришла, — подумал он. — Хозяйничает». И вдруг озарила мысль, что не так это и плохо. Пришла и пришла. Пусть живет. Она одна — сыновья уж лет десять как подались в город. Он один.
Через некоторое время звуки не то что прекратились, но поутихли. Крепкий сон накрыл его теплым ватным одеялом.
Под утро, в то самое время, когда солнце еще не встало, но ночь уже светлеет, его разбудил скрип двери. В комнату вошла Тоня. На голове тюрбан из полотенца. На белом, ничем не прикрытом теле, капли воды. Она, ничуть не смущаясь, легла рядом и прижалась к нему всем телом. Ее кожа пахла мылом и свежестью. Теплая, нежная и неожиданно податливая.
— Тоня… — прошептал он. — Как я мог поверить, что ты умерла?
— Димочка. — Она провела ладонью по его лицу.
«Димочка»… Так называла его только Тоня.
— Какая ты молодая, — прошептал Дмитрий Иванович.
— Молодая? — Тоня хмыкнула. — Мы ведь с тобой ровесники, Димочка. А мне с ровесниками тогда неинтересно было.
Вспомнилось: она всегда так хмыкала. Он крепко обнял Тоню и подумал, что никогда не чувствовал себя таким молодым и сильным, как сейчас. В молодости ведь молодости не чувствуешь. Принимаешь как данное.
Утром комнату заливало солнце. К солнцу Дмитрий Иванович уже привык. Тони в комнате не оказалось. В этом она вся — как кошка. Без спроса пришла, без предупреждения ушла. Подушка, на которой она спала, была чуть влажной. «Ничего, — подумал он. — Вынесу на солнце, вмиг просохнет».
На кухонном столе красовалась большая тарелка с блинами. Такие блины Тоня пекла в экспедиции. Нанялась поварихой, а кроме блинов ничего толком не умела. Авантюристка. Но Старшой к ее обману отнесся спокойно. «Жили на тушенке с макаронами, — сказал он тогда, — и еще проживем».
Дмитрий Иванович неторопливо, со вкусом позавтракал, взял подушку и вышел во двор. Солнце было еще не жарким, оно только набирало силу. За забором лежал снег. Первый, белый, не тронутый.
— Зейнаб… — нежно проговорил он, бросил подушку на крыльцо и направился к верблюдице, которая мирно стояла на том самом месте, где когда-то были грядки с укропом и редиской, а сегодня из песка торчала верблюжья колючка.
Димочка (он сегодня себя чувствовал именно Димочкой, молодым, сильным и влюбленным) нежно обнял верблюдицу и приник к ней лицом. Зейнаб пахла солнцем, самую малость — морозом и тем мылом, запах которого уловил он от Тониных волос.
В самом центре двора из песка торчали четыре колышка. Именно так вбивают колья, когда собираются ставить палатку. Или когда надо застолбить территорию.
Димочка усмехнулся, поднял руки вверх и потянулся всем телом. Как он мог подумать, что ночью на кухне хозяйничала Маня? Он таких, как Маня, никогда не любил. Однобокая. Оттого однобокая, что всю жизнь бочком передвигается. Боится потревожить своим присутствием. А Тоня — другая. Тоня может ворваться, как ветер, и все перевернуть. Пусть он ей неинтересен, но она вобьет кол. Застолбит свое. На всякий случай. А потом между кольями веревку натянет и белье развесит. И в самом центре веревки свое исподнее. Самое сокровенное. Чтобы у других отбить желание права заявлять.
Она и в пустыне тогда натянула веревку у палатки Старшого и развесила их трусы рядом. Его семейные и свои с кружевом. Где только брала такие. Он, честно говоря, только по трусам все понял.
А Маня даже не решилась заговорить с ним, когда он из экспедиции вернулся. Стояла на его пути и смотрела во все глаза, да косу теребила. Теребеха…
— Мить! Снег вот выпал. Всю ночь мело. — Соседка стояла за забором в потертой цигейковой шубе, пуховом платке и валенках. Лицо раскраснелось от мороза, но это ее совсем не молодило, а даже наоборот.
Димочка продолжал гладить Зейнаб и улыбался. Он вспоминал свою ночь. У Мани мело, а у него счастье.
— Мить, зайти-то можно?
Почему-то стало неприятно, что Машка войдет и будет топтаться по их с Тоней пустыне.
— Заходи, — тем не менее сказал он. — Не через забор же перекликаться. Только валенки сними. Нечего в них тут по чистому песку шастать.
Маня отворила калитку и вошла во двор. Стянула с ног валенки и, аккуратно ступая, пошла по песку в одних носках.
— А где табуретка-то, Мить?
Димочка оглядел двор. Табуретка стояла у стены, которая без окон. На табуретке таз с выжатым, но не развешанным бельем. У табуретки, прямо на песке, небрежно брошено полотенце, из которого Тоня ночью соорудила тюрбан, чтобы подобрать мокрые волосы.
— Постоишь, — ответил он соседке. — Не барыня.
Маня стянула с головы теплый платок, подняла лицо к солнцу и блаженно зажмурилась.
«Вот верблюдица, — подумал Дмитрий Иванович. — Сказали „стой“, она и стоит».
Он прошел к стене дома, положил таз с бельем на брошенное Тонькой полотенце и понес табуретку Мане. Она благодарно улыбнулась и тяжело села.
— С чего ты взяла, что Тоня померла?
— Люди так говорят.
— Много твои люди знают.
Димочка взялся за лопату и начал разбрасывать по двору песок. Подумал, что веревку для белья натянет позже, когда соседка уйдет.
— Мить… Я вот что спросить хочу… — Маня замолчала, тяжело вздохнула, сцепила пальцы рук так, что костяшки побелели. — Мить, а ты, часом, не умер?
Дмитрий Иванович остановился как молнией пораженный. Затем вбил лопату в землю, сделал несколько шагов по направлению к Мане и вновь застыл.
— И с чего такая глупость тебе в голову пришла?
— А чего это солнце только над твоим домом? Почему тебе одному хорошо?
— Ты, выходит, считаешь — раз человеку хорошо, то он умер?
— А то нет? — соседка нахохлилась, подобрала ноги и оперлась ступнями о нижнюю перекладину табуретки. Как курица.
— Какая ты старая, Маня, — четко произнес Митя. — Старая и дурная.
— Чего это я старая? Мы с тобой ровесники, поди.
Дмитрий Иванович сплюнул, пнул ногой торчащую из песка лопату и направился к Зейнаб. Верблюдице удивительным образом удавалось восстанавливать его душевное равновесие. Он приник к теплой шерсти, вдохнул аромат Тони и прикрыл глаза.
— Мить… А еще третьего дня Клавка пенсию разносила.
— И чего?
— А к тебе не зашла.
Дмитрий Иванович сжался, как боксер на ринге, и сильнее обнял Зейнаб. В нос ударил запах сырости. Маня своим присутствием в его пустыне даже на запахи влияет. Он открыл глаза и увидел, что сжимает в руках влажную подушку. Странно, что солнце ее не прожарило.
Он бросил подушку на песок и обвел взглядом двор. Верблюдицы нигде не было. Резко повернувшись, подошел к Мане и неожиданно грубо толкнул ее в плечо. Прежде он на женщин руку не поднимал.
— Знаешь что? Иди к себе и не приходи больше. Давай топай! — Димочка еще раз толкнул Маню.
Соседка суетливо поднялась с табурета и, как-то неловко, увязая в песке, направилась к калитке. Начала надевать валенки, запнулась и повалилась на землю. Песок поглотил звук падения.
Дмитрий Иванович легко подхватил табуретку и швырнул ее в направлении калитки.
— И табуретку свою забери.
— Так она ведь не моя, Мить…
— Все равно забери! Не хочу, чтобы о тебе что-то напоминало. Глядя на эту табуретку, просто невозможно тебя не вспомнить. Похожи вы очень, Мань!
«А Тоньке новую сколочу, — подумал он. — Такую, чтобы без изъяна. Чтоб никакие Мани на ней не сидели».
Дмитрий Иванович отвернулся и пошел в дом. Он не хотел видеть, как соседка будет подниматься. Как будет уходить. Он хотел лечь на диван и дождаться прихода Тони.
Вновь началась метель. Маня, непонятно для чего, тащила с собой табуретку. Свободной рукой, как козырьком, прикрывала лицо от колючего снега. Ей казалось, что идет уже очень долго, но дом все не прорисовывался сквозь пелену снега. Хотелось сесть на табурет и отдышаться. Но что-то заставляло ее не останавливаясь двигаться вперед.
Неожиданно появились контуры дома и двора, залитого солнцем. Маня остановилась, приложила руку к груди, чтобы унять бешеный ритм сердца. Хватать воздух приходилось открытым ртом, иначе было не вдохнуть.
Немного отдышавшись, Маня неуверенными шагами пошла к дому. Солнце светило так же ярко, как над Митиным двором. По забору вилась виноградная лоза, на которой висели спелые гроздья. Черные ягоды, покрытые легкой туманной дымкой. Наверное, именно так выглядят ночи в тех санаториях, в которых Маня ни разу не бывала.
Женщина поставила в снег табуретку и села. Расстегнула две верхние пуговицы на шубе и ослабила объятия платка.
«Неужто Федька… Так ведь помер давно. Но кроме покойного мужа вроде как и некому о доме и дворе позаботиться».
Маня сидела посреди зимы и вьюги и думала, что не решается войти в свой двор так же, как когда-то не решилась подойти к Мите. Вот что мешает сейчас встать и пойти? Ведь мечтала же и о винограде, и о солнце над домом. Можно сейчас войти, лечь на горячую землю и есть сладкие ягоды прямо с лозы. Ведь мечтала…
И женой Мити быть мечтала. Стояла на дороге и ждала, когда он ее заметит. А Федор тогда просто подошел, взял за руку и повел за собой. Как верблюдицу.
Жили, в принципе, неплохо. Ну, пил. А кто не пьет? Ударил ее только раз. Когда она сына первого Митей назвала. А после того как ударил, потерял к ней всякий интерес. Жили без всплесков. Надо было тогда уйти. Взять сына и бегом к Мите во двор. Решительно. Он бы принял. А второго сына уже от него бы родить. Глядишь, все в жизни по-другому сложилось бы.
Маня поднялась на ноги, взяла табуретку, уверенно развернулась и пошла по направлению к дому Мити. Снег бил в спину. Идти было гораздо легче. Подумалось, что еще совсем не поздно все изменить. У него есть верблюдица, у нее — виноград. Есть что друг другу предложить. И солнцем делиться не надо. Оно теперь у каждого свое.
Дойдя до Митиного двора, Маня задохнулась и почувствовала, как сердце, сделав кульбит, забилось придушенной птицей. Над домом соседа мела вьюга. Двор и крыльцо занесены снегом. У стены дома, которая без окон, стояла свежеструганная, еще не крашенная, табуретка с шапкой чистого, нетронутого снега.
Шарф
То, что нас не убивает, и не рассчитывало нас убить…
Мужа Светлана потеряла в одночасье. Утро не предвещало беды. Муж, угрюмый и здоровый, ушел на работу. Угрюмость — перманентное состояние Кости по утрам. И по вечерам. Какой Костя в рабочее время, она не знала. С проблемами со здоровьем угрюмость никак не связана.
После ухода мужа Света села за работу — перевод художественной литературы с немецкого и английского на русский. Языки она знала в совершенстве. На изучении языков когда-то настояла мама. Считала, что расширяет мир дочери. Расширяет горизонты. Но мама ошиблась. Светлана решила стать переводчиком литературы и сузила свой мир до размера одной комнаты. Работала дома и редко куда выходила. Увлекалась новыми книжными романами так, что кем-то выдуманные страсти заменяли ей отсутствие собственных.
Муж Костя домоседом не был, но уважал увлечение жены. Тем более что это увлечение хорошо оплачивалось. Тем более что увлечение являлось одновременно и работой. Это, по мнению Кости, очень удобно — работа и увлечение в одном флаконе. Но для кого удобно — никогда не уточнял.
Выходные муж, как правило, проводил вне дома, чтобы не отвлекать жену, но всегда возвращался к ужину. Он был очень обязательным и пунктуальным. Свету такое положение вещей устраивало. Отсутствие мужа в непосредственной близости давало возможность полностью отдаться переводу, а не прочим утехам, которые только время отнимали.
На ужин, как правило, готовила что-то нехитрое, не требующее больших временных затрат. Костя уныло рассказывал о впечатлениях дня. Музеи, выставки, загородные прогулки. Света слушала вполуха, так как мысленно продолжала жить жизнью героев чужого романа.
Сегодняшнее утро не явилось исключением. Было таким же, как и все остальные утра рабочей недели. Костя сварил кофе, перелил его в термос, чтобы Свете не отрываться от работы и иметь под рукой бодрящий напиток хотя бы первые несколько часов после его ухода. Себе заварил чай с бергамотом, соорудил бутерброд, неторопливо позавтракал под звуки классической музыки и, поцеловав жену, ушел ровно в восемь утра. До работы муж предпочитал добираться пешком. В любую погоду. Берег здоровье. Света предполагала, что сорок пять минут быстрой ходьбы рассеивают угрюмость мужа и в офис он приходит бодрым, веселым и готовым к подвигам. А на обратном пути по непонятным причинам вновь впадает в угрюмость.
Днем в спокойную жизнь Светланы ворвалась соседка Кутя и принесла дурную весть. Кутя, рассказывая подробности катастрофы, подвывала и заламывала руки. Света оставалась спокойной. Внешне. Никогда прежде она не сталкивалась с потерями и не знала, как правильно себя вести. Вести себя подобно соседке не хотелось. Света никогда не рассматривала Кутю как пример для подражания.
Кутя — Ярослава Петрова — жила на первом этаже, поэтому ни одна новость подъезда мимо ее двери не проскакивала. Света жила на последнем, пятом этаже. Многие сплетни и пересуды до верхнего этажа недотягивали. Сдувались по дороге. И Света жила спокойно. Без лишних страстей, сотрясающих нижние этажи.
— Вот, Светочка, — всхлипнула соседка, завершая свой монолог. — Не стало у тебя мужа. Как жить-то будешь дальше?
— А откуда ты обо всем знаешь? — спокойно уточнила Светлана.
— Так Костя сам же и рассказал.
— Когда?
— Сегодня утром. Зашел ко мне, во всем сознался и попросил поставить тебя в известность. Так и сказал: «Поставь, пожалуйста, в известность Светлану. Пусть простит меня и не ждет к ужину. Я, — сказал, — для нее умер».
— Что еще сказал?
— Сказал, что будет время от времени звонить мне, чтобы справляться о твоем самочувствии. Костик, хоть и ушел, но продолжает нести ответственность…
— Он даже вещи никакие не взял, — Света перебила Кутю. Ей больше не хотелось обсуждать причины, по которым Костя решил уйти от законной жены к другой женщине.
— Так у них любовь уже лет пять длится. Костя так сказал. Обзавелся, небось, и в той квартире всем необходимым. За пять-то лет. И тапочки, поди, у него там свои. И зубная щетка. И все прочее.
— Костик к тебе зашел утром, а ты пришла ко мне только сейчас? — Светлана поймала себя на том, что мысленно переводит свой вопрос на английский. Рассматривает ситуацию своей жизни как страницу книги.
— Плакала я. Расстроилась сильно. — Кутя судорожно всхлипнула. — Хотела успокоиться, а потом уже к тебе.
— Видимо, успокоиться тебе так и не удалось. — Света рассматривала соседку. Лицо, покрасневшее от слез, вызывало раздражение. Хотелось по этому лицу ударить.
— Как тут успокоишься — горе такое…
«Наверное, — думала Светлана, — пока дошла с первого до пятого этажа, растащила эту горячую новость по второму, третьему и четвертому. По всем, кто имел неосторожность оказаться этим утром дома». Света поняла, что соседка сейчас живет ее страстями так же, как она сама проживает жизни литературных героев.
— А почему он именно тебя решил назначить доверенным лицом?
— Ну, знает ведь, что мы с тобой дружим с самого детства. И мамы наши дружили, и…
Кутя смущенно замолчала. Она не могла вспомнить ничего для третьего «и». Для того чтобы убедить Свету, что только ей, и никому другому, Костя мог доверить тайну своего ухода из семьи. Не говорить же о том, что Светина мама прибрала к рукам ее, Кутиного, папу, и этот факт должен был сблизить девочек, как полагали родители. Но сближения не произошло. Даже наоборот. Но родители продолжают жить вместе, наплевав на общественное мнение и чувства родных дочерей.
— Ты бы поплакала, — Ярослава попыталась приобнять Свету, но той удалось увернуться. — Легче будет.
— Поплачу. Позже. Не при тебе.
— Зря ты так… — Соседка всхлипнула. Сделала вид, что обиделась, но уходить не торопилась.
Светлана приложила ладонь к горлу. Горло саднило. Было очень больно говорить. Казалось, что слова выходят со скрежетом, оставляя за собой кровоточащие раны. Она внимательно смотрела на Кутю и думала, что если бы ей предложили самой выбрать гонца, несущего плохую весть, она ни за что бы не выбрала эту соседку. Кутю, что бы та ни говорила об их дружбе, Света не любила с детства. Хотя, с другой стороны, если бы гонца, как в былые времена, убивали, то…
Света взяла со стола толстый англо-русский словарь идиом и, размахнувшись, ударила Ярославу. Удар пришелся по голове. Соседка, тонко пискнув, кулем повалилась на пол.
Постояв несколько минут над телом, Светлана набрала мамин номер.
— Я Кутю убила, — превозмогая боль в горле, четко произнесла она.
— За что?! — воскликнула мама.
В этом вопросе вся мама. «Как ты могла?», «Как у тебя рука поднялась?», «Какой ужас!», «Почему именно Ярославу, дочь ее теперешнего мужа, а не кого-то другого?», «Насмерть убила или нет?» — все эти восклицания и неуместные вопросы не в мамином духе. Ей всегда интересна суть: «За что?» Хирургическая сестра, что с нее взять? Лишние эмоции мешают. Лишнее надо отсекать.
— За что, Света? — повторила мама вопрос.
— За тебя, — непонятно почему ответила Света. За маму она бы убивать не стала.
* * *
Кутей Ярославу прозвали родители. Иной раз родители сами не ведают, что творят. Их умиляла дочкина щенячья резвость и изящные формы. Как есть кутенок. А о том, что кличка прилипнет на долгие годы и заменит имя — кто же об этом думает?
— Кууутя, — звала дочь Анна Гавриловна, дама крупных размеров, и голос ее срывался от нежности.
Мужа, субтильного лысеющего мужчину, который не доставал ей до подбородка, Анна Гавриловна звала Зайкой. Зайка обращался к жене исключительно по имени-отчеству. Уважал. Уважение не мешало ему с нежностью относиться к дородной супруге.
Внутренним содержанием и отношением к жизни Ярослава пошла в мать. Ей было интересно все. Особенно личная жизнь соседей по дому. До всего было дело. Тонкой костью и малым ростом — в отца.
Ярослава и Света родились с разницей в две недели. За полгода до их рождения мама Светы и родители Ярославы переехали в новый дом. Квартиры оказались в одном подъезде. Это не могло не сблизить семьи. Мамы, гуляя сначала с животами, а потом с малышками, самозабвенно обсуждали все на свете: от детской сыпи до вредных привычек Зайки.
Мамы мечтали, что девочки непременно пойдут в один детский сад, затем — в одну школу. В идеале — в один институт. И, соответственно, будут дружить. Дружбы не получилось. Казалось, что Света и Ярослава были созданы как антагонисты. Из всего, что мамы планировали, случился только общий детский сад. После детского сада Светку отдали в школу с английским уклоном, а Ярославу — в ближайшую к дому.
Дружба между папами тоже не сложилась по одной простой причине: Света своего папу не знала. Его у нее не было. Мама Светы Марина, рыжеволосая хохотушка, легко выбалтывала нехитрые секреты милейшей Анне Гавриловне, которую, несмотря на разницу в возрасте, ласково называла Аннушка, но секрет Светкиного отцовства так и остался за семью печатями. Иначе Анна Гавриловна выболтала бы секрет Куте, а уж Кутя поделилась бы тайной со Светой. Всем особо интересующимся Марина говорила, что отца Светки убило жизнью.
Анна Гавриловна была старше Марины на пятнадцать лет. Кутю, единственную дочь, она выбивала у жизни всеми правдами и неправдами. То ли с тщедушным Зайкой было что-то не то, то ли в ее дородном теле, казалось, созданном для материнства, был какой изъян, но с зачатием не складывалось. Она и по врачам ходила, и по бабкам. И Зайку изводила то повышенной любовью, то мелкими придирками, то закаливанием.
В тридцать пять лет Анна Гавриловна махнула на все рукой и решила, что так, видимо, суждено. И начала пить. Не так чтобы до бессознательного состояния, но каждый день и не таясь. То, что она не таилась, Зайку пугало больше всего.
И вдруг Анна обнаружила, что беременна. Муж настаивал на аборте. Впервые за время их совместной жизни на чем-то сильно настаивал. Мол, от ребенка, зачатого «по пьяни», ничего хорошего ждать не придется.
— Сам ты зачат по пьяни, — жестко сказала Анна Гавриловна, до этого случая в неуважительном отношении к мужу не замеченная. — И уж если я решусь на аборт, то вытравлю из своей жизни тебя, а не ребенка.
Зайка притих. Терять жену не входило в его планы.
Затем тихий период его жизни сменился бурной активностью. Зайка поднял связи и выбил квартиру в только что отстроенном доме. Перевез жену, купил новую мебель и с большим нетерпением начал ждать рождения сына. Даже имя придумал — Ярослав. Анна Гавриловна не перечила. Сын так сын. Ярослав так Ярослав. Характер Аннушки во время беременности сильно изменился: она стала кроткой, тихой и уступчивой. Любила уходить глубоко в себя и улыбаться непонятно чему.
Когда родилась Кутя, Зайка заплакал от нежности, но от имени, приготовленного для сына, не отказался. Девочку назвали Ярославой. Анна Гавриловна располнела еще больше и сосредоточилась на ребенке. Мужа отодвигать на второй план не стала, он отодвинулся сам, оставаясь нежным и трепетным отцом. До Аннушки доходили слухи, что Зайка с кем-то что-то на стороне, но она не придавала этим слухам значения. Счастье материнства затмевало все остальное. Да и в муже она была уверена: пусть скачет, пока ребенок маленький, но ночует-то дома. И не просто ночует, а жалеет жену, дает выспаться и все хлопоты с девочкой берет на себя.
У Марины, мамы Светы, совсем другая история. Молодая, незамужняя, все впереди. А тут вдруг любовь к преподавателю. Такая любовь, от которой огородами не уйдешь. Такая любовь, с которой хочется засыпать, просыпаться и ездить в отпуск. Но отпуск так и не случился. В отпуск преподаватель ездил со своей семьей. Случилось совсем другое. То, чего ни Марина, ни ее возлюбленный не ждали. Ладно Марина, девчонка. А он? Преподаватель называется.
Преподаватель, узнав о беременности, помог с получением отдельной квартиры и испарился из ее жизни. Беременная Марина сама затаскивала узлы на пятый этаж. Мебели не было и в ближайшее время не предвиделось. Все недвижимое имущество легко двигалось: раскладушка, кресло-кровать, которое подарили однокурсники, детская люлька, складной кухонный стул и две табуретки.
Из института Марина ушла сразу же после рождения дочки. Ее карьера врача-хирурга накрылась медным тазом в пользу сохранения карьеры преподавателя. Работать Марина устроилась хирургической медсестрой в больницу, до которой от дома было минут десять быстрым шагом. Это было очень удобно. Часто брала с собой на работу маленькую Светочку. Выздоравливающие больные развлекали ребенка, пока мама ассистировала в операционной. Так Света и росла. В ее жизни с первых шагов было так много больничного, что она всю сознательную жизнь старалась держаться от медицины подальше. Марина и не настаивала на продолжении профессиональной династии, мечтала видеть дочь переводчиком, мотающимся из страны в страну. Марина сама всю жизнь мечтала быть свободной, хотела стать военным хирургом и мотаться по горячим точкам, но маленькая Светка переиграла все ее мечты.
Дочь воплотила в жизнь только первую часть маминого желания — стала переводчиком. Склонность к языкам была очевидна, и, равнодушная к дальним странам, Света осела дома.
Ярослава же, неожиданно для родителей, далеких от медицины, поступила в медучилище, с грехом пополам его закончила и устроилась лаборанткой в ту же больницу, где работала Марина. Анна Гавриловна не возражала. Ей, никогда нигде не работавшей и находящейся под крылом тщедушного Зайки, работа в лаборатории казалась очень женской и спокойной. Сидит там ее Кутя в белом халатике, тянет кровь из населения, вот и хорошо. Никакого риска для Кутиной жизни. А население пусть само о себе заботится.
* * *
Марина ворвалась в квартиру дочери ровно через пятнадцать минут после страшного звонка. Ровно в ту самую минуту, когда Ярослава наливала себе вторую чашку кофе из термоса. Проигнорировав дочь, которая столбом стояла в дверном проеме между кухней и комнатой, Марина кинулась к Куте. Быстрый осмотр, кроме шишки и зарождающегося синяка, ничего не выявил.
— Лоб — это не страшно, — констатировала Марина. — Близко к виску, конечно. Но не висок, же, правда?
Ярослава согласно кивнула и отхлебнула кофе.
— Голова не кружится? — уточнила Марина.
Кутя отрицательно помотала головой.
— Ну и хорошо.
Марина по-хозяйски отворила дверцу шкафа, в котором хранилось спиртное. Осмотрела бутылки, взяла коньяк. Щедро плеснула напиток в чашку с кофе, из которой пила соседка, сама сделала глоток прямо из горла и протянула бутылку Свете. Света на коньяк не отреагировала. Она стояла, безучастная ко всему. Как человек, который ушел глубоко в себя на неопределенное время.
— Чем ты ее? — Марина внимательно смотрела на дочь. Света на вопрос не отреагировала.
«Шок», — констатировала про себя Марина.
— Чем она тебя? — обратилась Марина к Ярославе.
— Словарем.
— Вот скажи, — Марина сделала еще один большой глоток и присела к столу. — Скажи мне, Кутя, для чего словари делают такими неподъемными? Я всегда об этом думала. Их же двумя руками удержать сложно. А уж если ударить…
— Тяжелее сковородки, — всхлипнула Кутя.
— А тебя сковородой били?
— Нет. Меня вообще никогда не били.
— Вот и не надо сравнивать. — Марина полностью пришла в себя и перестала церемониться. — А за что она тебя?
Света, чуть качнувшись, повернула голову и уперлась взглядом в мать. Поняла, что та не поверила, что дочь пошла на преступление из-за нее.
Марина, выдержав взгляд дочки, вновь обратилась к соседке: «За что?»
— За Костю.
— За Костю? — Такого ответа Марина не ожидала. — Ты увела у Светы мужа?
— Нет, что вы!
— Куда ей, — прошептала Света, не отрывая ладони от горла.
Ни мама, ни Ярослава никак не отреагировали на ее сипение. Они сцепились взглядами.
— Не ожидала от тебя, Кутя, — произнесла Марина. Ей удалось «Кутя» произнести с таким презрением, что соседку передернуло.
— Ну, куда мне до вас… — Ярослава ответила совсем не то, что планировала. Она к Марине, несмотря на ее совместное проживание с Зайкой, относилась хорошо. Даже где-то в душе была благодарна, что Марина, молодая и красивая, взяла на себя заботы об отце.
— Рассказывай, — велела Марина. — Со всеми подробностями.
Ярослава, посмотрев на Свету, с видимым удовольствием начала рассказывать. Красочных деталей ухода Кости из семьи стало больше.
— А почему этот дурак именно к тебе пришел со своими душевными излияниями? — спросила Марина после того, как Кутя замолчала. У Марины была прекрасная черта: она могла слушать. Без необходимости никогда не перебивала собеседника.
Света метнула взгляд на мать. Ее очень удивило, что она, такая нерациональная во многом, и Марина, рациональная до мозга костей, задали соседке один и тот же вопрос.
— Доверяет, наверное. — Кутя потянулась к бутылке с коньяком.
— Не переоценивай себя. — Марина перехватила бутылку и убрала в шкаф. — Тебе доверять — себе дороже. Козел просто. Или дурак. Собственно, одно другого не исключает. Или точно знал, что ты не станешь его отговаривать. Не тот ты человек, Кутя, чтобы отговаривать.
— Если бы Костя во всем признался мне, — сказала Света. — Я бы тоже не стала его отговаривать…
* * *
Выходить замуж за Костю не входило в планы Светланы. Поначалу. Поначалу считалось, что Костя ухаживает за Кутей. Анна Гавриловна этого мальчика из соседнего подъезда заприметила лет за десять до того, как позволила дочке думать о свиданиях.
Анна Гавриловна начала приглашать Костю в гости. Просила позаниматься с младшей по возрасту Кутей. Кормила пирожками и делала незначительные подарки: то шоколадку, то уже прочитанную дочкой книгу. Подкармливала и приучала к тому, что о Куте надо заботиться. Сначала помогать с уроками, потом по жизни. Анна Гавриловна понимала, что такой важный процесс, как выбор будущего зятя, нельзя пускать на самотек и уж тем более нельзя доверять ни дочке, ни Зайке. И годы… Годы, конечно, поджимают. Дочь она не в двадцать лет родила, как некоторые, а внуков дождаться хочется. И желательно дождаться их полной сил и энергии. Полной любви. Кому нужна старая бабушка? Никому. Обуза только.
Когда Костю забрали в армию, Анна Гавриловна писала за дочь трогательные письма с толстыми намеками на верное ожидание. Ты мол, там служи и ни о чем плохом не думай. А мы тут тебя ждем.
В принципе, Кутя ждала. Ей просто ничего другого не оставалось. Никто другой за время службы Кости на ее горизонте не нарисовался. Да и откуда бы? В медучилище сплошь девочки. Из училища — домой, чтобы мама не переживала. Дома мама никого постороннего к ней не подпускает. Мама ждет Костю. Так Кутина жизнь и шла.
Костя на письма отвечал. Видимо, от нечего делать. Описывал свою армейскую жизнь и не давал никаких обещаний на будущее.
Тем временем Аннушка, Зайка и Марина, объединив свои материальные возможности, приобрели загородный участок. Один на всех. За ценой, так сказать, не постояли.
Зайка давно мечтал проводить свободное время на природе.
— Вы только представьте — все свое! — Зайка в предвкушении потирал руки. — Укроп, петрушка, морковь. Сошел с крыльца, нарвал витаминов и, с морковкой в руках — вперед.
Куда «вперед» и почему именно с морковкой, он никогда не уточнял.
Марина не была склонна к садоводству и огородничеству, но решила, что дача не помешает. Когда-никогда, а можно будет выбраться на шашлыки. На природу. Кто будет жарить шашлыки и по какому случаю — значения для нее не имело. Она знала, что, отдавшись на волю Аннушки, можно ни о чем не переживать. Аннушка — это не случай. Аннушка — это порядок и стабильность, накормленная и присмотренная Светка. Для Марины с ее ночными дежурствами ухоженный и сытый ребенок — основа всего. Основы часто обеспечивала именно соседка.
Анна Гавриловна готовилась к спокойной старости. Ни укроп, ни морковь она представлять не хотела. Ей виделась цветочная клумба: нарциссы, георгины и прочая красота. Среди цветов — детская коляска. Розовощекий бутуз. Внук. Пусть будет мальчик. Раз уж у Зайки не случилось сына, то внук будет в самый раз. Кутя с Мариной трудятся в больнице и не мешаются под ногами. Внук полностью в ее распоряжении. Костя, наколов дров для бани, натаскав воды из колодца, тоже уходит на работу. Зайка где-то там, за домом, выращивает свой укроп. А она будет сидеть в кресле, в непосредственной близости от коляски, и чувствовать себя счастливой. Чем будет заниматься Света на их общем дачном участке, Анна Гавриловна никогда не успевала додумать. Но пусть будет, вреда от нее никакого. Светочка, конечно, не такая покладистая, как Кутя, но детей со Светой ей не крестить.
И вот настал день, когда Костя вернулся из армии. Почему-то ни Анну Гавриловну, ни будущую жену, он о своем возвращении не предупредил.
Аннушка наткнулась на Костю во дворе. Он сидел на скамейке с дворовыми ребятами и громко смеялся. Собственно, по смеху Анна Гавриловна его и вычислила. Костя немного подвывал во время смеха.
— Костик! — ахнула она. — Как же так! А мы-то ничего и не знаем.
— Здравствуйте, Анна Гавриловна! — парень поднялся, встал по стойке смирно и приложил ладонь ко лбу. — Вернулся на вверенный вам объект! Ярославе — привет!
«Привет». Этот привет, сказанный вскользь, сильно покоробил Аннушку.
Из армии Костя вернулся не таким наивным и доверчивым, каким уходил. Вылавливать его во дворе и заманивать в гости стало сложнее. Ни шоколадки его не интересовали, ни книги.
Возможно, что Ярка, как ее называл Костя, и могла бы заинтересовать парня, но совсем не с той стороны, с которой преподносила ее Анна Гавриловна. Ни хозяйственность девушки, ни кроткий нрав в те годы его не интересовали. А то, что интересовало, было недоступно. Во всяком случае, Костя не пытался бороться за тело Ярославы с ее мамой. Были другие девушки, менее охраняемые.
Со Светой по иронии судьбы Костя столкнулся спустя два года после армии как раз в квартире Петровых на первом этаже. Праздновали день рождения Ярославы. Двадцатилетие. Света пришла с целью вкусно поесть и быстро уйти. Костя был доставлен в квартиру под конвоем. Конвоировал его, по приказу Анны Гавриловны, тихий Зайка.
Марина дежурила в больнице. Если бы не дежурство, она бы непременно вмешалась в ситуацию и не допустила никакого сближения дочери с будущим зятем соседки. Обо всех матримониальных планах она знала от самой Аннушки.
Но все пошло как пошло.
— Светка? Ты? — восхитился сосед. — Вот ты какая стала!
Света, доселе комплиментами не избалованная, покраснела и ринулась в ванную комнату. Ей хотелось внимательно рассмотреть себя в зеркале, чтобы понять, что в ней изменилось. Зеркало не лукавило — все как всегда. Короткая стрижка «под мальчика», голубые глаза, худая шея, выглядывающая из воротника рубашки мужского покроя. Света тщательно намылила руки, затем лицо и смыла пену горячей водой. Так учила мама. Марина была уверена, что самое главное — это хирургическая чистота, а все эти женские уловки с помадой, тенями и тушью — не для них со Светой. У них с дочерью и так все на месте: ясный взор, трезвый ум, рыжий волос и чистая шея.
Выйдя из ванной комнаты, Света села к столу и начала есть. Костя сидел между Ярославой и Анной Гавриловной. Не дернешься.
«Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров», — пела Пугачева. Анна Гавриловна накрывала своей ладонью ладонь Костика и лучезарно улыбалась.
Через полчаса, сочтя свой визит завершенным, Светлана поднялась из-за стола. Ну их, этих Петровых, с их ухаживанием не пойми за кем. Подарок, приготовленный мамой, передала, поела, можно и уходить. Света в те годы только-только увлеклась переводами художественной литературы, и ей не терпелось поскорее вернуться к словарям и книге, над которой начала работать.
— Свет, — Костик вскочил на ноги и начал протискиваться между стеной и спинкой стула, на котором сидела Ярослава. Потревожить Анну Гавриловну он не решился. — Я тебя провожу.
— Куда это? — удивился Зайка.
— Куда проводишь? — не поверила своим ушам Анна Гавриловна.
— Светочка в этом же подъезде и живет, — уточнил Зайка.
«Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров». Диск крутился по второму кругу.
— Проводи, — неожиданно сказала Света. — Между третьим и четвертым этажом лампочка перегорела. Темно.
— Темно — это хорошо, — хмыкнул Костя.
Свет горел на всех лестничных пролетах, но именно между третьим и четвертым они начали целоваться.
* * *
Вернувшаяся с дежурства, Марина застала спящую дочь в обнимку с соседским парнем. Будить не стала. Чего уж…
Утром, как только Костя покинул квартиру, а Света, не зная как себя вести, осталась лежать, в дверь заколотили.
Анна Гавриловна, которая не спала всю ночь, отследила из своего окна спешный уход несостоявшегося зятя.
— Если бы Светка не была твоей дочерью — убила бы! — с порога заявила Аннушка и танком ринулась на кухню.
— Убей, — разрешила Марина. — Но только в моем присутствии. Я ее откачаю и зашью.
— А этому козлу отрежу все, что можно отрезать.
— Этому — режь. У него своя мама есть. Пусть она за него переживает.
— Ответь мне — как ты могла? — закричала Аннушка и буквально повалилась на угловой диванчик.
— Я? — переспросила Марина. — Ты уверена, что я к этому событию в жизни Светки как-то причастна? Это, скорее, ты недосмотрела.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
