
Бесплатный фрагмент - Прощальная повесть Гоголя
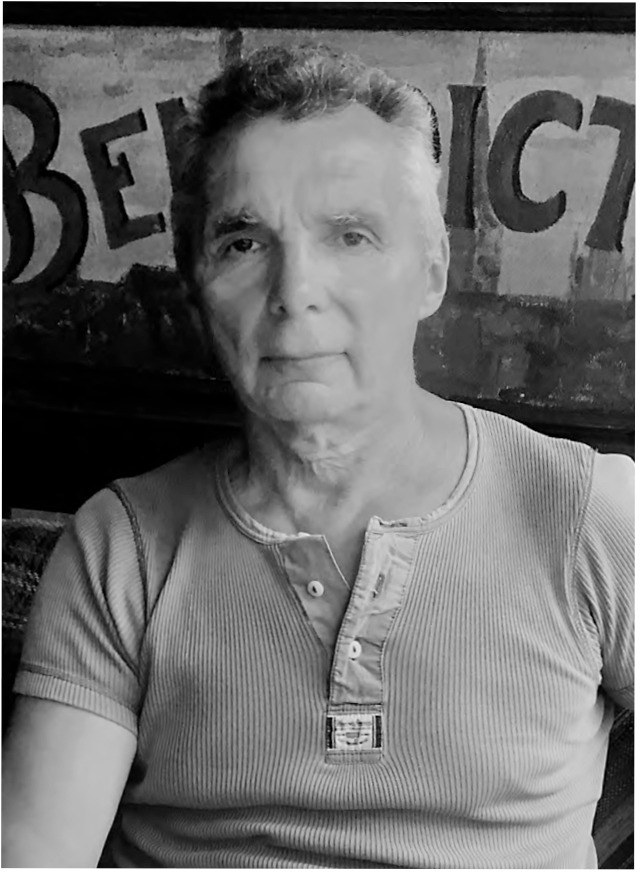
«Восходит на небо, ведомый духом, и в твердом дерзновеньи души своея зреньем чудных тамо наслаждается вещей».
«Расхлебенить — раскрыть настежь, распахнуть:
Сидит баба на юру
Расхлебенивши п-у».
Из записных книжек Гоголя
Введение
В этой работе я предлагаю первые опыты исследования русской литературы, которые основываются на принципиально новом типе методологии, полагающим литературу не общественно-историческим, а целостным культурным феноменом. Контекст современности меняется: сегодня новые формы общественной жизни полагаются не на фрагментации, делении на сословия, классы, группы, сообщества и борьбе между ними за власть, а наоборот, — на приоритете взаимодействия равноправных индивидуумов в едином культурном пространстве. Поэтому мой опыт должен быть свободен от любой идеологической платформы; более того, одной из специальных задач исследования стало раскрытие ограниченного характера отечественного литературоведения, которое сегодня стремится скрыть то, что ещё совсем недавно, в советское время, оно считало своим главным методологическим преимуществом, своей «научной» основой, — партийность.
Советское, партийное, или идеологическое литературо- и культуроведение работало с литературой как с частью общественно-исторического процесса, основным содержанием которого была классовая борьба, или, более точно, — исторически прогрессивная роль пролетариата; соответственно, творения и даже саму жизнь русских писателей совкритика оценивала прежде всего в отношении её «объективного» места в коммунистической парадигме. В результате наше литературоведение превратило Гоголя в обличителя пошлой и реакционной природы самодержавия и крепостного права, Толстого — в зеркало русской революции, Достоевского — в обличителя социальных извращений в предреволюционную эпоху, Чехова — в того, кто показал полное вырождение дворянства как класса, и т. д.
Такое восприятие русской литературы сначала российскими, а потом советскими специалистами было неизбежно и определялось тогда общественно востребованной необходимостью быть социально определённым, принадлежать к некоей группе, сословию, классу. Сегодня такой необходимости нет и никто не обязан быть представителем сообщества с некой идеологией, а потому русская литературная критика и культуроведение могут расти на новой основе, — неангажированной личности в едином культурном континууме. Сейчас принято высокомерно подсмеиваться над этим, между тем воз и ныне там — двоемыслие стало естественным.
Моё исследование феномена Гоголя стало возможным именно благодаря снятию общественного диктата партийности. Вот этапы развития русской критической мысли, всегда идеологичной: российский (XIX — начало XX в.), российско-советский (начало XX в.), советский (с 20 до 90 гг. XX в.) и, наконец, советско-российский (конец XX — начало XXI в.). Последовательная идеологичность критики привела к одностороннему, фрагментированному подходу к литературе, а опосредованно, через социальный контекст и стиль жизни, язык, образование, масс-медиа, кино и театр, — имела гораздо более широкий общественный эффект: отечественное литературоведение разработало партийные принципы восприятия и переживания русской литературы каждым.
Такая матричная инсталляция восприятия в значительной мере сузила видимый человеком горизонт литературы, существенно ограничивая полноту его содержания и придавая ему заранее заданный характер, в результате чего читатель до всякого чтения уже как бы знал, что именно он будет читать и как ему следует воспринимать текст, который он собирается прочесть. Благодаря этому человек в литературе узнавал себя прежде всего социально-ангажированным типом и только через призму лояльности доминирующей партии — русским человеком.
Я поставил себе задачу увидеть соотечественника вне какой бы то ни было идеологии, напрямую, как носителя культуры. Результатом такого взгляда стала полнота восприятия и переживания русской культуры как единого континуума, как торжества жизни и торжества смерти, обращённых к каждому вне зависимости от его социального положения, национальности, образования, веры и т. д.
Оказалось, что наша литература, насколько это было возможно, с самого начала своего возникновения жила вне партийности; более того, одной из определяющих целей было для неё сохранение единства русского континуума, единства, которое разрушалось под идеологическим прессом за счёт выделения некоего группового общественного приоритета вопреки целостности. Сегодня у нас появляется возможность не только разработать новую, более целостную методологию изучения нашего наследия, но и воспринимать и переживать русскую литературу во всей её полноте.
Я взялся за исследование творчества Николая Васильевича Гоголя, открывая этим задуманный мною философский цикл о русских писателях, прежде всего, Л. Н. Толстом и Ф. М. Достоевском, увидев, что специфика русской культуры как особого типа индоевропейской цивилизации, предъявленная ими, ускользнула от тенденциозно очерченной зоны критической мысли, как и сама жизнь великих наших соотечественников.
В этой книге использованы Собрание сочинений Н. В. Гоголя в 8-ми томах под общей редакцией В. Р. Щербины. Москва. 1984 и В. Вересаев «Гоголь в жизни». 1990.
Русская культура
и Гоголь
1. Ущербность гоголеведения
Причину, по которой не открылась для критического взгляда полнота жизни и творчества Н. В. Гоголя, я вижу вполне объективной, поскольку для того, чтобы сделать это, необходимо уже достаточно хорошо и всесторонне представлять себе фундаментальные особенности русской культуры. А без понимания формирующих основ нашей культуры в широком смысле, то есть как особого модуса современной индоевропейской цивилизации, никакое полное восприятие и понимание Гоголя невозможно. Поскольку нам в наследство досталась только идеологическая традиция русской истории и культуры, то сегодня, по существу впервые в нашей науке идентичности, встаёт задача свободного от какой бы то ни было идеологии и основанного только на прямом интересе и внимании к своей собственной природе как русских, изучение основ культуры страны, в том числе, — изучение наследия Николая Васильевича Гоголя.
Если в XIX веке исследователи ещё пробовали ставить вопрос о необходимости раскрытия и изучения особенностей русской культуры, то в XX в. такой задачи уже не ставилось, поскольку советская критика разработала свою собственную, партийную, весьма действенную методологию и поэтому намеренно ограничивалась фрагментарным и расщеплённым исследованием произведений и биографий писателей. Особенно заметно эта ущербность выразилась в отношении восприятия и понимания Гоголя, поскольку без знания специфики русской культуры он представляется слишком загадочным, слишком фантастичным писателем и человеком.
В России процесс самопознания и самоидентификации только-только начался в первой половине XIX в., несколько позже, чем на западе, поэтому современникам жизнь и творчество Гоголя не удалось увидеть в должной целостности. Позднее, во второй половине XIX в., процесс самопознания расщепился на несколько внешне не связанных и даже внешне противоречащих друг другу направлений, которые с некоторой условностью можно разделить на два основных. Во-первых, направление, ориентированное на западную культуру, которое можно назвать прогрессистским, в диапазоне от либерализма до революционности, и, во-вторых, направление традиционное, сохраняющее приоритет наличного положения вещей, в диапазоне от прямой реакционности до реформизма. Однако оба этих направления опирались на одни и те же основания, то есть на одни и те же идеи о том, что представляет из себя русское государство, русское общество и русская история; отличались же они друг от друга прямо противоположным отношением к этим идеям. И те, и другие относились к положению дел в стране отрицательно, но западники требовали решительных нововведений, прежде всего европейского толка, а почвенники и славянофилы, наоборот, возврата к истинно русским традициям. Оба направления страдало одним и тем же предрассудком: они полагали, что уже знают существенные особенности собственной культуры, а именно: для них она представляла собой прежде всего — патриархальность, духовность или православность, самодержавность, крестьянскость, вселенскость, отсталость и тому подобное. Начиная с середины XIX и в XX веке русское литературоведение уже было по преимуществу идеологичным, то есть выражало или, что-то же самое, обслуживало интересы побеждающего политического направления. В итоге в литературоведении, как и в истории России, победила партия западная, воспринимавшая себя наследницей критического творчества Белинского, в результате чего Гоголь в нашей критике и культуре стал комиком, сатириком, гениальным обличителем омертвевшей, реакционной и эксплуатирующей сущности самодержавия, дворянства, церковности (православности). Если бы в гражданской войне победа досталась бы белым и в России установилась какая-нибудь разновидность конституционной монархии, то в русской критике заправляла бы партия почвенников-славянофилов, которая узаконила бы в нашем представлении Гоголя-монархиста, искренне православно верующего, дворянина.
Таким образом, восприятие Н. В. Гоголя специалистами не могло не быть партийным и поэтому отчуждённым от действительной его личности слишком узкими общественными интересами некой группы лиц. Это правило можно сформулировать следующим образом: одна партия — одно литературоведение. В результате жизненное, литературное, критическое, эпистолярное и театральное творческое наследие Гоголя не исследовалось советской критикой в его соответствии формирующим матрицам русской культуры, поскольку такой задачи вообще не ставилось. С кем и с чем только ни сравнивали великого писателя — с романтиками, от которых он сам себя открыто отличал, другими направлениями западной литературы, карнавальностью, опять-таки в западных её формах, с отечественной натуральной школой и т.д., всего не перечислишь, да и ни к чему, поскольку эти сравнения не только не проясняют наследие Н. В. Гоголя, но, оборот, ещё больше его затемняют.

2. Матрицы русской культуры
Чтобы было понятно, в каком контексте я рассматриваю жизнь и творчество русских писателей, я сделаю необходимое философское пояснение. Факторы, формирующие континуум русской культуры как один из трёх модусов современной индоевропейской цивилизации, будут раскрыты здесь ровно настолько, чтобы в предварительном, но, тем не менее, достаточно определённом виде можно было изучить наследие Н. В. Гоголя как целостный культурный феномен и раскрыть его как истинно русское.
Решающая матрица русской культуры, унаследованная от древней цивилизации, являет себя как единство всего живого, как направленность внимания на жизнь всего как стихию творения, стихию становления всего как живого. Такой направленности нет в западной культуре, где доминирует предметное внимание, обращенное к взаимодействию отдельных предметов, в силу чего стихия становления воспринимается как трансцендентная сила, неконтролируемое творение, «вещь в себе»; отсюда заточенность западной культуры на контроль за деятельностью человека. На востоке же вектор внимания обращён на созерцание (бессубъектность), поэтому «предметом» востока становится согласованность безличных элементов; это заставляет восточную культуру стремиться к максимальному уменьшению и даже аннигиляции воздействия человека на мир как искажающего законы вселенной (дао).
Только русское внимание прямо направлено на стихию жизни, на творение (обратите внимание — творение, а не творчество), на становление всего в стихии жизни. Это определяет наиболее существенные особенности нашей культуры:
1. Направленность внимания на становление всего заставляет русского человека воспринимать всё существующее как равное, независимо от того, большое оно или малое, благородное или низкое, красивое или безобразное; принцип русского — «всё равно», Гоголь выражает этот принцип так — «всё трын-трава». Например: казак, на которого обратил внимание Тарас Бульба при въезде в Сечь, расположился спать прямо на дороге в богатых, но нарочито испачканных шароварах, или продолжительный трепак Хомы Брута перед последней ночью отпевания панночки-ведьмы.
2. Равность всего существующего заставляет русского человека не строить какие бы то ни было предметные иерархии, поэтому на Руси царь-государь не больше простого мужика, вся земля не больше клочка земли, слон не больше моськи. Н. В. Гоголь определяет этот принцип следующим образом — «всё тут же» или «всё, что ни есть». Например: в «Ревизоре» Бобчинский просит Хлестакова рассказать о своём существовании государю, каковой, кстати, посмотрев пьесу, заметил это; в «Вие» — отпевание панночки философом в церкви, где вместе с иконами — полчища чудовищ, гномов, упырей; или рассказанный Гоголем случай молебна в борделе. В его записной книжке цитата из святых отцов соседствует с похабным стишком. Здесь можно добавить, что в русской непартийной литературе не может быть никакой темы «лишнего» или «маленького» человека, поскольку в русской культуре малое не меньше большого, а большое не больше малого.
3. Торжество, красота и величие жизни не могут быть отделены, разделены, отчуждены от торжества, красоты и величия смерти; смерть, как и жизнь, составляет необходимую часть всего сущего; как и в древней русской цивилизации, которая рассматривала смерть как переход в другую жизнь и никогда не воспринимала её как врага, как нечто ужасное в отличие от неужасной жизни. Смерть — сестра жизни; Н. В. Гоголь своей жизнью, творчеством и смертью говорит нам не только — «нет ничего торжественнее жизни», но одновременно — «нет ничего торжественнее смерти».
4. Направленность на творение создает восприятие творения как торжества, как непобедимого шествия всего сущего, как величия всего живого, это торжество наполняет все, в том числе — поздние произведения Гоголя. Личное чтение им чужих и своих произведений было наполнено таким величием, что приводило его слушателей в состояние восторга, в состояние избытка, наполненности жизнью, а не удовольствием от чего-то предметного.
5. Внимание к стихии жизни заставляет нас не предполагать по преимуществу развитие наличного, не выбирать в нём нечто для себя значимое, то есть вообще не иметь каких бы то ни было предпочтений в происходящем: жизнь выбирает сама, что в этом станет для русского живым и значимым. Мы говорим как Платон Каратаев Толстого, речь которого течёт самим говорением, даже без памяти сказанного; у Гоголя русские именно таким образом «заговариваются» или даже завираются: Хлестаков, Ноздрёв, дама, приятная во всех отношениях, и др.; вообще для стихии русской речи не характерно повторение, воспроизведение, одинаковое описание.
6. В единстве всего живого сущее воспринимается как одно, любимое, родное, сердечное; русский не может не любить всего и вся, не может не воспринимать всё чистосердечно, просто и радушно. Гоголь оставил нам образы Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича как образы истинно русских людей, относящихся ко всему по привычке, невольно, даром, или, как говорит Толстой, по «привычке от вечности»; характерно дословное совпадение в определении существа любви русского человека и у Гоголя, и у Толстого — «привычка», означающее естественное, само собой живущее, не намеренное, ничем и никем не понуждаемое простодушие.
7. Отвращение внимания от единства всего в направлении отдельности каждого и слишком сильная устойчивость этой предметной фиксации неминуемо превращает русского в «человека в футляре» (А. П. Чехов), заставляет его воспринимать принятые «ограничения пространства, времени и причинности» (Л. Н. Толстой), то есть отдельность собственного существования, как окончательные, неотменяемые ограничения; это совершенно невыносимое, тягостное, тревожное, скорбное состояние, в котором наша «сокровенная порода» окостеневает, мертвеет.
8. В единстве всего живого любое место превращается в «миргород», в «мирный уголок», в «незаколдованное место», в котором ни одно желание не выходит за его пределы, потому что в нём всего довольно; в «мирном уголке» всего в изобилии, хватает всем, кто сколько бы ни взял; таково имение Товстогубов.
9. В единстве культурного континуума все воспринимается как одно, поэтому нет фундаментального основания для института собственности; у русского нет ничего своего предметно-отдельного. Холстомер Л. Н. Толстого удивляется — за всех нас — тому, что человек может не только называть, но и действительно воспринимать что-то своим, своей собственностью.
10. Таковое миросозерцание защищает даже самое малое в своей земле, поэтому, как простодушен русский в мире, так же простодушен он и в войне; он не воюет с кем-то и не защищает своё, потому что у него ничего нет, а, действительно, воюет только тогда, когда кто-то или что-то посягает именно на единство всего: своя же жизнь, а уж тем более своя собственность нас не интересует; Тарас Бульба воевал за отчизну, веру и товарищей, а не за себя, свою семью или собственность.
11. Постоянное внимание, направленное на стихию становления, волит саму жизнь, волит происходящее как живое и принимает происходящее как дело своей воли: русский волит всё, не воля ничего, он волит саму жизнь, а жизнь сама выбирает то, что она наполнит собой; он ничего не выбирает, а только внемлет тому, что выбирается самой жизнью, поэтому решения Н. В. Гоголя — не его личные, а самой жизни, они «выпеваются сами собой, как выпеваются русские песни». Он наполнился живым языком, всем тем, что отложилось в языке за тысячелетия русской истории и что ожило теперь в его судьбе; то, что наполняет сама жизнь, не может нести в себе никакой «страстности» в смысле «неспокойных порождений злого духа», как говорит Гоголь, а только «верховное торжество духовной трезвости»; даже смех жизни — это веселие, это сама жизнь, а вот смех человека может быть уже делом злорадства, но это другое.
12. Особенности русской культуры порождают и особую технологию её восприятия и переживания, которую почти все наши писатели — Николай Гоголь, Лев Толстой, Александр Блок и др., определяли очень сходным образом: полусон, дрёма, забытьё, живой сон; Гоголь выделил в «полусне» в качестве главной матрицы восприятия — «соображение всего». А именно: при удерживании во внимании всего содержания существующего, необходимо равное отношение к каждому его элементу, духовная трезвость и спокойное состояние, в результате чего сами собой выделятся те элементы и в том их сочетании, которые покажут всё «живым фактом». Гоголь разгадывал эту науку с молодости, замечая особенности своего восприятия, в котором русское узнавание себя другим было особенно живо.
13. Направленность внимания на стихию жизни заставляет русского человека переживать себя всем сущим и, следовательно, узнавать себя в другом; для русского мир гармонизируется и наполняет его жизнью, радостью и веселием только тогда, когда он воспринимает, узнаёт кого-то как живого, тогда он жив сам.
Этого достаточно для того, чтобы создать основу для восприятия наследия Н. В. Гоголя как целостного феномена русской культуры.
3. Живой опыт
Ранние годы Гоголя развернулись в насыщенном жизнью семейном пространстве. Детство и отрочество он провёл в Васильевке: с бабушками и дедушками, родителями, братом и сёстрами, дворовыми людьми, крестьянами, животными, садами, лесами, рекой, небом, ночью, землёй, песнями, сказками, поговорками, пословицами, шутками, плясками, ярмарками и т.д., и т.д., то есть именно с полнотой жизни в «мирном уголке», в «нарочито невеликом месте». Покидая милые сердцу места, сначала уезжая на учёбу в Полтаву, потом в Нежин, он всей душой стремился вернуться обратно, в стихию этой буколической, тихой, незаметной сельской жизни, которая однако внутри себя, в себе, в кругу была так полна веселья, радости, любви и простодушия, что желания юноши не простирались во вне, ему было достаточно этой жизни, он был полон ей.
Именно это насыщенное чувствами настроение и послужило основой «Вечеров на хуторе близ Диканьки»; человек не может в достаточной мере знать себя, пока наполнен чем-то, для узнавания себя и, соответственно, для того, чтобы иметь не то что талант, а даже возможность рассказать об этом, он должен получить уже какой-то другой, отличный от пережитого опыт. Отлучаясь из дома и возвращаясь обратно, молодой Гоголь приобретает этот опыт, пока, наконец, совсем не переезжает в Петербург, после чего уже может действительно в полном объёме не только воспринять и оценить, но и рассказать о пережитом.
Отечественное литературоведение полагает, что Н. В. писал «Вечера на хуторе близ Диканьки», основываясь на фольклоре, воображении и прочем, тогда как русский писатель, конечно, технически используя все эти возможности, пишет из своего личного опыта и только этот опыт даёт чувствующему человеку переживание торжества и величия жизни, увлечения стихией всеобщего действа — свадьбы или ярмарки, упоение майской ночью или восхищение приднепровой степью. Это может родиться единственно в матричном культурном переживании, которое одно только может заставить душу воспринимать или переживать нечто как торжественное или упоительное; испытав такое упоение, рассказчик уже потом, после этого, может использовать песни, сказания или народные сюжеты.
«Миргород» же мог быть написан Гоголем только после того, как он уже достаточное время прожил этой столичной, новой для себя жизнью, после того как он служил, преподавал, писал и публиковал. То есть «Миргород» появился как результат сравнения нового и старого жизненных опытов, что я особенно хорошо вижу в «Старосветских помещиках»; принципиально важно здесь то, что не только на земле русской постепенно исчезают «мирные уголки», но и в самом Гоголе начинают утихать жизненные силы «Вечеров», он прекрасно это чувствует, понимает и не может не сожалеть об этом.
Попав в столичную, городскую, просвещённую среду, примерив на себя известность и даже славу в обществе, особенно после «Ревизора», Н. В. с некоторым ужасом обнаруживает себя — точно таким же, как и все его окружение, то есть человеком, бегущим от жизни, от всего живого, как только сталкивается с ним, о чём он пишет матушке в письме. Гоголь ощущает, что в нём закрывается и ослабевает источник радостного, торжественного, само собой бьющего жизненного веселия; он обнаруживает и себя, и других творящими зло, творящими не по умыслу, а невольно, в увлечении «неспокойными порождениями злого духа». Смех самой жизни человек превращает в злорадство, побуждение к добру — в меркантильность, заботу о себе в эгоизм и мир меняет свои цвета.
Таково основание всего замысла «Мертвых душ» — рассказать о личном опыте омертвения, который испытывает каждый русский, если не развивает в себе заложенные нашей исконной культурой и, следовательно, живущие в нас светлые, «сокровенные начала русской породы».
Таким образом, можно выделить несколько этапов жизни и, соответственно, творчества Н. В. Гоголя:
— «Вечера на хуторе близ Диканьки» — простая, сельская, простодушная жизнь;
— «Миргород» — воспоминание о старом русском свете, описание русского «мирного угла», его обитателей и защитников и сожаление о том, что эта жизнь необратимо меняется;
— «Ревизор» и городские повести — личный опыт городской жизни, веселие и радость которой постепенно полностью перекрываются меркантильностью и страхом смерти;
— «Мертвые души» — горестная оценка омертвения собственной души, угасания сокровенных основ русской жизни, но и ясная надежда, но и действительное «осветление» даже самых, казалось бы, окаменевших, застывших в своём развитии душ;
— «Прощальная повесть» — намеренное, осознанно выбранное предстояние смерти, но не как завершение, а как апофеоз, предельная высота жизненного пути.
4. Видения
Решающими для разворачивания понимания всего жизненного пути Н. В. Гоголя высветились особые события, которые он называл — «душевные явления», «необыкновенные, чудные события», «душевные обстоятельства», то есть то, что мы привыкли называть «видениями», однако здесь следует ясно различать, что для русского человека видения имеют специфический характер, отличный от распространённого среди нас западного смысла визионерского опыта. А именно: в западной культуре видением обозначается восприятие человеком некоторого содержания как посланного ему иной внешней ему, возможно, высшей, трансцендентной силой. Для нас же по сути нет ничего внешнего (в культурном, конечно, смысле), тем более, нет видений, посланных трансцендентной силой; видения русского — результат его воления жизни, русский видит то, что показывает ему жизнь как его воление, он не может знать, предполагать, предугадывать, что оно ему покажет; первым так это обозначил Л. Н. Толстой.
Ещё в отрочестве Гоголь, потрясённый смертью младшего брата, начинает волить смерть, не хотеть смерти, а именно волить, то есть направлять своё внимание на смерть, которую ему предъявляет и разворачивает жизнь, стихия творения и становления. Когда, вскоре после смерти брата, умер и отец Гоголя, то у юноши были видения блистательного огненного ангела в виде прекрасной женщины, которые позже он опишет в «Женщине» и во многих других местах, например, в «Тарасе Бульбе» и «Вие». Скорее всего, уже тогда он понял, что это видение смерти и что это видение будет много значить в его жизни, но что именно, ему было тогда еще не понятно.
В Петербурге, через некоторое время после того, как он туда переехал, с ним происходит следующий случай: в некой конкретной женщине, с которой он знакомится, видимо, при странных обстоятельствах, возможно, как Пискарев даже в борделе («Невский проспект»), он узнаёт своё прекрасное видение, что производит на него сильнейшее впечатление: как минимум, он понимает, что у него не может быть семейной жизни, о которой он, как Чичиков или Подколесин, немало мечтал, и, как максимум, что ему предстоит скорая или особенная смерть.
Правильно, конгруэнтно, во всей полноте воспринимать литературу и поступки Н. В. Гоголя можно только с учётом этих очень для него важных и решающих обстоятельств, в результате которых великий писатель начинает понимать, что его призванием станет смерть, точнее, возвращение смерти в культуру жизни, восстановление утерянного феноменом смерти места в целостности русской и даже общечеловеческой культуры, возвращение феномену смерти его действительного места в единстве всего. Смерть как дело любви, как сестра жизни.
Третий раз видение произошло с Гоголем в Вене, когда он уже окончательно понял, какое именно служение, какое подвижничество ему предстоит.
Я хочу пояснить, что на практике как партийное, в том числе коммунистическое, так и церковно-конфессиональное мировоззрения к видениям человека относятся одинаково негативно, хотя и по разным причинам: для церкви видения — это не целостные человеческие переживания (состояния), а экзальтация, прелесть, соблазн, обольщение человека, для идеологии — это индивидуальные извращения, функциональная патология.
5. Служение и литература
Русское и советское литературо- и гоголеведение настаивают на том, что своим истинным и единственно значащим служением Н. В. Гоголь полагал литературное поприще; биограф и критик Ю. Золотусский считает, что Гоголь даже умер поняв, что исписался! обычно такими объяснениями изживаются собственные внутренние проективные представления.
А Гоголь предъявлял в качестве своего служения вполне простые и понятные смыслы:
— служение обычное: быть хорошим человеком среди близких и в обществе, быть хорошим христианином, честно служить, исполнять на своём месте свой общественный долг, будь ты государь или инвалид;
— служение личное, именно и только данного человека; своим служением Гоголь воспринимал то, на что призвала его жизнь: возвращение феномену смерти его подлинного места, для чего требовалось видеть её живую, постоянно в течении всей жизни удерживать во внимании красоту, торжество и величие смерти, чтобы в какой-то момент быть готовым к тому, чтобы увидеть, воспринять, пережить её во всей её полноте и совершенстве, «заживо предстоять вечности», как говорил Н. В. Без понимания этого Гоголь превращается в странного, загадочного, фантастичного человека, а его произведения — только в смех над пошлым, пасквиль, карикатуру и фантасмагорию.
Таким видением смерти Гоголь служит своему народу, потому что мы, русские, отчаянно нуждаемся в возвращении торжества и величия смерти. Страх своей смерти, восприятие смерти как тьмы, как врага живущего и чудовища заставляет каждого русского человека не только просто бояться смерти, но и слишком цепляться за свою жизнь, и это приводит к тому, что люди начинают невольно творить зло. Восстановление утраченного древнего единства жизни и смерти, исчезновение страха смерти и вызываемого этим страхом зла — вот что полагает своим служением Гоголь, полагает не сам, не внешним внушением, а всем единством, всей целостностью своей жизни.
Как только мы открываем то, в чём заключается для Н. В. его служение, вся жизнь Гоголя — его скитания, отказ от имущества и собственности, литература, письма, театр, и, наконец, «прощальная повесть», приобретают глубокий, последовательный, понятный и сопереживаемый смысл. Более того, мы до сих пор, а прошло уже почти два века, не только не начали ту культурную работу, которую начал Гоголь, но даже не знаем и пока ещё не хотим знать того, что она нам предстоит. Если, конечно, мы собираемся жить полной культурной жизнью, которая невозможна без — намеренного, продуманного, осознанного отношения к смерти. Без культуры смерти.
Н. В. Гоголь показал нам, что смерть каждого человека — это «общее дело» всех, что мы, русские, не должны оставлять человека одного в его предстоянии смерти, в страхе, мы должны начать новый культурный опыт — «живого предстояния вечности», живого опыта предстояния смерти. Пока мы не развернёмся в эту сторону, над нами будет довлеть ужас смерти и неизбежно сопутствующий ему приоритет отдельности своей жизни, а это пагубно и для русской культуры, и для русского человека в онтологическом смысле.
6. Вера
В нашем литературоведении Н. В. Гоголя принято наделять неким стандартным набором качеств «настоящего художника»: ранней серьёзностью и взрослостью, мнительностью, скрытностью, фантасмагоричностью, экзальтацией (особенно религиозной), противоречивостью. Здесь помогло бы удержаться в рамках достоверности внимание к тому, что этот человек сумел заставить народ веселиться и смеяться, и даже император, критики и наборщики в типографии не избежали тёплого обаяния его «Вечеров…» Такая радость никак не могла быть порождением сумеречного духа. Недоумение у гоголеведов не возникает потому, что для них именно такой — странный, скрытный, неврастеничный человек и есть образ настоящего художника, гения.
Партийное и особенно советское литературоведение должно быть весьма благодарно разработанному Белинским представлению о том, что творчество и человек отделены друг от друга и потому в критике стало возможным так интерпретировать жизнь писателя, чтобы рассматривать его творчество отдельно от него самого, игнорируя черты, которые не вписываются в «нужную» тенденцию. Отделив человека от того, что он делает, совкритика закрыла себе понимание таких важных вещей, как уникальность веры Гоголя. Когда не отделяешь его человеческую жизнь от того, что он делал и писал, то как раз и видишь совершенно нормальное, последовательное возрастание, взросление человека в той вере, в какой он родился и воспитывался. Пережитые смерти брата и отца ускорили и углубили его развитие в вере, а сопровождавшие эти события видения — осложнили.
Для меня очевидно, что процесс действительного воцерковления, насыщения, сначала по необходимости, ритуальных действий соответствующим содержанием проходил у ребёнка обычным образом, как у всех, кто рос в православном мире, в православной семье. Поэтому в отношении Н. В. Гоголя к вере не было никаких странностей и непонятностей: он с детства был православным, насколько сначала ребёнок, а потом юноша, а потом молодой человек и, наконец, взрослый, зрелый человек может быть православным; в его духовном развитии нет сбоев, нет каких-то специальных особенностей естественного накопления опыта верующим человеком.
Даже его видения вполне органично вписываются в его религиозные переживания, для Н. В. эти видения не были чем-то выходящим за пределы его и других веры! Он никогда не воспринимал это как ересь и сектантом себя не считал. Наоборот, наличие несомненных свидетельств того, что его вера жива и даёт свои плоды, ещё больше укрепляло его дух; здесь нет никаких противоречий, всё очень последовательно и понятно. Постепенно Гоголь всё больше подчиняет свою жизнь проясняющемуся для него способу служения своим соотечественникам.
Другое дело, что эти соотечественники могут совершенно не понимать служения Гоголя, более того, не только не понимать, но наверняка даже осуждать, в том числе и церковь; однако, это не становится для него решающим аргументом, поскольку и его литературные и публицистические произведения были восприняты этими же самыми людьми совершенно не в том смысле, какой в них вкладывал сам писатель: дело было не в том, что в его произведениях было что-то не так, а в том, что явно что-то не так было с самими людьми!
Н. В. Гоголь видел, что изъян был в человеческом сознании: как они не понимают «Миргород» и «Ревизора», так они не воспримут и «Прощальной повести»; он был очень трезв в оценке того, как «прочтут» эту повесть современники, поэтому служил им вполне бескорыстно, не надеясь получить от них точно понимаемого признания и примирения, что, конечно, очень хотелось бы такого человеку, который чуждался всякой вражды в личном общении с людьми.
Почти всех его героев хоронят без сочувствия и многих даже без обрядов (кстати, это в книге Юрия Манна «Поэтика Гоголя» подмечено верно). Если вспомним философа Хому Брута, то, хотя он и сделал то, что мало кому под силу — отпел смерть как чудовище, но в результате никто ничего не заметил и даже о месте этом забыли. А ведь именно панночка-смерть выбрала Хому-Гоголя для этого священнодействия! Когда стало приближаться время исполнения этого служения, живого предстояния Ангелу Смерти, Н. В. всё больше внутренне концентрируется, готовя себя к предстоящему подвигу; люди замечают изменения в нём, но в абсолютном большинстве воспринимают поведение Гоголя как чрезмерную экзальтированность, что подхватили наши гоголеведы, которых мне хочется назвать «гоголеводами».
Я утверждаю, что без понимания решающего служения Гоголя, его прощальной повести, его подвижничества, невозможно адекватно судить о его отношении к вере.
7. Смерть или «Прощальная повесть»
Подвиг русской земли, шедевр русской культуры — «Прощальная повесть» Н. В. Гоголя осуществлена им решительно и в то же время удивительно просто; это не был спонтанный порыв, всё было тщательно подготовлено. Анонсирование «Прощальной повести» Гоголь разместил в своём «Завещании», которое открывает опубликованную им в 1847 году книгу «Избранные места из переписки с друзьями». «Завещание», обращённое ко всем соотечественникам, обеспечивало автору максимально возможное ожидание всеми «Прощальной повести».
В самом «Завещании» он назвал «Прощальную повесть» «своим лучшим произведением», ещё более повысив градус внимания и интереса; объяснил, что это не поучение, не пример для подражания, а его служение (наследие, наследство) всем русским людям, что повесть нельзя прочесть, но можно услышать только сердцем, что он её не выдумал, что она родилась сама в сокровенных истоках русской культуры и русской породы, в которой все русские — родственники. В заключение Н. В. написал, что «Прощальная повесть» может явиться только по смерти, значит, до исполнения сказать об этом больше ничего нельзя и закреплением, подтверждением его повести-служения служит именно его смерть; да и в самом названии — «прощальная» уже заключен этот смысл: своей «повестью», то есть смертью, Гоголь прощается со всеми своими соотечественниками. Завещание написано сразу после «венского случая», который русские гоголеведы считают болезнью писателя, но мне очевидно, что основным содержанием этих событий было видение, которое, похоже, окончательно удостоверило Гоголя в том, какое именно служение ему предстоит и, возможно, даже со знанием его срока. Состояние и видения Н. В., о которых рассказал ходивший за ним русский купец, не порождение болезни; само видение так сильно потрясло его глубиной, величием и торжественностью открывшегося ему «замысла», «сюжета» его «сокровища», как называет он свою «Прощальную повесть», что он физически изнемогал под избыточностью этого впечатления.
Прощальная повесть — не литература, а если и литература, то только в смысле литература жизни, а не жизнь литературы, это повесть самой жизни Гоголя, поэтому полагать литературу самым важным делом для него, как это делает абсолютное большинство наших критиков, значит самого существенного в этой жизни не видеть. Так Игорь Золотусский внушает нам, что «судьба его — быть прихлопнутым обложкой недописанной книги». Какое презрение и слепота «главного» биографа Гоголя!
С момента «венского видения» жизнь Н. В. неминуемо наполняется переживанием и подготовкой к предстоящему служению, подвигу, в котором литература занимает довольно отдалённое место; предыдущие исследователи правы в том, что «Прощальная повесть» относится к «Избранным местам из переписки с друзьями», но только в этом, очень ограниченном смысле, не более того. Насколько объемна, тотальна, как говорят сейчас, предстоящая великому человеку задача, настолько он стремится расширить свой и других кругозор во взгляде на жизнь в целом.
«Избранные места…», как и вообще все свои литературные, драматические, публицистические, научные и эпистолярные произведения Гоголь рассматривает лишь как часть, элемент более всеохватывающего служения людям. И действительно, культурная задача восстановления торжества и величия феномена смерти, восстановление разорванного континуума русской культуры, в котором смерть превратилась в чудовище, которое преследует человека, гораздо более для всех значительна, существенна и грандиозна, чем любая литература, театр или публицистика.
Мы не знаем, было ли четвёртое и последнее видение, которое определило окончательный срок «Прощальной повести», но, скорее всего, оно было, косвенным свидетельством этого служит изменение решения Н. В. ехать на свадьбу сестры, посещение им Оптиной пустыни и отмеченные многими перемены в его поведении. Сейчас мы всего не знаем, но и этого вполне достаточно; Гоголь оставил нам всё, что нужно. Привести в исполнение задуманное и то, что готовил десятилетия, он должен был обязательно на людях, хотя, конечно, ему намного легче было бы сделать это в уединенном месте, но, как и Остапу Бульбе, ему пришлось смотреть на смерть живым на людях, в обществе, так, чтобы его намерение было засвидетельствовано, пусть даже неосознанно, без понимания (или даже с пониманием того, что он — сумасшедший).
Конечно, «Прощальная повесть» — не демонстрация намеренной смерти, ни в коем случае, принародность была её условием, но не содержанием; люди должны были видеть, зафиксировать, пусть не понимая, то, что потом, в будущем, на которое только и надеялся Н. В., станет людям понятно. Содержанием этого великого действа было удерживание живого, полного любви внимания на смерти во всей её полноте, величии и ужасе! Гоголь знал и предвидел всю степень страха, который предстоит ему испытать, так как ему придётся иметь дело со всеми теми чудовищами, семена которых он посеял в течение своей жизни и которые, тысячекратно усиленные, предстанут и будут терзать его как его собственные порождения. По сравнению с этим ужасом предстояния порождённым им самим монстрам, то, что его мучили непонимающие его люди (и друзья, и доктора), пытавшиеся насильно его лечить, было гораздо терпимее для него, имеющего очень большой жизненный опыт непонимания себя окружающими. В качестве некоторого своего утешения Н. В. Гоголь в последнем варианте «Тараса Бульбы» описал, что смерть Остапа, которого мучают и пытают враги, видел его отец — Тарас Бульба; сам он такого утешения не получил: ни отца, ни твердого понимающего его человека рядом с ним не было. Соотечественники и друзья, «Прощальная повесть» Гоголя живёт в нашей русской культуре, живёт в нас, не как литература, а как тот жизненный опыт, который мы ещё в себе не знаем, но который сегодня начинает приоткрываться нам во всей своей красоте, ужасе, величии и простоте.
Произведения Н. В. Гоголя
1. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832)
Переживание и восприятие жизни как торжества, великолепия, упоения, сладострастия — это прямое наследие древней цивилизации, проявленное в русском человеке совершенно невольно, естественно, само собой, по привычке. Это матричное состояние стало субстратом ранних лет Н. В. Гоголя и задало поэтику его мировосприятия; оно же стало основой написания «Вечеров».
«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблок, груш; его чистое зеркало — река в зеленых, гордо поднятых рамах… как полно сладострастия и неги малороссийское лето!»
Пафос здесь не в лирических отступлениях, не в карнавальности, не в комизме, не в сатире, не в фантастичности или, наоборот, повседневности сюжетов и персонажей, на чем настаивают наши литературоведы, он явно — в торжестве и величии жизни, полноте «одной и той же жизни» (Б. Пастернак), жизни всего. Творение, сущее не озабочено отдельным, оно наполняет существующее собой естественно, невольно и непринужденно, от избытка. Здесь не место мелочности и измерениям. Жизнь не прикидывает, не спрашивает и не требует; заставлять и выбирать ей чуждо также. Она наполняет всё до краёв, по максимуму, без ограничений и условий, предельно; не отделяя хорошее от плохого, высокое от низкого, малое от большого, красивое от безобразного, наполняя собой всё сущее.
Поэзия Н. В. Гоголя — это музыка безусловной и бескрайней жизни, величия и торжества творения, взламывающего любые опрокинутые на него человеком границы, как бы тот ни пытался убежать и скрыться от этого.
Сущее не преследует человека, не связывает его обязательствами и не стесняет ограничениями. Русская поэзия в том, что живой человек свободен, свободен абсолютно и безусловно, жизнь-эгрегор от него ничего не требует и не навязывает, она наполняет человека собой, даром и ничего не спрашивая взамен. Художник замирает в восхищении перед грандиозностью поступи жизни, перед её «великим безразличием» ко всему, к абсолютно всему, что она собой наполняет.
Жизнь везде, всегда, во всём — «одна и та же жизнь»! Эта наполненность не может не веселить! Этот триумф не может не восхищать! Эта беспредельная свобода и человека, и всего сущего окрыляет и наполняет русского богатырской силой.
Каждое слово Н. В. Гоголя пронизано этими высокими чувствами. Без понимания этого — глубокого, древнерусского восприятия и переживания стихии жизни, этого «мирового эфира», истинное понимание Гоголя невозможно; без «торжества жизни» теряется решающая основа творчества и самой жизни великого русского писателя.
Н. В. Гоголь — поэт старого, древнего, русского «света»; светящейся внутренней сути как действующий причины наличного, актуального, всё ещё явленной в «дрязге существования». Именно поэтому его влияние на Россию было так сильно: каждый, от императора до наборщика типографии, читая Гоголя, узнавал себя «молодым, живым, весёлым человеком». Каждый русский переживал, узнавал себя русским, даже не отдавая себе отчёта в том, что с ним происходит.
«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее, горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник — ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь!»
Мы так уже привыкли к таким описаниям, что проскакиваем мимо них как замыленных. Да, поэтичного, да, вдохновенного, да, торжественного, но в то же время — слишком привычного сентиментального словесного описания, требующего для своего восприятия от читателя, как нам кажется, некоторого воображения, некоторой несовременно развитой впечатлительности.
Сегодня такая литература не воспринимается нами непосредственно, живьём, как есть, иначе бы и мы, и критики, обратили бы внимание на то, что описание Н. В. Гоголем и летнего дня, и летней ночи порождено не его воображением, не его чувствительностью, не тонкостью и поэтичностью его впечатлительности, а совершенно другим, более всеобъемлющим и глубоким, что мы как раз можем и должны чувствовать в себе во время чтения как происходящий сдвиг, как оживающее в нас восхищение этим миром, всем, что ни есть в нём.
Это рождающееся в нас восприятие и переживания мира как живого целого находится очень глубоко и нелегко приходит в движение, но, когда приходит, не заметить его невозможно даже для человека невосприимчивого и толстокожего.
Это всё ещё живущий в нас дух древней русской культуры — восприятие и переживание мира как живого необъятного величия и торжества — действительная живая основа нашей души. Удивительная способность Гоголя передать, выразить, запечатлеть, насколько это вообще возможно человеку, несомненно в полноте испытываемое им самим, — восприятие и переживание единства всего сущего, живого единства «всего что ни есть», стала настоящей причиной того, что каждый русский человек, читавший сам или слышавший читаемые ему повести Гоголя, невольно! переполнялся оживающим в нём древним русским наследием — радостью, веселием, торжеством.
Впечатление — сильное, последствия — разные, уникальные. Как именно потом этот русский читатель воспринимал себя таким «невольно ожившим», во время чтения и после него, это важно, но не первостепенно; первым же и решающим является то, что он невольно оживал как русский, как принадлежащий континууму русской культуры. Даже современный читатель, оснащенный внушительным арсеналом всевозможных средств обращения с текстом и с самим собой как читающим, не может избежать этого, оживая так же, как и русский человек начала XIX века, хоть незначительно и почти для себя незаметно и неощутимо. По крайней мере, пока он ещё культурно русский, то есть живущий в доминирующих матрицах русской культуры, в которой одной из основных является именно матрица единства всего живого, триумфа самой жизни как демиурга. Современники Н. В. Гоголя, не имевшие ещё нынешнего объёма опыта чтения и в этом смысле более восприимчивые и, следовательно, более беззащитные, гораздо легче, глубже, основательнее, можно сказать даже — полностью, попадали под влияние его прозы, невольно и нечаянно для себя воссоздавая это уникальное целостное наследие нашей культуры.
Понимание этого существенно и обязательно для литературоведов. Н. В. сам это очень хорошо знал и неоднократно говорил о том, что его основной жизненный, научный, общественный, публицистический и литературный интерес заключается именно в глубоком, тщательном и всестороннем изучении, раскрытии и оживлении! древней, старой культуры, «русского старого света». Это в полной мере стало базовым содержанием его жизненного служения.
«Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта, в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притоптывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось. Все танцевало. Но ещё страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету».
Безупречен язык Гоголя. Так смущающий наших литературоведов отрывок целен и совершенно недвусмыслен: странное и неизъяснимое чувство охватывает того, кто наблюдает вольное и невольное обращение всего, в том числе даже, казалось бы, уже почти бесчувственных старушек, а не только молодого, смеющегося, живого человека, к единству и согласию. Сила общего культурного действа захватывает всех.
Н. В. Гоголя и волнует, и интересует вольное и особенно невольное обращение, вовлечение всего в стихию единства и согласия, в стихию народного, старого (древнего) действия, события.
«Гром, хохот, песни, слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо».
Тогда, когда заканчивается объединение всего в общее, когда тает единство и согласие, человек остаётся в одиночестве, ему становится пусто и глухо.
«Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему».
И всё же ткань русской жизни растянута от торжества и величия до мрака и ужаса и только в единстве этой протяженности сохраняет свой смысл и целостность. Жизнь прекрасна и удивительна, но и ужасна и отвратительна.
Н. В. Гоголю, пережившему раннюю смерть самых близких, это слишком знакомо.
«Дед догадался: забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала, и, как уже, — он и сам рассказать не умел, — попал чуть ли не в самое пекло. „Батюшки мои!“ — ахнул дед, разглядевши хорошенько: что за чудища! рожи на роже, как говорится, не видно. Ведьм такая гибель, как случается иногда на рождество выпадет снегу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского трепака. Пыль подняли боже упаси какую! Дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде, как высоко скакало бесовское племя. На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красивых девушек; а музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как в волторны. Только завидели деда — и турнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла — все повытягивались и вот так и лезут целоваться. Плюнул дед, такая мерзость напала!»
Без мрака нет света, без ужаса нет радости, без безобразия нет красоты, без колдовства нет молитвы, без печали нет любви, без смерти нет жизни; все едино и сохраняется только в этом единстве.
Отчуждение даже одного феномена необратимо меняет все, тем более всё искажается отчуждением феномена смерти и связанных с ним — пустоты, мрака, тоски; человек отделяется и начинает бояться смерти, «бежать ее», закрывать глаза на темное и страшное.
«Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из неё высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, ещё длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо всё задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. „Душно мне! душно!“ — простонал он диким, нечеловеческим голосом. голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, ещё страшнее, ещё выше прежнего; весь зарос, борода по колена и ещё длиннее костяные когти. Ещё диче закричал он: „Душно мне!“ — и ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землёю. Борода по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости…»
С потерей смерти как феномена в нашей ментальности потерялась и цельность, сдвиг смерти в тень затемнил и феномен жизни, человек стал избегать полноты её экзистирования, подчиняя её контролю. Н. В. Гоголя это удивляет и огорчает.
Автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — это человек, который полностью, на максимуме, на пределе возможностей, пережил все градации прекрасного и одновременно — безобразие, мрак, ужас одной и той же жизни. Эта полнота неизбежно меняет личность, опыт сгущается и становится основой нового состояния.
Н. В. Гоголь с грустью осознаёт, что время полноты детства, время нечаянной, невольной захваченности древней традицией, или, как говорит Толстой, время «привычного от вечности», время свободного, непринуждённого, «бесцельного полёта» (Блок) уходит, оставляя в душе пустоту, скуку, тяжесть и печаль.
Такова судьба каждого русского человека: невольная соединённость со всем живущим неотвратимо меняет его, человек зреет и осознаёт свою отдельность, безвозвратную отделенность от единства всего.
2. «Женщина»
Уже в молодости Н. В. Гоголь получил опыт по меньшей мере двух духовных видений, который оказал на него неизгладимое впечатление и стал основой личностного развития, «созревания и совершенствования».
«Твои глаза были сами свидетелями… но были ли они свидетелями твоих собственных мятежных движений, совершившихся в то время во глубине души твоей? Высмотрел ли ты наперед себя? Не весь ли бунт страстей кипел в глазах твоих; а когда страсти узнавали истину?
Устреми на себя испытующее око: чем был ты прежде и чем стал ныне, с тех пор, как прочитал вечность в божественных чертах Алкинои; сколько новых тайн, сколько новых откровений постиг и разгадал ты своею бесконечною душою и во сколько придвинулся ближе к верховному благу! Мы зреем и совершенствуемся, но когда? когда глубже и совершеннее постигаем женщину… она поэзия! она мысль, а мы только воплощение ее в действительности. На нас горят ее впечатления, и чем сильнее и чем в большем объеме они отразились, тем выше и прекраснее мы становимся».
Глаза Гоголя стали свидетелями Огненного Ангела — прекрасной женщины, которая «явилась» ему к этому времени, как минимум, дважды; для видящего это стало не источником страстей, а испытанием себя — «чтением вечности».
«Что такое любовь? — Отчизна души, прекрасное стремление человека к минувшему, где совершалось беспорочное начало его жизни, где на всем остался невыразимый, неизгладимый след невинного младенчества, где всё родина».
Теперь, уже взрослеющий, он именно так видит своё ушедшее детство и юность, включающие особый визионерский опыт. Именно, когда эта любовь уже пережита невольно, сама собой, невинно. Отечественное литературоведение абсолютно оставило это без внимания, без серьёзной работы с этими фактами.
Это мировосприятие очень похоже по состоянию и переживанию на «привычное от вечности» Л. Н. Толстого и «невозвратно потерянное» А. П. Чехова; здесь Н. В. Гоголь показывает нам то, что является основным и, пожалуй, единственным содержанием всех его повестей — «русскую землю», что полностью содержит в себе: пронзительную любовь, милую сердцу отчизну, минувшее, стремление к которому — прекрасно. Всё живое для Гоголя — всё родина.
«И когда душа потонет в эфирном лоне женщины, когда отыщет в ней своего отца — вечного бога, своих братьев — дотоле невыразимые землею чувства и явления — что тогда с нею? Тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди бога жизнь, развивая ее до бесконечности».
Толстой полагал долгом человека не только принятие на себя «ограничений пространства, времени и причинности», которые заставляют человека покидать «привычное от вечности», но и снятие этих ограничений, возвращение в лоно вечности. Видение Ангела-женщины возвращает Гоголю «прежние звуки», неизгладимый свет чистоты.
«В изумлении, в благоговении повергнулся юноша к ногам гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся над ним полубогини капнула на его пылающие щеки».
Изумление и благоговение Гоголя вызваны явлением ему одного и того же образа огненной красоты еще почти в детстве и в юности, в связи со смертью брата и отца, и, наконец, в молодости, когда он переехал в Петербург. Рассказывать о своих видениях Н. В. Гоголя удерживали существенные причины, среди которых опасность прослыть сумасшедшим или слишком экзальтированным, быть осмеянным или непонятым, — не самые важные. Причиной его молчания, я полагаю, является острое переживание невозможности прямого рассказа о явленном, виденном, которое исчезнет или даже навредит, поскольку прямой рассказ и даже любое предъявление того, чему «свидетелями были глаза», особенно страстное предъявление, нарушает целостность личного душевного события, «душевного явления». Здесь можно заметить, что для человека просвещённого, образованного, но не мудрого, любые события такого рода, какие случились с Гоголем, представляются проявлением невежества, темноты, язычества; тем более подозрительно и даже негативно относились раньше и относятся до сих пор к душеным явлениям западники, революционеры и особенно победившие, советские марксисты-ленинцы, — в их парадигму это не укладывается. Поэтому русские литературоведы и гоголеведы, как истинные продолжатели этой традиции, относят неоднократные упоминания Н. В. Гоголя об этих важных и решающих для него событиях как личной психической патологии писателя, которая должна быть по умолчанию проигнорирована в «объективном», «научном» исследовании его биографии и творчества.
3. «Миргород» (1834)
Для меня в русской литературе нет больше такого произведения, в котором вся возможная для литературного сочинения полнота содержания была бы заключена в такую простую, прямую, не требующую для своего восприятия никакого специального образования, ясную и очевидную форму, как это сделано Н. В. Гоголем в «Миргороде». Здесь, в отличие, например, от «Улисса» Джеймса Джойса, нет никаких упакованных загадок, шарад, намёков, ассоциаций и прочего, требующего от читателя определённого культурного уровня и некоторой изощрённости; здесь всё положено прямо перед читателем, всё названо теми именами, каково оно есть, и Н. В. настаивал на этом.
Всё раскрыто так, что читатель, даже самый обыкновенный, вернее, наоборот, прежде всего самый обыкновенный — невольно, сам собой, без малейших усилий, нечаянно, невинно, наивно будет воспринимать и переживать содержание «Миргорода» в его простой правде. Неизощрённость в чём-то имеет несомненное преимущество по отношению к зрению специалиста, так как восприятие последнего слишком сильно загружено его образованием или идеологической лояльностью.
В примечаниях к «Миргороду» в 8-томнике Н. В. Гоголя меня и возмутила, и насмешила растерянность их автора — В. Гуминского:
«Назвав свою книгу, не знаем почему, именем уездного города Полтавской губернии», Гоголь вполне заслужил недоуменные вопросы критиков. Действительно, если название дано по месту действия книги, то из всех ее повестей только события «Повести о том, как поссорился…» разворачиваются в Миргороде, в остальных он даже не упоминается. Правда, эпиграфы к книге как будто настаивают на буквальном «географическом» понимании: здесь дается и справка из известного научного труда, предлагающая своего рода статистику быта и бытия этого «нарочито невеликого города», и приводится отзыв «одного путешественника» — очевидца, судя по всему побывавшего в Миргороде и даже откушавшего там «бубликов из черного теста», заслуживших его похвалу». Довольно часто встречающаяся особенность литературоведов и биографов Н. В. Гоголя — любовь к пересказу своими словами содержания прочитанного, критик, видимо, внушает нам, что он читал то произведение, которое он исследует. Это бы ещё ничего, если бы после пересказа не следовал какой-нибудь пассаж наподобие такого, В. Гуминский продолжает:
«Но «записки» этого памятливого путешественника-гурмана и миргородская статистика (из которой при всем желании можно заключить только, что в Миргороде, должно быть, дуют сильные и постоянные ветры — все-таки 45 ветряных мельниц!) — «всё обман, все мечта, все не то, чем кажется».
Всего желания этого критика хватает только на то, чтобы не замечать, что определённо не в Миргороде, а в его голове «дуют сильные и постоянные ветры». А вставленная в текст цитата самого Гоголя, выдернутая из «Невского проспекта», но приведённая при анализе «Миргорода», должна подтвердить предположение критика, как ему кажется, о том, что всё написанное Н. В. — «обман, мечта, не то, что кажется», и, соответственно, в этих обстоятельствах его задачей как просветителя является как раз необходимость растолковать простоватым читателям, что именно имел в виду Гоголь в своём творчестве, поскольку он всегда имеет в виду совсем не то, о чём пишет!
«„…самые странные эпиграфы, не имеющие ни малейшего отношения к книге“, как их назвал рецензент „Северной пчелы“».
В. Гуминский не склонен задумываться, почему эти эпиграфы кажутся ему странными! Странным представляется то, что не понимаешь, что не укладывается в привычное для тебя положение вещей, но это — есть, это — авторская данность, поэтому, чтобы нечто перестало быть для тебя странным, надо работать над собой и расширить свой горизонт, изменить собственные стереотипы восприятия. Однако, критику не столь важно то обстоятельство, что сам автор поместил в начало сборника именно эти эпиграфы (зачем размышлять над этим и, тем более, зачем меняться самому?). Достаточно признать эти эпиграфы странными, чтобы больше над этим не думать; так странно «работало» отечественное литературоведение: ежели что не понимаешь, называй его «странным», и дело в шляпе!
В. Гуминский продолжает:
«Миргород — это многозначное понятие-образ. Исследователи давно обратили внимание на образ „сборного города“ [обратили внимание не исследователи, а сам Гоголь написал об этом — М. Я.], ключевой для драматургии писателя. В критике предпринимаются попытки сопоставить его с самой высокой мировоззренческой традицией, идущей еще от средних веков и представленной, в частности, знаменитым сочинением Аврелия Августина „О граде божьем“…»
Сопоставляя высоту мировоззрения средневековой традиции и своей, я считаю, что критик, не осознавая этого, вполне реалистичен в оценке степени высоты своей мировоззренческой традиции, которую полагает явно ниже «самой высокой» средневековой. Я благодарю за терпение моего читателя, так как намеренно взялся прокомментировать столь подробно эти советские литературоведческие отрывки, и полагаю, что это очень полезно для понимания, как именно обходится критика с глубокими смыслами великого русского писателя.
Дальше:
«…где „город“, „град“ становится иносказательным определением смысла всей человеческой жизни, так же как и смысла жизни всего человечества. Ясно одно — гоголевский город никогда не бывает просто „населенным пунктом“, он существует в одном ряду с такими понятиями, как человечество, история, мир».
Итак, вывод критика: ему ясно одно — «Миргород» не просто населённый пункт, а иносказательное определение смысла человеческой жизни, которое существует «в одном ряду» и т. д., и одновременно В. Гуминскому под руководством В. Щербины представляется «странным» все то, что делает Н. В. Гоголь: название сборника, эпиграфы, настойчивость на буквальности, финалы и т. д. Ясно же, видимо, только одно — то, что делают они сами! Такая тактика!
А теперь давайте просто прочтём то, что написано в заглавном листе «Миргорода», ничего не прибавляя и ничего не упуская. Название сборника — «Миргород».
Миргород — город в Полтавской губернии; единственное, что ещё можно добавить к этому, напоминаю, не выходя за рамки содержания повестей сборника и не улетая в воображение, это то, что Миргород — мирный город, но не город мира (сущего, всего мира), а гоголевскими словами именно — «мирный угол», «мирный уголок», это именно и просто населённый пункт, нарочито невеликое место, которых на необъятных просторах России и во времена Гоголя, и сегодня — сотни тысяч.
Дальше: «Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
Очевидно, что для Гоголя это важно, что повести этого сборника являются продолжением предыдущих, соответственно, первая повесть «Миргорода» — «Старосветские помещики» следует за последней в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» — «Заколдованным местом», и, учитывая их содержание, мы получаем авторское послание, что имение Товстогубов представляет собой как раз незаколдованное или расколдованное место, то есть место, где всё видится именно таким, каким является, где всё растёт и живёт в соответствии со своей природой: тыква вырастает тыквой, а арбуз арбузом, место, где как раз нет никакого обмана, который господствует в больших городах и столицах.
До какой степени надо не чувствовать, не понимать Н. В. Гоголя, чтобы для пояснения, для характеристики мирных уголков русской земли, о которых написано в «Миргороде», приводить цитату из «Невского проспекта» о столице, как это делает В. Гуминский?! Первый из так озадачивших нашу критику эпиграфов:
«Миргород нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц. География Зябловского».
Критик, вроде бы, совершенно справедливо выделил наиболее важные элементы описания, такие как конкретный, «буквальный» город, нарочито невеликий, значительное количество мельниц, но при этом превратил город в понятие-образ, иносказание, а наличие мельниц стравил в подобие шутки.
Итак, у Гоголя: город, но не просто город, а мирный город, но не просто мирный город, а нарочито невеликий мирный город, то есть в большом городе то, что автором «Миргорода» понимается как «мирное», уже не найти, и, наконец, нарочито невеликий мирный город, оснащённый одной канатной фабрикой, одним кирпичным заводом, 4-мя водяными и 45-тью ветряными мельницами! Вместо того, чтобы тужиться шутить, критику следовало бы заняться своим прямым ремеслом — литературоведением, ведением, знанием литературы, тогда бы он, может быть, связал бы одно с другим и вспомнил, что мельницы, особенно — ветряные, представляют собой важный атрибут мировой литературы, который очень хорошо знали русские писатели: Пушкин даже приводил Сервантеса Гоголю в качестве примера для подражания как писателя, реализовавшего большую вещь, однако до этого писавшего, как и Н. В., только повести, хотя и хорошие.
Следовательно, Миргород, в отличие от больших городов, сохранился как «мирный угол» именно потому, что защищён мельницами от нападок «романических героев», которые — на границах этих уголков — ломают свои копья о ветряки «многокрылых мельниц», как называет их Гоголь в своей записной книжке, и поэтому не могут проникнуть внутрь, что им вполне уже удалось в больших городах, не защищённых стражами русской земли. То есть мельницы — это ангелы, херувимы, стражи миргородов, поэтому Н. В. и сделал эту выписку из географии эпиграфом своего сборника повестей. Ничего странного; например, ворота хутора сотника в «Вие» охраняют две мельницы. Но почему-то это не имеет значения для нашего литературоведения, которое занято судьбами всего мира и человечества, но равнодушно к русской земле, её исконной ментальности. Второй эпиграф:
«Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны. Из записок одного путешественника».
Тот, кто хоть раз ел бублики из черного теста или ржаные лепешки прямо с противня, кто спал на сене или под открытым звёздным небом, укрывшись тулупом, кто смотрел из окна прямо в сад, кто хоть раз в жизни одухотворялся водой и ветром родного «мирного уголка», тот совершенно поймёт Н. В. Гоголя, не обращаясь ни к каким категориям, антитезам и литературоведческим иносказаниям.
«Старосветские помещики»
Буквально — помещики старосветские, помещики старого света, можно чуть расширить — помещики старого русского света.
Что это за «старый свет»?
«Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей».
Старый свет — это свет дряхлости, уединения, отдаления от чего? — от нового и гладенького, гламурного, от того, что ещё не промыто водой времени, не покрыто крышей традиции, не основано на фундаменте древней культуры.
«Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает через частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблоками и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами».
В этой сфере ни одно желание не перелетает через частокол, потому что здесь всего достаточно, здесь жизнь полна до самого края так, что желать больше нечего, тем более, желать другого, чужого; здесь — скромность полноты жизни. Н. В. Гоголь, в предельной мере переживший это невольно, теперь столь же совершенно, однако уже намеренно, может оценить всю прелесть, всю радость, всю простоту и всё упоение такой жизни.
«Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении».
За частоколом этой светлой тишины древности, этой полноты — ущербность, выхолощенность, «страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир», тогда как внутри сферы — свет, невозмутимый покой, тишина, злого духа здесь нет. Н. В. и удивительно светло и радостно от одной только мысли об этой, теперь уже ушедшей от него жизни, от одного, даже минутного воспоминания, и одновременно — непереносимо грустно и больно.
«Я отсюда вижу низенький домик с галерею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворять ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, — все это имеет для меня неизъяснимую прелесть…»
Внутри этой сферы, или, точнее, в этой сфере, потому что она совсем не воспринимает себя отделённой от чего бы то ни было, всё едино, всё цельно, всё полно: люди, животные, растения, строения, земля.
«…тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние…»
В русском миргороде, в мирном углу человеку удивительно приятно и спокойно, потому что он здесь не возмущается, не содрогается злыми страстями; кто хоть раз действительно испытал, вспомнил себя радостным ребёнком, тот поймёт, почему автор так любил эту повесть: быть наполненным любовью, простодушием, покоем, счастьем, не прилагая к этому никаких усилий, ничего для этого не делая, испытывая это счастье даром, просто так, — что может быть лучше?!
«Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь».
«Низменная буколическая жизнь» означает примитивная, простая, сельская, скромная, происходящая на земле, внизу, снизу, жизнь. Старый русский свет это свет доброты, радушия, чистосердечия, который невольно захватывает все чувства человека, не оставляя в нём желания перелететь через частокол, выйти из этого света, «возмутиться» чем-либо.
«Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник, верно бы, украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь… Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь…»
Это всё те же старички и старухи, в которых вольно и невольно светит старый русский свет обращения всего к единству и согласию; мне не нужно прилагать никаких усилий, чтобы видеть это: Н. В. Гоголь описал моих родителей так, как будто видел их собственными глазами, в детстве лето я проводил в деревне и хотя такого изобилия там не было, всё же каравай хлеба, испеченный при мне бабушкой, земляника, собранная в высокой траве на склоне холма вместе с дедушкой, и черёмуха, поедаемая вместе со старшим братом и двоюродными сёстрами, до сих пор снятся мне.
«Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскали из амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику, то есть к шинку, сколько ни крали гости, флегматичные кучера и лакеи, — но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве».
Благословенная Н. В. Гоголем земля мирных уголков русской земли производит с избытком, старого света хватает всем, кто сколько бы ни взял! единство и согласие всего настолько полны, что всё восполняется само собой, без усилий, нечаянно, по привычке.
«Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Когда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них ни было лучшего, все это выносилось. Они наперерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ».
Эта доброта и простота — естественны, то есть вовсе не являются следствием образования, просвещения, а только — единством и согласием всего, естественным светом, от которого человек неотделим, не замечая его.
«Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот — великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями».
«Ничтожной причиной великого события» исчезновения старого света, разрушения сферы русской тишины, стало прельщение кроткой серой кошки Пульхерии Ивановны живущими в глухом лесу «дикими котами, народом мрачным и диким», которому «вообще никакие благородные чувства не известны» и которые «живут хищничеством». Кошка исчезла, но через некоторое время вернулась.
«Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил… как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее. Задумалась старушка. „Это смерть моя приходила за мною!“, — сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять».
В мире старого русского света нет большого или малого, важного или неважного, всё едино, поэтому необратимое изменение даже самого малого неизбежно меняет всё целое: этого нельзя не замечать и некультурно игнорировать; однако это не современное представление об «эффекте бабочки» как единичном событии, имеющем — через ряд взаимодействий — существенное влияние на внешне отдалённые события. В русской сфере необратимое изменение даже самого малого, как бы незаметно или незначительно оно ни было, неизбежно меняет каждый элемент этого целого и все целое.
Мысль Н. В. Гоголя такова: незначительные, но необратимые изменения, происходящие в нарочито невеликих, скромных уголках русской земли привели к великому событию — разрушению и исчезновению старого света русской жизни, по сравнению с которым любое внешне грандиозное предприятие, например, какая-нибудь война, захватившая множество государств, будет иметь ничтожное значение. При этом важно то, что это не размышление, не цепь силлогизмов, а — непосредственное восприятие и понимание.
«… оставим эти рассуждения: они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями».
Это непосредственное восприятие Н. В. необратимости изменений, которое ничто не может рассеять; это именно целостное восприятие, а не размышление, не рассуждение, целостность же восприятия требует целостности действия, которое вытекает не из рассуждений, а из всего строя события. И сам Гоголь, так же как и его Пульхерия Ивановна действуют под воздействием произошедших с ними «душевных событий».
«–Нет, я не больна, Афанасий Иванович! Я хочу вам объявить одно особенное происшествие: я знаю, что я этим летом умру; смерть моя приходила за мною!»
Гоголь уже сейчас, за два десятка лет до «Прощальной повести», приоткрывает нам смысл своего служения: он не болен и его смерть — «одно особенное происшествие».
«–Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я (тяжелый вздох прервал на минуту речь ее): я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами». При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость…
Бедная старушка! она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным».
Как и Тарас Бульба, заживо сгорая, думал только о спасении своих товарищей, как и Николай Гоголь, как и его герои, намеренно предстоя вечности, умирая, думал о других людях, о своих соотечественниках, о своих потомках, о нас с вами.
«Она с необыкновенною расторопностью распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия».
Как и он сам распорядился так, чтобы его мать и сестры «не заметили» его отсутствия.
«Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно чрез несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. „Может быть, вы что-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?“ — говорил он, с беспокойством смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила».
Осуществляя «Прощальную повесть», Гоголь знал, что его близкие и друзья будут беспокоиться о нем, будут пытаться его лечить, кормить и увещевать, но что он не будет ничего говорить.
«Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами — и дыхание ее улетело».
Н. В. Гоголь оставил очень точное описание своей собственной смерти
— до деталей: восприятие необратимости изменений, влекущих исчезновение света, после некоторого личного события, «душевного явления»
— обдумывание и принятие решения, которое ничто не может рассеять, сожаление об оставляемых близких людях и распоряжение об устройстве их жизни, сильная уверенность и настроенность души на живую смерть и, наконец, собственно смерть как предстояние вечности без внимания на беспокойство близких и со вниманием на их спасение.
«Боже! — думал я, глядя на него, — пять лет всеистребляющего времени — старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души [возмущают человека и мир «страсти, желания и неспокойные порождения злого духа», которые кажутся нам, в силу нашего образования и воспитания, единственно ценными М. Я.], которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов, — и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей — есть только следствие нашего яркого возраста и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастия; это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу; нет! это были слезы, которые текли не спрашиваясь, сами собой, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца».
Сколько «благородного» негодования, возмущения, раздражения вызывал и вызывает этот пассаж у наших литературоведов, начиная с Белинского и заканчивая ныне здравствующими гоголеведами. Как Гоголь посмел хотя бы предположить, что привычка выше, сильнее, взрослее, прогрессивнее ярких душевных порывов? — возмущается в XIX, XX и даже в XXI веке сообщество просвещённых и образованных критиков, культурологов и философов, академиков и профессоров литературы, школьных учителей и просто читателей. Не возмущаются же те, кто, как, например, Л. Н. Толстой, смог по достоинству оценить разницу между возмущающей все чувства человека страстью — «чувством оленя» и невыразимым покоем и тишиной «привычного от вечности».
Н. В. Гоголь очень точно воспринимал и переживал эту разницу между «возмущающей душу страстью» и покоем привычного света: «привычка» Гоголя — это именно сияние старого русского света, который льётся из человека сам собою, нечаянно, невольно и без усилий. Страсть покидает сферу света, погружается во тьму другого, завладевает, покоряет или просто смущает его, а «покой привычки» льётся на всё, на что обращается внимание человека, без разбора свой-чужой и даже на чужого — особенно сильно, как на гостя в миргороде. «Привычка» Н. В. — это «привычное от вечности» Л. Н., это древний, дряхлый, старый свет доброты, радушия, чистосердечия, простоты, ясности, скромности, бесхитростности, примитивности.
«Он не долго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиною Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенною своею беспечностью, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие».
Критикам стоило больше внимания уделить решению вопроса, почему Н. В. Гоголь так настойчиво собирает все свои повести вокруг какого-нибудь «странного происшествия», то есть происшествия, которое не должно быть проигнорировано, пропущено; однако наши гоголеведы игнорируют именно эту «странность», на которой особенно настаивает сам писатель, объявляя самого Гоголя странным!
«Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты — нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он наконец произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня!»
Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял как свечка и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны», — вот все, что произнес он перед своею кончиною».
Здесь интересно замечание писателя — «покорился с волею послушного ребенка», которое, возможно, указывает на то, что он уже в детстве чувствовал в себе душевное убеждение зова смерти; судить об этом невозможно, но в качестве дополнительного намёка на это может служить то, что причиной убеждения Пульхерии Ивановны стала история с кошкой, напоминающая историю с кошкой 5-летнего Гоголя.
Чем же закончилась история, начавшаяся с прельщения серой кошки дикими котами?
«Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал, неизвестно откуда, какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распрорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека (из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире) перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своею опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии; тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как-то: муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как-то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышает всем оптом своим цены одного рубля».
Старый свет потух, старички умерли, избы повалились, пруд зарос, мужики пустились в бега, всё разворовали, благословенная земля истощилась, и всё это из-за одной кошки!
Так живёт русская земля: нет в ней ничего отдельного, всё одно.
А теперь ознакомимся с тем, как воспринимает эту повесть Н. В. Гоголя российское литературоведение.
Сначала В. Г. Белинский:
«Что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами и которая, наконец, называется жизнью. Возьмите его „Старосветских помещиков“: что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной…»
То, что для писателя является самым дорогим и родным, светлый уголок русской земли, для критика — животен, гадок, уродлив, карикатурен и населяют его не люди, а пародии на людей, — вот уж действительно русский критик, который не выносит всего русского, хотя и очень хорошо его чувствует!
«Г-н Гоголь сравнивает ваше глубокое, человеческое чувство, вашу высокую пламенную страсть…» [Ни разу Гоголь не назвал страсть, то есть возмущение души, высокой] «…с чувством привычки жалкого получеловека и говорит, что его чувство привычки сильнее, глубже и продолжительнее вашей страсти, и вы стоите перед ним, потупя глаза и не зная, что отвечать, как ученик, не знающий урока, перед своим учителем!»
В чувствительности Белинскому не откажешь — очень точное описание занимаемого им места. На мой взгляд, он и есть нерадивый ученик, не знающий урока русской жизни.
«…комическое одушевление, всегда побеждаемое чувством глубокой грусти. В этом отношении русская поговорка: „начал во здравие, а свел за упокой“ — может быть девизом его повестей. В самом деле, какое чувство остается у вас…»
«Остается у меня» имеет в виду Белинский, пытаясь с помощью этого нехитрого суггестивного приема подменить чувства читателя на свои, почти как карточный шулер.
«…когда пересмотрите вы все эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ее наготе, во всем ее чудовищном безобразии, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь над нею?»
Досыта нахохотавшись, наругавшись над русским, В. Г. Белинский позволяет себе немного погрустить… тому, что русское ему ещё к тому же отвратительно.
«…но тем не менее это все-таки юмор, ибо не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение».
Белинский упорно снимает с себя ответственность за испытываемые им при чтении Гоголя переживания, вот и здесь он не говорит: «я испытываю отвращение к этим русским людям», а говорит: «юмор возбуждает отвращение».
Комментарии к этим комментариям здесь излишни: очень скоро белинские расплодятся в таком количестве, что хохот и ругань над русским станет делом обыкновенным, хорошим тоном.
Но это далеко не всё: конечно, основатели ведущего тренда русской критики — это люди, находящиеся во власти, по определению Н. В. Гоголя, «странного раздражения» (В. Г. Белинскому писалось особенно хорошо тогда, когда он воодушевлялся именно таким горячечным раздражением, которое сам, видимо, воспринимал как вдохновение и которым наделял настоящих художников) и ожидать от них иного восприятия было бы даже странно.
Удивительно то, что люди с противоположными взглядами, которые ставили себе целью сохранение русской народности и традиций, то есть те, которых называли «почвенниками», «славянофилами», с таким же отторжением воспринимали любовь Н. В. Гоголя к «малой россии», к малому русской земли. Например, Шевырёв назвал «привычку» Гоголя «убийственной мыслью» и посчитал её достойной «вымарывания».
Я вижу, как мои соотечественники вымарывают нашу собственную историю, вычёркивают из русской жизни то, что светит в ней тихим светом нашего единения, старым светом русской культуры; мне грустно наблюдать, как этот свет русской жизни вызывает у русских же — «хохот, ругань и отвращение» и желание его «вымарать».
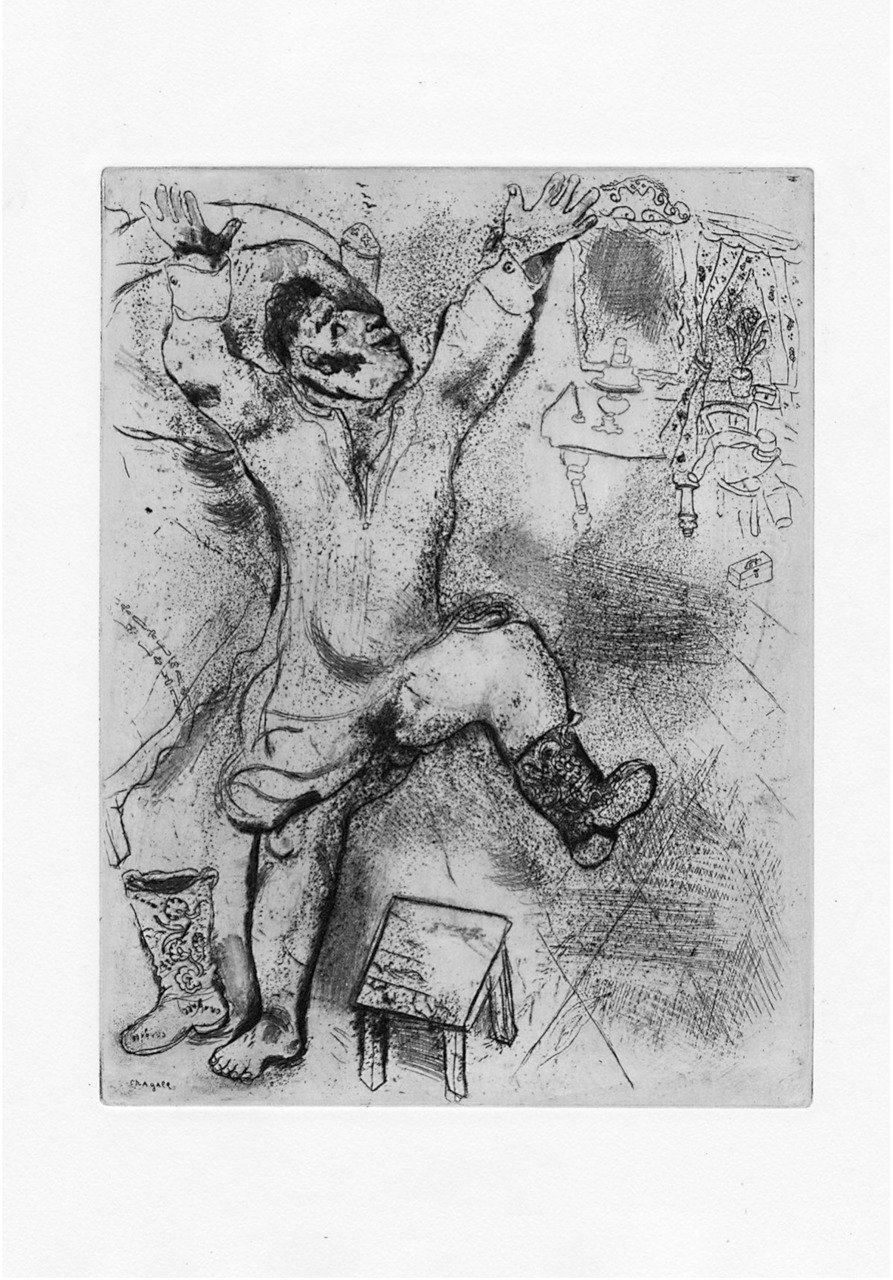
«Тарас Бульба»
Если в первой повести «Миргорода» Н. В. Гоголь описал старый свет русской культуры, который сохранился ещё кое-где в отдалённых мирных уголках русской земли, то во второй повести он показал её защитника, казака, который, как мельницы Миргорода, защищал благословенную русскую землю в таком далёком и одновременно совсем близком прошлом.
Гоголь воспринимал себя казаком и очень гордился этим, отдавая предпочтение своей принадлежности именно к русской культуре и отклоняя свою связь с польскими корнями как извратившими древний свет русской культуры.
«Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров,, которые могли возникнуть только в тяжелый ХV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал очень отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи…»
Эта привычка понадобится философу Хоме Бруту, чтобы посмотреть в глаза древнему Вию; здесь стоит отметить, что литературоведение не обратило должного внимания не только на характерное для Н. В. Гоголя выделение «странных происшествий», но и на образ прямого смотрения глаза в глаза («Вий», «Портрет» и др.), из которых можно сделать вполне обоснованное предположение, что с ним самим случилось именно такое «странное происшествие», в котором ему пришлось посмотреть прямо в глаза чему-то или кому-то, а вот чему или кому станет понятно, если в произведениях и письмах замечать повторяющееся и характерное, именно ему присущее.
«…разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле мирный славянский дух…»
Старый, дряхлый, древний русский дух — мирный, но и он может объяться бранным пламенем.
«…и завелось казачество — широкая, разгульная замашка русской природы… Это было, точно, необыкновенное явление русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городов, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников.
Не было ремесла, которого бы не знал козак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнечную, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский, — все это было ему по плечу… И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность»
Которой — «дюжей наружности» — не было у Н. В. Гоголя в отличие от русского характера, то есть способности к могучему и широкому размаху, богатырству, о котором он не раз упоминает и здесь, и в «Мёртвых душах».
«Тарасу это было не по сердцу. Он любил простую жизнь козаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия».
И Гоголь также был неугомонен и также считал себя законным защитником православия.
«Сам со своими козаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили в чем старшин и стояли пред ними в шапках, когда поглумились над православием и не почтили предковского закона и, наконец, когда враги бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства.
…все прочее время отдавалось гульбе — признаку широкого размаха душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрестанное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее».
Общее пиршество, захваченность всех одним, единый полет «всего, что ни есть» околдовывает Н. В. Гоголя.
«Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости».
Здесь другая сторона полноты жизни — бешеная, безграничная, несдерживаемая, сама собой проявляющаяся.
«Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей».
Писатель, собственно, в точности описывает себя как действительного казака — в жизни он отказался от собственности в пользу матери, имущества (кроме самого необходимого, помещавшегося в один чемодан), дома, семьи, сбережений, появляющиеся деньги он передавал через друзей нуждающимся студентам, хотя сам часто жил в долг.
«Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. … Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак, где мрачно-искажающим весельем забывается человек, это был тесный круг школьных товарищей… Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собой кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь — и жизнь во всем разгуле…»
Здесь можно отметить, что на Сечи не было никакой проблемы взаимоотношения отцов и детей, как бы давно и настойчиво ни пытались внушать нам это литературоведы: на пороге Сечи казак оставлял всё: отца, мать, брата, сестру, родню, имущество, имение, прошлое: каждый оставался только с одним — своей волей: Остап пошел за отцом, потому что так решил, Андрий выбрал любовь к польке, а мог выбрать что-то другое, сделал он это совсем не в противоречие отцу, а по своей воле.
«Царица! — вскрикнул Андрий, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков. — Что тебе нужно? чего ты хочешь? прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, — я побегу исполнять ее! — скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, — я сделаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко…»
Не со смертью ли разговаривает Гоголь? и не женщина ли посмотрела ему в глаза в странном происшествии? что это за женщина?
«Вижу, что ты иное творенье бога, нежели все мы… Мы не годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе.
А что мне отец, товарищи и отчизна! — сказал Андрий, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречная осокорь, стан свой. — Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого! — повторил он тем же голосом и сопроводив его тем движеньем руки, с каким упругий, несокрушимый козак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого». То, на что решился Н. В. Гоголь, вполне сопоставимо с решением Андрия, ведь ему приходится отказываться не только от родных, не только от друзей, но и от общепринятой веры и от отчизны (не в том, конечно, смысле, что он противник веры и отчизны, а в том, что он согласен остаться непонятым); этот особый решительный жест рукой был, по словам очевидцев, характерен для Н. В.; характерно и — «неслыханное и невозможное для другого дело».
«А кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрим, пусть кто-нибудь из козаков вырвет ее оттуда! Полный не на земле вкушаемых чувств, Андрий поцеловал в сии благовонные уста, прильнувшие к щеке его, и небезответны были благовонные уста. Они отозвались тем же, и в сем обоюднослиянном поцелуе ощутилось то, что один раз только в жизни дается чувствовать человеку».
Обоюдослиянный поцелуй человека со смертью даётся ему только один раз в жизни. Николай Гоголь, конечно, предвидел то, как именно воспримут его соотечественники (как современники, так и потомки, по крайней мере, ближайшие), его «Прощальную повесть».
«И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви божьей! Украйне не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее…»
Бешеная веселость, размах и разгул русского характера рождаются не только и даже не столько отказом от всего: прошлого, семьи и родных, дома и имущества, а самым главным, решающим отказом — отказом казака от «бледной смерти» на своей постели в своем доме в окружении родных. Бешенство жизни, переполненность жизнью порождается бешенством смерти, приятием смерти как «добра великого».
«Как орлы, озирали они вокруг себя очами поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами и дорогами покрыто торчащими их белыми костями, щедро обмывшись козацкою их кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными книзу усами. Будут, налетев, орлы выдирать и выдергивать из них козацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге!»
Смерть была в русской древности таким же добром, как и жизнь; в Сечи обитали живые мертвецы, или, что-то же самое, мёртвые живые, казаки, это были товарищи и в жизни, и в смерти.
«…хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дали знать себя, и с Царьграда брали червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! …Породниться родством по душе, а не по крови, может только один человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей… Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе… Нет, так любить никто не может! … Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведется так умирать! … Никому, никому! … Не хватит у них на то мышиной натуры их!»
Русский любит не умом или чем другим, русский любит всем, что ни есть в нем, всем самим собою, невольно, не усилием, нечаянно, по привычке! также должен русский и умирать, с той же любовью к смерти.
«Но когда подвели его к последним смертным мукам, — казалось, как будто стала подаваться его сила. И повел он очами вокруг себя: боже, всё неведомые, всё чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и биющей себя в белые груди; хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине:
Батько! где ты! Слышишь ли ты?
Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины…»
Не досталось Гоголю этого утешения — твердого мужа при кончине.
«…честной, козацкой смертью — всем на одной постели, как жених с невестою…
Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались козаки… Прощайте, товарищи! …есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак?
Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!
…и гордый гоголь быстро несется…»
Этой гордостью, который был полон Гоголь, не наполниться невозможно, не за себя самого и даже не за великую историю своего народа, а гордостью, торжественностью великой силы, живущей в каждом русском.
«Вий»
Славные, грозные, героические времена казачества прошли. И оставили нам в наследство, казалось, только память, песни и легенды, но не свой воинственный, размашистый, разгульный русский дух. Но это только кажется: в 1812 году пришла пора нового военного испытания русского солдата; но и после славной победы не исчезла необходимость «защищать свою отчизну, веру и товарищей» от хищников, — уверен Н. В.
Однако, если во времена Запорожской Сечи и вторжения Наполеона была необходимость защищать русскую землю от внешних ее врагов, а мирные ее уголки были ещё полны «старого света», — то ныне, прямо на глазах писателя, этот свет стал исчезать, стремительно и необратимо, даже из самых отдалённых и уединённых миргородов. Побеждён и отдалился внешний супостат, но усилился и приблизился враг внутренний — «страсти, желания и порождения злого духа, возмущающие мир». Позже, в «Мёртвых душах» Гоголь уже прямо говорит о том, что не внешний враг, а мы сами губим свою страну.
Поэтому отчизне, вере и товарищам по-прежнему нужен защитник — казак. В «Вие» этим защитником становится философ Хома Брут, который был выбран «двуликим Янусом» древнего мира — ведьмой-панночкой (смертью), на то, чтобы за завесой ветхости этого мира увидеть его «страшную и сверкающую» красоту, спящее и оживающее русское лукоморье.
В описании полёта философа Хомы Брута ещё ярче и определённее раскрывается действительное восприятие и переживание Гоголем древнего русского единства всего живого:
«Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою».
Полёт, в который увлекает человека древняя русская сила — чёрт Вакулы, конь из «Пропавшей грамоты», ведьма-панночка, порождает в этом человеке хоть и неприятное, но всё же томительное и сладкое чувство. Этот полёт околдовывает человека, показывая всё великолепие уходящего века, спрятавшего своё солнце в опрокинутом и спящем с открытыми глазами мире.
«Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось, — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде…»
Только ограниченное и безжизненное представление может прочесть это как описание «низших форм жизни», среды обитания или просто как художественный вымысел, сказочный фон. Но именно так, с неким высокомерием рассматривали образность Гоголя Шевырев и Белинский, а за ними и многие последующие. При этом наши специалисты совершенно игнорируют то упорное постоянство, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и заканчивая «Мёртвыми душами», с каким Н. В. настаивает на единстве всего, что ни есть в каждом мирном уголке русской земли: людей, неба, деревьев и растений, степей, рек, птиц, гор, полей и ветра. Это единство, в котором «всё что ни есть», рождается и исчезает, не общность, установленная взаимодействием разнородного, это изначальное единство. Это русское единство — торжество жизни, одной и той же жизни не как свойства или принадлежности отдельного существа, а жизни как творения, как стихии становления «всего, что ни есть».
Именно так великий писатель переживал и описывал эту матрицу. Его проза — не вымысел, не результат воображения, не фантазия, а видение, живой сон, дрёма сущего: его майская ночь, его приднепровая степь, его купающаяся в опрокинутом море травы русалка, — не плоды его фантазии, а «полусон», как называет своё состояние сам русский писатель, живой сон старого русского света, который светит только в том, кто намеревает всё-как-жизнь или жизнь-как-всё.
Это намерение оживляет русский язык, высвобождает упакованную в нём магию древнего мира, погружает человека в живую гармонию всего сущего, которая всё ещё звучит в песнях, легендах, преданиях и поэтому всё ещё жива в людях.
«Видит ли он это или нет? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит, и вьется, и подступает, и вонзается в душу какою-то трелью… «Что это?» — думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою.
Изнеможденный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия против духов — и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его. Густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе.
«Хорошо же!» — подумал про себя философ Хома и начал почти вслух произносить заклятия. Наконец с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил, в свою очередь, к ней на спину. [именно так, так же решительно действует сам Гоголь в «страшную минуту», в экстремальной ситуации — М. Я.]
Старуха мелким, дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладки, но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. [во время полёта, управляемого старухой, Хома видел всё ясно и отчётливо; во время полёта на старухе всё для него запестрело неясно и сбивчиво — М. Я.] Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу; и невольно мелькала мысль: точно ли это старуха?»
Что скрывается за видимостью старого, дряхлого, древнего? что на самом деле скрыто в том, чего мы так боимся? что мы так презираем? что нам так отвратительно? точно ли это так? не окажется ли, что за сердитыми и угрожающими воплями скрываются чистые, тихие, звенящие, тонкие серебряные колокольчики, которые не раз упоминаются Гоголем?
«Ох, не могу больше!» — произнесла она в изнеможении и упала на землю.
Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез».
Старуха оказалась красавицей: то, что сначала кажется старым, уродливым, древним, таково ли? что убивают в нас молитвы и заклинания? что мы должны сохранить или даже воссоздать из убитого в себе нами?
«Затрепетал, как древесный лист, Хома: жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им, он пустился бежать во весь дух. Дорогой беспокойно билось его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное, новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии».
Что же это за новое чувство? что он не мог себе истолковать? поразительно и странно, и страшно: старуха — не только чудовище, стремящееся погубить его, но и красавица, открывающая для него новый, но в действительности — древний, удивительный и прекрасный мир. Это происшествие с Хомой Брутом — почти калька со случая с кошкой, которая стала видимой причиной сильного испуга мальчика-Гоголя и которую он, преодолев свой сильный страх, утопил, после чего очень жалел её, чувствуя, что убил не кошку, а человека! То есть человек, полагая причину своего страха в чём-то, например, в кошке, в ведьме или в смерти, видит эту кошку, ведьму или смерть — мерзкой, страшной, уродливой, злой; однако, стоит ему только избавиться от своего страха, как оказывается, что причиной страха является вовсе не то, что казалось, и старуха-смерть окажется прекрасным Огненным Женщиной-Ангелом.
«…Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую и…
Трепет пробежал по его жилам: пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело, прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста — рубины, готовые усмехнуться… Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе [«похоронную песню» здесь гораздо уместнее, но, конечно, не для советского литературоведения, сохранившего в этом месте текста «песню об угнетённом народе» — М. Я.].
Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее.
Ведьма! — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы.
Это была та самая ведьма, которую убил он».
В страхе мы сами убиваем живую красавицу смерть как страшную старую ведьму, в ответ она убивает нас. Я могу здесь достаточно определённо утверждать, что «странным происшествием» Н. В. является именно узнавание Смерти в Женщине, только, конечно, не просто женщины и смерти как безликого события, а виденной им в особых обстоятельствах Женщины-Смерти.
«Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз.
Такая страшная, сверкающая красота! Он отворотился и хотел отойти, но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз».
Далеко не всякий человек не оставляет любопытства по отношению к тому, что его напугало, большинство как раз склонно избегать опасного. Видимо, российские гоголеведы избегают фрустрации и смотреть на свою смерть не желают, в этом нисколько себе не переча.
«В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если была бы несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами».
В русском лукоморье у мастера всё «спит с открытыми глазами» и «всё глядит с закрытыми глазами»: «…чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом… в совершенно мертвой тишине…». Точно как в случае с кошкой — «чтобы ободрить себя» и в «совершенно мертвой тишине»:
«В страхе очертил он около себя круг… Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший».
В страхе отгородившись, отделившись от смерти, человек уже не может не видеть её ужасным, безобразным и синеющим трупом: «…но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству и на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса».
Мы слышим намёк Н. В., что ребенком он не всё рассказывал, подчиняясь какому-то безотчетному для него самого чувству. А мужчина не будет говорить о том, что им намечено, но ещё не выполнено, и что разрушается самим фактом рассказа об этом. Речь здесь, конечно, идет о его видениях.
«Все летало и носилось, ища повсюду философа. Не имел духу разглядеть он их… Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом».
Таинственный круг — это отделение человека, его индивидуализация, выделение его в отдельного от всего, выход его из старого света русской культуры, которая теперь его не видит, не может увидеть именно потому, что глядит по-другому, из полноты. Внимание человека, отрезанного от «привычного», изменило своё направление и теперь устремлено на отдельное, отвратившись от единства.
Вместе с автором я ясно чувствую, что современник потерял эту живительную связь и, несмотря на страх, обязан «принудить» себя изменить внимание, вернуть направление своего взгляда на могучую, древнюю, живую культуру. Ни древний мир «не видит» нас, ни мы «не видим» древнего мира, потому что прямо друг на друга не смотрим, и внимание устремлено в разные топосы: в древнем мире всё едино, живо, одушевлено, — в новом мире всё отделено, опредмечено, мертво.
«Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий — и все сонмище кинулось подымать ему веки.
«Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
