
Бесплатный фрагмент - Пролог
Каренина Анна


ГЛИНЯНЫЙ ГОРШОК ДОЛГО СОХРАНЯЕТ ЗАПАХ ТОГО, ЧТО ОДНАЖДЫ БЫЛО В НЕГО НАЛИТО (ГОРАЦИЙ).
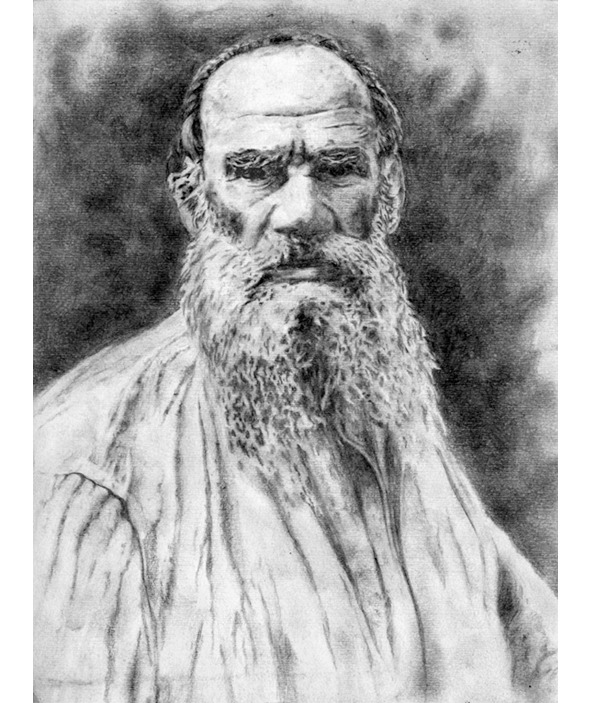

КНИГА ПЕРВАЯ
ОБЪЯСНЕНИЕ АВТОРА
Я родился в 1939 году в Москве. В 1941 году, когда началась война, моя большая семья уехала в эвакуацию в Сибирь. Папа был на фронте, где в том же году получил тяжёлое ранение. В эвакуации жили мы в сибирском таёжном селе Суслово Кемеровской области в тридцати километрах от станции Мариинск. Я был самым младшим. Мама моя работала на почте. Работали все взрослые. Годы были трудные и голодные. Морозы стояли лютые. Ели мы жмых. Его ещё все называли «дуранда». При керосиновых лампах пили из самовара чай с маленькими наколотыми кусочками сахара.
Мой старший двоюродный брат, тоже Роман Госин, учил меня читать, запоминать стихи, декламировать их. «Читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой», — говорил он мне. Я, конечно же, не понимал в то время значение этого выражения. Только позже я узнал, что пономари приучены читать тексты Священного Писания монотонно, без пауз и логических ударений. Мой брат хотел отучить меня от такой манеры чтения стихов, поэтому указал но мою ошибку.
Я принял это к сведению, и мои декламации стихотворений сопровождались энергичной жестикуляцией. Я мешал половником воображаемое варево, когда меня ставили на табуретку, а семья собиралась на чаепитие в избе у самовара. Размахивая половником над столом, развлекал всех заученными стихами о том, как повар взял чай, приправу, перец, лук, петрушку, налил воду в горшок, прокипятил на плите, снял пену, подлил маслица и отнёс своё варево вместе с горшком в горницу. Поставил его на стол, положил рядом ложку.
«Чай готов, извольте кушать», —
Снял я с барина пальто.
«Молодец, всегда так слушай,
Похвалю тебя за то».
Слышу, барин рассердился,
Снова в горницу позвал,
В волоса мои вцепился
И таскал меня, таскал:
«Это что ж за образина,
Ты чего мне наварил!
Ах дурак ты, ах дубина,
Что бы пёс тебя схватил!».
Долго так вот он ругался,
Злой по горнице ходил,
Вдруг чурбан ему попался,
Им меня он проучил.
Я долго думал, удивлялся,
Чем ему не угодил?
А потом уж догадался —
Чай ведь я не посолил!».
Читать книги я начал рано, а сочинять и писать их — поздно, на семидесятом году жизни, в момент, когда оказался практически лишён иных развлечений. Писательство во все времена являлось своебразной игрой, как и сама жизнь. Она со многими правилами, но без рефери. Мы узнаём, как в неё играть, скорее наблюдая её, нежели справляясь в какой-нибудь книге, включая роман Толстого «Анна Каренина». Вместе с тем умение слагать буквы всегда таит в себе близкую к литературе возможность вымысла, околдовывающего самого игрока со словесностью. Кроме того, писательство во все эпохи являлось занятием из-за неудовлетворённой потребности людей видеть перед собой терпеливого и внимательного друга-собеседника. Не находя этого сокровища с собой рядом, люди придумали писать какому-то мысленному, далёкому другу-собеседнику, неизвестному, алгебраическому иксу, надеясь, что там, где-то вдали, найдутся те, кому интересно беседовать с ними сейчас и даже после их смерти. В самом деле: кому писал, скажем, Жан Жак Руссо свою «Исповедь»? Или Платон — свои «Диалоги», или Лев Толстой — свою «Анну Каренину»? Мой короткий ответ: они писали безличному, далёкому, неизвестному адресату, это очевидно. Особенно характерны в этом отношении платоновские «Диалоги». В нём он всё время с кем-то спорит, мысленно переворачивая и освещая с различных сторон свою тему. Совершенно явно, дело идёт о мысленном диалоге, на этот раз уже несколько определённом: это спорщик, оспариватель высказанного тезиса. Тут у «писательства» в первый раз во всемирной литературе мелькает мысль, что каждому положению может быть противопоставлена совершенно иная, даже противоположная точка зрения. Я обращаю внимание читателя на это обстоятельство, так как возможно у него тоже возникнет иная точка зрения на то, как я, включив сюжеты романа «Анна Каренина» в свою книгу «Пролог», «привёл» графа Вронского к другой женщине — баронессе Шильтон, осчастливив их обоих.
Поединок со словом, особенно письменным, не передающим верно ни бред, ни чёткие рассуждения, требует отказа от многих амбиций, низведения себя до функции повара, не обладающего знаниями и простодушно смешивающим в кастрюле чай и принесённые с рынка продукты.
Итак, дорогие читатели, прошу к столу, извольте кушать… И не судите строго. Ведь говорится шутливо, когда не хватает соли или её слишком много, то прежде всего гневаются на повара. А если что-то оказалось чересчур посоленным, то недосол на — столе, а пересол — на спине.
Искренне Ваш, Роман Госин.
ОТ РЕДАКТОРА
Хотим мы того или нет, но авторы художественной прозы и по-настоящему литературных экспериментов далеко не всегда профессиональные писатели. Профессиональное писательство теряет своё исключительное право на поиски и разработку разнообразных литературных форм. Прямым тому доказательством является литературный эксперимент Романа Госина из четырёх книг «Каренина Анна». Первую книгу он назвал «Пролог». В данном случае она является композиционной частью всего литературного произведения в целом. В качестве эпиграфа к ней автор выбрал цитату Горация с тем, чтобы подчеркнуть — книги созданы по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». К тому же эпиграф имеет прямое отношение к литературному приёму автора — реминисценциям, то есть цитированию без кавычек. По своей природе они служат отсылками к прошлому. Однако сам по себе метод реминисценций всегда носит творческий характер. Этим он отличается от копирования и компиляции. В тексте этой книги реминисценциями являются цитаты из романа Льва Толстого «Анна Каренина».
Другой доминантой авторского стиля стоит назвать включение в сюжетные линии книги реальных исторических лиц. Их судьбы органично переплетаются с судьбами вымышленных персонажей, что придаёт произведению историческую достоверность. Основное действие первой книги разворачиваются в период подготовки и осуществления войны в Европе на Балканах, в Сербии и на Кавказе в последней трети XIX века.
Композицию романа можно сравнить с расширяющимися кругами — расходясь, они охватывают всё больше и больше событий, персонажей разных российских сословий и различных взглядов на жизнь.
Роман Госин, прежде чем стать инженером, окончил исторический факультет. Скорее всего, поэтому у него возникла потребность включения в канву повествования подлинные исторические события.
Жизнь, смерть, любовь, поиски счастья — эти темы неизменно присутствуют в произведениях классиков и современников. Разница лишь в том, что кто-то пишет банально и скучно, в сотый раз излагая всем известные истины. Но кому-то удаётся талантливо, увлекательно и поучительно раскрыть столь многогранные и сложные темы. Тогда такие книги становятся актуальными.
Может ли современный автор взять за основу известное произведение и создать нечто новое, не уступающее по качеству? Ведь для того чтобы взяться за написание книги по такому роману, как «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого, требуется определённая доля мужества и ответственности, а главное — вкуса. Литературный эксперимент «Каренина Анна» — удачный пример слияния классики и современности. Первая книга «Пролог» понравится всем, кто истосковался по хорошему слогу, батальным сценам, по героям, пытающимся найти своё место в жизни, по страстям в их отношениях, по интересным историческим справкам. Роман Госин проделал огромный труд, работая над книгой. Его ответственный подход является её главным достоинством. Ведь когда автор вкладывает душу в книгу, это всегда чувствуется.
Необходимо помнить, что литературные герои не живут в пространстве и времени, а пространство и время возникает вместе с ними. Они сами — дети мыслей и чувств автора. Можно разбирать их характеры и по-разному истолковывать поступки, можно видеть в них метафору, а можно просто насладиться приятным слогом, захватывающим сюжетом и главной мудростью о том, что любовь — самое важное и прекрасное чувство, на которое только способен человек любой эпохи, возраста, верований, взглядов и положения.
Анна Столярова
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА 1
Грузный, пожилой, седовласый человек в полумундире военного медика ехал из Москвы к себе на дачу в Купавну. Поезд позвякивал буферами и оконными стёклами. Из соседнего отделения доносились голоса незнакомых ему пассажиров. Они не мешали Семёну Васильевичу. Он увлечённо читал рукопись своей большой статьи об истории создания организации «Красный Крест». Семён Васильевич Гиренко занимал должность статского советника Российской империи, был профессором Военно-медицинской академии и Московского университета. Служил дежурным гоф-доктором. Свою статью он готовил к публикации в Военно-медицинском журнале. Семён Васильевич не терял времени в пути даром — он правил текст, делая пометки красным карандашом.
Не доехав одну остановку до Купавны, на станции Обираловка, вечерний дачный поезд надолго встал у платформы. Причиной стало известие о том, что на другом станционном пути под колёсами проходящего товарного поезда погибла женщина. Много людей видело, как это произошло, но среди них не было тех, кто мог бы опознать погибшую.
В вагоне было душно. Доктор вышел на платформу. Внутри деревянного станционного здания располагались служебные помещения, телеграф, товарная и пассажирская кассы, небольшой зал для первого и второго класса, общий зал ожидания с двумя выходами на платформу и привокзальную площадь. По обе стороны площади у коновязей пассажиров ожидали извозчики.
Смерть людей по разным причинам была хорошо знакома доктору. Он был участником многих военных компаний, врачом, повидавшим тысячи убитых, а также людей всех возрастов, скончавшихся от ран и болезней. И, тем не менее, Семён Васильевич никогда не был равнодушен к гибели человека и к самой смерти — явлению, до сих пор не разгаданному.
Когда тело привезли в железнодорожную казарму, пристав пригласил доктора войти. Семён Васильевич Гиренко почти сразу узнал в погибшей княгиню Каренину Анну Аркадьевну. Он много раз видел её в Петербурге и в Москве, слышал о её семейном разладе. Семён Васильевич сообщил начальнику станции имя покойницы и попросил послать телеграфом депеши Алексею Александровичу Каренину и графу Вронскому о случившемся. Затем он вернулся на платформу, прошёл в свой вагон и стал ожидать отправления поезда до Купавны.
И вот теперь у себя на даче он никак не мог уснуть. По его комнате бесшумно летали две бабочки. Огромная тень, перегибающаяся на потолке, такая же, как стояла за его плечами, пошла за ним и неотступно ходила из угла в угол комнаты, сгибаясь и кривляясь.
«Почему же? — с недоумением спросил сам себя доктор. — Такая гордая, чистая, как белый лебедь над холодной тёмной глубиной… Не знаю… Не могу объяснить… Тут что-то заложено мне не понятное». По лицу его было видно, как стремительно продолжали носиться в его мозгу разбуженные, страдальческие мысли. Доктор натянул на толстые плечи неизменный парусиновый пиджак и, потушив свечу, мгновенно погрузил комнату во мрак. Бесследно исчезли и чёрные тени, и бесшумные бабочки. Семён Васильевич вышел из дома. Огромное звёздное небо, искрящееся и сверкающее, раскинулось над ним. Млечный путь серебристой пылью тянулся по тёмно-синему куполу, уходящему в недосягаемую высоту. На земле же всё было черно и темно. Семён Васильевич сел в плетёное кресло на открытой террасе. Глоточек чистого воздуха, одна минутка без страданий и напряжённого ожидания конца, и это было бы такое счастье, перед которым ослепительное солнце — ничто. «Нет, кончено… все кончено… умирают…» — думал гоф-медик, тускло глядя в тёмный угол террасы. Но разум, вопреки опыту и знаниям, отказывался понять, что смерть — это так просто. Конечно, организм перерождается, мертвеют ткани, сердце останавливается, и человек умирает. Это просто, когда умирает другой человек, но не он, Семён Васильевич Гиренко. Как он может умереть?
В памяти всплыл день, когда приехавший из Гатчины посыльный привёз в военно-морской госпиталь известие о том, что отец Семёна Васильевича умирает. Он вспомнил, как сжалось у него сердце, подкосились ноги, и страшный холод сковал его тело. Вернувшись домой, он сообщил печальную новость жене. А потом, превозмогая душевную и физическую боль, стал собираться в дорогу.
Затем была быстрая езда мимо бронзового памятника Петра Великого на постаменте из розового мрамора с его словами: «Здесь всякий изнеможённый служивый найдёт себе помощь и успокоение, которого ему доселе не было, дай только Бог, чтобы никогда многие не имели и нужды сюда быть привозимы».
Дальше всё было, как в тумане: ветер в поле, всевозрастающее чувство жуткого ожидания, знакомая Гатчина, старые дома, пыль и люди, идущие куда-то по своим делам. Семён Васильевич приехал в знакомый двор, где его встретила старенькая родственница с заплаканным сморщенным личиком. «Умер!» — простонала она. От мысли, что он опоздал и никогда уже не увидит отца живым, Семён Васильевич чуть не заплакал. Он скорее поспешил в дом.
В зале он увидел, как какие-то люди и его дядя, теперь уже умерший, убирают диван. «Зачем?» — мелькнуло в мозгу гоф-медика, но, не успевая сообразить, он торопливо прошёл в спальню. Семён Васильевич зашёл в тот момент, когда знакомый, тоже теперь уже умерший и забытый, но тогда ещё молодой жизнерадостный гатчинский доктор отошёл от кровати с бессильным жестом — ничего не поделаешь… Конец! Сквозь слёзы, застилающие глаза, Семён Васильевич увидел в сумраке на смятой мокрой подушке запрокинутую родную, но одновременно чужую голову с закрытыми глазами и чёрной дырой рта, подвязанного белой салфеткой. И снова на него накатило какое-то помутнение.
Из дальнейшего он отчётливо заполнил такую сцену: труп отца, сидящий в живой, только немного бессильной позе на полу, рядом с кроватью и корытом тёплой воды. Седая голова свесилась на грудь и качается. Какие-то бабы держали отца и натягивали на него старенький полковничий мундир. Руки отца были согнуты, как у живого человека, которому трудно просунуть их в рукава. Но всё равно никак нельзя было допустить мысли, что теперь это только труп. И что если его отпустить, он шлёпнется затылком об пол, упадёт, как мешок.
Потом был стол, сухонькое тело, ноги, связанные чистой салфеткой, тихое потрескивание оплывающих высоких свечей, ночь за окном и монотонное чтение священником старинных слов… Аминь!
Вспоминая смерть отца, Семён Васильевич не мог отделаться от мысли, что и сам он когда-нибудь умрёт. Нет, он хотел жить! А нынче, увидев тело Карениной Анны, самовольно бросившейся под поезд, он не мог понять — что толкнуло её на самоубийство? Неужели несчастная любовь и уязвлённая гордость — достаточный повод, чтобы отказаться от жизни. Семён Васильевич глубоко вдохнул свежий ночной воздух. Так и не найдя ответов на все свои вопросы, он уснул в уютном плетёном кресле прямо на открытой террасе.
ГЛАВА 2
К станции Обираловка по просёлочной дороге ехала бричка. Сквозь густое облако пыли прорывался кнут кучера. Солнце уже клонилось к западу, но ещё не утратило своего жара. Кучер внимательно следил за верстовыми столбами. Изредка он поглядывал на небо, отмечая, что облака постепенно чернеют и собираются в большую мрачную тучу. Издалека доносились первые раскаты грома.
В бричке ехал граф Алексей Кириллович Вронский. Ему и так не терпелось скорее добраться до станции, а надвигающаяся гроза только усилила это желание. Гроза наводила на Вронского невыразимо тяжёлые чувства тоски и страха. Он был так же мрачен, как чёрное небо, раздираемое молниями и громовыми раскатами.
При каждом ударе грома кучер Михаил крестился. Он осмотрительно поднял верх брички. Лошади насторожили уши, раздувая ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху. Бричка всё скорее и скорее катила с небольшой горки по пыльной дороге.
Но вот передние облака уже начали закрывать солнце. Вот оно выглянуло в последний раз, осветило тёмную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменилась, принимая мрачный вид. В осиновой роще листья стали бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи. Макушки больших берёз закачались, и пучки сухой травы полетели через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить бричку, реяли вокруг неё, пролетая под самой грудью лошадей.
Вспыхнувшая молния ослепила Вронского. В ту же секунду раздался величественный гул. Будто поднимаясь всё выше и выше, шире и шире по огромной спиральной линии, он постепенно усилился и перешёл в оглушительный треск. Бричка быстро катилась под гору, стуча по дощатому мосту.
«Тпру! Оторвался валёк!» — прокричал кучер. Несмотря на беспрерывные оглушительные удары, он был вынужден остановиться. Прислонив голову к краю брички, Вронский с замиранием сердца следил за движениями толстых чёрных пальцев кучера. Тот медленно захлёстывал петлю, выравнивая постромки, толкая пристяжную ладонью и кнутовищем. Но как только бричка тронулась, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставила лошадей остановиться. Она без малейшего промежутка разрядилась таким оглушительным треском грома, что, кажется, весь свод небес обрушился на землю. Ветер ещё более усилился. Гривы и хвосты лошадей, а также края фартука кучера отчаянно затрепетали, подхваченные порывами ветра. На кожаный верх брички тяжело упала крупная капля дождя, потом другая, третья, четвёртая, и вдруг как будто кто-то забарабанил по ней, и вся окрестность огласилась равномерным шумом.
Молния светила шире и бледнее, а раскаты грома пошли на убыль. Капли дождя падали всё реже. Чёрная туча разделилась на волнистые облака. За их серовато-белыми краями показалась лазурь ясного неба. Через минуту робкий луч солнца заблестел в лужах дороги.
Блестящий обмытый кузов, спины лошадей, шлеи, вожжи, шины колёс — всё было мокро и блестело, словно покрытое лаком. С одной стороны дороги казалось необозримым озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками. Поле блестело мокрой землёю и зеленью, расстилалось тенистым ковром. С другой стороны дороги светилась осиновая роща, поросшая орехом и отцветшими большими кустами черёмухи. Роща стояла, словно в избытке счастья, а с обмытых ветвей деревьев медленно падали светлые капли дождя, приземляясь на сухие, прошлогодние листья. Как обаятелен этот чудный запах леса после июньской грозы! Запахи берёзы, фиалки, прелого листа, сморчков, черёмухи так сильны, что было трудно усидеть в бричке. Но Вронский не обращал никакого внимания на прелесть природы.
Подъехав к станционной казарме, бричка поравнялась с нищим в промокшем до нитки рубище, обтянувшем его худое тело. Качаясь от ветра, он остановился посреди дороги. Продолжая креститься и кланяться, побежал подле самых колёс. «Подай, Христа ради!» — потянул он руку к кучеру, не обращая никого внимания на графа Вронского. Кучер отпустил вожжи под фартуком брички и долго развязывал свой кошелёк. Наконец, медный грош полетел мимо колёс брички прямо в лужу на дороге. Нищий попытался поцеловать руку кучера, перекрестив его своим размашистым движением. «Храни тебя, Господи, ради Бога!». Он остановился, нагнулся над лужей и стал искать в ней монету.
Наконец, подъехав сбоку к станционной казарме, лошади сами остановились метров за двадцать пять от неё, не желая дальше двигаться. Кучер повернулся к Вронскому: «Слава богу, доехали, ваше благородие!».
Не обращая никакого внимания на его слова и то, что к его сапогам прилипли огромные комья грязи, Вронский как сумасшедший побежал в казарму железнодорожной станции. В маленьком её окошке был виден клочок неба. Стены и пол пахли сыростью. С потолка свисала клочьями паутина. На столе, сбоку под окошком, лежало тело Карениной Анны, бесстыдно растянутое, окровавленное, ещё полное недавней жизни. Красивая уцелевшая голова с тяжёлыми косами и вьющимися на висках волосами была откинута назад и смотрелась всё ещё живой. На лице Анны с полуоткрытым румяным ртом застыло странное выражение, словно бы говорящее Вронскому о том, что он раскается за её смерть. Граф заскрежетал зубами, чувствуя нестерпимую боль своего коренного зуба, и рыдания искривили его лицо.
Матушка Вронского, присмотревшая ему в невесты княжну Сорокину, вместе с братом уговаривали его не ездить на похороны. Матушка ему говорила о том, что женщина, не угадавшая сердцем, в чём лежит счастье её сына, сама не имела сердца. Он никого из них не слушал, точнее — не слышал. Особенно раздражал его старший брат Александр. Это был полковник с аксельбантами, невысокого роста, такой же коренастый, как и он, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным, открытым лицом. Брат был женат, имел детей и содержал любовницу из танцовщиц.
Теперь Александр Вронский, известный своей пьяной, разгульной жизнью, поучал брата, говоря с ним на неприятную тему о смерти Карениной Анны и её похоронах. Точно так же он поучал его перед скачками на ипподроме, принеся письмо от матери. Раздражённый разговором, Вронский был полон чувством вины, обдумывал, как её искупить, снаряжая пулями свой карманный револьвер Марлин-32 с чеканкой на стволе и рукояткой, отделанной медвежьей костью.
Граф Алексей Кириллович Вронский готов был застрелиться на похоронах Карениной Анны и мёртвым упасть в ту же могилу. И лишь одна мысль смущала его. Это была мысль о его дочери Анне. Её светлое личико в обрамлении темноволосых кудряшек, словно живое, стояло перед ним. Не проходило и часа, чтобы он не думал о дочери. В нём шла та борьба, что обычно возникает в минуты горя у колеблющегося человека, не потерявшего способности мыслить. Это была даже не борьба — это было сражение с самим собой.
ГЛАВА 3
Прошло десять дней, прежде чем Каренину Анну после судебно-медицинской экспертизы и других подобных юридически-правовых процедур похоронили. Умершую не отпевали в церкви. Могилу устроили за оградой кладбища между храмами Троицы Живоначальной и Воскресения Словущего. Место находилось неподалёку от платформы станции Обираловка, близ ссыльного тракта на каторгу. По нему приговорённые шли пешком в Сибирь отбывать назначенное им судами пожизненное наказание. Столь странное название станция приобрела в связи с тем, что местное население обирало ссыльных на этом месте, оставляя их без еды, а порой и без обуви до следующего перехода на тракте.
В день похорон земля на территории и вокруг кладбища ещё не просохла после очередного грозового ливня и раскисла. Большие лужи казались озёрами и прудами, местами переходящими в болота. Стены храмов были в подтёках, лики святых на них плакали. Между тем какие-то люди перебегали раскисший тракт, спеша к станции. Они с трудом вытягивали из липкой глины галоши, а порой и сапоги вместе с ними. Люди весело переговаривались.
Согнутая тень человека проскользнула над простым некрашеным гробом Карениной, привезённым из железнодорожной казармы. Послышались звуки молотка, забивающего в его крышку гвозди. В ту же минуту Каренин узнал лицо графа Вронского. Приложив руку к козырьку своей фуражки с кокардой, тот слегка поклонился ему. Его открытая красная шея, загорелые кисти рук, бледное лицо с синими кругами под покрасневшими глазами, несмотря на глубокое горе, отражавшееся в них, только подчёркивали его мужскую силу. Каренин довольно долго вглядывался в лицо Вронского, ничего не отвечая, и, несмотря на мешавшую ему тень могильщика, закрывающую обзор, видел выражение глаз Вронского — а может, ему это только казалось.
«А! Мы знакомы, кажется», — равнодушно-унылым тоном сказал Алексей Александрович Каренин, не подавая руки Вронскому. В застёгнутом на все пуговицы форменном мундире чиновника первого класса он поближе притулился к плечу своего «самовара». Его била мелкая дрожь, и он чувствовал озноб.
«Самоваром» Каренин называл знаменитую графиню Лидию Ивановну за то, что она всегда и обо всём волновалась, горячась. Хотя присущей многим женщинам в их интимной жизни страстной горячности в ней было столько же, сколько в ледяной статуе. Другая болезненная горячая страсть владела ей. Её нездорово-жёлтый цвет лица и задумчивые чёрные глаза делали графиню значительно старше своего возраста. В связи с этим Каренин воспринимал её суждения и советы как человека умудрённого не только светским, но общим человеческим опытом. Она со страстью вампиров, способных, как чёрные дыры, поглощать жизненные силы людей слабых и безвольных, имела над Карениным незримую власть. Он привык жить только по протоколу, по этикету, по правилам. А когда правила оказались нарушенными, ощутил беспомощность перед жизнью. Скорее всего, именно поэтому графиня и прибрала его к рукам, самостоятельно решив его семейные коллизии, приведшие к кладбищу, на котором могильщики под надзором полицейского урядника вырыли могилу и опустили туда гроб его жены. Графиня Лидия Ивановна и Алексей Александрович Каренин вместе подошли к ней и бросили вниз два кома слипшейся глины. Раздался шлепок упавшей липкой грязи.
Вронский смотрел на них. Курок револьвера был взведён. Граф вынул его из кармана и направил на нагнувшуюся к гробу графиню Лидию Ивановну. Каренин, держа её под руку, смотрел вниз на гроб. Все стоящие вокруг могилы, затаив дыхание, глядели на вытянутую руку Вронского с зажатым в ладони револьвером. Граф Вронский отвёл ствол в сторону, выстрелив в кучу глины, лежавшую рядом с могилой. Затем он резко повернулся спиной к ней, перепрыгнул через приготовленный деревянный крест и быстро, не разбирая дороги, ушёл, меся сапогами кладбищенскую красную глину. Баронесса Шильтон, приподнимая подол, побежала в ту же сторону.
От звука выстрела Каренин вздрогнул и чуть было не упал в могилу. Графиня Лидия Ивановна его удержала. Кити Щербацкая закрыла рот двумя руками, зрачки её расширились в ужасе. Кадык князя Степана Аркадьевича Облонского нервно задвигался. Его жена Долли побледнела. Левин зажал свою бороду в кулак. Двоюродная сестра Вронского, княгиня Бетси Тверская, подняла чёрную вуаль, с интересом глядя на его удаляющуюся фигуру. Любовник княгини, Тушкевич, искоса посмотрел на неё. Свияжский, которому что-то всегда требовалось от Вронского, и княжна Варвара Облонская, нахлебница своих богатых родственников, с удивлением подняли вверх брови. «Браво! Вронский!» — закричал Петрицкий, стоя у могилы. Ротмистр Камеровский в полной форме, вероятно, со службы, заглянул в могилу, — где там гроб? Князь Яшвин, самый близкий приятель Вронского, смотрел на урядника точно так, как ещё недавно смотрел на Каренину, сидя с ней в ложе театра. Толстый полицейский урядник, вытащив свою шашку из ножен, стал ею очищать сапоги, глядя на них поверх своих пышных рыжих усов. Он пытался сбросить глину с сапог в могилу. Остальные бросили туда свои порции.
После похорон по узкой тропе все эти люди вереницей возвращались к своим ежедневным делам. Впереди всех шёл родной брат Карениной, князь Степан Аркадьевич (Стива) Облонский, со своей женой Долли и с сыном. Кити и Константин Левин шли за ними, потом Бетси Тверская со своим толстяком мужем, затем Алексей Александрович Каренин и графиня Лидия Ивановна.
— Он хотел вас убить, графиня, — сказал сдавленным дрожащим голосом Каренин.
— Почему меня? — спросила графиня. — Он убил вашу жену. Разве этого ему недостаточно?
— Но он стрелял сейчас в вас! — ответил Каренин.
— Друг мой, он салютовал вам. Вы победили его. Эта дрянная, ненавистная женщина хотела отравить вашу жизнь, — сказала графиня Лидия Ивановна. — Она всех ненавидела, а я ненавижу её.
Каренин тихо напомнил ей о возможности христианского прощения, о любви к тем, кто ненавидит. Она, будто его не слыша, сказала, что можно любить ненавидящих, но невозможно любить того, кого ненавидишь.
В это мгновение раздался унылый звон колокола храма Воскресения Словущего. О чём думали остальные, спеша на станцию, под впечатлением похорон молодой красивой женщины в расцвете лет, оставившей двух своих детей сиротами, о чём они думали? Осуждали ли за богопротивный поступок, приравненный христианством к самым страшным смертным грехам человека? Укоряли ли за то, что, уйдя по доброй воле из жизни, она лишила материнской любви двух своих детей — восьмилетнего сына Серёжу и полуторогодовалую дочку Анну? Или они размышляли о вечном — о добре и зле, грань меж которыми столь тонка и незрима?
Однако никто не может осуждать человека за решение самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Никто не может осуждать: ни Бог, ни церковь, ни смертные люди. Такие решения принимаются тогда, когда душевная боль становится совершенно нестерпимой, когда выбор между семьёй и страстью, между долгом и чувством становится невозможен. И тогда человеку кажется, что нет для него лучшего выхода, нежели его смерть. Каждый в одиночку делает свой смертельный выбор, даже если хотя бы раз оказывается перед ним.
После похорон поминки не устраивали. Граф Вронский вернулся с кладбища в имение своей матушки. Он не находил себе места, не мог понять, куда ему деться. Чувствовал, что никогда не любил Каренину так, как теперь, потеряв её навсегда. Вронский корил себя за то, что отдал их дочь Алексею Александровичу Каренину. Рождённая в незаконном браке, она стала бастардом и получила фамилию Каренина. Вронский не упрекал Анну за то, что она не согласилась на развод с Карениным тогда, когда тот был полон решимости дать его, но при этом хотел забрать себе их сына. Он чувствовал себя виноватым в том, что поставил её в такое безвыходное положение в отношении её детей. Теперь он не знал, куда ему деться и что делать.
В девятый день после похорон Карениной Вронский исповедовался митрополиту в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Он просил его об отпущении грехов себе и умершей княгине Карениной Анне, в девичестве Облонской. Его исповедь была столь искренней, что митрополит отпустил ему все грехи и занёс имя Карениной в поминальную книгу умерших.
На сороковой день после смерти Анны Вронский внёс богатые пожертвования в храмы Свято-Сергиевой Лавры, Троицы Живоначальной и Воскресения Словущего в Обираловке, а также отдал средства на благоустройство кладбища между ними. После этого он уехал в Москву.
Ежедневный вестник «Русский листок» сообщил в короткой заметке о поступке графа Вронского. В этом же номере было опубликовано четверостишие поэта Николая Некрасова:
Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует гулять
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать.
Алексей Кириллович Вронский прочёл некрасовский намёк о камер-юнкере Пушкине, умершем от смертельного ранения на дуэли, и понял его по-своему, хотя и не был никаким флигель-адъютантом, а всего лишь ротмистром в гвардейском полку. Мысль о поисках своей смерти захватила всё его существо. Сначала он стал думать о том, кого бы он мог вызвать на дуэль. Но Вронский не был бретёром, а вызывать на дуэль Каренина было глупо и бессмысленно. Хотя причину Вронский мог легко найти для этого. В первую очередь такая дуэль могла бы состояться из-за его дочери.
ГЛАВА 4
Граф Алексей Кириллович Вронский чувствовал себя тяжелобольным. Ныне в нём трудно было узнать того донжуанствующего бонвивана, живущего в собственное удовольствие богато и беспечно, кутилу, весельчака, всегда нарядного, щеголеватого и подтянутого. Его измучили собственные страсти: охота за замужней женщиной, любовь, остывшая из-за привязанности Анны к своему сыну, рождение внебрачной дочери, её губительная зависимость от морфия. Иногда граф пытался себя оправдывать. «А ведь, собственно говоря, — думал он в подобных случаях, — Каренина Анна отдалась мне очень быстро. Уж не было ли лжи в стремлении избегать меня, которое я замечал в ней сначала, и исчезнувшее от одного моего слова? Уж не свела ли меня судьба с одной из женщин, каких много? Да, все они начинают с этого: делают вид, что убегают, чтобы мы преследовали их. Даже лани поступают так. Это инстинкт самки».
Говорят, что Дамокл видел над своей головой меч. Вот так и над людьми беспечными словно нависает нечто такое, что беспрестанно кричит им: «Продолжай, продолжай, я держусь на волоске!». Вронский всё-таки был искренне, без доли лицемерия влюблён и готов был жертвовать собственной карьерой. Он отказался от высокой должности свитского флигель-адъютанта. А должность могла сопровождаться присвоением генеральского, а вслед за ним, возможно, и следующего звания.
Теперь, после мучительной двухлетней связи с Карениной, Вронский выглядел отчаявшимся, постаревшим, застывшим. Глаза его больше не блестели в предвкушении жизненных благ, они были полны страдания. Лицо будто бы окаменело.
Раздумывая о дуэли, он вспомнил свою последнюю встречу с баронессой Шильтон. Её он знал давно, ещё до того, как увидел на вокзале в Москве Каренину. Познакомила Алексея Кирилловича с баронессой его двоюродная сестра, княгиня Бетси Тверская. Произошло это в гостинице обрусевшего француза Карла Дюссо, где граф Вронский всегда останавливался, приезжая в Москву. Гостиница открылась в 60-х годах XIX века на углу Театрального проезда и Неглинной улицы. В этом здании был устроен оптический театр «Космограмма» господина Иозефа Полло. Там можно было увидеть световые пейзажные и другие живописные полотна.
У Карла Дюссо останавливались многие знаменитости своего времени. Среди них был, например, Фёдор Михайлович Достоевский. Сначала гостиница ему не понравилась. В жару номер его «походил на русскую печку, когда начнут в неё сажать хлебы», и, следовательно, работать там было невозможно. Но уже на следующий год писатель поселился у Дюссо с женой. Здесь он вёл свой дневник, который издавался ежемесячно в виде журнала «Дневник писателя Достоевского». Фёдор Михайлович писал заметки на животрепещущие темы, в том числе и о Карениной Анне, Вронском, графине Лидии Ивановне, княгине Бетси и других представителях высшего света. Писал он и о Балканских событиях, о генерале Черняеве и генерале Скобелеве, умершем в гостинице Дюссо при загадочных обстоятельствах. У героя Балканской войны официально был зарегистрирован паралич сердца, но по Москве ходили упорные слухи о насильственной смерти путём отравления. Скобелев был слишком прямодушен и конфликтовал со ставкой. Одни предполагали, что его отравили агенты иностранных государств или масоны, другие считали это политическим убийством. И до сих пор его смерть остаётся тайной за семью печатями.
У Дюссо Стива Облонский нашёл Каренина. Подойдя к нему, он поздоровался:
— Давно ли? А я вчера был у Дюссо и вижу на доске «Каренин», а мне и в голову не пришло, что это ты! — говорил Степан Аркадьич. — А то я бы зашёл.
«На доске» означало, что всех постояльцев выписывали на меловую доску при входе. Такое нарушение конфиденциальности иногда очень сильно мешало им. Зато многие любили заходить к Дюссо в буфет, а заодно смотрели, не приехал ли какой-нибудь их знакомый.
Княгиня Бетси Тверская и баронесса Полина Шильтон, будучи в Москве, прошлись по магазинам Пассажа. Они зашли в буфет гостиницы Карла Дюссо выпить кофе и поболтать о покупках. На «доске» Бетси увидела фамилию своего двоюродного брата, графа Вронского. А тут он и сам явился, и тоже после покупок. С тех пор они встречались в разных местах не единожды.
Баронесса Шильтон была одной из персон короткого списка российских баронесс. По отцовской линии она происходила из древнего остзейского рода Шильтон. Шведский генерал-майор от кавалерии, лифляндский ландрат Иоанн-Эбергардт фон Шильтон, был возведён с нисходящим его потомством в баронское достоинство королевства Шведского. В ходе Северной войны, завоевания крепости и морского порта Ревель и учреждения Ревельской губернии его потомки по поступлении в российское подданство были именованы баронами. Их записали в пятую часть Родословной книги Российского государства. Первый российский барон, подполковник барон Иван Иванович Шильтон, жена его Эмма (в девичестве Эмма Мерле Паткуль), дочь губернатора Ревеля и их дети стали основателями российской ветви баронов Шильтон.
Отец баронессы Полины Николаевны Шильтон был адмиралом российского флота. Он женился на Надежде Веригиной после неожиданной смерти её мужа, барона Майендорфа. В этом браке родилась их единственная дочь — Полина Николаевна Шильтон. С именем матери Полины Николаевны Шильтон связана история замка в подмосковном имении Полушкино. В детстве она увлекалась рыцарскими романами. Любящий отец, князь Всеволод Романович Трубецкой, построил для неё деревянный замок в миниатюре на берегу небольшого пруда. Он стал любимым местом Надежды Александровны, но в то время это была лишь детская игрушка, а не полноценный барский дом.
Поскольку Трубецкой являлся доверенным лицом императора, его послали к молодой королеве Виктории. Он должен был доставить важные бумаги в Лондон. На обратном пути Трубецкой уронил с корабля в море портфель с секретными документами. Князь, бросившись за ним в воду, не утонул, но сильно простудился, а вскоре по возвращении в Петербург скончался.
Надежда Александровна вышла замуж за богатого барона Майендорфа. Детей у них не было, Бог не послал. Барон любил свою супругу, всячески её баловал и построил для неё настоящий замок вместо деревянного. Однако после окончания строительства муж Надежды Александровны неожиданно погиб от удара молнии во время крёстного хода у Полушкинской поместной церкви. Кроме него никто не пострадал. По округе и Москве поползли слухи, достигшие Петербурга, о том, что в смерти барона Майендорфа повинны химеры. Кто-то привёз ему из Парижа две статуэтки, изображавшие химер собора Нотр-Дам-де-Пари. Статуэтки химер оказались в кабинете барона. Надежде Александровне они никогда не нравились, и одну из статуэток она успела выбросить. Тогда барон Майендорф указал жене на то, что это произведения искусства, и отругал её за излишнюю суеверность и нелепые предрассудки. Химеры, готические видения дьявольской свиты, навсегда остались для его жены символом тёмных миров. Присутствие нечистой силы в тогдашней Москве почувствовала не только она.
Замок баронессы Майендорф в подмосковном имении Полушкино был возведён неподалёку от Архангельской усадьбы и дворца в итальянском стиле князя Николая Борисовича Юсупова. Стоял он на холме, а своим фасадом напоминал немецкие замки, словно перенесённые сюда с берегов Рейна. Замок окружали высокая кирпичная ограда и въездные башни. С них на прибывающих гостей смотрели восемь химер, по четыре с каждой стороны.
Когда Надежда Александровна вышла замуж за барона-адмирала Николая Петровича Шильтона, она попросила его заказать для въездных ворот две модели парусных фрегатов. В год замены химер на фрегаты в этом замке у пары родилась дочь — баронесса Полина Николаевна Шильтон.
Как и подобает истинному аристократу, барон коллекционировал оружие, картины, собрал превосходную библиотеку. В нижнем большом холле замка на кессонном потолке висел великолепный гобелен ручной работы — «Великий потоп». Размером он был примерно в сорок квадратных метров. Колорит гобелена был выдержан в холодных коричнево-голубых тонах, а само полотно изображало людей, в ужасе пытающихся спастись от разбушевавшейся стихии. Выбор именно этого гобелена для гостиной был странным, ведь работа навевала мрачные мысли. Но родившейся в этом замке баронессе Полине Николаевне Шильтон он нравился, поскольку этот библейский сюжет пробуждал в ней мысли об абсурдности и катастрофичности мира, бесприютности и одиночестве человека в нём.
Внешний вид баронессы Шильтон никак не сочетался с её духовной жизнью. У неё была фигура богини, а местные острословы называли её «affe popo», что в переводе означает «вертихвостка». Прозвище она получила за рассказы своим многочисленным гостям, включая великих князей, о том, что каждое зимнее утро, живя вдали от промозглого Петербурга, она принимает ванну с лепестками роз, выращиваемых в оранжерее замка. Цель рассказов была очень проста — Полина Николаевна стремилась показать размеры своего состояния. Полотнянный завод, дворец в Стрельне, а также поместье с замком достались ей по наследству. Баронесса Шильтон купила французский пароход «Портюгаль» для устройства в нём госпитального судна. На многое у неё были свои взгляды, в том числе и на отношения между замужней женщиной и мужчинами. Полина Николаевна считала, что счастливый и спокойный брак — это слишком редкое явление для жизни двух людей под одной крышей. Её родословная и богатство делали баронессу абсолютно независимой от мнения света. Она не обращала никакого внимания на общепринятое мнение, в том числе и по поводу своей личной жизни.
ГЛАВА 5
Казалось, Вронский совсем ещё недавно встретил баронессу Шильтон в своей петербургской квартире на Морской улице. В квартире этой, пока он был в отъезде, жил его приятель Петрицкий. В тот день он пригласил баронессу, с которой у него был легкомысленный адюльтер без обмана и разрушения семейных уз, не переходящий границ светского флирта.
Петрицкий показывал баронессе новую французскую кофеварку. Честно говоря, Шильтон ему уже надоела, но нужда в деньгах пересиливала усталость и рождала надежду на то, что всё образуется. Баронесса затевала бракоразводный процесс. Муж шантажировал её, обвиняя в неверности, требуя права распоряжаться её богатством в обмен на его согласие появляться с ней на светских раутах и балах.
Баронессе не повезло в этом неравном браке. Барон Валдас Шильтон был её троюродным кузеном и занимал должность главного брандмейстера в Ревеле, но жил в Петербурге. Полина Николаевна согласилась выйти за Валдаса Шильтона замуж лишь только потому, что он носил завитые кверху усы, фрачные пары, белые французские перчатки, чёрные цилиндры и красиво танцевал с ней на дворцовых балах. Другими достоинствами для равноценного брака он не обладал. В этом отношении он был похож на отца Льва Николаевича Толстого. Однако, в отличие от отца знаменитого писателя, Валдас Шильтон был азартным игроком в рулетку. Барон ездил в Ниццу и там как безумец забывал обо всём в погоне за крупным выигрышем. Результат оказался печальным — барон проиграл оба петербургских дома Полины Николаевны.
Вронский хорошо помнил, как произошла его встреча с баронессой в квартире на Большой Морской. Подъезжая в двенадцатом часу с железной дороги к своей квартире, он увидел у подъезда знакомую ему извозчичью карету. Позвонив в дверь, услышал за ней хохот мужчин, лепет женского голоса и крик Петрицкого: «Если кто из злодеев, то не пускать!». Вронский не велел швейцару Василию говорить о себе и потихоньку вошёл в первую комнату. Баронесса Шильтон, приятельница Петрицкого, блестя лиловым атласом платья и румяным личиком, наполняла всю комнату своим парижским говором, как канарейка. Она сидела перед круглым столом и варила кофе. Петрицкий в пальто и штаб-ротмистр Камеровский в полной форме, вероятно, со службы, сидели около неё.
— Браво! Вронский! — закричал Петрицкий, вскакивая и гремя стулом. — Сам хозяин! Баронесса, кофею ему из нового кофейника. Вот не ждали! Надеюсь, ты доволен украшением твоего кабинета? — сказал он, указывая на баронессу. — Вы ведь знакомы?
— Ещё бы! — сказал Вронский, весело улыбаясь и пожимая маленькую ручку баронессы. — Как же! Старый друг.
— Вы домой с дороги, — сказала баронесса. — Так я бегу. Ах, уеду сию минуту, если я мешаю.
— Вы дома там, где вы, баронесса, — сказал Вронский. — Здравствуй, Камеровский, — прибавил он, холодно пожимая его руку.
— Вот вы никогда не умеете говорить такие хорошенькие вещи! — обратилась баронесса к Петрицкому.
— Нет, отчего же? После обеда и я скажу не хуже.
— Да после обеда нет заслуги! Ну, так я вам дам кофею. Идите умывайтесь, — сказала баронесса, опять присев у стола и заботливо поворачивая винтик в новом кофейнике. — Пьер, дайте кофе, — обратилась она к Петрицкому. — Она называла его Пьер, фривольно сокращая фамилию Петрицкий, не скрывая своих отношений с ним. — Я прибавлю кофе.
— Испортите, — возразил Петрицкий.
— Нет, не испорчу! Ну, а ваша жена? — спросила вдруг баронесса, обращаясь к Вронскому. — Мы здесь женили вас. Привезли вашу жену?
— Нет, баронесса. Я рождён цыганом и умру цыганом.
— Тем лучше, тем лучше. Давайте руку, — и баронесса, не отпуская Вронского, стала ему рассказывать, пересыпая шутками, свои последние планы жизни и спрашивать его совета. — Он всё не хочет давать мне развода! Ну что мне делать? Я теперь хочу процесс начинать. Как вы мне посоветуете? — Тут баронесса Шильтон повернулась и крикнула: — Камеровский, смотрите, же за кофеем — кофей ушёл! Вы видите, я занята делами! — Улыбнувшись, она снова обратилась к Вронскому: — Итак, я хочу процесс, потому что мне нужно моё состояние.
Вронский слушал с удовольствием этот весёлый лепет хорошенькой женщины, поддакивал ей, давая полушутливые советы, и вообще тотчас же принял свой привычный тон обращения с дамами высшего света.
В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположных сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одною женой. Девушке надо быть невинной, женщине — стыдливой, мужчине — сильным, воздержанным и волевым. Надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги — и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных.
Но был другой сорт людей, настоящих. К нему принадлежали все они, собравшиеся в этой квартире. Люди такого сорта считали, что надо быть элегантным, красивым, великодушным, смелым, весёлым, не краснея отдаваться всякой страсти и над всем остальным смеяться.
Вронский только в первую минуту был ошеломлён после впечатлений совсем другого мира, мира Москвы, но тотчас же, как будто всунул ноги в старые туфли, вошёл в свой прежний знакомый мир. Кофе так и не сварился, а обрызгал всех, залив дорогой ковёр и платье баронессы. Все зашумели и засмеялись.
— Ну, теперь прощайте, а то вы, граф, никогда не умоетесь, и на моей совести будет главное преступление порядочного человека — нечистоплотность. Так вы, Алексей Кириллович, советуете нож к горлу? — спросила баронесса Вронского.
— Непременно, и так, чтобы ваша ручка была поближе к его губам. Он поцелует вашу ручку, и всё кончится благополучно, — ответил Вронский.
— Так нынче во Французском! — и, зашумев платьем, она исчезла.
Вечером баронесса появилась во Французском театре, где шла опера Доницетти «Лючия ди Ламмемур». В этой опере, основанной на реальных событиях и романе Вальтера Скотта «Ламмемурская невеста», Лючия зарезала своего мужа собственноручно в первую же брачную ночь, пока гости веселились внизу. Произошло это потому, что Лорда Артуро Баклоу выбрали для неё родственники. А она сама безумно любила другого мужчину, Эдгара Равенсвуда. Тот, разумеется, не устраивал её родственников. Вронский хорошо владел «эзоповым языком», принятом в высшем свете, и баронесса Шильтон прекрасно поняла столь ироничную аналогию с её браком.
Ехать в оперу Вронскому не хотелось. Он умылся, обтёрся мохнатым полотенцем, выслушал новости от Петрицкого. Пока граф умывался, Петрицкий вкратце описал ему своё положение и то, насколько оно изменилось. Деньги у него закончились, и отец сказал, что не даст их и не оплатит его долгов, а портной хочет посадить его в долговую яму. Полковой командир Демин объявил, что если скандалы не прекратятся, то Петрицкому надо будет выйти в отставку. Выслушав Петрицкого, Вронский поехал в театр Буфф на комедийный спектакль по пьесе Карло Гальдони и старинной сказке, переработанной Карло Гоцци, о кровожадной принцессе Турандот. Он внимательно вслушивался в диалог принцессы и Калафа, когда она задавала ему одну из трёх своих загадок.
Турандот:
Внимай, безумец.
Разреши загадку:
Есть дерево, где скрыта
Кончина человека,
Оно древней гранита
И молодо от века.
Красивый лист не вянет,
Он белый и узорный,
Но белизна обманет
Своей изнанкой чёрной.
Скажи, ты знаешь слово
Для дерева такого?
Калаф:
Не гневайтесь, надменная принцесса,
Но я загадку разрешу. Растенье
Древнейшее, но юное, где скрыта
Кончина человека, чьи листы
Белы снаружи и черны с изнанки,
То будет — с днями и ночами год.
ГЛАВА 6
После поездки Вронского с Карениной Анной и их годовалой дочерью в Италию, занятий там живописью и отказе света принимать их вместе, у князя Калужского был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь такого аристократического приёма. В числе гостей мелькали придворные фрейлины, несколько литераторов, две или три модные красавицы, несколько барышень на выданье из богатых и знатных семей, совсем дряхлая графиня Анна Федотовна Омская, а также лейб-гвардейские офицеры. Около десятка доморощенных светских львов красовались в дверях второй гостиной и у камина. Всё шло своим чередом. Было не скучно, но и не весело.
В ту самую минуту, как новоприезжая певица Сафо Штольц подходила к роялю маленькими, бойкими, на крутых каблучках туфель шажками и решительно, по-мужски развёртывала ноты, баронесса Полина Николаевна Шильтон зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату. На ней было чёрное платье по случаю придворного траура, широко открывавшее её плечи и спину до талии. Наряд украшал сверкающий бриллиантовый вензель на голубом банте.
— Здравствуйте, мсье Вронский, я устала… Скажите что-нибудь! — и баронесса опустилась в широкое пате, стоявшее возле камина во всю стену. — Скучно! — И снова зевнула. — Вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она.
— И у меня сплин! — ответил ей Вронский, присаживаясь рядом.
— Вам опять хочется в Италию, не правда ли? — спросила она после некоторого молчания, повернув к нему свою красивую голову.
Граф Вронский как будто не услышал вопроса. Он продолжал, положив ногу на ногу, смотреть на оголённые плечи своей собеседницы.
Алексей Кириллович несколько поблёк и потускнел от переживаний, от навалившейся на него ответственности, от того, что выходы в свет стали редки и в соблазнители он уже не годится. Волосы Вронский отпустил, стал зачесывать за уши, закрывать увеличившуюся плешь, а также отпустил бородку. Усы стали длиннее и неопрятней. Он уже не носил парадных нарядов, и не было видно его былых ровных завидных зубов. Связь с Анной обернулась из светской лёгкой интрижки необычайно обременительной, глубокой и психологически сложной любовью, к которой граф совсем не был готов.
Спохватившись и считая столь тщательное разглядывание затянувшимся, он ответил:
— Вообразите, какое со мной несчастие. Что может быть хуже для человека, захотевшего посвятить себя живописи! Вот уже две недели, как все люди мне кажутся жёлтыми и похожими на графиню Лидию Ивановну — и одни только люди! Добро бы все предметы. Тогда была бы гармония в общем колорите. Я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! Всё остальное, как и прежде. Одни лица изменились. Мне иногда кажется, что у людей вместо своих голов голова графини Лидии Ивановны.
Баронесса улыбнулась:
— Призовите докторов.
— К кому? К графине Лидии Ивановне?
— Да нет же! Оставьте вы её, она вовсе не больна. Она неисправима. Призовите докторов к себе!
— Доктора не помогут — это сплин!
— Влюбитесь! — во взгляде, сопровождавшем это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «Я, кажется, влюблена в него. Но мне бы хотелось его немножко помучить!».
— В кого?
— Хоть в меня!
— Нет! Вам даже кокетничать со мною было бы скучно. И потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.
— А Каренина? Она же последовала за вами из Неаполя в Милан и Рим.
— Вот видите, — отвечал задумчиво Вронский, — я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти, но так как я точно знаю, что этим обязан только привычке трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастью. Я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? Вышло, что нет. К моей страсти примешивалось всегда немного азарта охотника. Всё это грустно, но правда!
— Какой вздор! — сказала баронесса. Но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.
Наружность Вронского была всё-таки чем-то неуловимо привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении его чёрных глаз светились усталость и растерянность, он ей казался намного сложнее и глубже душевно, чем об этом можно судить по внешности.
Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыкой. Приезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте «Лесной царь»:
Дитя, я пленился твоей красотой,
Неволей иль волей, а будешь ты мой!
Когда она кончила, Вронский встал.
— Куда вы? — спросила Шильтон.
— Прощайте.
— Ещё рано.
Он опять сел.
— Знаете ли, — сказал он с какою-то важностью, — я начинаю сходить с ума.
— Право?
— Кроме шуток.
— Я тоже схожу с ума. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то шепчет мне на ухо с утра до вечера. И как вы думаете — что? А то, что у князя Калужского я встречу того, кого ищу. Этот голос и сейчас мне говорит об этом. И так шибко, шибко — точно торопится… Несносно!..
Вронский побледнел. Но она этого не заметила.
— Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно. — Нет? Но голос звонкий, резкий дискант.
— Когда же это началось? — спросил её граф.
— Признаться, не могу сказать. Но ведь это, право, презабавно! — сказала она, принуждённо улыбаясь.
— У вас кровь приливает к голове, и в ушах звенит. Или вы какие-нибудь снадобья пьёте неправильные. Вы пьёте снадобья на ночь?
— Нет-нет. Я пью только настоящий коньяк, понемногу. Научите, как мне избавиться от наваждения?
— Самое лучшее средство — обратиться к докторам, — сказал Вронский.
— У нас с вами общие советы друг другу, — прибавила она, взглянув с участием на его встревоженное лицо.
— Вы правы, — отвечал угрюмо Вронский. — Я непременно пойду.
Он встал и вышел. Она с удивлением посмотрела ему вслед. Потом Вронский вспомнил, как она стояла и смотрела на гроб с телом Карениной. В её глазах не было ни сочувствия, ни удивления, ни жалости. Ничего в них не было, кроме глубокого понимания ценности любой человеческой жизни.
ГЛАВА 7
Мысли о смерти на дуэли достаточно быстро оставили Вронского, поскольку он понял, что легко может найти её на войне. Но подходящей для этого войны пока не было. К тому же, ещё при жизни Карениной «для определения к статским делам» граф подал в отставку. Она была принята. Уход в отставку был связан с его желанием как-то решить проблему совместной жизни с Карениной, их дочерью и её сыном Серёжей.
Мальчик этот был главной помехой в их отношениях. Когда Вронский и Анна встречались в Петергофе на даче Карениных, они не позволяли себе говорить того, чего бы сын Карениных, Серёжа, не понял. Они не сговаривались об этом, но такое правило установилось само собою. Для них было бы оскорблением самих себя обманывать этого ребёнка. При нём они говорили между собой как обычные знакомые. Но несмотря на эту осторожность, Вронский часто видел устремлённый на него внимательный и недоумевающий взгляд ребенка. Серёжа проявлял к Вронскому то странную робость, то ласку, то холодность, а порой застенчивость. Ребёнок чувствовал, что между этим человеком и его матерью есть какие-то важные отношения, значения которых он понять пока не может, поэтому и не знал, как же ему относиться к самому Вронскому. Чуткий ребёнок ясно видел, что его отец, гувернантка, няня — все не только не любили, но с отвращением и страхом смотрели на Вронского, хотя и ничего не говорили, а мать смотрела на него, как смотрят на лучшего друга.
«Что же это значит? Кто он такой? Как надо любить его? Если я не понимаю, я виноват, или я глупый, или дурной мальчик», — думал ребёнок. От этого происходили его испытующее, вопросительное, отчасти неприязненное выражение, и робость, и неровность, которые так стесняли Вронского. Присутствие этого ребёнка всегда неизменно вызывало во Вронском то странное чувство беспричинного омерзения, которое он испытывал в последнее время. Когда Серёжа был с ними, Вронский и Анна ощущали себя капитанами корабля. Они понимали, что потеряли свой фарватер, затерялись в волнах, сбились с надлежащего пути. С каждой минутой они все больше отклоняются от маршрута, но невозможно остановить ход корабля, а признаться в собственных ошибках — всё равно, что обречь себя на погибель.
ГЛАВА 8
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Отца своего Алексей Вронский не знал. Он умер, когда Алексею было полтора года. В восемь лет мать определила своего младшего сына в пажеский корпус. Окончив учёбу, граф дослужился до чина ротмистра гвардии, что соответствовало седьмой степени табеля о рангах — чину надворного советника. Это позволяло ему быть вхожим в высший свет.
Брат, граф Александр Кириллович Вронский, был старше его на шестнадцать лет. Брат научил его многому, в первую очередь игре в карты. Александр Кириллович смолоду любил женщин с худым, но жилистым гибким телом, рыжих, немолодых. Матери стоило больших трудов женить его. Алексей Кириллович Вронский, несмотря на свою с виду легкомысленную светскую жизнь, ненавидел беспорядок. Ещё учась в пажеском корпусе, он испытал унижение отказом, когда, запутавшись в карточных долгах, однажды попросил взаймы денег. Три приятеля отказали ему в просьбе. С тех пор он ни разу не ставил себя в такое положение. Для того чтобы всегда держать свои дела в порядке, пять раз в год (чаще или реже) граф уединялся и приводил в ясность все свои дела. Он называл это посчитаться, или faire la lessive, «постираться». На этот раз, после смерти Карениной, задача для него усложнилась. Огромное отцовское состояние, приносившее до двухсот тысяч годового дохода, не было разделено между братьями.
В то время как старший брат, имея кучу карточных и иных долгов, женился на княжне Варе Чирковой, дочери декабриста безо всякого состояния, Алексей уступил ему весь доход с имений отца, выторговав себе только двадцать пять тысяч в год. Алексей сказал тогда брату, что этих денег ему будет достаточно, пока он не женится, чего, вероятно, никогда не произойдёт. И брат, командуя одним из самых дорогих гвардейских полков российской армии и только что женившись, не мог не принять этого подарка от него.
Мать, имевшая своё отдельное состояние кроме выговоренных у брата двадцати пяти тысяч, давала ежегодно Алексею Кирилловичу ещё тысяч двадцать, и он растрачивал их все. В последнее время, поссорившись с ним из-за связи с Карениной и нежелания жениться на княжне Сорокиной, матушка перестала присылать ему деньги. Вследствие этого Вронский, уже привыкший жить на сорок пять тысяч, находился теперь в затруднении. Все деньги, которые у него имелись, он потратил на благоустройство имения, стремясь показать Карениной своё умение хозяйничать. Купил за границей паровую машину для раструсной валковой мельницы. Молол пшеницу, как собственную, так и окрестных крестьян, продавая на зерновом рынке уже не просто зерно, а муку. Устроил лучшие в округе конюшни, замостил дороги, поставил в селе Клинские Нивы новую винокурню и немецкий пивной завод. Однако пустить их в производство не успел, потому что попросту не хватило денег.
Перечтя список долгов, Вронский переписал его своим мелким почерком на почтовом листе, всё распределив на три вида. К первому относились долги, которые надо было сейчас же заплатить или, во всяком случае, для их уплаты нужно было иметь готовые деньги, чтобы при требовании не могло быть ни минуты замедления. В основном это были карточные долги, примерно на шесть тысяч рублей. Среди них был долг младшему сыну князя Косухина, Семёну Косухину, известному карточному шулеру, сияющему избытком здоровья молодому человеку. Его также называли Сенька Косой. Вронский знал, что ему необходимо иметь две тысячи пятьсот, чтобы бросить их мошеннику и не иметь с ним более никаких разговоров.
Во второй части долги были менее важные, чем карточные. В них он числил долги ростовщику, банковские проценты, погашение ссуд по иностранным кредитам за купленное оборудование, паровую машину для мельницы и тому подобные.
В третьей части были долги магазинам, гостиницам, ресторанам, портному и так далее, о которых и нечего было думать. Выписав, что он должен, Алексей Кириллович подвёл итог и посчитал, что должен семнадцать тысяч с сотнями. Для ясности, сотни он откинул. Сосчитав деньги и банковую книжку, он нашёл, что у него остаётся тысяча восемьсот рублей до конца года. А на календаре ещё только май месяц.
Он не мог просить денег у матери. Вронский помнил её письмо, полученное им накануне офицерских скачек, когда он сломал спину своей лошади Фру-Фру. Мать писала, что она готова была помогать ему для успеха в свете и на службе, но не для жизни. Всё это было из-за скандальной связи Вронского с Карениной, о чём мать не единожды упоминала во многих своих письмах к нему. И это при том, что Каренина, с которой она познакомилась раньше своего сына, ей очень понравилась. Желание матери купить своими деньгами сына оскорбило Вронского до глубины души и ещё более охладило его чувства к ней. Также он не мог отречься от легкомысленно сказанного великодушного слова брату о том, что ему, неженатому, могут понадобиться всего сорок пять тысяч дохода. Ему стоило только вспомнить жену брата, милую и славную Варю, при всяком удобном случае благодарившую его за оказанное великодушие. Нет, взять свои слова назад он не мог. Для Вронского это было так же невозможно, как ударить женщину, украсть что-либо или солгать. К тому же с тех пор прошло много лет, и у брата с Варей теперь есть дети.
Но главным для Вронского было другое. По его представлениям о чести и достоинстве, у него теперь был долг перед его собственной дочерью. Не вечен же старик Каренин (Каренину было сорок пять лет), рассуждал Алексей Кириллович. Как родной отец, Вронский должен обеспечить дочь наследством и достойным будущим.
После тяжёлых дней колебаний Вронский, одолжив у Карла Дюссо ландо с кучером, запряжённое четвёркой лошадей, на рассвете отправился из Москвы в Купавну на дачу к матери, в расчёте застать там брата. Он хотел договориться с ним о том, что достанет деньги, продав своих племенных, английской породы лошадей, купленных им у Барятницкого и Грановского. Эти деньги нужно пустить на винокуренный и пивной заводы. Исполнение этого плана представляло много трудностей, но он верил, что дело стоящее. Одна из главных трудностей была в том, что дело уже начато. Процесс нельзя остановить, поэтому придётся импровизировать и перелаживать запущенную машину на ходу.
За пару лет можно было выйти на российский рынок со своими водкой и пивом. Это очень прибыльное дело, и он готов им заняться, но при одном условии — прибыль от него должна делиться пополам с братом. Свою часть он первые пять лет будет расходовать на расширение производства и организацию оптовой продажи его продукции. Последующие десять лет прибыль обратит в ценные бумаги. А по достижению десяти лет вся прибыль, в том числе и брата, вместе с этими производствами должны быть подарены в безвозмездное владение и пользование его дочери Анне. В случае его смерти или смерти брата в любое время этого пятнадцатилетнего срока оба завода должны быть переданы для временного управления ими в Казённую палату на тех же условиях с отчислением Анне десяти процентов с чистой прибыли. По достижении совершеннолетия дочери временное управление прекращается. Вся накопленная прибыль передаётся из Казённой палаты в филиал Лондонского банка в России на открытый им счёт его дочери.
Вронский приехал в Купавну, но не застал брата на даче матери. На террасе собралось женское общество, а с ним товарищ Вронского по полку, князь Яшвин. Старая графиня, мать Вронского, разговаривала с женой брата Варей и княжной Сорокиной. Рядом с ней сидел князь Яшвин и, насупившись, засовывал всё глубже и глубже в рот свой левый ус. Судя по всему, они говорили о Вронском.
— А я тебя всё жду, — сказала ему мать, улыбаясь.
— Здравствуйте, maman. Я приехал к вам, — сказал он холодно. — У меня важное дело.
— Говори, в чём важность дела. Не стесняйся, тут все свои.
— Нет, maman, мне нужно говорить с Александром, дело касается нас двоих.
— Тогда пойдём выпьем водки, — поднимаясь, сказал князь Яшвин.
— Да-да, — торопливо сказала мать, — сходите, поговорите, не спеша. — И тут же она, взяв за руку княжну Сорокину, добавила:
— Милая моя, вот увидите, всё образуется, всё уладится. Пойдёмте помолимся.
Они удалились. Вронский нехотя принял хрустальный стакан водки, протянутый ему Яшвиным. В нём одиноко плавала одна ягодка спелой клюквы, словно заблудившаяся капля крови.
ГЛАВА 9
Чтобы понять подоплёку этого короткого разговора, необходимо вернуться в прошлое. Приехав из Италии в Петербург, Вронский с Карениной Анной остановились в лучшей гостинице российской столицы — «Наполеон» француза Наполеона Бокена на Большой Гостиной улице, напротив Исаакиевского Собора. В ней любил останавливаться граф Толстой. Позже она много раз перестраивалась, меняя названия — «Лондон», «Астория» и «Англетер», а улица была переименована в Большую Морскую.
Вронский поселился отдельно, в нижнем этаже, а наверху, в большом отделении, состоящем из четырёх просторных комнат, поселилась Анна с их дочерью, кормилицей и девушкой. В первый же день приезда из Италии Вронский поехал к брату. Там он застал их мать, приехавшую из Москвы по делам. Она и невестка встретили его, как обычно: расспрашивали о поездке за границу, говорили об общих знакомых, но ни словом не упомянули о его связи с Анной. Брат же на другой день приехал утром к Вронскому, сам спросил его об Анне, и Алексей Вронский прямо сказал ему, что он смотрит на свою связь с Карениной как на брак. Он надеется устроить развод и жениться на ней, а до тех пор считает её такою же своею женой, как и всякую другую жену, и просит его так передать матери и своей жене.
— Если свет не одобряет этого, то мне всё равно, — сказал брату Вронский, — но если моя семья хочет быть в родственных отношениях со мною, то они должны быть в таких же отношениях с моей женой.
Старший брат, всегда уважавший суждения меньшего, не знал, прав Алексей или нет. В таких вопросах он всегда полагался на мнение света. Однако со своей стороны он ничего не имел против возникшей связи.
Братья Вронские вместе пошли к Анне. Вронский при брате, как и при всех, говорил Анне «Вы» и обращался с нею как с близкой знакомой, но подразумевалось, что брат знает про их отношения, и о том, что Анна едет в наследственное имение Вронских.
Несмотря на всю свою светскую опытность, Алексей Кириллович, вследствие того нового положения, в котором он оказался, был в странном заблуждении. Казалось, ему надо бы понимать, что свет закрыт для него с Карениной Анной. Но теперь в голове его родились какие-то неясные соображения, что так было только в старину, а теперь, при быстром прогрессе (он незаметно для себя снова был сторонником всякого прогресса), взгляд общества изменился, и вопрос о том, будут ли они приняты в общество, ещё не решён. «Разумеется, — думал он, — придворный свет не примет её, но люди близкие могут и должны понять её положение как положение моей жены». Но Вронский очень скоро заметил, что свет был открыт лично для него. Для Анны он оставался закрытым. Как в игре в кошки-мышки, руки, протянутые к нему, тотчас же опускались перед Анной и не пускали её в привычное для неё общество.
Одна из первых дам петербургского света, увидевшая Вронского, была его двоюродная сестра, княгиня Бетси Тверская.
— Наконец! — радостно встретила она его. — А Анна? Как я рада! Где вы остановились? Я воображаю, как вам ужасен наш Петербург после прелестного путешествия. Я воображаю ваш медовый месяц в Риме! А что с её разводом? Она развелась с Карениным?
Вронский заметил, что восхищение Бетси уменьшилось, когда она узнала, что развода ещё не было.
— В меня кинут камень, я знаю, — сказала она, — но я приеду к Анне. Да, я непременно приеду. Вы недолго пробудете здесь?
И действительно, она в тот же день приехала к Анне, но тон её был уже совсем не тот, как прежде. Она, очевидно, гордилась своею смелостью и желала, чтоб Анна оценила верность её дружбы. Бетси пробыла не более десяти минут, разговаривая о светских новостях, и при отъезде сказала:
— Вы мне не сказали, когда развод. Положим, я отнесусь к этому благосклонно, но другие будут поливать вас грязью и осуждать, пока вы не выйдете замуж за Алексея Кирилловича. С вами останется ваша дочь, и всё обустроится. И это так просто теперь. Ça se fait. Так вы в пятницу уезжаете? Жалко, что мы больше не увидимся.
По тону Бетси Вронский мог бы понять, чего ему надо ждать от света. Но он предпринял ещё одну попытку в своем семействе. На мать свою он не надеялся. Он знал, что она, так восхищавшаяся Анной во время первого знакомства, теперь была неумолима, поскольку Анна была причиной расстройства его служебной карьеры. Но он возлагал большие надежды на Варю, жену брата. Ему казалось, что она не бросит камня, с простотой и решительностью поедет к Анне и примет её.
На другой же день после приезда Вронский поехал к Варе и, застав одну, прямо высказал своё желание.
— Ты знаешь, Алексей, — сказала она, выслушав его, — как я люблю тебя и как готова всё для тебя сделать. Но я молчала, потому что знала, что не могу тебе и Анне Аркадьевне быть полезной, — сказала она, особенно старательно выговорив «Анна Аркадьевна». — Не думай, пожалуйста, что я осуждаю. Может быть, я на её месте сделала бы то же самое. Я не вхожу и не могу углубляться в подробности, — говорила она, робко глядя на его мрачное лицо. — Но надо называть вещи своими именами. Ты хочешь, чтобы я поехала к ней, принимала её и тем вернула бы ей положение в обществе. Но ты пойми, что я не могу этого сделать. У меня дочери растут, и я должна жить в свете для них и мужа. Ну, приеду к Анне Аркадьевне. Она поймёт, что я её не могу звать к себе или должна это сделать так, чтобы она не встретила тех, кто смотрит иначе. Это её же оскорбит. Я не могу поднять её…
— Да я не считаю, чтоб она упала ниже, чем сотни женщин, которых вы принимаете! — ещё мрачнее перебил её Вронский. Он резко встал, поняв, что решение невестки неизменно.
— Алексей! Не сердись на меня. Пожалуйста, пойми, что я не виновата, — заговорила Варя, с робкою улыбкой глядя на него.
— Я не сержусь на тебя, — сказал он так же мрачно, — но мне больно вдвойне. Мне больно ещё то, что это разрывает нашу дружбу. Положим, не разрывает, но ослабляет. Ты понимаешь, что и для меня это не может быть иначе, — с этим он вышел от неё.
Вронский понял — дальнейшие попытки тщетны, и надо пробыть в Петербурге эти несколько дней, как в чужом городе, избегая всяких встреч с людьми высшего света, чтобы не стать жертвой неприятностей и оскорблений, которые были так мучительны для него.
Одна из главных неприятностей положения в Петербурге была та, что Алексей Александрович Каренин и его имя, казалось, были везде. Нельзя было ни о чём начать говорить, чтобы разговор не коснулся Алексея Александровича. Никуда нельзя было поехать, чтобы не встретить его. Так, по крайней мере, казалось Вронскому, как кажется человеку с больным пальцем, что он, как нарочно, обо всё задевает этим самым больным пальцем.
Пребывание в Петербурге казалось Вронскому ещё тем тяжелее, что всё это время он видел в Анне какое-то новое, непонятное для него настроение. То она была как будто влюблена в него, то становилась холодна, раздражительна и непроницаема. Она чем-то мучилась и что-то скрывала от него, но как будто не замечала тех оскорблений, которые отравляли его жизнь, и для неё, с её тонкостью понимания, должны были быть ещё более мучительными.
Последней каплей, переполнившей море их светского неприятия, была сцена в театре. Вронский вошёл в театр в половине девятого. Спектакль был в разгаре. Старичок капельдинер снял шубу с него и, узнав, назвал «ваше сиятельство», предложив не брать номерка, а просто крикнуть Фёдора. В светлом коридоре никого не было, кроме капельдинеров и двух лакеев с шубами на руках, слушавших у двери. Из-за притворённой двери слышались звуки осторожного аккомпанемента стаккато оркестра и одного женского голоса, отчетливо выговаривавшего музыкальную фразу. Дверь отворилась, пропуская прошмыгнувшего капельдинера, и фраза, подходившая к концу, ясно поразила слух Вронского. Но дверь тотчас же затворилась, и Вронский не услышал конца фразы и каданса. Однако понял по грому рукоплесканий из-за двери, что каданс кончился. Когда он вошёл в ярко освещённую люстрами и бронзовыми газовыми рожками залу, шум ещё продолжался.
На сцене певица, сверкая обнажёнными плечами и бриллиантами, кланяясь и улыбаясь, собирала с помощью тенора, державшего её за руку, неловко перелетавшие через рампу букеты, и подходила к господину, блестевшему напомаженными волосами, который тянулся длинными руками через рампу с какою-то вещью. Вся публика в партере, как и в ложах, суетилась, тянулась вперёд, кричала и хлопала. Капельмейстер на своём возвышении помогал в передаче и оправлял белый галстук.
Вронский вошёл в середину партера и, остановившись, стал оглядываться. Нынче менее чем когда-нибудь, он обращал внимание на знакомую, привычную обстановку, на сцену, на этот шум, на всё это неинтересное, пёстрое стадо зрителей в битком набитом театре. Публика состояла из каких-то дам с какими-то офицерами в задах лож, из разноцветных женщин, и мундиров, и сюртуков. Во всей этой толпе в ложах и в первых рядах было человек сорок настоящих мужчин и женщин. И на эти оазисы Вронский тотчас обратил внимание.
Акт кончился, когда Вронский вошёл, и потому он, не заходя в ложу брата, прошёл до первого ряда и остановился у рампы с генералом Серпуховским, своим другом. Тот, согнув колено и постукивая каблуком в рампу, издалека увидел его и подозвал к себе с улыбкой. Вронский ещё не видал Карениной, он нарочно не смотрел в её сторону, но знал по направлению взглядов, где она. Он незаметно оглядывался, но не искал её, ожидая худшего, он искал глазами своего брата Алексея Александровича. Но его в ложе не было. Видимо, пошёл в буфет «пропустить» тройку-другую стопок водки.
— Как в тебе мало осталось военного! — сказал ему Серпуховской. — Дипломат, артист, что-то в этом роде.
— Да, я как домой вернулся, так надел фрак, — отвечал Вронский, улыбаясь и медленно вынимая бинокль.
— Вот в этом я, признаюсь, тебе завидую. Я, когда возвращаюсь из-за границы и надеваю это, — он тронул аксельбанты, — мне становится жалко свободы.
Серпуховской уже давно махнул рукой на военную службу Вронского, но любил его по-прежнему и теперь был с ним особенно любезен.
— Жалко, что ты опоздал к первому акту.
Вронский, слушая его одним ухом, переводил бинокль с бенуара на бельэтаж и оглядывал ложи. Подле дамы в тюрбане и плешивого старичка, сердито мигавшего в стекле подвигавшегося бинокля, Вронский вдруг увидел лицо Карениной, гордое, поразительно красивое и улыбающееся в рамке кружев. Она была в пятом бенуаре, в двадцати шагах от него. Сидела она спереди и, слегка обернувшись, говорила что-то князю Яшвину. Положение её головы на красивых и широких плечах и сдержанно возбуждённое сияние глаз напомнили ему ту Анну, которую он увидел на балу в Москве. Но он совсем иначе теперь ощущал эту красоту. В его чувствах к ней теперь не было ничего таинственного, и потому красота привлекала его даже сильнее, чем прежде, но одновременно и оскорбляла его. Она не смотрела в его сторону, но Вронский чувствовал, что она уже увидела его.
Когда Вронский опять навёл в ту сторону бинокль, он заметил, что княжна Варвара особенно красна, неестественно смеётся и беспрестанно оглядывается на соседнюю ложу. Анна же, сложив веер и постукивая им по красному бархату, приглядывается куда-то, но не видит и, очевидно, не хочет видеть того, что происходит в соседней ложе. На лице Яшвина было то выражение, которое бывало у него, когда он проигрывал. Он, насупившись, засовывал всё глубже и глубже в рот свой левый ус и косился на ту же соседнюю ложу. Там сидели Картасовы. Вронский знал их, но не предполагал, что Анна с ними была знакома. Картасова, худая, маленькая женщина, стояла в своей ложе и, повернувшись спиной к Анне, надевала накидку, подаваемую ей мужем. Лицо её было бледно и сердито, и она что-то взволнованно говорила. Картасов, толстый, плешивый господин, беспрестанно оглядываясь на Анну, старался успокоить жену. Когда жена вышла, муж долго медлил, отыскивая глазами Анну и, видимо, желая ей поклониться. Но Анна не замечала его — очевидно, нарочно. Каренина, обернувшись назад, что-то говорила нагнувшемуся к ней стриженою головой Яшвину. Картасов вышел, не поклонившись, и ложа осталась пустою.
Вронский не понял того, что именно произошло между Картасовыми и Анной, но в этом было явно что-то унизительное для Карениной. Более всего это было понятно по лицу Анны. Вронский заметил, что она собрала свои последние силы, чтобы выдержать взятую на себя роль. И эта роль внешнего спокойствия вполне удавалась ей. Те, кто не знал её и её окружения, не слыхал всех выражений соболезнования, негодования и удивления тому, что она позволила себе показаться в свете и показаться так заметно в своем кружевном уборе и со своей красотой, те любовались спокойствием этой женщины и не подозревали, что она испытывала чувства человека, выставленного у позорного столба.
Зная, что что-то случилось, но не понимая, что именно, Вронский испытывал мучительную тревогу и, надеясь узнать что-нибудь, пошёл в ложу брата. Нарочно выбрав противоположный от ложи Карениной пролёт партера, он, выходя, столкнулся со своим бывшим полковым командиром, говорившим с двумя знакомыми. Вронский слышал, как было произнесено имя Карениной, и заметил, как поспешил полковой командир Демин громко назвать Вронского, значительно взглянув на говоривших, мол, молчите.
— А, Вронский! Когда же в полк? Мы тебя не можем отпустить без пира. Ты самый коренной наш, — сказал полковой командир.
— Не успею, очень жалко, до другого раза, — сказал Вронский и побежал вверх по лестнице в ложу брата.
Старая графиня, мать Вронского, была в ложе брата. Варя с княжной Сорокиной встретились ему в коридоре бельэтажа. Проводив княжну Сорокину до матери, Варя подала руку деверю и тотчас же начала говорить с ним о том, что интересовало его. Он редко видел её настолько взволнованной.
— Я нахожу, что это низко и гадко, и madame Картасова не имела никакого права. Madame Каренина… — начала она.
— Да что? Что произошло? Я не знаю.
— Как, ты не слышал?
— Ты понимаешь, что я последний об этом слышу.
— Она оскорбила Каренину. Муж её через ложу стал говорить с Анной, а Картасова сделала ему сцену. Она громко сказала настолько оскорбительное, что я и повторить не могу.
— Граф, вас ваша maman зовёт, — сказала княжна Сорокина, выглядывая из двери ложи.
Оставив Варю, Вронский направился к матери.
— А я тебя всё жду, — сказала ему мать, насмешливо улыбаясь. — Тебя совсем не видно.
Сын видел, что она не могла сдержать улыбку радости.
— Здравствуйте, maman.
— Что же ты не идёшь faire la cour à madame Karenine? — прибавила она, когда княжна Сорокина отошла. — Elle fait sensation. On oublie la Patti pour elle.
— Maman, я вас просил не говорить мне про это, — отвечал он, хмурясь.
— Я говорю то, что говорят все.
Вронский ничего не ответил. Сдержав себя и сказав несколько слов княжне Сорокиной, он вышел. В дверях встретил брата.
— А, Алексей! — сказал брат. — Какая гадость! Дура эта Картасова, больше ничего… Я сейчас хотел к ней идти. Пойдём вместе.
Вронский не слушал его. Он быстрыми шагами сошёл вниз. Чувствовал, что ему надо что-то сделать, но не знал — что. Досада на Анну за то, что она ставила себя и его в такое неловкое положение, вместе с жалостью к ней за её страдания чрезмерно будоражили его.
Он сошёл в партер и направился прямо к бенуару Анны. У входа в бенуар стоял Стрёмов и разговаривал с нею:
— Теноров нет больше. Le moule en est brisé.
Вронский поклонился ей и остановился, здороваясь со Стрёмовым.
— Вы, кажется, поздно приехали и не услышали прозвучавшей тут лучшей арии, — сказала Анна Вронскому, очень иронично и насмешливо взглянув прямо ему в глаза.
— Я плохой ценитель, — ответил он, строго глядя на её крепко сцепленные пальцы. Она всегда делала так, чтобы унять дрожь. Он хорошо изучил эту её уловку.
— Как князь Яшвин, — сказала она, улыбаясь. — Он находит, что арии поют ныне слишком громко.
— Взяв в маленькую руку в длинной перчатке протянутую Вронским афишу, Анна сказала: — Благодарю вас, — и вдруг в это мгновение красивое лицо её вздрогнуло. Она встала и пошла вглубь ложи.
Заметив, что на следующий акт ложа её осталась пустой, Вронский, возбуждая шиканье затихшего при звуках каватины театра, вышел из партера и поехал домой.
Анна уже была дома. Когда Вронский вошёл к ней, она была одна в том самом наряде, в каком приехала в театр. Анна сидела в кресле у стены и смотрела перед собой, но, взглянув на него, тотчас же приняла прежнее положение.
— Анна, — сказал он.
— Ты, ты виноват во всём! — вскрикнула она со слезами отчаяния и злости в голосе, вставая.
— Я просил, я умолял тебя не ездить, я знал, что тебе будет неприятно…
— Неприятно! — вскрикнула она. — Ужасно! Сколько бы я ни жила, никогда не забуду этого. Она сказала, что позорно сидеть рядом со мной, бесстыдной, развратной женщиной.
— Слова глупого человека, — сказал он, — но для чего рисковать, вызывать…
— Я ненавижу твоё спокойствие. Ты не должен был доводить меня до этого. Если бы ты любил меня…
— Анна! К чему тут моя любовь…
— Да, если бы ты любил меня, как я тебя, если бы ты мучился, как я… — сказала она, смотря на него с испугом.
Вронскому было жалко Анну, но всё-таки досадно. Он уверял её в своей любви, потому что видел, что только одно это может теперь успокоить её, но в душе своей он её упрекал. И уверения в любви ему казались такими пошлыми, что совестно было выговаривать их, но она впитывала их в себя и понемногу успокоилась.
На другой день после этого, совершенно примирённые, они уехали в деревню. Конец известен.
ГЛАВА 10
Выпив по стакану водки с князем Яшвиным, Вронский поспешил вернуться поскорее в Москву в свой номер у Дюссо. Войдя в гостиницу, он увидел на доске фамилию баронессы Шильтон. Их номера располагались на одном этаже напротив друг друга. По широкой лестнице он поднялся на четвёртый этаж и, подходя к дверям своего номера, увидел уголок гостиничного конверта, вложенного между дверью и притолокой. Баронесса сообщала ему о том, что уезжает через два дня, и если он того желает, то они могут встретиться. Вронский был расстроен тем, что ему не удалось поговорить с братом. Ему не хотелось ни с кем встречаться. Он переоделся, совершил туалет, лёг в постель и быстро заснул.
Проснулся поздно, в десять часов утра. Приведя себя в порядок, спустился в буфет, где увидел баронессу Шильтон, сидевшую за столом с известным в то время адвокатом. Она заметила его и помахала рукой, приглашая присоединиться.
Адвокат Анатолий Фёдорович Анатопулус был эрудированным человеком, знал несколько иностранных языков, играл на фортепиано и скрипке. В сорок лет стал вегетарианцем. На посторонних, не без оснований, производил впечатление человека сухого, высокомерного. Анатолий Фёдорович был искушённым адвокатом в сложных гражданских делах. Он был дотошен, пунктуален, тщательно изучал все обстоятельства дел, за которые брался, а также был хорошим психологом.
Анатопулус изучал все мотивы судящихся, выбирая убедительные доводы в пользу своих клиентов и, находя слабые доказательства в деле их противников, подкреплял свои аргументы документами и положениями законов. В суде он выступал всегда кратко, но убедительно, по существу. Он никогда не брался за два дела сразу. Для него это было мучительно, как для человека, не ведавшего раздвоения. Его частенько называли «адвокатом человеческих судеб», оттого, что девизом Анатопулуса были слова «Понимать и воплощать».
Вронский подошёл к столу, поздоровался с баронессой Шильтон. Она его представила адвокату, назвав по имени-отчеству и фамилии, без указания титула. Анатолий Фёдорович внимательно посмотрел на Вронского и, извинившись за то, что не располагает более временем, протянул Алексею Кирилловичу свою визитную карту, затем откланялся. Оставшись в буфете наедине с баронессой, граф насупился. Ему не хотелось с ней встречаться. Ни с кем ему не хотелось встречаться. Полина Николаевна это видела.
— Алексей Кириллович, не буду вам мешать. У меня ещё много дел сегодня, — и она выпорхнула из буфета, словно птица из клетки, оставив после себя лишь лёгкий аромат свежескошенной травы.
Заказав у официанта бифштекс с кровью и брусничную воду к себе в номер, граф Вронский вышел на улицу. Бесцельно и задумчиво прошёлся перед входом в оптический театр «Космограмма». Затем быстро вернулся в номер, съел принесённый бифштекс, запив его брусничной водой. С мыслью: «Боюсь: брусничная вода мне не наделала б вреда», граф лёг, не раздеваясь, на кровать и заснул.
Проснулся быстро, как ему казалось, от зубной боли. Болел верхний коренной зуб слева. Граф Вронский покосился на недопитый графин брусничной воды. Потом встал с кровати и начал хаотично ходить по комнате из угла в угол, держась за щёку. Подойдя к окну, выходящему на Кузнецкий мост, он увидел зажжённые газовые фонари, оживлённое движение экипажей и людей на ней. «Вечереет», — подумал граф. В этот момент в номер постучал лакей и вручил Вронскому приглашение от баронессы Шильтон. Она звала его в свой гостиничный номер. В первое мгновение он хотел передать ей через этого лакея, что не может принять приглашение. Но почему-то передумал, лишь спросив лакея, у себя ли баронесса.
— Приехали-с, ваше сиятельство. Сделали-с заказ через наш буфет-с в «Англии» в свой нумер-с.
— Передай ей, Пафнутий, что я скоро приду.
Граф умылся и направился в номер баронессы. Ему открыла дверь её камеристка. Она впустила графа, спросив, как доложить о нём. Проводив Вронского в гостиную, предложив ему сесть в кресло у камина и полистать последние журналы, камеристка вышла. Минут через десять, не более, появилась баронесса Шильтон.
— Добрый вечер, Алексей Кириллович. Спасибо за то, что не погнушались моим предложением вместе скоротать вечер. Мы давно не виделись, — она улыбнулась. — У вас зуб болит? — как-то сразу определила баронесса. — У меня в Стрельне есть старушка, жена старого фельдшера, успешно заговаривающая зубную боль.
— Вы мне предлагаете поехать к вам в Стрельну?
— Не сейчас, конечно, но приезжайте, если пожелаете. А если потерпите дня три, я вызову её в Москву телеграфом, она приедет. Вы надолго в первопрестольной?
— Вы очень любезны, Полина Николаевна. Я хочу воспользоваться вашей любезностью. У меня сложное дело по разделению имения с братом. С зубом справлюсь без заговаривания, а вот обойтись без адвоката не смогу. Порекомендуйте меня Анатопулусу. Мне представилось, что у вас с ним близость.
— Близость — это нечто иное, но я с ним знакома. Он в этом месяце закончил моё дело. Должно быть, другого не взял. А что же мы здесь с вами сидим? — она взяла с каминной мраморной полки колокольчик в руки и позвонила.
Вошла камеристка.
— Танюша, заказ из «Англии» доставили?
— Доставили с чёрной лестницы, подавать?
— Не возражаете, Алексей Кириллович?
— Баронесса, вам невозможно возражать.
— Нет, почему же? Если возражения справедливы, я руководствуюсь справедливостью.
— Подавайте, Таня. Вас Таней зовут? — по-хозяйски распорядился Вронский.
— Меня зовут Татьяной Дмитриевной, но не Лариной, а Ланиной, — ответила камеристка, и все трое улыбнулись, как бы создав общее настроение. У Вронского даже зуб успокоился.
Когда он с баронессой перешёл из гостиной в столовую комнату, то холёный выездной метрдотель ресторана «Англия» с тремя официантами уже накрыли стол, расставив блюда. Вронский остановился. Он впервые видел подобный заказ и без стеснения разглядывал закуски. Баронесса поблагодарила всех, выдав конверт с чаевыми, отпустила свою камеристку в соседний номер и пригласила графа к столу. Сама она, оглядывая стол и открывая крышку фарфоровой супницы, весело приговаривала:
— Граф, как вам это нравится? Суп-прентаньер, а вот пулярка с эстрагоном. А тут форель, мозги и язык в сладком соусе! — она засмеялась. — Я чувствую себя пуляркой — щёки горят, мозги работают, язык в сладком соусе, жить хочется, как форели.
Вронский грустно ответил:
— А я вот смотрю на салат маседуан из экзотических фруктов в восточном стиле. Он как бомба на Балканах. Там столько сейчас несчастных. Газеты пишут о войне в Боснии. Для меня сейчас, скорей всего, это лучшее место. Оно неминуемо приближает смерть. Ныне моя смерть на войне равносильна моему счастью.
— Счастье эфемерно, граф, а Шабли настоящее. В каждом его глотке ощущается вкус земли, где родилось оно. Вы были во Франции? Или вы любитель Италии? Поезжайте вместо Балкан во Францию и возьмите меня с собой. А сейчас просто поухаживайте за мной, налейте мне Шабли, — и она протянула ему бокал из хрустального стекла.
Вронский умело завернул бутылку Шабли в белоснежную салфетку, аккуратно налил вино в бокалы. Наливая вино, граф продекламировал из Пушкина:
Поднесут тебе форели!
Тотчас их варить вели,
Как увидишь: посинели, —
Влей в уху стакан шабли.
Баронесса ему ответила:
Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?
Далёк закат, и в море слышен гулко
Плеск тел, чей жар прохладе влаги рад.
Твой нежный взор, лукавый и манящий, —
Как милый вздор комедии звенящей
Иль Мариво капризное перо.
Твой нос Пьерро и губ разрез пьянящий
Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро».
Дух мелочей, прелестных и воздушных,
Любви ночей, то нежащих, то душных,
Весёлой лёгкости бездумного житья!
Ах, верно, далека я чудес послушных
Твоим цветам, весёлая земля!
— Браво, баронесса! Вы всегда находите, как ответить.
— Но вы же не хотите, Алексей Кириллович, в меня влюбиться, как я вам предлагала! Садитесь, и поужинаем, чем бог послал.
Они сели за стол друг против друга, приступив к трапезе. Попробовав понемногу блюда, засыпали кофе в кофейник на спиртовке. Зажжённая над столом люстра с Клетовскими свечами ярко и мягко освещала серебряные подносы и белую фарфоровую посуду. В её свете баронесса выглядела верхом совершенства, точно богиня. Граф, не скрывая своего восхищения, в упор разглядывал Полину Николаевну Шильтон. Она смотрела на него точно так же. Не отводя взора от Вронского, баронесса сказала:
— Знайте, Алексей Кириллович, я не конфужусь. Вы мне советовали ножичек, и всем весело: похороны мужа, как бы случайно в приступе ревности промахнувшегося мимо меня. А я только фру-фру, и всем смешно. Да-да, и не улыбайтесь так иронично! Вам ли не знать о том, что в нашем высшем свете носят маски. Мой беглый французский принимают за пение канарейки. У меня своя маска — пёстрая, яркая, в общем, пташка, да и только. Меня считают… Как бы вам помягче сказать, не обижая… Красивенькой дурочкой! Я уже вышла из того возраста, когда переживаешь, что о тебе подумают другие. Пусть теперь другие переживают, что я о них подумаю. Я предлагала вам влюбиться в меня. Вы решили, что я больна, и мне нужно обратиться к докторам.
Баронесса Полина Шильтон сделала глоток кофе и пригубила из маленькой ликёрной рюмки ром, кончиком языка облизнув свои красивые губы. При этом Вронский впервые увидел её ровные, с отблеском перламутра белоснежные зубы. В её зелёных, с мелко-золотистыми крапинками глазах, какие редко встречаются у людей, светился ясный ум и не погасший молодой задор.
— Мне перед вами, граф, не стыдно признаться. Я расскажу, как я развелась. Мой муж оказался, несмотря на свой внешний импозантный вид, импотентным мужчиной. Вы понимаете, о чём я говорю. Но я к этому относилась с пониманием, даже сочувствовала ему. Помогала, как могла, чтобы он не чувствовал себя ущербным. Но очень быстро я поняла, что с обманными страстями я переборщила, и он начал ревновать меня ко всему, что двигается. Дошло до того, что он стал грозить мне выводом! Вы же знаете, как это ужасно! Представляете, я — и вывод! Вот тогда я решила во что бы то ни стало развестись с ним. А вы, Алексей Кириллович, говорили мне ножичком. Не ножичком, а через суд развелась. Стыдно было, но развелась. Конечно же, в этом заслуга адвоката Анатопулуса. Он с пониманием вёл столь щекотливое дело. Потом мой муж начал требовать раздел имущества, претендуя на мой замок в Полушкино. Представляете? Замок, где я родилась и выросла, доставшийся мне по наследству, он требовал получить в качестве компенсации за якобы мою неверность. А три месяца тому назад он утонул в Ницце. Жалко мне его. И хотя я должна соблюдать внешне траур, но чувствую себя свободным человеком, словно заново родившейся.
Развернувшись в своём гнездышке на диване из подушек, она достала откуда-то бутылку водки Петра Смирнова с российским гербом и медалью Филадельфии на этикетке, велев Вронскому взять для себя гранёный лафитник со стоявшего на столе подноса. Налила ему, перелив через край. Затем наполнила свой так же, доверху.
— До дна! — приказала она. Подкрепляя слова делом, выпила медленно, глядя на Вронского, затем поставила лафитник и, потянувшись с томной грацией, откинулась изящно на подушки.
— Ну так что же? Вы хотите о чём-нибудь со мной поговорить серьёзно? Я для этого вас пригласила.
Вронский ответил не сразу. Он смотрел на неё, думая о том, как хорошо быть женатым и женатым именно на ней, потому что эта женщина сейчас была чертовски соблазнительна со своими затуманенными глазами и безвольно раскинувшимся телом. Её очертания обрисовывались так явственно, а над тонким чёрным шёлковым чулком, обтянувшим прелестную ножку, виднелась полоска нежной розовой кожи.
— Да говорите же, — поторопила она, — что вы, граф, молчите?
Она намеренно дразнила и соблазняла его, и в другое время он, может быть, и поддался бы сразу её соблазну. Заниматься любовью — лучший способ забыть на время о своих душевных муках. Но что-то подсказывало ему, что легкомысленная жизнь с этой женщиной невозможна. А нормально жить он уже не хотел. Он был отравлен жизнью, как стрихнином.
Баронесса положила свою миниатюрную руку на его руку:
— Я вас понимаю, граф.
— А что Петрицкий? — неожиданно для себя спросил Вронский.
— Вот оно что! — присвистнула баронесса. — Вы ревнуете. Я думала, что вы не такой, как все. Тогда спросите меня о нашем государе. Он тоже ревнует.
— К кому же?
— К вам, граф! — будто выстрелила из пушки баронесса. — Ему доложили о том, что я была на похоронах вашей common-law wife и побежала за вами. А ведь не за вами я побежала. Я убежала от них от всех. Мне наш свет противен и не нужен. Скучно в нём. Я пойду спать. Спасибо за вечер! Вашу просьбу Анатолию Фёдоровичу завтра передам. Не хотите в меня влюбиться — буду вашей доверенной. — Полина Николаевна протянула руку Вронскому для поцелуя.
Он нагнулся и поцеловал её. Глядя на его плешь, она заметила:
— Побрейте голову, граф. Бритая налысо голова напоминает мудрый череп младенца. Я бы была для него хорошей матерью, если не суждено иметь от вас ребёнка.
Попрощавшись, Вронский вышел из гостиницы на улицу. Он любил Петербург и презирал Москву. Воспоминания о доме князя Щербацкого и о его любви к его дочери Кити были ему неприятны. Ещё более неприятны были воспоминания о доме Стивы Облонского. Несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики. Вот угол-перекрёсток, где зимой в детстве он вывалился из саней, когда его матушка решила показать ему Москву. Теперь его удручало то, что из Москвы в Обираловку выехала Каренина Анна к своей могиле. Граф Вронский поспешил в гостиницу Дюссо, чтобы там забыться.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА 1
Алексей Кириллович Вронский ежедневно читал газеты. И несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твёрдо держался взглядов большинства на все эти предметы и изменял их, только когда большинство их так же меняло. Вернее будет сказать, не Вронский менял взгляды, а они сами в нём незаметно изменялись. В этом отношении он был, как все вокруг него, начиная от своих друзей, друзей родственников и тех, с кем сводила его жизнь. Здесь можно упомянуть князя Степана Аркадьевича (Стиву) Облонского. Таково свойство газет и журналов для каждого сословия. А иметь ему, жившему в известном обществе, свои взгляды, развивающиеся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как носить одежду своего сословия. И нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности, если он видит, что все окружающие его живут точно так же.
От международной политики в мире Вронский был далёк, так же, как и все люди его круга. А между тем эта политика вела Россию к войне. Все счастливые страны счастливы одинаково, все несчастные несчастны по-своему. К моменту раздумий графа Вронского о смерти как о своём счастье, всё смешалось в политическом доме страны. Война, как великая, вдохновенно-волнующая игра народов, способна была одарить более глубокими переживаниями и более сильными эмоциями, чем всё, что может предложить мирная жизнь. У войны своя логика, свои законы, свои обычаи, своя мораль и своя нравственность. Война открывает одинаково широко свои шлюзы как для славы, так и для гибели. Богиня воинских побед, крылатая Ника, и бог смерти Аид стоят вместе на одном пьедестале войн.
Светская гостиная дома княгини Бетси Тверской ничем даже близко не напоминала светскую гостиную Анны Павловны Шерер, фрейлины и приближённой императрицы Марии Федоровны. У Анны Павловны Шерер живо обсуждались события грядущих войн с Наполеоном Бонапартом, дела европейской и российской политики. В доме княгини Бетси Тверской обсуждались не менее живо в основном брачные пары, их взаимные измены, любовники и любовницы. Разговор начинался обычно мило, но именно потому, что он был слишком уж мил, надо было прибегнуть к верному, никогда не изменяющему средству — злословию.
— Она необыкновенно хороша как актриса. Видно, что она изучила Каульбаха, — говорил дипломат в кружке жены посланника. — Вы заметили, как она упала…
— Ах, пожалуйста, не будем говорить про Нильсон! Про неё нельзя ничего сказать нового, — сказала толстая, красная, без бровей и без шиньона белокурая дама в старом шёлковом платье. — Крайность ни в чём не хороша.
Это была княгиня Мягкая, известная своею простотой, грубостью обращения и прозванная за такую манеру enfant terrible. Княгиня Мягкая сидела посередине между обоими кружками и, прислушиваясь, принимала участие то в том, то в другом разговоре.
— Мне нынче три человека сказали эту самую фразу про Каульбаха, точно сговорились. И фраза, не знаю чем, так понравилась им.
Разговор был прерван этим замечанием, и надо было придумывать опять новую тему.
— Расскажите нам что-нибудь забавное, но не злое, — сказала жена посланника, великая мастерица изящного разговора small-talk, обращаясь к дипломату, тоже не знавшему, что теперь начать рассказывать.
— Говорят, что это очень трудно, что только злое смешно, — начал он с улыбкой. — Но я попробую. Дайте тему. Всё дело в теме. Если тема дана, то вышивать по ней уже легко. Я часто думаю, что знаменитые говоруны прошлого века были бы теперь в затруднении говорить умно. Всё умное так надоело.
— Давно уж сказано, — смеясь, перебила его жена посланника.
Вокруг хозяйки дома, Бетси Тверской, образовался кружок. Они стояли около самовара и обсуждали три главные темы: последнюю общественную новость, театр и осуждение ближнего. Других тем не было, а страна была накануне большой кровопролитной войны.
Граф Вронский был офицером лишь по блестящему обмундированию, но войны не знал изнутри. Не знал, что из себя представляет настоящая война, точно так же, как не знало об этом его светское окружение. Они не знали, каково заболеть на войне плевритом или тифом, быть тяжело раненным, остаться до конца последующей жизни инвалидом. Эти люди могли лишь рассуждать, согласно правилам светского этикета, о войне. Но её настоящего лица они никак не могли себе вообразить.
ГЛАВА 2
Конечно же, у графа Вронского были свои мотивы кинуться на войну с больным зубом. Он решил найти там смерть, дабы заглушить в себе все мысли о Карениной и, возможно, чувство вины или досады на то, что не удалось создать свою собственную семью, сопряжённую с правами и обязанностью замужней женщины и господствующей в обществе моралью. А мораль-то была жестокая. Сам граф Вронский видел однажды на юге, как по деревенской улице вдоль белых мазанок с диким воем двигалась странная процессия. Шла толпа народа, медленно и шумно, как большая волна, а впереди неё шагала шероховатая лошадёнка, понуро опустившая голову. К передку телеги была привязана верёвкой за руки совершенно нагая женщина. Она шла как-то странно боком, ноги её дрожали и подгибались при каждом шаге. Женщина задрала голову кверху, слегка откинув её назад. По лицу разметались тёмно-русые спутанные волосы. Она смотрела вдаль тупым взглядом, в котором не было ничего человеческого.
Всё тело женщины покрывали синие и багровые пятна, круглые и продолговатые. Из рассечённой левой груди струилась кровь. Она образовала красную полосу на животе и спускалась ниже, по левой ноге до колена. На голени скрывалась коричневая короста пыли. Должно быть, по животу женщины долго били поленом, а может, топтали его ногами в сапогах. Живот чудовищно вспух и страшно посинел.
Ноги её, стройные и маленькие, еле ступали по серой пыли, всё тело болезненно изгибалось. Нельзя было понять, как женщина ещё не падает на землю и, вися на руках, не волочится за телегой по тёплой земле. А на телеге стоял высокий мужик в белой рубахе, в чёрной смушковой шапке, из-под которой, перерезывая ему лоб, свешивалась прядь ярко-рыжих волос. В одной руке он держал вожжи, в другой кнут и методически хлестал им раз по спине лошади и раз по телу маленькой женщины. Глаза рыжего мужика были налиты кровью и блестели злым торжеством. Волосы оттеняли их зеленоватый цвет. Засученные по локти рукава рубахи обнажали крепкие руки, густо поросшие рыжей шерстью. Рот его, полный острых белых зубов, был открыт, и порой мужик хрипло вскрикивал: «Н-ну… Ведьма! Гей! Н-ну! Ага! Раз!».
Сзади телеги и женщины, привязанной к ней, шла валом толпа, крича, воя, смеясь, улюлюкая, подзадоривая. Бежали мальчишки. Иногда один из них забегал вперёд, крича в лицо женщины ужасные матерные слова. Взрывы смеха в толпе заглушали все остальные звуки и тонкий свист кнута в воздухе. Шли женщины с возбуждёнными лицами и сверкающими от удовольствия глазами. Шли мужчины, крича нечто отвратительное тому, кто стоит в телеге. Он оборачивался назад к ним и хохотал, широко раскрывая рот. И вновь раздавался удар кнутом по телу женщины.
Кнут, тонкий и длинный, обвивался около плеча, и затем захлёстывался у женщины подмышкой. Тогда мужик сильно дёргал кнут к себе — женщина вскрикивала и, опрокидываясь назад, падала в пыль спиной. Многие из толпы подскакивали к ней и скрывали её собой, наклоняясь над нею. Лошадь порой останавливалась, но через минуту снова продолжала идти, а избитая женщина по-прежнему двигалась за телегой. И жалкая лошадь, медленно шагая, всё мотала своей шершавой головой, точно хотела сказать: «Вот как подло быть скотом! Во всякой мерзости люди заставляют принимать участие…». А небо было совершенно чисто, ни одной тучки, солнце щедро проливало жгучие лучи…
Граф Вронский видел подобную картину много раз. Подобная процессия называлась выводом. Так наказывали мужья жён за измену — жестокий обычай, сохранившийся с незапамятных времён. Во многих частях России в деревнях и сёлах нагих женщин, изменивших мужьям, мазали дёгтем, осыпали куриными перьями и в таком виде водили по улицам. Иногда затейливые мужья или свёкры в летнее время мазали «изменниц» патокой и привязывали к дереву на съедение насекомым. Бывало так, что их голыми, связанными сажали на муравьиные кучи, а зимой на лёд.
Самосуд за измену мужу и прелюбодеяния жён в российских деревнях был обычным делом. Верность миллионов жён своим мужьям со времён принятия христианства на Руси поддерживалась страхом разнообразного наказания. Однако известно и то, что любой страх преодолеваем человеком. И очень часто любовь женщин к другому мужчине в противовес неприязни к мужу помогала им преодолеть страх подобных наказаний.
В высшем свете подобные наказания ко времени Карениной Анны и графа Вронского были редчайшими случаями, но страх быть отвергнутыми этим высшим светом был силён. И в то же время сотни, если не тысячи женщин высшего света изменяли мужьям со своими любовниками. Постепенно мораль высшего света менялась и в отношении брака. Взаимные измены не были редкостью. Публично их осуждали, а фактически смотрели на них, как на обычное бытовое дело. Императорский двор, фавориты и фаворитки были в этом отношении примером для всех остальных.
ГЛАВА 3
Очень быстро разговоры в России о смерти княгини Карениной Анны Аркадьевны, о графе Алексее Кирилловиче Вронском, Тайном советнике Каренине Алексее Александровиче, князе Степане Аркадьевиче Облонском (Стиве), княгине Бетси Тверской, княгине Кити Щербацкой (Левиной), Левине, Серёже Каренине и о самом графе Толстом Льве Николаевиче прекратились, несмотря на несколько статьей Достоевского в его «Дневнике писателя». Не то чтобы сама тема была исчерпана, просто её сменила не менее занимательная для российского общества тема. Граф Вронский и сам отдался ей потому, что в это время вдруг ни о чём другом так часто не говорили и не писали, как о славянском вопросе и сербской войне.
Всё то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, делалось теперь в пользу славян. Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры — всё свидетельствовало об увлечении граждан страны делами братьев славян на далёких Балканах. Славянский вопрос сделался одним из тех модных увлечений, что всегда служат обществу предметом занятия горожан. Многие с корыстными, тщеславными целями целиком посвятили себя ему. Газеты печатали много ненужной и преувеличенной информации с одною целью: обратить на себя внимание и перекричать других. К счастью, телевизора и радио тогда ещё не было. При этом в общей шумихе выскочили вперёд, крича громче других, все неудавшиеся и обиженные главнокомандующие без армий, министры без министерств, журналисты без журналов, командиры без команд. В этом было много легкомысленного и смешного. Так всегда бывает не только в России, когда разросшийся до небывалых размеров энтузиазм объединяет общество, и оно в подобном угаре теряет собственную голову. Россияне рвались помочь своим братьям, как они их называли, уже не словом, а делом.
Граф Вронский всегда был далёк от политики. К тому же, будучи подавленным своими личными переживаниями, он сначала был на всё согласен. Но теперь его ужасно мучило то, что он отдал чужому человеку свою дочь. Взять назад данное слово Вронский не мог по всем своим понятиям о чести. Именно поэтому он считал, что жизнь для него ничего не стоит. А вот физической энергии в нём было довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь в нём павшим в бою.
Вронский ехал в Москву из города Орла, где передавал в губернскую палату гражданского суда раздельный акт своего наследственного имения, подготовленный адвокатом Анатопулусом. Поезд походил на пунктирную линию в залитом лунным светом пространстве. Казалось, что с высоты падал невидимый густой и сухой дождь, беззвучно заливая землю холодным лунным светом. В нём растворялся горизонт, исчезали и без того еле различимые приземистые избы, сараи, поленницы. Пространство превратилось в сверкающую гладь. Над поездом тянулся длинный гребень дыма, перемешанный с угольной пылью. Он напоминал череду бредущих в ночи друг за другом серых овец.
Туалетов, вентиляции и света в вагонах не было. Становилось то жарко, то холодно, и запотевшие, не открывающиеся окна отражали лунный свет. Вронский был поглощён собственными мыслями, и ему чудилось, что за окном стоит гробовая, тяжёлая, почти осязаемая тишина. Вспорхнёт ли над немой равниной стая ворон, раздастся ли лай бездомной собаки, крик совы, свисток паровоза или любой другой звук — всё поглощала тихая, ненасытная бесконечность. Вронскому не спалось. Он всё смотрел и смотрел в тёмное окно. Если бы за стёклами ползущего в ночи поезда мелькнул свет от костра или от искр, летящих из жаркой топки паровоза, то на мгновение открылось бы серое лицо Вронского. Но всё чёрно, и лишь пристально всмотревшись в темноту можно разглядеть напряжённый силуэт Вронского.
Граф вздыхал часто, глубоко, судорожно, очевидно, сам не замечая своих вздохов. В окне отражалась Каренина Анна. Она смотрела на Вронского исподлобья сверкающими глазами, обрамлёнными длинными ресницами. Особенный блеск осветил её лицо, придав облику Карениной таинственную прелесть — манящую, но в то же время ужасную и жестокую. К Анне подошёл мужчина, что-то сказал, вытащил из кармана револьвер, прокрутил барабан, приставил дуло к своему виску… Вронский не понял, что значило это видение.
За всё время пути только однажды, на рассвете, он прикоснулся рукой к окну. Розовые блики восходящего солнца отразились в каплях, собравшихся в углу стекла. Пока поезд стоял на станции, воздух и первые солнечные лучи сплели кружева на запотевшем окне. Вронский слышал короткий разговор прошедших мимо него трёх пассажиров, спешивших, пока поезд стоит, по малой нужде.
— Так это же граф Вронский! Слух пошёл — в Сербию собрался.
— Прекрасный поступок! — произнёс один из них.
— А что ещё ему остаётся делать после такого несчастья? — заметил второй.
— Ужасное событие! — сказал третий, и все трое вышли мочиться на рельсы.
В голове Вронского без конца прокручивались две сцены. Они хаотично сменяли друг друга. Вронский ощущал свою голову некой бочкой, а навязчивые мысли, словно обручи, сдавливали её. Он внутренним взглядом видел вокзал перед собой, где впервые заметил чёрную шляпку Карениной Анны, а в оконном окне мимо него проплывали другие картины. Вот граждане очередного городка, стоя у вагона, поют «Боже, царя храни», размахивают флагами, затканными парчовой нитью, из-за чего они не развеваются, а тяжело и неподвижно свисают. Невыспавшиеся ораторы, с утра пораньше полные воодушевления, прославляют и благословляют откуда-то взявшихся добровольцев, отправляющихся на фронт. Звучат фразы об общей вере, братьях сербах, матушке-Москве. На одной из станций оратор призывал: «Наш долг — помочь православным братьям! Нельзя оставлять их в беде!». Все присутствующие восприняли его слова с воодушевлением, тут же кто-то поднял на палке наспех сделанное чучело Папы Римского, как кровью забрызганное красной краской, с уродливо размалёванным лицом и огромной бумажной тиарой на голове. Раздались гневные выкрики против Ватикана, против Австрии, Венгрии, Германии, турецких басурман и османских мусульман. Всё смешалось! Оркестранты задули в трубы, и над станцией к облакам полетели голоса местного церковного хора:
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни!
В толпе закричали нестройно: «Ура!». Машинист паровоза дёрнул ручку гудка, выпустив пар. Кровавого цвета колёса и валы ещё только тронувшегося поезда окунулись в него. Вагоны двинулись вслед за паровозом, но никто на станции не расходился. Ждали следующего поезда. Когда он подошёл, всё повторилось, как в хорошо заученной пьесе.
В течение месяцев, прошедших после самоубийства Анны, все мысли Вронского, все дела и связи, потерявшие для него смысл, все планы, действия, что он ещё предпринимал или, лучше сказать, собирался предпринять и откладывал, превратившись в беспомощное, бесполезное, безвольное существо, не умеющее убить своё одиночество, наводило его на одну только мысль — умереть бы скорей. Каренина страшной своей смертью хотела наказать его, хотела возродить в нём былую любовь к ней, которую он так спокойно и так безжалостно задушил. И после того, как её наказание свершилось, ему самому следовало наказать себя. Это «после того» превратилось в «сейчас», в саму цель его путешествия с конечным пунктом, где после пересечения румынской границы должна была произойти его кончина.
Вронский был даже рад тому, что представился случай отдать свою не то что ненужную, а постылую жизнь за какое-нибудь полезное дело. Будучи военным, более полезных дел, чем участие в войне, он не ведал. Приятель Вронского, князь Яшвин, уговорил его поехать на войну. Даже матушка его считала, что бог им послал эту войну. Разумеется, ей, как матери, было страшно. И главное, говорят, ce n’est pas tres bien vu a Petersbourg. Однако участие в войне могло поднять душевный настрой Вронского, изменить его в лучшую сторону.
Князь Яшвин был в полку ротмистром и приятелем Вронского. Вронский любил его за необычайную физическую силу, которую он большею частью выказывал в том, что мог пить, не просыхая. Князь мог не спать и оставаться всё таким же бодрым, как днём. Также Вронский любил его за большую нравственную силу, которую он выказывал в отношении к начальникам и товарищам, вызывая страх и уважение к себе. Ещё Яшвин был удачлив в игре, которую он вёл на десятки тысяч, и всегда, несмотря на выпитое вино, считался первым игроком в Английском клубе. Вронский уважал его в особенности за то, что Яшвин любил Вронского не за его имя и богатство, а за него самого. Из всех людей с ним одним Вронский хотел бы говорить про свою любовь. Он чувствовал, что Яшвин один его понимает, несмотря на его презрение ко всяким чувствам. Он был уверен, что Яшвин не находит удовольствия в сплетнях и скандалах, а понимает, что любовь Вронского не была забавой или шуткой, что это сильное и серьёзное чувство изменило его.
Яшвин был азартным карточным игроком в штосс. На днях он проигрался в пух и прах, включая два имения и лес, поэтому тоже собрался на войну. Видимо, и ему бог помог, предоставив такой случай, как балканская «заваруха».
Он заехал к Вронскому в номер гостиницы француза Карло Дюссо, где тот, будучи в Москве, остановился по заведённой привычке. Несмотря на поздний час, граф был ещё на ногах. В старой домашней бархатной куртке он неподвижно стоял у окна, глядя на газовые фонари Кузнецкого Моста. Открылась дверь, и на пороге появился высокий и статный ротмистр князь Яшвин. Он подошёл к Вронскому.
— А! Вот он! — крикнул Яшвин, крепко ударив Вронского своею большою рукой по плечу. Вронский вздрогнул и оглянулся сердито, но тотчас же лицо его просияло свойственною ему спокойной и мужественной улыбкой.
— Умно, Алёша, умно придумал, — сказал ротмистр Яшвин громким густым баритоном. — Теперь поешь и выпей стопочку.
Яшвин ловко развернул журнал «Русское слово», в который была завёрнута бутылка водки, достал два солёных огурца и поставил две гранённые стопки по сто пятьдесят грамм. Он расстелил журнал на столе и, положив на него огурцы со стопками, открыл бутылку одним ударом ладони по её дну. Пробка выскочила и покатилась по журналу, закрутившись на мелком заголовке: «Американский астроном Асаф Холл открыл спутники Марса — Фобос и Деймос, определил период вращения Сатурна», а потом, покачавшись, как бы выбирая место для покоя, легла на карту Сербии, крупно напечатанную в «Русском слове». Вронский подошёл к столу, накрыл одну стопку ладонью.
— Да не хочется пить, зуб болит, — глядя на карту сказал Вронский, блеснув чёрными глазами.
— Не хочется — не пей. А я вот с удовольствием! Может, и ты соблазнишься. — Яшвин быстро налил две стопки и, по очереди опрокинув их в свой рот, сел подле Вронского.
— Как твои успехи в картах? Вчера, наверно, снова выиграл? — спросил Вронский.
— Восемь тысяч. Да опять три нехороши, едва ли отдадут. Ну, так ты поедешь?
— Куда? — спросил Вронский. Яшвин встал, растянув огромные ноги и длинную спину.
— Мне обедать ещё рано, а выпить в самый раз. — Наполняя снова две стопки и посмотрев на остаток водки в бутылке, Яшвин взял огурец, выпил обе стопки махом, засунул огурец в свой необъятный рот, с хрустом раздавив его крепкими, как у породистого коня, зубами. — Поедешь, а? — повторил Яшвин.
— Куда? — вновь спросил Вронский.
— В Аглицкое собрание, — ответил Яшвин.
ГЛАВА 4
Английский клуб (Английское собрание) — один из первых российских джентльменских клубов, а также известный центр российской общественной и политической жизни. Клуб славился обедами и карточной игрой. Он во многом определял общественное мнение. Количество членов было ограничено, а новых принимали по рекомендациям после тайного голосования. Вронский был членом Английского клуба. Он играл там в карты, поскольку для офицеров это было своеобразной традицией.
Большинству, вероятно, известно, что игры разделяются на азартные и коммерческие. Выигрыш в первых — дело случая и удачи. А для победы в коммерческих карточных играх нужно было обладать смекалкой, вниманием и знанием всех нюансов и правил. Только таким игрокам удавалось сорвать куш.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
