
Ипполит Тэн, «Происхождение современной Франции», том 5. Новый порядок
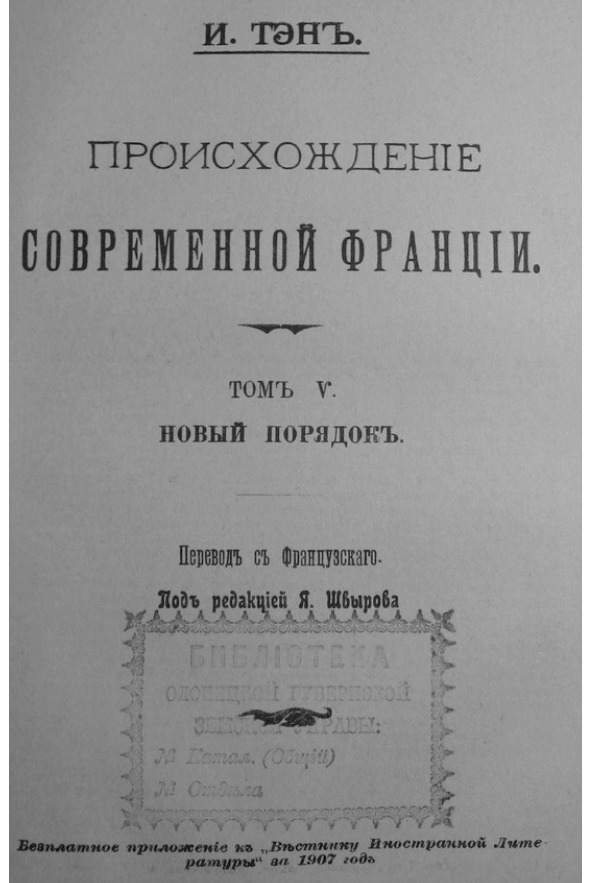
Книга первая. Наполеон Бонапарт
Глава I. Историческая важность его характера
Гений Наполеона. Он человек другой расы и другого века. Происхождение его отца. Переселение на Корсику. Фамилия его матери. Юстиция Рамолино. Его юношеские чувства к Корсике и Франции. Указания, основанные на его первых сочинениях и его стиле. Современные идеи, монархические или демократические, не имеют на него никакого влияния. Его впечатления 20 июня, 10 августа, после 31 мая. Его связь без привязанности с Робеспьером, потом с Баррасом. Его чувства и выбор во время 13 вандемьера. Великий кондотьер. Его характер и его поведение в Италии. Его нравственный и физический облик в 1798 году. Он проявляет раннее превосходство. Его характер и ум аналогичны таковым его итальянских предков XV столетия. Понятия во время Возрождения Италии и современные понятия. Полнота мыслительных способностей у Бонапарта. Гибкость, сила и упорство его внимания. Другие различия между мыслительными способностями Бонапарта и его современников. Он думает образами, а не словами. Его отвращение к идеологии. Слабость и ничтожность его литературного и философского образования. Как он образовывал себя путем прямого наблюдения и практического изучения. Его склонность к деталям. Его ясновидение мест и физических объектов. Его умственное представление позиции, расстояний и количества. Его психологический дар и его система читать в душе и чувствах. Его самоанализ, Каким образом он рисует себе общее положение на основании частного случая и внутреннее состояние при помощи внешних признаков. Оригинальность и превосходство его речи и способ выражения. Как он им пользуется по отношению к слушателям и обстоятельствам. Его три атласа. Их объем и полнота. Его созидательное воображение. Его проекты и мечты. Избыток и крайности его преобладающей способности.
Когда хотят отдать себе отчет о строящемся здании, необходимо представить себе условия постройки, т.е. затруднения и способы, род и качество потребных материалов, момент, случай, настоятельность; но особенно важно иметь в виду гений и вкус архитектора, особенно, если он одновременно является и владельцем, если он строит для себя, если, раз поселившись, он старательно приспособляет дом согласно своему образу жизни и своим потребностям. Таким является социальное здание, построенное Наполеоном Бонапартом: архитектор, собственник и главные обитатель с 1799 по 1814 год, он создает, современную Францию; никогда индивидуальный характер не налагал так глубоко своей печати на коллективное дело, так что, чтобы понять это дело, необходимо прежде всего ознакомиться с самим характером. [1]
Чрезвычайный и необычный во всех отношениях он выступает за пределы установленных рамок: по своему темпераменту своим инстинктам, способностям, воображению, своим страстям и морали он кажется вылитым по особому образцу, составлен из другого металла, чем его сограждане и его современники. Очевидно, это не француз, не человек XVIII столетия; он принадлежал к другой расе к другому веку; [2] с первого взгляда в нем можно было отличить иностранца, итальянца и еще что-то побочное, не поддающееся никакому уподоблению для аналогии. По происхождению и крови он был итальянец. Тосканский род его отца встречается последовательно, начиная с XII века, сначала во Флоренции, потом в Сан-Миниато, наконец в Сарзане, маленьком захудалом городишке Генуэзской республики, где в целом ряде поколений он прозябал в уединении провинциальной жизни в виде длинного ряда нотариусов и муниципальных представителей.
«Все итальянцы, говорил сам Наполеон, смотрят на меня как на своего соотечественника… Когда возник вопрос о браке моей сестры Полины с принцем Боргезом в Риме и в Тоскане, семья принца и все его родственники говорили в один голос: „Отлично, между нами будь сказано, это — одна из наших фамилий…“»
Позднее, когда папа колебался короновать Наполеона, в Конклаве итальянская партия одержала верх над австрийской партией прибавляя к политическим доводам следующее маленькое соображение национального самолюбия: «При всем том, фамилия, на которую мы возлагаем управление над варварами, есть фамилия итальянская, и тем самым мы отомстим галлам». Выражение знаменательное, освещающее глубины итальянской души, старшей дочери современной цивилизации, проникнутой нравом своего превосходства, упорной в своей ненависти к живущим по другую сторону Альп, высокомерной наследницы римской гордости и античного патриотизма [3].
Из Сарзаны фамилия Бонапартов выселяется на Корсику и живет там, начиная с 1529 года; год спустя происходить взятие, укрощение и прочное порабощение Флоренции; с этого момента в Тоскане под управлением Александра Медичи, а потом Косьмы I и его наследников и во всей Италии под властью испанцев постоянное ярмо, монархическая дисциплина, внешний порядок и общественное спокойствие сменяют независимость местного самоуправления, частные войны, широкая игра политических авантюр и удачных захватов власти, режим эфемерных княжеских достоинств, создавшихся на насилии и обмане. Таким образом, как раз в тот момент, когда энергия, тщеславие, крепкая и свободолюбивая закваска средних веков начинает выдыхаться, [4] незначительная ветвь, оторвавшись, прививается на почве одного острова, не менее итальянского, но почти варварского, в обстановке учреждений, нравов и страстей начала средних веков, в общественной атмосфере достаточно грубой, чтобы сохранить всю её силу, всю её жестокость.
Благодаря неоднократным сочетаниям с местными дочками ветвь эта еще более осваивается с условиями места. С этой стороны, по материнской линии, со стороны бабки и матери Наполеон является чистокровным туземцем. Его бабка, Пиетра-Санта, была родом из Сартена, кантона, корсиканского по преимуществу, где родовая месть поддерживала еще в 1800 году режим XI века, где непрестанные войны враждебных семей прерывались лишь на время перемирий, где, в большей части городов, выходили только вооруженными группами, где дома своими бойницами походили на крепости. Его мать, Летиция Рамолино, на которую по характеру и силе воли он походил более, чем на своего отца, [5] была женщина примитивной души, которой не коснулась цивилизация, простая и цельная натура, не способная к тонкостям, удовольствиям и лоску светской жизни, беззаботная в вопросах о своем благополучном существовании, литературно необразованная, бережливая, как крестьянка, но энергичная, как вожак партии, сильная душой и телом, способная на крайние решения, словом деревенская «Корнелия», зачавшая и выносивший сына в обстановке случайностей войны и поражений во время наиболее сильного вторжения французов, при бегствах в горы верхом на лошади, при ночных тревогах и ружейных выстрелах. [6] «Потери, лишения, утомления, говорит Наполеон, все переносила, всем бравировала она; это был мужчина в образе женщины». Рожденный и выросший в таких условиях, он чувствовал в себе с первого дня рождения до последнего дня жизни свою расу, свою страну. «Все там было лучше, говорил он на Св. Елене, даже запах самой земли; он мог бы разобрать его с закрытыми глазами; он нигде не встречал подобного. Он видел там себя в первые годы своей жизни: жил там в дни молодости, среди стремнин; переезжал чрез высокие вершины, спускался в глубокие долины, в узкие ущелья; пользовался почетом и удовольствиями гостеприимства», принимаемый всюду как соотечественник, как брат. В Боконьяно, [7] где его мать, беременная им, нашла убежище, «где месть и ненависть не умирали до седьмого поколения, где в роспись приданного молодой девушки входило число её двоюродных братьев, меня принимали как желанного гостя и жертвовали собою ради меня». Сделавшись французом в силу необходимости, пересаженный на французскую почву, воспитанный за счет короля во французской школе, он горел патриотизмом к своему острову и сильно одобрял борца за свободу Паоли, против которого шли его родственники.
«Паоли, говорил он за столом, был великий человек, он любил свою родину, никогда я не прощу моему отцу, который был его адъютантом, его содействия присоединению Корсики к Франции; он должен был бы следовать за его судьбой и пасть вместе с ним». Во время своей юности он остается в душе врагом французов, угрюмым, раздраженным, мало кого любящим, мало кем любимым, одержимым тягостным чувством, словно побежденный, которого постоянно оскорбляюсь и заставляют быть слугой. В Бриенне он не посещает своих товарищей, избегает игр с ними, в свободные часы замыкается в библиотеке и только Бурриенну откровенно, в резких, полных ненависти выражениях объявляет: «Я причиню твоим французам все зло, на которое я буду способен».
«Корсиканец по происхождению и по характеру, писал его профессор истории в Военной школе, он пойдет далеко, если тому будут благоприятствовать обстоятельства».
Выйдя из Военной школы, в гарнизон Валенсии и Аксонны он постоянно остается чужаком, враждебно настроенным; к нему возвращается старое чувство ненависти; он хочет об этом написать и обращается к Паоли: «Я родился, говорит он ему, когда погибла родина. Тридцать тысяч французов, вторгшихся на наши берега, затопивших трон свободы потоками крови, таково было гнусное зрелище, поразившее мои взоры. Крики умирающих, вопли побежденного, слезы отчаяния окружали мою колыбель с момента моего рождения. Я хочу очернить кистью бесславия тех, которые предали общее дело, подлые души, которых прельстила грязная сделка».
Несколько позже, его письмо к Буттафуоко, депутату в Учредительное собрание и главному деятелю по вопросу о присоединении к Франции, представляет длинное послание сгущенной злобы, которая, сдерживаемая вначале с трудом под формою холодного сарказма, в конце концов начинает бить чрез край, точно перегревая лава, и кипит в потоке горячей брани.
С пятнадцати лет, сначала в школе, потом в полку, его воображение витает в прошлом его острова; он описывает это прошлое; он живет там душою в течение многих лет; он предлагает свою книгу Паоли; вследствие невозможности ее напечатать, он делает из неё сокращение, которое посвящает аббату Рейналю и резюмирует в ней натянутым слогом, с чувством горячей и трепетной симпатии летописи своего маленького народа, возмущения, освобождения, героические и кровавые жестокости, общественные и семейные трагедии, ловушки, предательства, мщение, любовь и убийства, словом, историю, подобную истории кланов Горной Шотландии. Его стиль, еще более чем его сочувствие, обнаруживает в нем иностранца. Без сомнения в этом сочинении, как и в других сочинениях своей молодости, он следует, насколько это в его силах примеру знаменитых авторов, Руссо и особенно Рейналю; он, как ученик, подражает их тирадам, их чувствительным разглагольствованиям, их гуманитарной напыщенности. Но это платье напрокат стесняет его, ему не росту; оно очень хорошо сшито, великолепно пригнано, из тонкой материи; оно требует чересчур размеренную походку и слишком сдержанные жесты; на каждом шагу оно образует на нем грубые складки или смешные мешки; он не умеет его носить, и оно трещит у него по всем швам. Он не только не знает и никогда не знал орфографии, но он незнаком с языком, с прямым значением слов, с происхождением и связью их, с удобством или неудобством взаимного сочетания фраз, оборотов, с точным смыслом картинного языка; он бурно шагает вперед по безалаберной нескладице, несвязности, по итальянизмам, варваризмам и спотыкается, без сомнения, вследствие неловкости, неопытности, но также и вследствие чрезмерной горячности и стремительности: мысль обремененная страстью, прерывистая, бьющая ключом указывает на глубину и температуру её источника. Уже в Военной школе профессор изящной словесности говорил, что «в неправильной и странной величине своих, многословий он, казалось, походил на гранит, раскаляемый на вулкане».
Он был в такой степени своеобычный по уму и чувствам, так мало приспособлен к окружающему миру, до того отличался от своих товарищей, что становилось наперед ясным, что существующие идеи, сильно влиявшие на последних, не повлияют на него.
Из двух господствующих и противоположных идей, сталкивающихся между собою, каждая могла считать его своим сторонником, но он не следовал ни за той, ни за другой. Будучи воспитанником короля, который содержал его в Бриенне, а потом в Военной школе, который воспитывал также его сестру в Сен-Сире, который в продолжение двадцати лет является благодетелем его семьи, к которому в это же самое время он обращается с умоляющими и признательными письмами за подписью своей матери он не смотрит на него как на своего главу, ему не приходит в голову встать в его ряды, извлечь ради него шпагу; он мог быть прекрасным дворянином, воспитанным в школе кадетов-дворян, но, в нем совсем не было дворянских и монархических традиций. [8] Бедный и обуреваемый честолюбием он читает Руссо, ищет покровительства у Рейналя, компилирует философские сентенции и общие места о равноправии, ни во что подобное не веря; модные фразы для его мысли есть то же, что академическое одеяние или красный колпак клуба; он не ослеплен демократической иллюзией, чувствует одно лишь отвращение к действительной революции и к владычеству черни. В Париже в 1792 году, в разгар борьбы между монархистами и революционерами он занят изысканием, «какого-нибудь доходного дельца» и предполагает нанимать дома, чтобы потом с барышом сдавать их жильцам.
20 июня он в качестве простого зрителя присутствует при разгроме Тюйльери и видя у окна короля, одетого в красный колпак: «Che coglione!» [9] говорит он довольно громко, а следом за этим прибавляет: «Кто позволил войти этой сволочи? Нужно было смести пушечными выстрелами четыре или пять сотен, и остальные побежали бы». 10 августа, когда звучал набат, его презрение одинаково было как по отношению к народу, так и по отношению к королю; он бежит на Карусель к одному другу и оттуда в качестве праздного зрителя «он спокойно видит все происшествия дня»; наконец, когда замок взят с бою, он бежит к Тюильери, в соседние кофейни и только смотрит: у него нет ни малейшего желания принять участие, ни малейшего внутреннего побуждения, ни якобинского, ни роялистского. Даже его лицо до такой степени спокойно, что он неоднократно вызывает враждебные и недоверчивые взгляды, словно какой-то неизвестный и подозрительный. Подобным же образом, после 31 мая и 2 июня он осуждает областной мятеж, вследствие слабой организации его сил: со стороны восставших — загнанная армия, отсутствие укрепленной позиции, кавалерии, неопытные артиллеристы, Марсель, предоставленный своим собственным силам, полный враждебных санкюлотов, скоро осужденный, взятый, разграбленный; наличность шансов против подобного восстания: «Пусть бедняки, населяющие Виварэ, Севенны, Корсику бьются до последней крайности; но вы, вы теряете битву, и тысячелетний плод хлопот, трудов, экономии и достатка становится добычей солдата». Ни одно из политических или социальных убеждений, которые имели тогда такую власть над людьми, не влияют на него. До 9 Термидора он был, по-видимому, республиканец — монтаньяром; его видят в течение нескольких месяцев фаворитом и близким советником Робеспьера младшего, поклонником Робеспьера старшего; в Ницце он жил в связи с Шарлотой Робеспьер. Вслед за 9 Термидором он громогласно отрекается от этой компрометирующей дружбы: «Я его считал чистым душою, говорит он относительно Робеспьера младшего в одном откровенном письме, но, будь это даже мой отец, я сам заколол бы его, раз он стал замышлять тиранию». Вернувшись в Париж, он всюду ищет покровителя и находит его в Баррасе, человеке крайне развращенном, который ниспроверг и приказал убить двух двоих первых покровителей. Среди смены проявлений фанатизма и борьбы партий, он остается холодным исполнителем предписаний, безразличным к какой бы то ни было программе и занятым исключительно устройством своего благополучия. 12 Вандемьера вечером, выйдя из театра Фейдо и видя приготовления секционеров, он говорил Жюно: «сэр, если бы секции поставили меня во главе даю слово, через два часа мы были бы в Тюйльери и прогнали бы всю сволочь Конвента!» Пять часов спустя, призванный членами Конвента, он просит «три минуты» на размышление и, вместо того чтобы «заставить вылететь представителей», он расстреливает парижан в качестве добросовестного кондотьера, которые не предается всецело, который предлагает себя первому нанимателю, более щедрому давальцу, с тем чтобы позднее взять свое слово обратно и, если представится случай, все взять. Оставаясь таким кондотьером, я хочу сказать предводителем шайки, он все более и более становится независимым и под смиренною внешностью, и под предлогом общественного блага устраивает свои собственные дела, все совершая в свою пользу, оставаясь начальником за свой счет и выгоду в своей итальянской компании, до и после 18 фруктидора. Но он был кондотьером высшего порядка, добирался уже до более высоких положений, имевших конечною целью или трон, или эшафот, желал подчинить себе Францию и при содействии Франции — Европу; он постоянно был занят проектами, спал по три часа в ночь, играл идеями и народами, религиями и правлениями, играл человеком с бесподобною ловкостью и жестокостью, не затруднялся в выборе средств и в выборе цели, прекрасный и неистощимый артист в сфере представительства, обворожительного обращения, подкупа и запугивания; он поражал, а еще более устрашал, точно великолепный дикий зверь, внезапно впущенный в стадо ручных, жвачных животных. Сравнение не слишком сильное и оно было сказано свидетелем, другом опытным дипломатом: «Вы знаете, что, питая к нему, к этому милому генералу, чувство глубокой любви, я все-таки называю его потихоньку маленьким тигром, чтобы лучше охарактеризовать его рост, его цепкость, его смелость, быстроту его движений, его порывы, словом все, что соответствовало в нем этому понятию».
В это же самое время, до появления официальной лести и принятия установившегося типа, его можно видеть лицом к лицу в двух портретах с натуры: один — физический, нарисованный Герэном, искренним художником: другой — нравственный облик, очерченный высокообразованной женщиной, которая с совершенной культурой европейца соединяла житейский такт и проницательность — M-me де-Сталь. Оба портрета до такой степени согласны между собою, что каждый из них, как будто поясняет и заканчивает другой. «Я увидела его, говорить M-me де-Сталь, в первый раз при его возвращении во Францию после кампоформийского договора. Когда я несколько оправилась от чувства смущенного удивления, я ясно ощутила чувство боязни». Однако «он не имели, тогда никакой власти, ему даже грозили темные подозрения Директории»; на него смотрели скорей симпатично, с благожелательной предупредительностью; «таким образом чувства боязни, которое он внушал, являлось скорее результатом особенного влияния его личности почти на всех, которые к нему приближались. Я видела людей весьма достойных уважения, видела также людей жестоких, но во впечатлении, которое Бонапарт произвел на меня, не было ничего, что могло бы напомнить мне тех или других. Я заметила довольно скоро, в различных случаях, когда я встречала его во время пребывания в Париже, что его характер нельзя было определить словами, которыми мы привыкли пользоваться; он не был ни добрый, ни злой, ни кроткий, ни жестокий в обыденном смысле. Подобное, существо, не имеющее себе равного, было более чем обыкновенный человек; его фигура, его ум, его язык носят на себе печать чуждой природы… Вместо спокойного отношения при более частых встречах с Бонапартом чувство робости во мне с каждым разом нарастало. Я смутно чувствовала, что никакое движение сердца не могло на него действовать. Он смотрит на человеческое существо, как на явление или вещь, а не как на подобного себе; все остальные являются для него цифрами. Сила его воли заключается в невозмутимом расчете его эгоизма; это — ловкий игрок, для которого род людской является противником и которому он старается сделать шах и мат… Всякий раз, когда я слышала его говорящим, я была поражена его превосходством; превосходство это не имело ничего общего с превосходством людей, образованных и культурных при содействии науки и общества, каковые примеры может выставить Франция и Англия. Его речи обнаруживали знание и умение оценить обстоятельства, подобно тому, как охотник знает свою дичь… В его душе чувствовалась холодная, острая шпага, которая ранила и леденила, в его уме я чувствовала глубокую иронию, от влияния которой ничто не могло ускользнуть — ни великое, ни прекрасное, ни даже его собственная слава, так как он презирал нацию, рукоплесканий которой добивался… Он не останавливался ни перед средством, ни перед целью: непроизвольного у него не было ни в хорошем, ни в дурном. Для него не существовало ни закона, ни правила, идеального и отвлеченного; «он смотрел на вещи только с точки зрения их немедленной полезности; общий принцип ему был досаден как глупость, как враг». Взгляните теперь на портрет Герэна, [10] на этот худощавый корпус, на эти узкие плечи в сюртуке, образовавшем складки от нервных движений, на эту шею, обернутую в высокий, скрученный галстук, на эти виски прикрытые длинными, прямо падающими волосами, передо, вами — живая маска, резкие черты; в которых сталкиваются контрасты тени и света, щеки, запавшие до внутреннего угла глаза, выдающиеся скулы, массивный и выступающий подбородок, извилистые губы, подвижные, стиснутые от напряженного внимания; большие, ясные глаза, глубоко всаженные в орбиты, неподвижный, косой взгляд, режущий как сабля, две прямых складки, идущие от основания носа на лоб точно нахмуренность от сдерживаемого гнева и непреклонной воли. Прибавьте к этому еще то, что видели или слышали современники: отрывистую речь, короткие решительные жесты, допрашивающий, повелительный и абсолютный тон, и вы поймете, каким образом все, лишь только приходят с ним в соприкосновение, чувствуют властную руку, которая опускается на них, сжимали их, гнетет и не выпускает.
Уже в салонах Директории, когда он говорит с мужчинами или даже с женщинами он употребляет систему «вопросов, которые устанавливают превосходство того, кто их делает над тем, к кому они обращены».
— Вы женаты? говорит он одному.
Другой: «Сколько у вас детей?» или: «Когда вы приехали?» — Перед одной француженкой, известной своею красотою, умом и живостью своих суждений, «он держится прямо, как немецкие генерал-строевик, и говорит ей:
— Сударыня, я не люблю, когда женщины вмешиваются в политику».
Всякое равенство, всякая фамильярность, приятельское панибратство исчезают при его появлении. Когда его назначили главнокомандующим итальянской армии, адмирал Декре, который был хорошо с ним знаком в Париже, узнает, что он находится в Тулоне: «Я немедленно предлагаю всем товарищам представить их, рассчитывая на мое знакомство; бегу, исполненный торопливости и радости; салон открывается; я бросился, но одного взгляда и звука голоса было достаточно, чтобы я остановился. Тем не менее в нем ничего не было оскорбительного, но и того было достаточно; с тех пор я никогда не пытался перешагнуть определенной мне дистанции».
Несколько дней спустя в Альбеже генералы дивизиона приезжают на главную квартиру весьма плохо настроенные к маленькому выскочке, которого им шлют из Парижа; между ними был Ожеро, хвастливый и грубый рубака, гордый своим высоким ростом и беззастенчивостью; он поносит его и заранее отказывается от повиновения: любимчик Парра, генерал Вандемьера, генерал, улицы, ничем не отметивший себя, не имеющий друга, похожий на медведя, потому что он всегда один со своими мыслями, фигурка с репутацией математика и мечтателя.
Их вводят, и Наполеон заставляет себя ждать. Наконец он появляется, опоясанный своей шпагой, объясняет свои намерения, дает им свои приказания и отпускает их. Ожеро онемел; только по выходе оттуда он пришел в себя и к нему вернулась его обычная ругань; он сознается Массена, что этот маленький прыщ нагнал на него страху; он не может понять влияния, под которым он чувствовал себя раздавленным в первый же момент. [11] Он был необычайный и выдающийся, созданный для командования [12] и для победы, своеобразный и оригинальный, и его современники отлично это чувствуют; наиболее знакомые с былой историей иностранных народов, например, m-me де Сталь, а позднее — Стендаль, для того, чтобы выяснить его личность восходят до мелких итальянских тиранов XIV и XV века, до Кастручио-Кастракани, до Брагио из Мантуи, до Пичинино, до Малатеста де Рамини, до Сфорцы из Милана; но здесь, по их мнению имеется только случайная аналогия, психологическое сходство. Однако, на самом деле, и исторически доказано, что родство это положительно существует: он происходит от знаменитых итальянских деятелей 1400 года, от военных авантюристов, узурпаторов и основателей недолгих государств; он наследовал по прямой передаче их кровь и их врожденную умственную и нравственную структуру. [13]
Побег, срезанный в родном лесу до наступления поры истощения, был пересажен на родственную, но далекую почву, где постоянно существует трагический и боевой режим; первобытная сила сохранилась в нем неприкосновенно, она передавалась от поколения к поколению, обновлялась и укреплялась скрещиваниями. Наконец, в последний момент отпрыск развивается поразительно, с тою же листвой и теми же плодами, как и в былое время; новейшая культура и французское садоводство подрезало у него несколько веток, удалило несколько игл: его глубокая ткань, его жизненная субстанция, его произвольный рост нисколько не изменились. Но почва, которую он находит во Франции и в Европе, почва, взрытая бурями революции, для него более благоприятна, чем старое поле средних веков; он здесь один, он не терпит, как его предки в Италии, конкуренции себе подобных, ничто его не теснит, он может использовать все соки земли, весь воздух и солнце, пространство; и сделаться колоссом, чего не могли достигнуть старые растения, может быть такие же жизнеспособные и, конечно, такие же глубоко проникающие, как и он сам, но рожденные на земле менее тучной и заглушающие друг друга своею близостью.
«Только в Италии, говорит Альфиери, рождается самый могучий человек-дуб», и никогда в Италии он не достигал такой силы, как с 1300 по 1500 год, от времен Данте до Микель Анджело, Цезаря Борджиа, Юлия II и Макиавелли. Цельность умственного аппарата прежде всего отличает людей этого времени.
Теперь, после трехсотлетнего служения, наш ум утратил кое что в своем закале, в своей остроте и в своей гибкости: обыкновенно, обязательная специализация искривляет его на одну сторону и делает его неспособным к другим употреблениям; сверх того, множественность готовых идей и избитых приемов притупляет его и ведет его игру к рутине; наконец, он переутомлен, вследствие избытка мозговой работы, расслаблен продолжительностью сидячей жизни. Совершенную противоположность представляют умы решительные девственной и новой расы. В начале консульского правления, Редерер, опытный и независимый судья, который встречает Бонапарта каждый день в государственном совете, а по вечерам записывает свои впечатления дня исполнен поразительного удивления:
«Он неукоснительно посещал все заседания, продолжавшиеся пять-шесть часов подряд, говорил до заседания и после о предметах, подлежавших решению; постоянно возвращался к двум вопросам; справедливо ли это? полезно ли это? Рассматривал каждый вопрос в этих двух направлениях, подвергнув его предварительно самому точному, самому проницательному анализу, справлялся, наконец, с великими авторитетами, с древней юриспруденцией, с законами Людовика XIV и Фридриха Великого… Никогда совет не расходился без того, чтобы чему-нибудь не научиться; если он ничего не мог со своей стороны сообщить ему; то, по крайней мере, он содействовал более глубокому рассмотрению вопроса. Никогда члены сената, законодательного корпуса, трибуната не выходили от него без полезных сведений»
Не только проницательность и всеобъемлемость ума отличает его от всех, но также, и особенно, — гибкость, «сила и постоянство его внимания. Он может провести девятнадцать часов за работой, за одной и той же работой и за разными. Я никогда не видел его ум утомленным. Я никогда не видел его дух инертным даже в усталом теле, даже при условии самых жестоких занятий, даже в гневе. Я никогда не видел его отвлеченным от одного дела к другому. Благоприятные или неблагоприятные известия из Египта никогда не могли отвлечь его от свода законов гражданских, ни свод законов от комбинаций, требуемых благополучием Египта. Никогда человек не был так всецело отдан своему делу и никогда не распределял лучше своего времени в своих делах. Никогда ум его не отказывался от работы; мысль, когда наступал момент занятий, становилась более кипучей, более проворной в поисках, более способной к упорному труду».
Он сам говорил позднее, что «различные предметы и разные дела были уложены в его голове, как в комоде. Когда я хочу покончить с одним делом, прибавлял он, я закрываю его ящик и открываю ящик другого. Они не смешиваются между собою и никогда не стесняют и не утомляют меня. Захочу я спать, я закрываю все ящики и засыпаю». Подобный мозг в такой степени дисциплинированный, постоянно готовый ко всякой работе, способный к быстрому и полному сосредоточению, никогда не встречался. Его гибкость замечательна.
«Он в одно мгновение может переместить все свои способности, все свои силы с одного предмета на другой, который его заинтересовал, с мухи на слона, с отдельной личности на неприятельскую армию. В то время, как он занят одним предметом, остальное для него не существует; это особый род погони, которую ничто не может сбить с пути». И эта горячая охота, которая прекращается лишь с достижением цели, это упорное преследование, эта стремительная гонка, для который момент прибытия является новым моментом отправления, есть самопроизвольное, естественное, легкое и предпочитаемое им движение.
«Я, говорил он Редереру, работаю постоянно, я много думаю. Если, кажется, что у меня всегда готов ответь, то это потому, что, прежде чем предпринять какой-нибудь пустяк, я долго размышляю, я предвижу то, что может случиться. Не гений открывает мне вдруг то, что надо говорить или делать в обстоятельствах, неожиданных для других, но мое обдумывание, мое размышление… Я работаю постоянно, за обедом, в театре. Ночью я просыпаюсь чтобы сесть за работу. Прошлою ночью я поднялся в два часа, сел в длинное кресло перед камином, чтобы проверить ведомости дислокации, которые мне принес военный министр, я нашел двадцать ошибок, о которых сегодня утром довел до сведения министра, и он в настоящее время занят исправлением их». Его сотрудники сгибаются и едва не падают под тяжестью, которую он на них налагает и которую сам несет легко и свободно. Будучи консулом, «он председательствует иногда в отдельных собраниях внутренней секции с десяти часов вечера до пяти часов утра… В Сен-Клу он часто задерживает членов государственного совета от девяти часов утра до пяти часов вечера с перерывом в четверть часа, и под конец заседания кажется не более утомленным, чем в начале его».
Во время ночных заседаний «многие члены падают от усталости, военный министр засыпает»; он тормошит и будит их: «Ну, ну! граждане, проснитесь, еще только два часа, надо заслужить жалованье, которое нам дает французский народ!» Консул или император, [14] «он у каждого министра спрашивает отчет в мельчайших подробностях: не редкость видеть их, выходящими из совета, разбитыми усталостью, вследствие длительных допросов, которые он им предлагал; он как будто не замечает этого и говорит им, что работа дня послужила ему некоторым отдыхом». Еще хуже, «случается часто, что те же самые министры, по приезде домой находят десяток писем от него с требованием немедленных ответов, для чего едва хватает ночи». Количество фактов, которыми обогащен его ум, количество идей, разрабатываемых и создаваемых им, кажется выходит из пределов человеческой способности, и этот ненасытный, и не истощимый, неизменный мозг работает, таким образом, без перерыва в течении тридцати лет.
Благодаря другому свойству той же мозговой структуры он никогда не работает в пустую, что у нас ныне является большою опасностью. Уже три столетия, как мы все более и более утрачиваем полный и прямой взгляд на вещи в силу замкнутого в стенах дома, многосложного и продолжительного воспитания мы изучаем вместо предметов их начертания; вместо земли — карту; вместо животных, которые борются за существование, — их номенклатуру и классификацию и, в лучшем случае мертвые образчики музея; вместо чувствующих и действующих людей — статистику, уложения, историю, литературу, философию, коротко — печатные слова и, что особенно плохо, слова отвлеченные, которые на пространстве веков, более удаляясь от опыта, становятся более отвлеченными, более недоступными ясному пониманию, более ложными, особенно по вопросам человечества и общества. При таких условиях предмет, бесконечно увеличившийся в размерах и сложности вследствие роста государств, умножения должностей, спутанности интересов, ускользает теперь из наших рук; наша неопределенная, неполная, неточная идея плохо определяет предметы или совсем не определяет его; у девяти человек на десять и, быть может, у девяносто девяти на сто, идея не идет дальше слова; другим, если они действительно хотят представить живое общество, нужно, помимо изучения книг, десять, пятнадцать лет для того, чтобы разобраться в фразах, которыми они нагрузили свою память, чтобы перевести их, чтобы оценить и проверить их смысл, чтобы сообщить слову, более или менее неопределенному и пустому, полноту и ясность собственного впечатления. Можно видеть, как понятия об обществе, государстве, правительстве, монархии праве и свободе, словом, самые существенные понятия были, в конце XVIII столетия, урезаны и ложно истолковываемы, как у большинства умов простое словесное умствование соединяло эти понятия в аксиомы и догмы; можно было видеть, какое детище, сколько нежизнеспособных и смешных уродцев, сколько чудовищных и зловредных химер породили эти метафизические мечтания. В уме Бонапарта нет места для подобных химер; они не могут сформироваться, или найти к нему доступ; эти бесплотные призраки политической отвлеченности внушают ему отвращение; то, что называют в это время идеологией, является для него чудищем; он отвертывается от неё не только в силу расчета, но еще более, вследствие потребности и верного чутья; как практик, как глава государства, он постоянно помнит, подобно Екатерине Великой, «что он работает не на бумаге, а на человеческой шкуре, которая щекотлива». Все его идеи имели источник в его собственных наблюдениях и контролировались его же наблюдениями.
Если он и пользовался книгами, то последние ему сообщали единственно свои задачи, разрешения которых он достигал своим собственным опытом. Он читал мало и торопливо; [15] его классическое образование — рудиментарно; в изучении латинского языка он не прошел и четверти курса. В Военной школе, как и в Бриенне, образование, им полученное, было ниже посредственного: еще в Бриенне указывали, что «к языкознанию и изящной словесности у него не было ни малейшего расположения» Наконец беллетристическая и ученая литература, философия кабинета и гостиной, чем были пропитаны его современники, скользнула по его интеллекту, как вода скользит по твердой скале, единственно, математические истины, положительные знания, — география и история проникли и запечатлелись в нем. Все остальное, как у его предшественников, XV столетия, выработано им собственным и непосредственным трудом при содействии дарований, быстроты и верности такта, неутомимого и предусматривающего всякие мелочи внимания, способности отгадывать, многократно подтвержденной и выработанной долгими часами уединения и молчания. Во всех обстоятельствах он учится путем практики, а не теории, подобно механику, выросшему среди машин. «На войне ничего нет, говорил он, чего бы я сам не мог сделать. Если некому делать пороха, я сумею его приготовить, я знаю, как строят лафеты; если нужно отлить пушки, я их отолью; если нужно указать на подробности маневра, я укажу». Таким-то образом он оказывался компетентным во всем с первого шага, генералом артиллерии, главнокомандующим, дипломатом, финансистом, администратором во всех видах. Благодаря обилию знаний он делает указания опытным, старым министрам. «Я более старый администратор, чем они; когда нужно придумать одной моей головой способы, как накормить, поддержать, сдержать, оживить общим духом и общим желанием несколько сот тысяч человека, находящихся вдали от родины, тогда очень быстро усваивают все тайны администрации». В каждой организации людей, которую он устраивает и которою руководил, он с первого взгляда видит все части ее составляющие, каждую на своем месте и в своем действии, производителей силы, агентов передачи, систему зубчатых колес, зависимость движения, быстроты, конечный и полный эффект, чистую производительность. Никогда его взгляд не остается кратким и поверхностным. Он проникает им в темные углы и в сокровенные глубины; благодаря «технической точности его вопросов» в связи с ясностью представления специалиста, идея у него, заимствуя выражение философов, адекватна своему объекту.
Отсюда его склонность к деталям, так как они составляют существо предмета; рука, которая не захватила их или которая их упускает, держит только покров, внешнюю обертку предмета. В этом отношении его любознательность и алчность ненасытна. В каждом министерстве он знает больше министра и в каждой канцелярии столько же, сколько знает писец. На его столе лежат ведомости дислокаций сухопутной и морской армий, он сам составил их план, и они изменяются первого числа каждого месяца. Это излюбленное и ежедневное его чтение. «Я всегда представляю себе расположение армий. У меня мало памяти, чтобы заучить александрийский стих, но я не забываю ни единого слова из моих ведомостей. Сегодня вечером их принесут ко мне, и я не засну пока не прочту их». Лучше чем управления, управляющие передвижением войск военного и морского министерств, лучше самих генеральных штабов он знает «свою позицию» на море и на суше, число, величину и качество своих судов, находящихся в открытом море и в каждом порте, степень развития постройки кораблей в настоящем и будущем, состав и силу экипажей, состав, организацию, армий местопребывание, рекрутский набор, пришлый и ближайший, каждого армейского корпуса, каждого полка.
В такой же степени он был осведомлен в финансах, в дипломатии, во всех отраслях светского и духовного управления. Его топографическая память и его географическое представление областей, местностей, почвы и препятствий доходят до состояния внутреннего видения, которое он вызывает по произволу, и которое, спустя много лет, воскресает в нем таким же ясным, мак и в первый день. Его способность вычислять расстояния, марши, маневры, является таким точным математическим расчетом, что много раз его предрешение, за двести или триста лье расстояния, за два, четыре месяца времени, исполнялось почти в указанный день и в точно определенном месте. Прибавьте к этому еще способность, самую редкую из всех, ибо если его предположение исполняется, то это, потому что он, подобно известным шахматным игрокам, точно рассчитал не только механическую игру, но и характер и талант противника, измерил глубину его способностей, предугадал его возможные ошибки; к расчету на вероятности внешние, он присоединял расчет на вероятности внутренние и показал себя не только идеальным стратегом, но и великим психологом. Действительно, никто не превзошел его в искусстве разбираться в состояниях и движениях единичной души и целой толпы, в побудительных причинах, действующих постоянно или случайно, которые толкают или удерживают человека вообще, и тех или других людей, в частности; он знал рычаги, на которые можно надавить, характер и степень давления, которое надо приложить. Под руководством этой центральной способности работают все прочие, и в искусстве подчинять себе людей, гений его является верховным владыкой.
Для политического руководителя способность эта является самой ценной, так как силы, которыми он действует суть человеческие страсти. Но каким образом, кроме догадки, овладеть страстями скрытыми чувствами и как, кроме предположения, вычислить силы, которые, по-видимому, не поддаются никакому измерению? В этой темной области, где можно ходить только ощупью, Наполеон действует почти наверняка и действует без замедления, вначале на самого себя; и на самом деле, для того чтобы читать в душе другого, нужно предварительно заглянуть в собственную душу. «Я всегда любил анализ, говорил он однажды и, если бы я серьёзно влюбился, я разложил бы мою любовь на составные части. Почему и каким образом — вопросы до такой степени необходимые, что без них трудно обойтись».
Его метод, подобно методу опытных наук, состоит в проверке всякой гипотезы или вывода путем точного изучения, заключенного в рамке определенных условий: так физическая сила констатируется, и точно измеряется колебаниями стрелки, моральная, невидимая сила может быть также констатирована и приблизительно измерена по своим наружным проявлениям, каковыми являются то или иное слово тот или другой звук голоса, жесть. На эти то слова, жесты и выражения голоса он обращает внимание, он судит о скрытых чувствах по их наружному выражению, рисует себе внутреннее состояние по внешнему виду, по игре физиономии, по манере говорить, по тем или другим мимолетным, но красноречивым явлениям, по промерам, так хорошо взятым и в такой степени приуроченным, что они объясняют всю бесконечную нить аналогичных случаев. Этим путем неопределенный и ускользающий от оценки объект оказывается вдруг схваченным, уподобленным, потом измеренным и взвешенным, подобно невидимому газу, который заключают и удерживают в градуированном цилиндре из прозрачного стекла. Итак, в государственном совете, в то время как другие администраторы или законоведы, видят отвлеченность, статьи уложения, прецеденты, он видит живые души таковыми, как они есть, француза, итальянца, германца, крестьянина, рабочего, мещанина, дворянина уцелевшего якобинца, возвратившегося эмигранта, солдата, офицера, чиновника, всюду настоящую и цельную личность, человека, который трудится, производит, бьется, женится, родит детей, радуется, страдает и умирает. Ничего нет более поразительного, как контраст между тусклыми и важными умствованиями, которые преподносит ему мудреный казенный резонер и его собственными словами, схваченными налету, в данный момент, которые вибрируют и кишат примерами и образами. Так по поводу развода, который он в принципе хочет поддержать: «Взгляните на нравы нации: адюльтер не есть исключение. Это очень обыденное явление; это любовная интрига… Нужна узда для женщин, которые грешат против супружеской верности ради побрякушек, стихов, Аполлона, муз и т.д.» Но, если вы допускаете развод, вследствие несовместимости характеров, вы потрясаете основы брака; в момент заключения его он уже ощущается хрупким. «Станут говорить: я буду замужем до тех пор, пока у меня не изменится настроение» Тем более не злоупотребляйте ничтожными поводами; раз брак заключен, трудно его расторгнуть: «Мне кажется, что я женюсь на кузине, которая едет из Индии, а меня женят на авантюристке; я прижил с нею детей, я узнаю, что она мне вовсе не нужна: счастлив ли брак? Захочет ли общественная мораль признать его недействительным? Произошел взаимный обмен душ».
Относительно права детей, даже совершеннолетних, на содержание со стороны родителей; «Разве вы хотите, чтобы отец мог выгнать из своего дома пятнадцатилетнюю дочь! Отец, у которого было бы шестьдесят тысяч франков дохода, мог бы сказать своему сыну: Ты большой и здоровый, ступай, работай? Богатый или состоятельный отец всегда должен дать своим детям место у отцовского котла»: уничтожьте это право на содержание, и вы «заставите детей убивать своих отцов». По вопросу об усыновлении: «вы рассматриваете его не как гражданин, а как законник. Усыновление не есть гражданский контракт, ниже юридический акт. Юридический анализ приводит к самым безобразным заключениям. Можно управлять человеком, только играя ни воображении; без воображения он — грубая скотина. Не за пять су в день, не ради ничтожного отличия люди идут ни смерть; только обращением к человеческой душе электризуют людей. Не нотариус же произведет подобный эффект за дюжину франков. Нужен другой метод. Что такое усыновление? Подражание общества природе. Плоть и кровь человека входит по воле общества в плоть и кровь другого. Это — самый великий акт, который только можно себе представать. Он дает сыновние чувства тому, у кого их не было, и подобным же образом — отцовские. Откуда же должен исходить этот акт? Свыше, подобно грому».
Все его слова уподобляются огненным стрелам, которыми он мечет одну за другой; со времени Вольтера и Галиани никто не бросал так, горстями; их он имеет в своем распоряжении для характеристики обществ, законов, правительства, Франции и французов, они проникают до глубины и освещают подобно словам Монтескьё, внезапным, ярким блеском; он их не фабрикует с трудолюбивым усердием, они сами брызжут из него, это размахи его ума, размахи естественные, непроизвольные, постоянные. Но он, помимо собраний или интимных бесед, не расточает их, что увеличивает их ценность, он подчиняет их своим стремлениям, имеющим всегда практическую цель; обыкновенно он говорит или пишет различным языком; языком, который подходит к его слушателям; он выбрасывает странности, толчки импровизации и воображения, скачки вдохновения и гения. Этим он пользуется, когда имеет в виду внушить о себе великую идею лицам, которых нужно ослепить, например, Пий III или император Александр; в таких случаях тон его речи является ласкающей, проникновенной, любезной фамильярностью; он тогда на сцене, а на сцене он может исполнить всякую роль, трагическую, комическую, с одинаковым подъемом, то бешенным, то вкрадчивым, то добросердечным. С генералами, министрами, директорами он придерживается сжатой, положительной, дедовой, речи; всякий другой язык повредил бы делу; горячность души он выражает здесь краткостью, силой, повелительной резкостью слова. Для своих армий и толпы у него имеются воззвания и бюллетени эффектные, звонкие фразы, где выставляются упрощенные, подтасованные и подделанные по желанию факты; [16] словом хмельное вино, отличное для разогревания энтузиазма, превосходный наркотик для укрепления легковерия; род излюбленной публикой микстуры, которую он дает в нужный момент, и в которой составные части так хорошо размерены, что простонародье, которому это предлагает, пьет с наслаждением и пьянеет. Во всех обстоятельствах его речь, сфабрикованная или самопроизвольная, указывает на великолепное знание масс и отдельных лиц; за исключением двух или трех случаев, в удаленных и неизвестных ему обстоятельствах, его воздействие всегда было правильное, своевременное, направлено на место, наиболее доступное, он двигал хорошо прилаженным рычагом с упорным давлением или быстрым толчком, смотря по тому, что было действительнее. Таким образом из серии коротких, точных, ежедневно исправляемых заметок он начертал для себя подобие психологической таблицы, где были представлены, резюмированы, вычислены почти в цифрах умственные и нравственные состояния, характеры, способности, страсти, дарования, энергия или слабость бесчисленных человеческих существ, на которых, вблизи или издали, он действовал.
Постараемся представить себе ширину и содержание этого ума; пришлось бы дойти до Цезаря, чтобы найти равный; но, по недостатку сведений, о Цезаре имеются лишь общие черты, контур; тогда как о Наполеоне, кроме силуэта, мы имеем детальное изображение. Читая день за днем, отдел за отделом его корреспонденцию, например, в 1806 году, после битвы при Аустерлице, или еще лучше — в 1809 году, после возвращения из Испании до момента заключения мира в Вене, как бы ни был мал недостаток нашей технической подготовки, мы поймем, что его ум по своему объему и полноте выходит из пределов всех известных и даже вероятных пропорций. Существуют три атласа, собранных исключительно для него для постоянного обращения, каждый из них состоит из двадцати объемистых книжек. Первый атлас — военный, представляет громадное собрание топографических карт, таких же подробных, как карты генерального штаба, с планами всех укреплений, с указанием и местным распределением всех сухопутных и морских сил: экипажей, полков, батарей, арсеналов, складов, существующих налицо и могущих мобилизоваться людей, лошадей, повозок, вооружения, снабжения пищей и платьем. Второй — гражданский, включает бесчисленные отделы прихода и ординарного и экстраординарного расхода, внутренние налоги и заграничные контрибуции, производство имений во Франции и за пределами её, состояние кредита, пенсий, общественных работ и т.д., наконец, вею административную статистику, иерархию департаментов и чиновников, сенаторов, депутатов, министров, префектов, епископов, профессоров, и их подчиненных, с указанием местопребывания каждого, его чина и жалованья.
Третий — гигантских размеров жизне- и нравоописательный словарь, где, как в справочном бюро высшей полиции, имеются сведения о каждом известном лице, о каждой местной группе, о каждом профессиональном или социальном классе, также о каждом народе с его особенностями, с кратким указанием его положения, его нужд, его предшествующей жизни, его характера, его предполагаемых наклонностей и его вероятного поведения. Всякая карта или листок имеют свое заключение; все эти частичные заключения, методично собранные, сводятся в общие резюме, и обобщения всех трех атласов комбинируются между собою и дают своему владельцу понятие о величине мощи, находящейся в его распоряжении. Но в 1809 году, как бы объемисты не были три атласа, они целиком запечатлены в голове Наполеона; он знает не только общий вывод и частичные резюме, но и последние подробности; он в них читает бегло и постоянно; он понимает в общей массе и в частностях различные нации, которыми он управляет непосредственно или при помощи других, то есть шестьдесят миллионов человек, различные страны, которыми он покорил или которые объехал, то есть семьдесят тысяч квадратных миль, — вначале Францию, увеличенную Бельгией и Пьемонтом, наконец Испанию, откуда он вернулся и где поставил своего брата Жозефа; Южную Италию, где после Жозефа он поставил Мюрата, Среднюю Италию, где он занимает Рим, Северную Италию, где Евгений делается его ставленником, Далмацию и Истрию, которые он присоединяет к своей Империи; Австрию, которую он наводняет своими войсками во второй раз; Рейнский союз, который он создал и которым управляет, Вестфалию и Голландию, где его братья лишь играют роль его наместников; Пруссию, которую он покорил, изуродовал, которую эксплуатирует и наиболее укрепленные места которой еще удерживает в своих руках; прибавьте к этому последнюю внутреннюю картину, представляющую моря Севера, Атлантику и средиземное море, все эскадры континента в открытом море и в гаванях, от Данцига до Флиссингена и Байонны, ото, Кадикса до Тулона и Гаэты, от Тарента до Венеции, Корфу и Константинополя.
В жизни и нравоописательном атласе, кроме пробела, который он никогда не заполнил, потому что пробел касается его собственной характеристики, имеются кое-какие ложные заключения, именно относительно папы и сознания католиков; равным образом он слишком низко ценит силу национального чувства в Испании и Германии и слишком высоко ставит свой престиж, доверие и преданность, на которые он может рассчитывать, во Франции и в присоединенных странах. Но эти заблуждения есть приду скорее ею воли, чем его разума; временами он их сознает; и если существуют иллюзии, то лишь потому, что он их сам выдумывает; руководствуясь только здравым смыслом, он был бы непогрешим, только страсти его могут смутить ясность его мыслей. Что касается до двух остальных атласов, особенно топографического и военного, они являют собою образец исключительной полноты и точности; действительность, которую они изображают как бы ни была она, разрастаясь и осложняясь, — чудовищна по своим размерам, по своей полноте и точности вполне отвечает ей строчка за строчкой.
Но это множество заметок есть только ничтожная часть умственного богатства, которое зреет в этом беспредельном уме, ибо кроме идей действительности в нем зарождаются, и тучами копошатся мысли о возможном; без этих мыслей нет средства руководить вещами и преобразовывать их, а известно, как он руководил и как преобразовывал. Прежде чем начать действовать, он избирал свой план, и избирал его из ряда многих других планов, после сравнения и предпочтения, таким образом, наготове у него были и другие планы. Позади каждой принятой комбинации скрывалась куча непринятых проектов; за каждым решением, выполненным маневром, подписанным договором, обнародованным декретом, разосланным предписанием были десятки других подобных; я даже скажу, — за каждым почти действием или случайным словом, ибо он вносил расчет во все, что делает, в свои мнимые излияния и даже в свои искренние вспышки гнева, когда он ему отдается, то это предумышленно, с предвидением эффекта, для того чтобы нагнать страху или ослепить; он все использует у другого, а также у самого себя: свою страсть, свои увлечения, свои ошибки, потребность говорить и он эксплуатирует всем для ускорения постройки здания, которое созидает. [17]
Но среди разнообразных талантов, как бы велики они не были, созидательное воображение — самое сильное. Под холодной и строго сухой оболочкой его технических и положительных инструкций чувствовалась напряженная горячность и кипение: «Когда я составляю военный план, говорил он Редереру, я малодушен как никто. Я преувеличиваю все опасности и всевозможные беды. Я нахожусь в чрезмерно тягостном возбуждении. Это, однако, но мешает мне казаться совершенно спокойным в глазах окружающих меня лиц; я похож на женщину, которая разрешается от бремени». Страстно, с порывами, свойственными творцу, он всецело отдается будущему созданию; заранее и всем сердцем он уже живет в воображаемом здании; с этой стороны, мощь, быстрота, плодовитость, игра и полег его мысли кажутся безграничными. То, что он сделал, превосходит всякие ожидания, но замысел его был куда шире, а мечта превосходила замысел. Как бы ни были крупны его практические таланты, поэтическое дарование значительно сильнее, его даже слишком много для государственного мужа: величина дарования доходит до размеров громады, и громада перерождается в безумие. В Италии, после 18 фруктидора, он уже говорил Буррьенну:
«Европа, это — кротовая нора; только на Востоке существовали великие империи и великие революции, там, где живет семьсот миллионов человек». На следующий год, перед Сея-Жан-д’Акром, накануне последнего штурма он говорил: «Если мне удастся, я найду в городе сокровища паши и оружие для трехсот тысяч человек. Я подниму и вооружу всю Сирию… Я иду на Дамаск, на Халеп; по мере движения вперед армия моя растет от наплыва недовольных. Я объявляю народу уничтожение рабства и тиранического правления паши. Во главе вооруженных масс я дохожу до Константинополя; я опрокидываю турецкую империю; я создаю на Востоке новую и великую империю, которая упрочит мое место в потомстве и может быть я вернусь в Париж через Андрианополь или Вену, уничтожив предварительно австрийский дом». Сделавшись консулом, потом императором, он часто возвращается мыслями к той счастливой эпохе, когда, «свободный от уз стеснительной цивилизации», он мог мечтать и вволю строить воздушные замки. «Я создал религию, я видел себя на пути в Азию, сидящим ни слоне, с тюрбаном на голове и с новым аль-кораном, который я составил по своему плану, в руках». Ограниченный пределами Европы, он мечтает с 1804 года восстановить здесь империю Карла Великого. Империя Франции станет родной матерью остальных держав… Я хочу, чтобы каждый европейский король построил в Париже большой дворец для собственного пользования; во время коронования французского императора короли будут жить в них; они украсят своим присутствием и будут славить эту внушительную церемонию». [18] Там будет и папа, он поселится туда одним из первых; весьма необходимо, чтобы он жил в Париже на постоянном месте; где же быть Святому Престолу, как не в новой столице христианства, под державой Наполеона, наследника Великого Карла и светского властелина над духовным первосвятителем? Светскою властью император будет держать духовную и при содействии папы — религиозную совесть. В ноябре 1811 года он говорил, в порыве увлечения аббату де-Прадту: «Через пять лет я буду властелином всего мира, остается только Россия, но я ее раздавлю… Париж расширится до Сен Клу…» Сделать Париж столицей Европы по его собственному признанию, одно из постоянных его мечтаний.
«Иногда, говорил он, я хотел, чтобы Париж сделался городом с двумя, тремя, четырьмя миллионами жителей, чем-то сказочным, колоссальным, невиданным до сих пор, чтобы его общественные здания соответствовали населению… Архимед предлагал поднять мир, если ему дадут точку опоры для рычага; что касается меня, я бы его всюду переделал, если бы мне дали опору для моей энергии, моего упорства, моего бюджета. По крайней мере — он в это верит; как бы высок и плохо укреплен не был последний этаж его здания, он всегда заранее предполагает новый этаж еще более высоким и более неустойчивым. Несколько месяцев до того, как броситься, со всей Европой за спиною, на Россию, он говорил Нарбонну: «Во всяком случае, мой милый, этот длинный путь есть путь в Индию. До Александра так же далеко, как от Москвы до Ганга; это я говорил еще при Сен Жан д’Акре… В настоящее время я должен зайти в тыл Азии со стороны европейской окраины, для того чтобы нам настигнуть Англию… Предположите, что Москва взята. Россия сломлена, царь просит мира, или умер от какого-нибудь дворцового заговора; скажите мне, разве невозможно для французской армии и союзников из Тифлиса достигнуть Ганга, где достаточно взмаха французской шпаги, чтобы заставить рушиться во всей Индии это непрочное нагромождение торгашеского величия. То была бы экспедиция гигантская, я согласен, во вкусе XIX века, но выполнимая. Тем самым, за одно Франция приобрела бы независимость Запада и свободу морей». Когда он говорит это, глаза его блестят странным блеском, и он продолжает, приводя доказательства, взвешивав трудности, средства, шансы; он — охвачен вдохновением, отдается ему. Внезапно господствующее свойство его духа оказалось на воле, развернулось артист, [19] замкнутый в рамки политики, вышел из своего футляра; он создает в сферах идеала и невозможного. Он является тем, кем он есть в действительности — посмертным братом Данте и Микель Анджело; в самом деле, по сильным контурам своих видений, по интенсивности, соотношению и внутренней логике своей мечты, по глубине своих размышлений, по сверхчеловеческой высоте своих мыслей он им подобен, им равен; гений его имеет тот же рост, ту же структуру; он один из трех державных умов итальянского возрождения. Только, два первых оперировали на бумаге или мраморе, он же работал на живом человеке, над чувствующей и страдающей плотью.
Глава II. Эпоха итальянского Возрождения
Характеры эпохи итальянского Возрождения и современные характеры. Интенсивность проявления страстей у Бонапарта. Впечатлительность. Сила его первого движения. Его нетерпеливость, быстрота, потребность говорить. Его темперамент, нервы, ошибки. Постоянное преобладание расчетливой и ясной мысли. Господствующая страсть у Бонапарта. Разные указания на деятельный и всепоглощающий эгоизм. Его воспитание на живых примерах. В Корсике. Во Франции во время революции. В Италии. В Египте. Его представление об обществе и праве. Оно принимает у него выраженную форму после 18 брюмера. Его понятие о человеке. Оно соответствует его характеру. Деспот. Его способ укрощать желания. Степень покорности, которую он требует. Его способ оценивать и пользоваться людьми. Тон его приказаний и его речи. Его поведение в обществе. Его обращение с женщинами. Его презрение к приличиям. Его тон и обращение с коронованными особами. Его политика. Его цель и средства. Каким образом, возмутив государей, он возмущает народы. Конечное суждение Европы по отношению к нему. Внутренний принцип его поведения в обществе. Он подчиняет государство своей личности, вместо подчинения своей личности требованиям государства. Результаты подобного метода. Его создание временное. Оно эфемерно. Оно вредно. Оно стояло многих жизней. Он исказил Францию. Недостаток в построении его европейского здания. Аналогичный недостаток в построении его французского здания.
Если рассмотреть ближе современников Данте и Микель-Анджело, то можно видеть, что они отличаются от нас по характеру еще более, чем по духу. Три сотни лет благочиния, трибуналов и жандармов, общественной дисциплины, мирных нравов и наследственной цивилизации убили в нас силу и порывы врожденных страстей; в Италии, во времена Возрождения они оставались неприкосновенными; у человека тогда были волнения души более живыми и более глубокими, чем в наши дни, желания более пылкими более необузданными, проявления воли более порывистыми и более упорными, чем у нас; какова бы ни была в отдельном индивидууме двигающая пружина, гордость, тщеславие, ревность, ненависть, любовь, алчность, сластолюбие, эта внутренняя пружина натягивалась энергично и свертывалась с необыкновенной силой чего теперь нет. Энергия и сила вновь появились в этом великом представителе XV века, игра нервного аппарата одинакова у него и у его итальянских предков; даже у Малатеста и Борджиа никогда не было головы более впечатлительной и более импульсивной, способной на подобные электрические заряды и разряды, у которых внутренняя буря, сдерживаемая и глухо ворчавшая, проявлялась бы в более неожиданных взрывах и всеразрушающих ударах. Ни одна идея у него не остается умозрительной и чистой; ни одна идея не представляет собою копию действительного или простую картину возможного, каждая есть результат внутреннего толчка, который, произвольно и немедленно, стремится преобразоваться в действие; каждая рвется к своей цели и достигает ее без промедлений, если она не сдерживается и не подавляется насильно. Иногда взрыв до такой степени быстр, что реакция является запоздавшей. Однажды в Египте был обед в присутствии многих французских дам, он усадил подле себя одну хорошенькую особу, мужа, которой только что отправил во Францию; неожиданно он опрокидывает на нее графин с водою, как будто нечаянно и, под предлогом исправить беспорядок в туалете, он уводит ее с собою в свое помещение, остается с нею так долго, очень долго, тогда как гости, сидя за столом подле прерванного обеда, ждут и переглядываются. Другой раз в Париже, в эпоху Конкордата он сказал сенатору Вольней: «Франция хочет религии». Вольней сухо и свободно ему возражает: «Франция хочет Бурбонов». Он бросается на Вольней, дает ему в живот такого тумака ногой, что последний падает без сознания и лежит в постели в течение нескольких дней. Нет человека более раздражительного и вспыльчивого, [20] тем более, что он дает волю своему гневу, ибо, распустив поводья кстати и особенно в присутствие свидетелей, он вселяет страх, вымогает уступки, сдерживает повиновение, и его взрывы, наполовину рассчитанные, наполовину непроизвольные, одинаково оказывают ему услугу и помогают ему в жизни общественной, в жизни частной, в сношениях с иностранцами и своими, в учредительных собраниях, в делах с папой, с кардиналами, послами, Талейраном, Беньо, с первым встречным, когда ему нужно пристращать, заставить «свою публику притаить дыхание». В народе и в армии его считают бесстрастным; но вне битвы, где он надевает на себя бронзовую маску, вне официальных представлений, где он подчиняется необходимым требованиям достоинства, почти всегда у него впечатление смешивается с выражением его, внутреннее состояние изливается во внешних проявлениях, его жест срывается и стремится подобно удару. В Сен-Клу, захваченный Жозефиной на месте галантного приключения, он бросается на злосчастную так, «что она едва успевает скрыться», а вечером, чтобы окончательно доконать ее, он кажется взбешенным, «оскорбляет ее на все способы, ломает вещи, которые попадаются ему под руку». Немного ранее империи Талейран, большой мистификатор, убедил Бертье, что премьер-консул хочет принять титул короля; Бертье стремительно мчится через гостиную, полную народа, добирается с сияющим видом до хозяина и «преподносит ему свой скромный комплимент». При слове король, глаза Бонапарта загораются; он тычет кулак под подбородок Бертье, прижимает его перед собою к стене: «Дурак, говорит он, кто просил вас поступать так, чтобы у меня разлилась желчь? Другой раз не беритесь за подобные поручения».
Таково его первое движение, его инстинктивный жест: броситься прямо на людей и схватить их за горло; на каждый странице, между писанными фразами можно отгадать скачки и метания подобного рода, физиономию и интонации человека, который вскакивает поражает и бьет. Когда он диктует в своем кабинете, «он ходит большими шагами», и, если он оживлен, что бывает почти постоянно, «его речь перемешана с яростными проклятиями и даже ругательствами, которые при писании выбрасываются». Но их выбрасывают не всегда, и те, которые читали в оригинале черновики его писем о церковных делах, встречают их там десятками. Нет более нетерпеливой чувствительности. «Одеваясь, он бросает на землю или в огонь часть своего платья, которое ему не впору… В дни празднеств и парадных костюмов необходимо, чтобы камердинеры условились между собою, как пользоваться моментом, чтобы надеть на него ту или другую вещь… Он рвет или ломает все, что причиняет ему самое легкое неудобство, и иногда бедный камердинер, который причиняет ему это легкое неудовольствие, получает грубое и положительное доказательство его гнева». «Его письмо, когда он пытается писать, представляет собою собрание бессвязных и неразборчивых знаков; [21] половины букв недостает в письме; он перечитывает и не может понять. В конце концов, он почти теряет способность собственноручно писать письма, и его самая подпись представляет собою мазню. Он диктует, но так быстро, что его секретари едва успевают за ним; в первые дни их службы пот с них катится градом, и они не могут записать и половины того, что он говорил. Нужно чтобы Буррьенн, Меневаль и Маре были стенографами; он никогда не повторяет фразу; тем хуже для пера, если оно запаздывает; тем лучше, если ряд восклицаний и ругани дают ему время наверстать потерянное. Слова брызжут и льются широкими потоками, иногда без соблюдения сдержанности и благоразумия, даже тогда, когда излияние бесполезно и недостойно; его душа и его ум переполняются; под влиянием этого внутреннего импульса деловой и государственный человек уступает место импровизатору и горячему полемисту. «Говорить, замечает один хороший наблюдатель, это у него первая потребность, и, конечно, он преимущественно пользуется прерогативами высокого положения, когда его не могут прервать и вмешаться в его речь». Даже в государственном совете он увлекается, забывает о разбираемом вопросе, бросается то вправо, то влево, в сферу отступлений, демонстраций и ругани, настаивает в продолжение двух или трех часов повторяется, решив или убедить, или сломить, и в конце концов спрашивает у присутствующих, не прав ли он; при таких условиях всякий довод не выдерживает борьбы с его доказательствами.
По зрелом размышлении он знает, чего стоит согласие, таким образом, полученное, и указывает на свое кресло, говоря: «Согласитесь, что легко доказывать — на этом кресле».
Тем не менее он пользуется своим преимуществом, отдается своей страсти, и эта страсть скорее его увлекает, а не он ею руководить.
«У меня очень раздражительные нервы, говорил он сам и в таком положении, если бы моя кровь не циркулировала с постоянной правильностью, я рисковал бы сойти с ума». [22] Часто напряжение ряда впечатлений до того велико, что оно разрешается физическими конвульсиями.
Странное явление у подобного боевого и государственного человека; «у него не редко можно было видеть, когда он был взволнован, слезы на глазах». Тот, который видел, как умирают тысячи, и который приказывал убивать миллионы людей, рыдает после Ваграма, после Бауцена, у изголовья умирающего старого товарища. «Я видел, говорит его камердинер, как он, оставив маршала Ланна, плакал за своим завтраком: крупные слезы катились по его щекам и падали в тарелку».
Не только физическое ощущение, вид окровавленного и разбитого тела так сильно и так живо действуют на него, но даже слово, простая мысль являются острием, которое почти также глубоко проникает в него. При виде возбуждения Дандоло, который радуется за свою родину, Венецию, проданную Австрии, он волнуется, и на глазах его показываются слезы. [23] В 1806 году, в момент отправления в армию, когда он прощался с Жозефиной, он растрогался до нервного припадка, и припадок был так силен, что кончился рвотой: «Пришлось его усадить, говорит один очевидец, дать ему апельсинной воды; он проливал слезы; состояние это продолжалось четверть часа». Тот же припадок со стороны нервов и желудка наблюдался в 1808 году, когда он решается на развод; в продолжение всей ночи он волнуется и причитает как женщина; он становится нежным, целует Жозефину, он слабее её: «Бедная Жозефина, я не могу тебя оставить!» Он заключает ее в свои объятия, удерживает ее, он весь под впечатлением настоящего чувства, он заставляет ее раздеться, укладывает ее подле себя и плачет у неё на груди. «Он буквально, говорит Жозефина, омыл своими слезами постель». Очевидно, в подобном организме, как бы ни был могуч регулятор, равновесие рискует нарушиться. Он это знает, ибо он знает все, что его лично касается; он не доверяет своей нервной чувствительности, как не доверяет пугливой лошади; в критические моменты, при Березине, он не хочет знать печальных новостей, которые могли бы ее встревожить, и он твердит настойчивому вестнику: «Зачем же, сударь, хотите вы отнять у меня покой?» Тем не менее, несмотря на предосторожности, два раза, когда ему грозила опасность совершенно исключительного характера, он был захвачен врасплох; он такой ясный и твердый под ядрами, один из самых смелых военных героев и в высшей степени дерзкий политический авантюрист, два раза в разгар парламентарной народной бури он изменил самому себе.
18 брюмера, в законодательном корпусе, при криках «вне закона», он побледнел, задрожал, казалось, совершенно потерял голову; его пришлось увести из залы; полагали даже, что он заболеет. После отречения в Фонтенбло, в виду яростных проклятий, которыми осыпали его в Провансе, в продолжение нескольких дней его нравственное существо, казалось было подавлено; появились животные инстинкты, страх охватил его, он полагал, что ему несдобровать. Он надел на себя мундир австрийского полковника, фуражку прусского комиссара и шинель русского комиссара и все-таки считал себя недостаточно замаскированным. В гостинице Каляды «он вздрагивает и меняется в лице при малейшем шуме; комиссары, которые несколько раз входили в его комнату, постоянно застают его в слезах». «Он их утомляет своим беспокойством и нерешительностью», говорит, что французское правительство хочет его убить на дороге, отказывается от пищи из боязни быть отравленным, думает бежать через окно. В то же время он изливает свою душу и болтает без умолка о своём прошлом, о своем характере, говорит безудержу, неблагопристойно, тривиально, цинично, как человек потерявший точку опоры; его мысли точно сорвались с цепи и кучами толкают друг друга подобно беспорядочной шумной толпе; он становится их господином только в конце путешествия, во Фрежюсе, когда он чувствует себя в полной безопасности, только тогда они снова попадают в старую колею, чтобы катиться там в добром согласии под руководительством главенствующей мысли, которая после кратковременной заминки опять обрела свою энергию и свою власть.
Это, почти постоянное главенство расчетливой и ясной мысля является в нем чем-то исключительно необычайным, воля его еще более громадна, чем его разум; прежде чем стать повелительницей других, она становится госпожою в своем доме. Чтобы ее измерить, недостаточно указать на проявляемое ею обаяние, перечислить миллионы покоренных душ, оценить громадность внешних препятствий, ею побежденных; необходимо еще, и главным образом, представить себе силу и порыв внутренних страстей, которых она держит в узде и которыми правит словно упряжкой лошадей, покрытых пеной и своевольных; она является возничим, который, натянув поводья, держит в постоянном повиновении этих, почти неукротимых коней, согласует их стремительность, координирует скачки, учитывает в свою пользу даже уклонения в сторону, для того чтобы вывести через стремнины катящийся и гремящий экипаж. Если чистые идеи рассудка ежедневно, таким образом, поддерживают свое доминирующее влияние, то это происходит потому, что вся жизненная сила вложена в их питание, корень их лежит глубоко в его сердце и темпераменте, и этот внедрившийся корень, питающий названные идеи крепким соком, есть первобытный инстинкт, более могущественный, чем его разум, чем сама воля, — инстинкт делать себя центром, все относить к себе, другими словами эгоизм.
Это — эгоизм, не инертный, но деятельный и захватывающий, пропорциональный работоспособности его талантов, развитый воспитанием и обстановкой, выросший в силу успехов и всемогущества до чудовищных размеров; которого оскорбляет всякое сопротивление, стесняет всякая независимость и который, в безграничном господстве, не терпит никакой жизни, раз она не является придатком или орудием его собственной.
Зерно этого личного свойства наблюдалось у него в пору юности и даже детства. «Характер властный, повелительный, упрямый», — отмечают в Бриенне. «Крайний эгоист», — прибавляют в Военной школе, — «с чрезмерным самолюбием, всего желающий, любящий одиночеств»», без сомнения потому, что в компании равных он не может быть господином и чувствует себя плохо там, где он не приказывает «Я жил в стороне от моих сверстников, говорил он позднее; я избрал в ограде школы уголок, где я сидел и мечтал в волю. Когда мои товарищи хотели овладеть этим местом, я отстаивал его всеми силами; у меня уже был инстинкт, что моя воля должна господствовать над желаниями других, и то, что мне нравилось, должно было мне принадлежать». Далее, во время первых годов жизни под отцовской крышей на Корсике — он описывает себя как маленького злого звереныша, которого не обуздать и не убедить. «Все мне было нипочем; я никого не боялся; одного я бил, другого царапал, все меня боялись. Мой брат Жозеф был искусан, избит, а я нажаловался на него, прежде чем он пришел в себя». Превосходная тактика, которою пользоваться он никогда не упускает случая: в нем врожден импровизаторский талант лгать в свою пользу; позднее он хвалится этим свойством, делает из него указание и меру «высшей политики», и «с удовольствием вспоминает, как один из его дядей, когда он еще был ребенком, предсказал ему, что он будет управлять миром, потому что он привык вечно лгать». [24]
Обратите внимание на эту сентенцию дяди: она заключает весь опыт человека того времени и той страны; таково указание, которое давала общественная жизнь на Корсике; в силу неизбежной связи мораль применялась там к нравам. Действительно, такова мораль, потому что таковы нравы, во всех странах и во все времена, где надзор за общественным порядком беспомощен где нет права, где общественное дело принадлежит тому, кто может его захватить, где частные раздоры кипят на свободе без подавления и сострадания, где каждый вооружен, где всякое оружие кстати: притворство, обман, мошенничество — в такой же степени, как ружье или кинжал; так было на Корсике в XVIII веке, в Италии в XV.
Отсюда первые впечатления Бонапарта, сходные с впечатлениями Борджиев и Макиавелли; отсюда у него — первые побеги неполного сознания, которые позднее развились в законченные идеи; отсюда — все основы его будущего миросозерцания и представления о человеческом обществе. Наконец, всякий раз, как он оставляет стены французских школ, при каждом его возвращении и пребывании дома те же впечатления удваиваясь, укрепляют его в той же конечной идее. В этой стране, пишут французские комиссары, «народ не признает от влеченной идеи принципа, хотя бы он представлял собою общественный или правовой интерес. Правосудия не существует; в течение двух лет было совершено сто тридцать преступлений… Институт судей отклонил всякий способ наказания; ни наиболее веские доказательства, ниже сама очевидность не убедят судей, принадлежащих к той же партии или даже того же семейства, что и обвиняемый, произнести против него обвинение»; а если обвиняемый из противоположной партии, судьи его тоже оправдывают, дабы избегнуть мщения, «быть может позднего, но всегда неизбежного».
«Дух общественности — неизвестен; нет социальной корпорации, но «масса мелких партий, враждебных одна другой… Нельзя быть корсиканцем без принадлежности к какому-либо семейству, следовательно, — не примыкая к какой-либо партии; тот, который захотел бы обойтись без неё, встретил бы общую ненависть… Вожаки имеют все одну цель: добыть, во чтобы то ни стало, денег, окружить себя преданной креатурой и занять ею все места… Выборы ведутся с оружием и насилием… Торжествующая партия пользуется своим авторитетом и мстит той, которая с нею состязалась, умножает притеснения, обиды… Начальники образуют между собою аристократические лиги и позволяют себе всяческие злоупотребления. Они не назначают и не собирают податей, дабы не растерять выборщиков, а равно из чувства партийности и родственных связей… Пошлины идут в карман родственников и друзей… Жалованье не попадает в должные руки. Поля, по причине отсутствия безопасности, пустуют. Крестьяне ходят на пашню с ружьями. Нельзя ступить шага без охраны; часто приходиться посылать отряд в пять, шесть человек, чтобы доставить письмо с одной почты на другую».
Пополните этот общий доклад состоянием мелких событий, представьте, что эти повседневные факты рассказываются со всеми перипетиями, комментируются заинтересованными соседями с чувством симпатии или гнева: таков курс морали, прослушанной молодым Бонапартом. За столом ребенок слушал разговор взрослых и по слову, сказанному, например, дядей, по выражению физиономии, по жесту удивления или недоумения он догадывался, что стремительный поток жизни не есть мир, но война, и какими происками на нем можно удержаться, какими насилиями возвыситься. Остаток дня, предоставленный самому себе, кормилице Илари, прислуге Саверии; народу, среди которых он толкается, он слышит разговоры портовых моряков, пастухов, и их наивные восклицания, их неподдельный восторг по поводу ловко устроенных засад, удачных ловушек — укрепляют в нем, путем энергичного повторения, уроки, уже полученные дома. Это — наглядные уроки; они запечатлеваются в этом нежном возрасте, особенно когда к тому имеется естественная склонность, и сердце принимает их авансом, потому что воспитание встречает в инстинкте сообщника. Таким образом, сначала революции, когда он снова находится на Корсике, он принимает жизнь, какова она есть: борьба во всеоружии, и на этом отмежеванном поле он действует без сомнений, более свободно, чем кто-либо. Если он и приветствует справедливость и закон, то лишь на словах, и даже с иронией; в глазах его закон есть фраза из уложения, справедливость — книжная фраза, и сила давит право. [25]
На этот характер, уже достаточно определившийся, падает вторичный удар чеканного пресса и вторично происходит тот же оттиск. Французская анархия гравирует в молодом человеке максимы, уже врезанные в ребенке корсиканской анархией; в обществе, которое разлагается, порядок вещей тот же, как и в обществе, которое организуется.
Его проницательные глаза очень рано заметили через толщу блестящих теорий и шумливых фраз истинную подоплеку Революции, т.е. господство разнузданных страстей и победу меньшинства над большинством, что надо выбирать между двумя крайностями: победить или уступить, середины быть не может. После 9 термидора порвалась последняя завеса, и на политической сцене в полной наготе предстают инстинкты распущенности и властвования, алчные побуждения личного свойства; об общественном интересе и народном праве нет ни малейшей заботы; ясно, что правители являют собою шайку, что Франция — их добыча, что они решают охранять эту добычу против всех, всеми средствами, до штыков включительно; при таком порядке гражданства, когда центр сметается взмахом метлы, важно держаться за её ручку. В армиях, особенно в италийской армии, со времени освобождения территории, республиканская вера и патриотическое самоотвержение, уступили место натуральным аппетитам и воинским страстям. С босыми ногами, в рубище, с четырьмя унциями хлеба на сутки, с жалованьем ассигнациями, которых не принимают на рынке, офицеры и солдаты хотят прежде всего выйти из нищенского положения; «несчастные, выстрадав в течение трех лет на вершинах Альп, достигают земли обетованной: они хотят ее использовать». Другое побуждение — гордость, усиленная воображением и успехом; прибавьте к этому потребность развернуться, порыв и избыток молодости, ибо главный состав армии — молодежь, которая смотрит на жизнь с точки зрения галла или француза, как на удовольствие или как на дуэль. Но чувствовать себя храбрым и обнаруживать это, встречать пули шуткой и вызовом, сменять благополучие на битву и битву на бал, веселиться и рисковать до крайних степеней, без задней мысли, без другой цели, как только получить ощущение момента, играть своими способностями, до крайности возбужденными соревнованием и опасностью, все это не составляет преданности делу, это — потеха, а для всех тех, которые не оглушены; потеха заключается в делании карьеры, в приобретении чинов, в грабеже, ради своего обогащения, как делал Массена, в победах, ради своего могущества, как делал Бонапарт. На этой почве между генералом и армией с первых дней состоялось взаимное понимание и после года практики оно достигло совершенства. Из их взаимодействий получается мораль, неопределенная в армии, но ясная в генерале; то, что армия едва замечает, то он видят; если он толкает своих сотрудников, то лишь потому, что они сами стоят на наклонной плоскости. Он только идет во главе их, смотря на мир как на уготованное для всякого приходящего торжественное пиршество, где, для того чтобы быть хорошо накормленным, необходимо иметь загребистые руки, сесть на первое место и другим оставить только объедки.
Это ему кажется до такой степени естественным, что он говорит об этом совершенно открыто перед людьми чужими, перед дипломатом Мьо, перед иностранцем Мельци. «Не думаете ли вы, говорил он им после Леобенского договора, не думаете ли вы, что я вступаю триумфатором в Италию, ради славы адвокатов Директории, разных Карно, да Баррасов? Или предполагаете, что это делается для создания республики? Что за мысль! С нашими нравами, нашими пороками! возможно ли эта? это химера, которой тешатся французы, но которая минует, как и все другие. Им нужна слава, удовлетворение тщеславия; что касается до свободы, то они в ней ничего не смыслят. Взгляните на армию! успехи, только что полученные, уже вернули французскому солдату его обычный характер. Я для них все.
Пусть Директория воображает, что она хочет лишить меня командования, она увидит, кто господин. Нации нужен вождь; вождь — осененный блеском славы, а не правительственных теорий, фраз, идеологических споров, в которых французы ничего не разумеют… Что касается до вашей страны, господин Мельци, то в ней республиканских элементов еще меньше, чем во Франции и с нею можно церемониться еще меньше, чем с какой-либо другою… Наконец, мой план ни в каком случае не заключается в столь быстром окончании дел с Австрией. Мир не в моих интересах. Вы видите, что я собою представляю, что я значу теперь в Италии. Если мир заключен, если я уже не стою больше во главе этой армии, мне придется расстаться с этой властью, с этим высоким положением, в которое я поставлен, я идти на поклон в Люксембург к адвокатам. Я оставил бы Италию, для того чтобы в Франции играть роль подобную той, какую я играю здесь, и момент еще не наступил; груша не созрела».
Ждать чтобы груша созрела, но вместе с тем следить, чтобы в этот промежуток ее не сорвал кто-либо другой — вот истинный мотав его политического постоянства и его якобинских прокламаций: «Партия, защищающая интересы Бурбонов, поднимает голову и я не желаю способствовать её победе. Я хочу как-нибудь ослабить революционную партию, но я хочу добиться этого в своих интересах, а не в интересах старой династии. Но пока приходится действовать за одно с республиканцами, с отбросами нации», со злодеями, которые стремятся освободить Францию от Пятисот, от Древних и даже от Директории, чтобы восстановить Террор. Действительно он оказывает содействие 18 фруктидора и по окончании дела откровенно объясняет, почему он принял в нем участие. «Вы не думайте, что я разделяю идеи тех, кому я оказал поддержку. Я просто не желал возвращения Бурбонов, в особенности, возвращения их при помощи армии Моро и Пишегрю. Во всяком случае роль Монка не по мне, я не желаю играть её и не позволю другим сыграть ее… Что касается меня, мой дорогой Мьо, я должен сознаться, что разучился повиноваться; я вкусил сладость власти и теперь не в силах отказаться от неё. Я твердо решил, что, если мне не удастся стать повелителем Франция, я покину ее». Для него нет середины между этими двумя альтернативами. Возвратившись в Париж, он начинает мечтать о том, чтобы «свергнуть Директорию, распустить Советы и стать диктатором»; но убедившись, что шансы на успех слишком слабы, «он откладывает свой план» и принимает второе решение. «Отправляясь в Египет, он руководствовался именно этим мотивом». Что из того, если при настоящем положении Франции и Европы военные предприятия идут в разрез с общественными интересами, если Франция будет лишена своей лучшей армии и обречет большую часть своего флота на верную гибель, все это не важно, лишь бы только в этой грандиозной и бесполезной авантюре Бонапарт мог сыграть соответствующую роль, лишь бы он нашел широкое поле деятельности и одержал громкие победы, которые как трубный глас прозвучали бы по ту сторону морей и восстановили его, престиж: по его мнению флот, армия, Франция, человечество существуют лишь для него и созданы исключительно к его услугам. — Если для утверждения его в этом убеждении нужно еще одно доказательство, Египет его даст; там неограниченный властелин, вне всякого контроля, в борьбе с низшей расой, он действует как султан и привыкает быть им. Тут он окончательно утвердился в решении не стесняться впредь с человечеством. «Я совершенно разочаровался в Руссо, говорит он впоследствии, — с тех пор как побывал на востоке: дикарь та же собака»; и цивилизованный человек, если с него снять налет культуры, становится тем же дикарем, когда ум грубеет, то ярко выступают наружу первобытные инстинкты. Как один, так и другой нуждаются в хозяине волшебнике, который бы порабощал их воображение, держал их в повиновении, не позволял бы им без должного повода кусаться, сажал их на цепь, заботился о них и водил их на охоту: повиновение их удел; они не заслуживают, ничего лучшего и не имеют права ни на что иное.
Став консулом, а затем императором, он широко применял на практике свою теорию и под его управлением опыт ежедневно подкреплял теорию новыми доказательствами. По его мановению все французы распростерлись перед ним, ниц с полной покорностью и застыли так, словно это было их естественным состоянием; все маленькие люди — крестьяне и солдаты повиновались ему с животною преданностью, а все значительные люди — сановники и чиновники с византийской раболепностью.
Республиканцы не оказали ему ни малейшего сопротивления, даже напротив, среди них он нашел лучшие орудия управления, сенаторов, депутатов, государственных советников, судей, администраторов всех, степеней. Он сразу сквозь их проповеди о свободе и равенстве разглядел их властные инстинкты, их потребность повелевать, первенствовать хотя бы в качестве подчиненных, а вдобавок у большинства из них жажду богатства и наслаждений. Между уполномоченным Комитета Общественного спасения и министром, префектом или субпрефектом империи разница не велика: это тот же человек, в разных одеждах, сперва в карманьоле, а затем в расшитом мундире. Если какой-либо пуританин, бедный и суровый, как например, Камбон или Будо, отказывается напялить на себя официальный мундир, если два или три якобинских генерала, как Лекурб ила Дельма ворчат при виде коронационных торжеств, Наполеон хорошо зная склад их ума, может третировать их как ограниченных невежд и слепых фанатиков своей идеи.
Что же касается интеллигентных либералов, появившихся с 1789 года, он, одним словом, ставит их на свое место: это «идеологи»; другими словами, их воображаемое просвещение, в сущности, является лишь салонными предрассудками и кабинетными бреднями. «Лафайет политический дурак, вечная жертва людей и обстоятельств».
Если в поведении Лафайета или кого-либо другого проскальзывает какая-нибудь неудобная черточка, как например: неоспоримое бескорыстие, неусыпная забота об общественном благе, уважение к другим, чуткая совесть, лояльность, добрые намерения, словом, благородные и чистые чувства, Наполеон не признает этого опровержения своей теории; в разговоре с такими людьми он открыто отрицает, их нравственное благородство, — Генерал, Дюма, резко обратился он к Матье Дюма, — вы принадлежала к числу идиотов, веривших в свободу? — Да, государь, принадлежал и до сих пор, принадлежу. — И вы также, как и другие из честолюбия служили Революции? — Нет, государь, ибо в данный момент я очутился на том же месте, что я в 1790 году. — Вы не отдаете себе отчета в ваших побуждениях; я не поверю, чтобы вы так резко отличались от остальных, тут всегда скрывается личный расист. Да вот, возьмите хотя бы Массену, на его долю выпало достаточно славы и почестей, но он недоволен, он хочет быть принцем, как Мюрат и Бернадот, он охотно согласится завтра же быть убитым лишь бы только стать принцем; вот вам истинно французская подвижность».
Таким образом установилась его система; заслуживающие доверия свидетели, имевшие возможность часто встречаться с ним, подтверждают, что он составил себе на этот счет строго определенную теорию, в непогрешимости которой он глубоко был убежден. «Его мнение о людях, писал Меттерних, заключалось в идее, которая к несчастью для него получила в его мыслях значение аксиомы; он был убежден, что все люди, призванные на арену общественной деятельности или же вообще принимающие непосредственное участье в общественной жизни, руководствуются исключительно личными расчетами. По его мнению, человеком легче всего управлять, влияя на его эгоистические страсти, на его трусливость, порочность, чувственность, честолюбие и стремление к соревнованию; вот пружины, посредством которых легче всего руководить им, когда он хладнокровен и рассуждает. При том очень легко довести его до безумия, потому что он обладает пылким воображением, доверчив и склонен к увлечению: постарайтесь возбудить его гордость и тщеславие, помогите ему составить преувеличенное и ложное мнение о самом себе и о других, и он кинется очертя голову туда, куда вы пожелаете направить его.
Ни одна из этих побудительных причин не заслуживает особенного уважения и создания такого рода представляют из себя естественный материал для неограниченной власти, это куча глины, ожидающая руки горшечника, чтобы получить определенную форму. Если же в этой куче попадаются твердые частицы, то горшечнику ничего не остается как растереть их в порошок, иногда ему для этого достаточно хорошо вымесить всю массу.
Таковы понятия Наполеона, в которых он окончательно утвердился и проникался ими все более и более, не взирая на сильное и явное противоречие реальных фактов; ничто не в силах было изменить их, ни упорная энергия англичан, ни неизменная кротость папы, ни открытое восстание Испании, ни глухое брожение в Германии, ни сопротивление католиков, ни постепенное отпадение Франции, потому что его мировоззрение вытекало из сущности его характера: он представлял себе человека таким, каким ему выгодно было его видеть.
Наконец мы очутились лицом к лицу с его основной страстью, перед пропастью, которую вырыли в нем инстинкт, воспитание, рассуждения и теория и в которой погибло великолепное зданье его карьеры: я подразумеваю его честолюбие. Оно являлось первым двигателем его души и составляло основной элемент его воли, до того тесно сливаясь со всем его существом, что он уж не отличал его от себя и порою переставал замечать его существование. «Что касается меня — говорил он Редереру — то я вовсе не честолюбив»; а затем со свойственной ему ясностью мысли поправлялся: «или, если во мне и есть доля честолюбия, то оно врожденное и до того естественно вытекает из сущности моего характера, до того тесно связано с моим существом, что является как бы кровью, текущей в моих жилах, либо воздухом которым я дышу». — Еще глубже он сравнивает свою страсть с этим непроизвольным, могучим и диким чувством, которое заставляет трепетать душу от её рвущейся ввысь верхушки до глубины её органических корней, с этим всесильным трепетом, охватывающим весь организм единовременно и тело, и душу, — этим жгучим и страшным порывом, которому имя любовь. «У меня одна лишь страсть, одна любовница — Франция; я сплю с нею, она никогда мне не изменяет, она отдает мне свою кровь и свои сокровища: если мне нужно 500 тысяч человек, она мне их дает». — Никто не должен становиться между ним и Францией и пусть Иосиф не заявляет по случаю коронаций претензий на второе место в Империи, пусть не мечтает заместить его в будущем, пусть он не предъявляет своих прав брата. «Это ранило бы меня в самое чувствительное место». Он это сделал: «теперь ничто не в силах изгладить это из моей памяти. Это все равно, как если бы он сказал любовнику, что он наблюдает за его возлюбленной, или же, что он надеется добиться обладания ею. Моя любовница — власть; я слишком дорогой ценой купил ее, чтобы позволить похитить ее у меня, или же допустить, чтобы кто-либо с вожделением поглядывал на нее»: столь же жадное, как и ревнивое честолюбие, приходящее в ярость от одной мысли о сопернике, тяготится мыслью о поставленных ему границах; как ни велика приобретенная власть оно жаждет еще большей и от самой обильной трапезы отходит ненасыщенное. На другой день после коронации он говорил Декрэ: «Я слишком поздно родился, теперь трудно совершить что-либо великое; конечно, я сделал блестящую карьеру, я этого не отрицаю, я пошел по верному пути. Но какая разница с античными временами. Возьмите, например, Александра: покорив Азию, он объявил себя сыном Юпитера, а весь Восток этому поверил, за исключением Олимпии, которая, понятно, на этот счет имела свое особое мнение, Аристотеля, да нескольких афинских педантов. Ну, а вздумай я объявить себя сыном Предвечного Отца, любая торговка посмеется мне в лицо при встрече. Народы теперь слишком просвещены; нет больше возможности свершать великие дела». — Но, однако, даже в этой священной области, которая в течении двадцати веков оставалась неприступной, он постарался захватить все что было возможно, посредством уловки, наложив свою руку сперва на церковь, а затем на папу; словом, тут, как и везде он взял все, что можно было взять. — По его мнению это вполне естественно: это его право, потому что лишь он один на это способен. «Мои итальянские народы должны знать, кто я, чтобы не забывать, что в одном моем мизинце больше ума, чем во всех их головах вместе взятых». В сравнении с ним они дети, «низшие существа», точно также французы и остальное человечество: — один, дипломат часто встречавшийся с ним в течение продолжительного времени и имевший возможность видеть его в различной обстановке и при различных обстоятельствах, так определяет его характер: «он считал себя исключительным существом, созданным для того, чтобы управлять миром и по своему усмотрению руководить всеми умами».
Вот почему все, кто приближался к нему, должны были отказаться от собственной воли и превратиться в простое оружие управления. «Этот ужасный человек — говаривал часто Декрэ — поработил всех нас, он крепко держит в своей руке все наши стремления, а эта рука попеременно бывает то бархатной, то стальной и никогда нельзя заранее знать какою она будет в данный день, так же как невозможно было ускользнуть от неё — она никогда не выпускала того, что ей удавалось захватить».
Всякий намек на независимость даже случайную и временную — оскорбляет его, всякое умственное и нравственное совершенство — раздражает, и он пытается избавиться от них, наконец доходит до того, что окружает себя исключительно покоренными и рабскими душами; его приближенные все или фанатики или простые машины, вроде благоговейно преклоняющегося пред ним Маро или на все готового Савари. Он сразу же низвел своих министров до положения простых чиновников, ибо он не только повелевал, но и самолично управлял, во всяком деле внимательно изучая не только сущность его, но и все подробности, следовательно для замещения высших должностей ему нужны были деятельные писаря, немые исполнители, послушные и обладающие специальными знаниями манекены, но отнюдь не свободные и искренние советники. «Я не смог бы вести с ними дела, если бы они не отличались посредственностью ума или характера». Что же касается его генералов, то он сам сознается, «что он любит наделять славой лишь тех, кто не умеет пользоваться ею». Во всяком случае «он хочет быть единственным властелином славы, чтобы по своему усмотрению наделять ею или лишать её», сообразуясь при этом со своим личным интересом, если бы кто-либо из военных приобрел слишком громкую известность, он стал бы опасен, поэтому надо так поставить дело, чтобы подчиненный не пытался сделаться менее зависимым. Об этом уж заботятся бюллетени, применяя умышленные замалчивания, извращения и другие уловки: «ему случалось умалчивать о некоторых победах или превращать в успех какой-либо промах какого-нибудь генерала. Бывало, что этот генерал вдруг неожиданно узнавал из бюллетеня о действии, которого он никогда не совершал или же о речи, которой он никогда не произносил». Если он пытался опровергнуть, его заставляли замолчать, но зато в вознаграждение позволяли ему грабить, налагать контрибуции и обогащаться. Став герцогом или владетельным князем с полумиллионом или миллионом дохода с земель, он, однако, не становился от этого менее зависимым, ибо творец принимал должные предосторожности по отношению своих творений. «Вот люди, говорил он, которых я сделал независимыми; но я всегда сумею снова подчинить их себе и не допустить их сделаться неблагодарными». И на самом деле он их щедро наградил, но наделял разрозненными владениями в покорённых странах, чем тесно связал их судьбу со своею; кроме того, чтобы лишить их материальной независимости, он нарочно вводил их и всех значительных сановников в расходы и пользуясь их денежными затруднениями держал их в ежовых рукавицах. «Большинство маршалов были кругом в долгу и теснимые кредиторами — то и дело обращались к нему за помощью, которую он часто оказывал тому, либо другому, руководствуясь при этом собственной фантазией или расчетом».
Таким образом, сверх той неограниченной власти, которой он пользовался, благодаря своему могуществу и своей гениальности, ему хотелось иметь еще непосредственное, добавочное неотразимое влияние на каждого в отдельности. Благодаря этому «он тщательно развивает в людях низменные страсти… он с удовольствием подмечает слабые стороны, чтобы извлекать из них пользу». Так пристрастие к деньгам Совари, придворные интриги Маре, тщеславие и чувственность Камбасереса, беззаботный цинизм и «изнеженная порочность» Талейрана, «сухость характера» Дюрока, якобинский порок Фуше, «глупость» Бертье — ничто не ускользает от его внимания, все это доставляет ему удовольствие и он извлекает из этого пользу: «Там где он не находит пороков, он поощряет слабость и за неимением лучшего, он возбуждал страх, чтобы во чтобы то ни стало всегда и везде чувствовать свое превосходство… Он страшится чувства привязанности и старается изолировать своих приближенных друг от друга… Даря свою благосклонность, он старается пробудить в душе беспокойство; он полагает, что нет вернее средства подчинить себе людей, как скомпрометировать их, а порою даже опозорить их имя… Это не важно, что Коленкур скомпроментировал себя, — говорил он через несколько дней после убийства герцога Ангиенского — он теперь лучше прежнего станет служить мне».
Но уж раз какое-либо существо попадалось ему в руки, оно должно было отказаться от мысли освободиться от его власти или же отвоевать от него хотя бы небольшую долю независимости: оно всецело и безраздельно принадлежало ему. — Недостаточно было добросовестно и успешно исполнять свои обязанности и беспрекословно следовать его предначертаниям, он хотел обладать не только чиновником, но и человеком. «Я не отрицаю всего этого — говаривал он в ответ на похвалы, расточаемые кому-либо — но все это не то, что мне нужно». Он требовал преданности, а под преданностью он подразумевал готовность отдать ему всецело и безраздельно «свою личность, свои чувства и помыслы».
«По его мнению, пишет один свидетель, мы должны отказаться от всех наших старых привычек, даже самых незначительных, чтобы жить одной мыслью: соблюдать его интересы и исполнять его желания». Кроме того, все его приближенные должны заглушить в себе способность критически относиться к наблюдаемым явлениям. «Чего он больше всего боится, так это чтобы рядом ли с ним или же вдали от него не зародилось и не сохранялось уменье анализировать. — «Его мысль — мраморная форма, в которую должны быть втиснуты все умы без исключения. Больше всего он боится, чтобы два ума не выскользнули из неё одновременно и по одному направлению; их согласие даже бездеятельное, их взаимное понимание даже ничем не выраженное, их перешептывание почти немое являются в его глазах партией, лигой, а если они чиновники, то заговором».
После своего возвращения из Испании он в порыве дикой ярости, с страшными угрозами заявил; «что те, кого он сделал своими сановниками и министрами не вольны больше ни в своих мыслях, ни в словах, которые должны быть лишь эхом его мыслей и слов и что они становятся на путь измены, как только начинают сомневаться, а когда они доходят до несогласия с ним, то это является уж полной изменой с их стороны.
Если же они пытаются защитить от его беспрерывных захватов свою совесть, католическую религию либо честь, он удивляется и раздражается. Гондскому епископу, который с почтительной преданностью стал извиняться перед ним, что совесть не позволяет ему принести вторично присягу, он грубо заметил, повернувшись к нему спиною; «ну так стало бы у вас глупая совесть, сударь!» — Директор библиотеки Порталис, узнав от своего двоюродного брата аббата д’Астроса, что у него имеется папская грамота не злоупотребил его доверием; он ограничился тем, что посоветовал своему кузену держать в тайне эту грамоту и предупредил, что если тот станет распространять папское послание, он примет меры к изъятию его из обращения; сверх того из предосторожности он предупредил префекта полиции. Но он не донес непосредственно на своего кузена; он не арестовал человека и не конфисковал бумаги. За это император в присутствии всего Государственного Совета сделал ему строгий выговор, «пронизывая его своим пытливым взором, который казалось сверлил мозг», он заявил ему, что он совершил самое «низкое предательство», он с пол часа продержал его под градом упреков и оскорблений и прогнал его с глаз, как не прогоняют проворовавшегося лакея. Всякий чиновник как при исполнении своих непосредственных обязанностей, так и в частной жизни должен быть готов оказывать ему всевозможные услуга и всегда исполнять все его поручения какого бы рода они ни были. Если его удерживает излишняя щепетильность, если он ссылается на частные обязательства, если он опасается поступить вопреки порядочности, либо общепринятой морали, то он навлекает на себя неудовольствие или же теряет благосклонность повелителя: такой удел выпал на долю де Ремюза, который не пожелал стать его шпионом, его доносчиком, его соглядатаем в Сен-Жерменском предместье и отказался ехать в Вену с целью выпытать у госпожи Андрэ адрес её мужа, чтобы затем его отдать на расстрел; Савари, взяв на себя роль посредника в этом деле, без устали уговаривал его и твердил ему: «Вы губите свою карьеру, поверьте, я отказываюсь вас понимать».
Однако тот же Савари, министр полиции, исполнитель самых ответственных поручений, главный руководитель убийства герцога Ангиенского и покушения в Байоне, фабрикант фальшивых ассигнаций австрийского банка для кампании 1809 года, и ассигнаций русского банка для кампании 1812 года, наконец устал повиноваться; на него возлагали слишком грязные поручения и как ни покладиста была его совесть, однако, в глубине её нашлось чувствительное местечко и дошло до того, что он стал испытывать укоры совести. С величайшим отвращением принялся он в феврале 1814 года за приготовление небольшой адской машины с часовым механизмом, предназначавшейся для взрыва возвращающихся во Францию Бурбонов: «Ах, говорил он, потирая рукою свой лоб, — надо сознаться, что подчас очень трудно служить императору».
Он так много требует от человеческого существа, потому, что в игре, которую он затеял, ему необходимо все получить: в том положении, какое он себе создал, не может быть речи ни о каких послаблениях: «Может ли быть чувствительным, государственный человек? — говорил он, — разве это не совершению исключительное существо, всегда одинокое, с одной стороны, и постоянно находящееся в общении с людьми с другой?» В этом поединке без отдыха и пощады, люди интересуют его лишь постольку, поскольку он может извлекать из них пользу; вся их ценность заключается для него в той выгоде, какую он от них получает, все его внимание устремлено на то, чтобы отыскать и извлечь из них до последней капли все их способности и дарования, которые могут быть ему полезны. «Я не позволяю увлекать себя бесполезным чувствам — говорил он однажды, — а Бертье до того безличен, что я не знаю, за что я стал бы любить его. А, однако, когда ничто меня не отвлекает, я испытываю известного рода влечение к нему». И ничего больше: по его мнению, такое равнодушие обязательно для главы государства; «он разглядывает политику через свою подзорную трубку, заботясь о том, чтобы её стекла ничего не увеличивали и ничего не уменьшали» вследствие этого если не считать нервных припадков чувствительности, «он относился к людям, как начальник мастерской к своим рабочим», или вернее, к орудиям производства: раз орудие стало негодным к употреблению, то все равно станет ли оно покрываться плесенью где-либо в углу полки или же будет сброшено в кучу ломаного железа. Однажды министр исповеданий, Порталис, вошел к нему с расстроенным лицом и слезами на глазах. «Что с вами, Порталис, спросил Наполеон, вы больны?» «Нет, государь, но я глубоко несчастен, турский архиепископ, бедный Буасжелен, мой товарищ, мой друг детства…». «Ну, что такое там с ним случилось?» «Увы, государь он умер». «Для меня это безразлично, он не нужен мне больше». Неограниченный властелин, эксплуатирующий людей и предметы, тела и души, чтобы ими пользоваться по своему усмотрению, он неограниченно пользуется своей властью, и через несколько лет доходит до того, что заявляет также, безапелляционно, но еще более деспотически, чем Людовик XIV, «моя армия, мой флот, мои кардиналы, мой сенат, мои народы, моя империя». Корпусу армии, отправляющемуся в атаку, он сказал: «Солдаты, мне нужна ваша жизнь и вы обязаны отдать мне ее». А генералу Дорсенну и гвардейским гренадерам заявил: «Говорят, что вы ропщете, что вы хотите вернуться в Париж к вашим любовницам; но не самообольщайтесь, я продержу вас под ружьем до восьмидесяти лет, вы родились на бивуаке, тут вы и умрете».
А как он обращается со своими братьями и родственниками, ставшими королями, как туго он натягивает поводья, как подстегивает их хлыстом и шпорами, чтобы они быстрее мчались и прыгали через овраги, лучше всего видно из его переписки: малейшее поползновение проявить личную инициативу, хотя бы оправдываемое нетерпящей отлагательства крайностью, или же очевидным добрым намерением, обуздывается как уклонение в сторону с такою беспощадною жестокостью, от которой сгибается хребет и ломаются колени виновного.
Вежливому и такому преданному и покорному принцу Евгению он написал: «Если вы спрашиваете у Его Величества разрешения переменить потолок или же осведомляетесь об его мнении на этот счет, вы должны терпеливо ожидать ответа; и если бы даже горел Милан, вы должны спросить у него разрешение на тушение пожара и не принимать самостоятельно никаких мер, пока Его Величество недоволен вами, очень недоволен; вы никогда не должны делать того, что он предпочитает сам сделать, он этого не хочет и никогда не простит вам сопротивление его воле».
Можете себе теперь представить какой тон принимал он по отношению своих подчиненных, по поводу французских батальонов, которым был воспрещен свободный вход на голландские площади, он сказал: «скажите нидерландскому королю, что, если его министры действовали по собственной инициативе, я арестую их и велю отрубить им всем головы». Сегюру, члену академического комитета, одобрившего речи Шатобриана, он заявил: «Вы и Фонтанес, как член государственного совета заслуживаете того, чтобы я вас отправил в Бенсон… Скажите второму отделению института, что я не хочу, чтобы на его собраниях говорили о политике… Если оно меня ослушается, то я закрою институт, словно низкопробный клуб».
Даже когда он не сердится и не ворчит, когда он втягивает в себя когти, они все же чувствуются. Так он сказал Беньо, которого он только что с полным сознанием своей несправедливости, публично осыпал грубыми, незаслуженными оскорблениями: «где же ваша голова, большой дурак?» Тогда Беньо, высокий как тамбур-мажор, наклоняется пониже и маленький человек, приподняв руку, треплет за ухо большего. Это «знак величайшей упоительной милости, говорит Беньо, доказательство, что владыка смягчился». Еще того лучше, повелитель удостаивает Беньо выговора за его личные вкусы, стремления, за его желание вернуться в Париж: «Чего мне хочется? Стать его министром в Париже? Судя потому, что он мог заключить обо мне при других обстоятельствах, я не выдержу долго и погибну от забот к концу первого же месяца. Он уже убил Порталиса, Кретера и даже Трейлара, жизнь которого, однако, и прежде не была сладка: он не мог уже отправлять своих естественных нужд точно также как и другие. Со мною случится тоже, если еще не похуже того…». «Оставайтесь здесь… А когда вы состаритесь или вернее, когда мы все состаримся, я вас отправлю в сенат, где вы получите возможность болтать в свое удовольствие». Несомненно, что по мере приближения к его особе, жизнь становится все менее приятной. «Несмотря на то, что ему всегда прекрасно прислуживали и моментально исполняли все его приказания, он все же нашел нужным ввести в внутреннюю интимную жизнь два; известную долю террора».
Какую бы важную услугу не оказали ему, он никогда не благодарит, не похвалит, один единственный раз он выразил одобрение своему министру иностранных дел де-Шампаньи, за то, что он в одну ночь заключил на весьма выгодных условиях Венский трактат. Тут от неожиданности император впервые выразил во всеуслышание свои чувства, «тогда как обыкновенно он выражал одобрение посредством молчания». Когда министр двора, Ремюза, дешево, хорошо, блестяще и успешно «устраивал ему один из тех великолепных праздников, на которых собирались все искусства, чтобы доставить ему наслаждение», госпожа Ремюза никогда не спрашивала мужа, доволен ли император, но осведомлялась лишь, очень ли он или не очень ворчал. «Его основной принцип, который он применял везде как в важных делах, так и в мелочах, заключался в том, что люди добросовестно выполняют свое дело только тогда, когда опасаются ответственности за промахи.
Что бы машина исправно действовала надо, чтобы машинист почаще чистил ее и починял, и Наполеон неизменно следует этому правилу, в особенности, после продолжительного отсутствия. Перед его возвращением из Тильзита «все с мучительным беспокойством разбирали и анализировали свои поступки, стараясь предугадать, что собственно в их поведении может вызвать неудовольствие повелителя». Супруга, семья, первые в государстве сановники — все в большей или меньшей степени испытывали этот тайный трепет, а императрица, которая его знала лучше, чем кто бы то ни было, наивно заявляла: «Император так счастлив, что вероятно сильно будет всех распекать». Действительно едва лишь вернувшись, он задал всем хорошую встряску: «а затем чувствуя удовлетворение, что удалось всех напугать, словно сразу все забыл и жизнь вошла в свою колею». Отчасти руководствуясь расчетом, а отчасти, следуя внутреннему влечению, он всегда и везде сохранял, царственную осанку. В следствии этого «его двор был нем и холоден и носил на себе печать скорее тоски и скуки, чем гордого достоинства; на всех лицах лежало выражение затаенного беспокойства, везде царило принужденное и тусклое молчание». Фонтенбло невзирая на «все свое великолепие и развлечения» никому не давало ни удовольствия, ни истинной радости, даже самому императору. «Я вас от души сожалею, говорил Талейран Ремюза, — вам приходится развлекать неразвлекаемого». В театре он погружается в думы, либо зевает: аплодировать воспрещается, «глядя на целый ряд трагедий, двор скучает, молодые женщины засыпают на представлениях; все расходятся из театра скучные и недовольные».
То же стеснение царит и в салонах. Он не умеет или думается просто не хочет поставить себя так, чтобы люди в его присутствии чувствовали себя свободно, он опасается малейшего проявления фамильярности и старается внушить всем боязнь произнести при свидетелях какое-либо неосторожное слово. Во время контраданса он прогуливается среди дам, обращаясь к ним с незначительными или колкими замечаниями; если он разговаривает с ними, то всегда свысока и враждебно; «в глубине души он питает» к ним недоверие и недоброжелательство это происходит оттого, что «он считает приобретенное ими влияние в обществе возмутительной узурпацией». «С его языка никогда не срывалось любезное или, по крайней мере, вежливое слово по адресу женщины, хотя порою в выражении его лица и в звуке голоса проскальзывало желание произнести его… Он говорил с ними лишь о нарядах, в которых он знал толк и потому был строгим и требовательным судьей, и порою делает на этот счет весьма грубые замечания, кроме того, он любил спрашивать их о числе их детей и в очень резких выражениях осведомлялся сами ли они выкормили их всех, наконец он еще интересовался их светскими отношениями». Вот почему «каждая из них испытывала величайшее удовольствие, когда он оставлял ее в покое».
Подчас ему доставляло большое наслаждение унижать и дразнить их; он тогда начинал злословить и издевался над ними в глаза, принимая тон полковника но отношению маркитанток: «Да, сударыни, вы даете обильную пищу языкам обитателей Сен-Жерменского предместья; они, например, говорят, что вы madame А… находитесь в связи с господином Б…, а вы, madame С… с Д…» Если ему случалось при посредстве полиции узнать про какую-нибудь любовную интригу, «он обязательно делился с обманутым мужем этими сведениями». Даже когда дело касалось его личных капризов, он был столь же нескромен: обыкновенно после разрыва, он сообщал факт и называл имя: даже больше того, он сознавался во всем Жозефине, посвящал ее в самые интимные подробности и не допускал никаких протестов с её стороны: «Я имею право на все ваши жалобы ответить одним словом: это — я!»
Действительно это слово играет в его жизни первенствующую роль, и чтобы пояснить его он добавляет: Я стою в стороне от всего Мира, вне правил общепринятой морали», я не признаю никаких стеснений, никаких обязательств, никакого кодекса, даже обыденного кодекса внешней гражданственности, который смягчая или скрывая первобытную грубость, дает возможно, и людям встречаться без резких столкновений». Он не понимает такой морали и отрицает ее. «Я ненавижу, говорит он, это бессмысленное, все нивелирующее слово — приличия, которое вы все, при всяком удобном случае выдвигаете вперед, это изобретение глупцов придуманное ими с целью хотя бы отчасти приблизиться к умным людям, это род общественного кляпа, который стесняет сильных и полезен лишь посредственности… Ах, хороший, тонкий вкус! Вот еще одно из классических понятий, которое я не понимаю и не признаю». «Он ваш личный враг, сказал ему однажды Талейран, — если бы вы могли уничтожить его пушечными выстрелами, он надолго исчез бы с лица земли». Это объясняется тем, что хороший вкус является венцом цивилизации, самым существенным покровом человеческой наготы, неотъемлемой частью человеческого существа, с которой оно труднее всего расстается, но для Наполеона и эта легкая ткань является путами; он инстинктивно отбрасывает ее, потому что она стесняет его инстинктивный и бесшабашный размах, его повелительные и дикие порывы победителя, всецело поработившего побежденного.
Каким невыразимым стеснением окружает он всех, каким угнетающим бременем тяготеет его произвол над самыми мягкими характерами и над наиболее испытанною преданностью, с каким бессердечием он попирает и сокрушает чужую волю, до какой степени он стесняет и сдавливает дыханье человеческого существа, он сам понимает лучше, чем кто бы то ни было другой. Он как-то выразился: «Самый счастливый человек тот, который сумел спрятаться от меня в самом глухом уголке провинции». А однажды он спросил у Сегюра, как он думает, что почувствуют все после его смерти и когда тот стал распространятся об единодушных сожалениях, то он резко оборвал его, сказав: «вовсе нет», а затем с многозначительным глубоким вздохом, которым он хотел выразить всеобщее облегчение, император добавил: «Все скажут: уф».
Нет такого даже неограниченного властелина, который бы постоянно, с утра до вечера сохранял внешность деспота; обыкновенно, в особенности, во Франции день царственной особы разделяется на две части, первую половину дня глава государства посвящает делам, а вторую светским удовольствиям и не переставая быть повелителем, превращается в хозяина дома: ибо он принимает гостей, и чтобы эти гости не превратились в автоматов, он заботится о том, чтобы они себя хорошо чувствовали. Так поступал Людовик XIV, быть со всеми вежливым, всегда приветливым и даже благосклонным по отношению мужчин, любезным и даже предупредительным по отношению женщин, избегать всякой резкости, всяких вспышек, всякой иронии, не произносить никогда никаких колкостей, не давать чувствовать окружающим их зависимости и подчиненного положения, поощрять их разговор и даже болтовнёй, поддерживать в беседе внешнее равенство, встречать с улыбкой возражения, иногда принимать участие в споре, порою пошутить, рассказать что-либо интересное — такова была его салонная программа. Необходимо, чтобы во всяком человеческом обществе была своя свободная программа, а не то жизнь в нем замрет. Поэтому в старину такая программа называлась savoir vivre (умение жить) и король беспрекословно и добросовестно подчинялся всем требованиям кодекса вежливости: в силу традиции, благодаря воспитанию он, по крайней мере, хоть с людьми высшего круга обращался как с равными, и придворные постоянно бывали его гостями, не переставая оставаться его подчиненными.
Совсем не то у Наполеона. Из этикета, заимствованного у старого двора, он сохранил лишь строгую дисциплину и пышные парады. «Церемониал, говорит один из свидетелей, — совершался так строго размеренно, словно он происходил под барабанный бой, казалось точно все шло ускоренным темном». Эта торопливость, это томительное чувство страха, которое он внушает, убивают вокруг него всякое удовольствие, всякое удобство, всякий непринужденный разговор и свободное общение; между ним, и окружающими его, не существует никакой связи, кроме повелений, с одной стороны, и послушания с другой. «Те немногие люди, которых он выделял из числа остальных, как Савари, Дюрок, Марэ или молчали, или передавали его приказания… Мы же покорно исполнявшие то, что нам приказывали, являлись в их глазах, да, пожалуй, и в собственных, простыми машинами, мало чем отличающимися от нарядных золоченых кресел, которыми были украшены Тюйльерский дворец, и замок в Сен-Клу».
Такие порывы не могут быть терпимы ни в каком обществе, в особенности, среди независимых и хорошо вооруженных личностей, совокупность которых составляет нацию или государство: вот почему они воспрещаются как в политике, так и в дипломатии, и всякий глава либо представитель нации обыкновенно тщательно из принципа воздерживается от них, в особенности, по отношению подобных себе, он обязан обращаться с ними как с равными, беречь их самолюбие, следовательно не должен поддаваться минутному раздражению, и личным страстям, словом должен всегда владеть собою и строго обдумывать свои слова: оттого таков тон манифестов, протоколов, декретов и других государственных актов; поэтому же так холоден, бесцветен и вял официальный канцелярский стиль деловых бумаг, изобилующих нарочно смягченными и приглаженными выражениями, длинными запутанными фразами словно сотканными по одному шаблону, изображающими из себя нечто вроде мягкого пуха интернационального тампона, помещаемого между противниками для смягчения толчка. И так между государствами достаточно взаимных недоразумений, слишком много неизбежных и тягостных столкновений, слишком много проводов к конфликтам. А последствия конфликтов слишком серьезны, поэтому не следует к ударам, наносимым интересам, присоединять ударов самолюбию и воображению, в особенности, не надо наносить их неосновательно, ибо они сегодня увеличат силу сопротивления противника, а завтра навлекут возмездие с его стороны.
Но совсем наоборот у Наполеона: даже во время мирных переговоров его осанка сохраняет вызывающий и воинственный вид, добровольно или невольно он поднимает руку, чувствуется что вот-вот он ударит, а покамест он наносит оскорбление. В своей переписке с владетельными особами, в своих официальных приказах, в своих беседах с посланниками включительно до публичных приемов, он держит себя вызывающе, угрожает, выражает недоверие, третирует свысока своего противника, а порою даже оскорбляет и бросает в лицо самые обидные обвинения; он раскрывает тайны его частной жизни, его кабинета, его алькова; он клевещет на его министров, двор и его жену, он нарочно старается нанести удар в самое чувствительное место и сообщает ему, что он жертва обмана, супруг неверной жены, соумышленник убийцы; он принимает по отношению его тон судьи, судящего преступника, или тон начальника распекающего своего подчиненного или, в лучшем случае, тон учителя поучающего своего ученика; с улыбкой сожаления он ему раскрывает его ошибки, его слабые стороны, его бездарность и вперед указывает ему его несомненное поражение, его грядущее унижение.
Принимая в Вильно уполномоченного императора Александра, он сказал: «Россия не хочет этой войны, все европейские державы не одобряют ее, даже Англия не сочувствует ей, ибо она предвещает несчастья для России, а может быть и венец всех бедствий… я знаю также хорошо как и вы, а может быть даже лучше чем вы, сколько у вас войска. У вас сто двадцать тысяч человек пехоты и 60–70 тысяч кавалерии, а у меня втрое больше, как тех, так и других… Император Александр окружен плохими советниками, как не стыдно ему приближать к себе таких лиц, как, например: Армфельд, ведь это известный интриган, человек беспринципный, злодей и грязный развратник, он прославился своими злодеяниями и всей душой ненавидит Россию, или же Штейн, который был изгнан из своего отечества как негодяй, человек неблагонамеренный, голова которого оценена; наконец Бенингсен, человек якобы обладающий военными талантами, которых, положим, я в нем не заметил, но руки которого обагрены в крови? Пускай бы он окружил себя русскими, я не сказал бы ни слова… Неужто у вас не нашлось бы достаточно русских дворян, которые, несомненно, были бы ему больше проданы, чем эти наемщики? Неужто он воображает, что они очарованы его личностью? Пускай бы он поручил Армфельду управление Финляндией, я не сказал бы ни слова, но приблизить его к своей особе, какая мерзость!.. Какие блестящие перспективы раскрывались перед императором Александром в Тильзите, а, в особенности, в Эрфурте… Он испортил одно из самых блестящих в России царствований… Как можно вращаться в обществе каких-то Армфельдов, Штейнов, Винценгероде!.. Передайте императору Александру, что так как он окружает себя моими личными врагами, то я на это смотрю, как на желание нанести мне личное оскорбление и в ответ на это постараюсь тоже нанести ему личное оскорбление: я прогоню из Германии всю его Баденскую, Вюртембергскую и Веймарскую родню, пусть он заготовит для них убежище в России».
Обратите внимание, что он подразумевает под личным оскорблением, за что он собирается отплатить самыми жестокими репрессиями, как далеко простирается его бесцеремонность, как он насильно и беззастенчиво врывается в кабинеты повелителей других держав, чтобы изгнать их советчиков и управлять их советом: так поступает римский сенат с каким-либо Антиохом или же английский резидент с царьком Лагора. У себя, точно также кик и у других, он привык действовать самовластно. «Стремление к всемирному господству вытекает из сущности его характера, его можно несколько урегулировать, смягчить, но невозможно заглушить».
Оно прорывается наружу еще во время консульства; вот почему Амьенский мир так скоро был нарушен; не столько ход дипломатических переговоров и понесенные потери, сколько его властолюбивый характер и непомерные требования способствовали разрыву, его откровенные планы и намерение воспользоваться своей силой были истинными причинами, вызвавшими конфликт. Действительно он резко и прямо заявил англичанам: прогоните с вашего острова Бурбонов и закройте рот вашим журналистам, если это противоречит вашей конституции, то тем хуже для неё или вернее тем хуже для вас. «Существуют общие принципы прав человека, перед которыми должны смолкнуть частные законы отдельных государств». Измените основательным образом ваши законы: уничтожьте у себя, как уничтожил я во Франции, свободу печати и право убежища; «я очень невысокого мнения о правительстве, которое не в силах воспретить того, что не нравится иностранным державам». «Что же касается меня, моего вмешательства в дела соседей, моих недавних территориальных захватов, это вас не касается: «Кажется вы намерены говорить о «Пьемонте и Швейцарии? Да это сущие пустяки!» — «Признано всей Европой, что Голландия, Италия и Швейцария находятся в зависимости от Франции». «С другой стороны, я подчинил себе Испанию и при её посредстве управляю Португалией, таким образом, от Амстердама до Бордо, от Лиссабона до Кадикса и Генуи, от Ливорно до Неаполя и Торренте я могу закрыть для вас все порты, между нами не будет более существовать никакого торгового договора, а если я соглашусь заключит таковой с вами то он будет полнейшим издевательством над вами: за каждый миллион ввезенных вами во Францию английских товаров я вас заставлю вывести миллион французских товаров, другими словами, подвергну вас явной или скрытой континентальной блокаде и вы будете в мирное время страдать от неё так, как если бы между нами велась война. Кроме того, я продолжаю внимательно следить за Египтом; «теперь достаточно бы было шести тысяч французов, чтобы снова покорить его», оружием или другим каким-либо образом, но я снова проложу себе туда путь, я лишь поджидаю, чтобы представился удобный случай вернуться туда, «рано или поздно он будет присоединен к Франции, вследствие ли распадения оттоманской империи или же в силу договора с Портой, но он будет наш!» Вы должны очистить остров Мальту, чтобы Средиземное море превратилось в «французское озеро», я хочу также полновластно царить на море, как и на суше и одинаково повелевать Востоком и Западом. Вообще Англия должна естественным путем покончить свои счеты с Францией, подпав под её протекторат; сама природа предназначила ее стать одним из наших островов, вроде Корсики или Олерона.
Естественно, что в виду такой перспективы англичане предпочли сохранить Мальту и возобновили войну. Он предвидел, что дело могло принять такой оборот и потому сразу мог принять определенное решение, он с первого же взгляда определяет и соразмеряет тот путь, какой ему предстоят пройти; со свойственной ему ясностью мысли он тотчас же понял и открыто заявил, что сопротивление Англии «заставит его покорить всю Европу…» — «Первому Консулу всего тридцать три года и он пока подчинил себе лишь второстепенные державы. Почем знать, много ли ему потребуется времени, чтобы снова видоизменить карту Европы и воскресить Западную Империю?»
Покорить весь континент, чтобы затем вооружить его против Англии — таково отныне его средство борьбы, столь же отчаянное, как и сама цель и это средство, точно также как и цель были продиктованы его властным характером. Слишком деспотический и слишком нетерпеливый, чтобы ждать или щадить других, он подчиняет себе чужую волю, оказывая ей во всем противодействие и своих единомышленников превращает в подчиненных, именуемых союзниками.
Позже на острове Святой Елены он при помощи своего неистощимого воображения продолжал действовать среди призрачного, порожденного грезами, человечества, но по его собственному признанию, он даже в своих запоздалых мечтах должен был подчинить себе но крайней мере всю Европу целиком и непременно являлся многолюбивым и либеральным повелителем, «коронованным Вашингтоном», но чтобы достичь этого — говорил он — я раньше того должен был стать всемирным диктатором; таковы были мои намерения.
Напрасно здравый смысл указывал ему, что подобное предприятие неизбежно связывало континент с Англией и что его средство уничтожало цель. Напрасно ему неоднократно доказывали, что ему необходим могущественный союзник на континенте что ради этого он должен заключить мир с Австрией, что он не должен доводить её до отчаянья, а наоборот должен заручиться её содействием, должен вознаградить ее насчет Востока, посеять рознь между нею и Россией и связать ее с новой французской империей общностью жизненных интересов. Тщетно после Тильзита он сам делает попытку действовать заодно с Россией. Их договор недолго просуществовал, потому что Наполеон со свойственным ему властолюбием, нетерпимостью и наглостью пытался превратить императора Александра в покорного исполнителя своих предписаний, в слепое орудие своих планов. Это не могло ускользнуть от внимания многих прозорливых свидетелей. В 1809 году один дипломат писал: «Господствующая теперь французская система направлена против всех великих держав», не только против Англии, Пруссии и Австрии, но и против России, словом против всех держав, которые в состоянии сохранить свою независимость, ибо если какая-либо из них сохранит свою независимость, она рано или поздно может стать враждебной и Наполеон из предосторожности уничтожает будущего врага.
Притом, уж раз вступив на этот путь, он не может остановиться на полдороге и теперь не только его характер, но и то положение, которое он создал себе толкают его вперед; его прошлое создает его будущее. — К моменту нарушения Амиенского мира он так уж силен и победоносен, что его соседи из чувства самосохранения заключают союз с Англией; это вынудило его разгромить еще нетронутые дотоле монархии, покорить Неаполь, произвести первый раздел Австрии, расчленить и раздробить Пруссию, произвести второй раздел Австрии и создать для своих братьев Неаполитанское, Голландское и Вестфальское королевства. Одновременно он закрыл для англичан все порты в своей империи, а это заставило его закрыть для них также все порты на континенте и начать против них общеевропейский крестовый поход, в виду всего этого он не мог дольше терпеть нейтральных повелителей вроде папы, бездеятельных подчиненных, вроде своего брата Людовика; и сомнительных либо безличных союзников вроде португальских Браганцов и испанских Бурбонов и должен был покорить Португалию и Испанию, Папские владения и Голландию, ганзейские города и герцогство Ольденбургское и продлить вдоль всего побережья от устьев Катаро и Триеста до Гамбурга и Данцига цепь своих военных кордонов, своих префектов и таможенных чиновников, создав нечто вроде петли, которая с каждым днем все больше и больше стягивала бы их до тех пор, пока окончательно не задушила бы не только потребителя, но также производителя и торговца.
А каким беззастенчивым образом проделывал он все это, порою довольствуясь простым декретом, ничем не обоснованным, кроме его личного интереса, его удобств и желаний, при посредстве каких посягательств на права людей и человечества и нарушений прав гостеприимства, при помощи каких злоупотреблений своею силой и каких сцеплений грубости и плутовства, при наличии каких притеснений по отношению к союзникам и какого наглого обирания побежденных, допуская страшное мародерство во время войны и бессовестно систематически эксплуатируя во время мира покоренные народы — чтобы рассказать все это потребовалось бы исписать несколько томов.
Поэтому с 1808 года против него восстали все народы, он так глубоко нарушал их интересы и оскорблял их чувства он так безцеремонно попирал ногами их права, обирал их и насильно заставлял служить себе, он кроме французских жизней уничтожил еще столько жизней испанских, итальянских, прусских, австрийских, швейцарских, баварских, саксонских, голландских, он в качестве неприятеля убил столько человек, стольких завербовал в свои войска и повел на смерть под своими знаменами в качестве своих союзников, что нации относились к нему еще более враждебно, чем представители держав. Положительно с такими характерами как его невозможно жить, его гений слишком велик и слишком вредоносен и тем вредоноснее, что он велик. Пока он будет царствовать будет длиться война; как бы ни старались ограничить его, стеснить, втиснуть в рамки старой Франции это ни к чему не приведет, его не удержат никакие преграды, никакой договор не в состоянии связать его; заключенный с ним мир будет простой ловушкой: он им воспользуется, чтобы собраться с силами и как только приведет свои войска в боевую готовность, сейчас же возобновит войну, по своему существу он антиобществен. Таково окончательное и непоколебимое мнение, составившееся о нем в Европе.
Насколько глубоко и распространено было это убеждение можно судить по следующему незначительному, но характерному случаю. 7 марта в Вену пришло известие о его бегстве с острова Эльбы, но, однако, не было получено никаких указаний, куда он направился; около восьми часов утра Меттерних сообщил эту новость императору Австрийскому, который сказал ему: «Немедленно ступайте к императору Русскому и королю Прусскому и скажите им, что я готов отдать распоряжение моей армии снова двинуться во Францию». В восемь с четвертью Меттерних был уже у царя, а в восемь с половиной у короля Прусского и оба они не задумываясь сказали ему тоже. «В девять часов — рассказывал Меттерних — я был уже дома, а в десять часов адъютанты уж мчались во всех направлениях, чтобы поднять тревогу в войсках… Таким образом меньше, чем в течение часа была объявлена война».
Другие главы государств тоже проводили жизнь в насилиях над людьми, но они проделывали это имея в виду жизненное дело, в интересах нации. То, что они называли общественным благом, не было призрачным порождением их мозга, химерической поэмой, созданной игрой их воображения, их личными страстями, их гордостью и честолюбием. Вне их самих и их мечтаний, для них существует нечто реальное, прочное и представляющее из себя первостепенную важность: это изучение государства, социального тела, этого необъятного организма, существующего неопределенно долго, благодаря беспрерывным рядам, сменяющих друг друга поколений. Когда они проливали кровь современного им поколения, то они это делали для блага грядущих поколений, чтобы их предохранить от гражданской войны, либо иноземного владычества. В большинстве случаев они поступили как опытные хирурги, если и не из благородных побуждений, то во всяком случае хоть из династического чувства и в силу фамильных традиций; дело правления страною, переходя от отца к сыну, выработало в них профессиональную совесть, первым и самым важным делом для них являлось исцеление и здоровье их пациента. Вот почему они не производили опасных, кровавых и слишком смелых операций; слишком редко случалось, чтобы они поддавались искушению, из желания установить свой взгляд на жизнь или же из потребности удивить и ослепить публику новизной, остротой и пригодностью своих ланцетов и пил. Они чувствовали себя ответственными за жизнь более длинную и более важную, чем их собственная жизнь, они проникали пытливым взором в грядущее и пытались определить, что постигнет их государство лишенное их руководства, они старались так укрепить его, чтобы оно надолго сохранило свою целость и оставалось независимым, могучим и уважаемым, невзирая ни на какие превратности европейских конфликтов, ни на какие непредвиденные случайности грядущей истории. Вот какое отношение к делу называлось при старом режиме государственным умом, в течение восьми столетий оно выше всего ценилось в советах правителей государств и невзирая на неизбежные ошибки и временные отклонения, всегда оставалось преобладающим мотивом всех начинаний. Без сомнения оно оправдывало и даже поощряло многие вероломства, посягательства и надо откровенно сознаться даже злодеяния, но в делах политики, в особенности в ведении иностранных дел, оно давало руководящую идею, и эта идея была спасительна. Под её непрерывным влиянием работало тридцать властелинов и, таким образом, неутомимо и энергично» при посредстве действий, воспрещающихся частным лицам, но дозволенных государственным людям, они провинцию за провинцией создали Францию.
Однако у их скороспелого наследника отсутствует эта руководящая идея; на троне или на поле сражения, генерал, консул или император он всегда остается офицером-карьеристом и ни о чем не думает, кроме своего возвышения. Вследствие чудовищного недостатка образования, воспитания и сердца, он, вместо того чтобы подчинить свою личность государству, подчиняет государство своей личности, поэтому его взор не проникает собственной краткой жизни и не видит судьбы нации, которая должна его пережить, следовательно он будущее приносит в жертву настоящему и его творение не может быть прочным. После него потоп; ему безразлично будет ли произнесено это ужасное слово; даже хуже того в глубине души он жаждет, чтобы все с тревогой произносили его. «Мой брат, говорил Иосиф в 1803 году, желает, чтобы потребность в его существовании страстно ощущалась всеми, и чтобы это существование казалось всем таким великим благом, что одна мысль об исчезновении которого приводила бы в трепет ужаса. Он знает и прекрасно сознает, что его власть зиждется на этой идее больше, чем на его силе или же благодарности. Представьте себе такое положение вещей: вдруг воцаряется везде спокойствие и порядок, избирают Наполеону наследника и говорят: „теперь Бонапарт смело может умереть, его смерть не вызовет ни замешательства, ни желательных нововведений“ — брат не чувствовал бы под собою твердой почвы… Таково правило его поведения».
Напрасно года бегут, он далек от мысли так укрепить могущество Франции, чтобы она могла существовать без него, даже напротив, он подрывает прочность своих приобретений чрезмерными захватами и сразу было очевидно, что Империя не переживет императора. В 1805 году, когда пять процентов достигли суммы 80 франков [26] его министр финансов сказал ему; что такой побор является вполне благоразумным. «Нечего жаловаться, ибо фонды зависят от жизнеспособности Вашего Величества. — Что вы хотите этим сказать? — Я хочу сказать, что империя постепенно возросла до таких размеров, что после вас никто не в состоянии будет управлять ею. — Если мой преемник окажется идиотом, то тем хуже для него. — Да, но вместе с тем и хуже для Франции».
Два года спустя, Меттерних в виде политического резюме произнес такой суд над его деятельностью: «Замечательно, что Наполеон, беспрестанно нарушая и видоизменяя отношения всей Европы, не сделал до сих пор ни одного шага с целью обеспечить существование своих преемников». В 1809 году тот ж дипломат присовокупил: «Его смерть послужит сигналом к новому и страшному потрясению, столько насильственно разъединенных частей станут пытаться снова слиться во едино. Свергнутые с престола монархи будут снова призваны своими прежними подданными, а свежеиспеченные принцы станут защищать свои недавно приобретенные короны. Настоящая гражданская война на целых полстолетия воцарится в громадном континентальном государстве, как только железная рука, держащая бразды правления превратится в прах». В 1811 году «все были убеждены что первым, неизбежным последствием исчезновения Наполеона, властелина, в лице которого была сосредоточена вся сила государства, будет революция».
Даже у него во Франции, среди его ближайших сотрудников в эту эпоху укрепилось убеждение, что его Империя не прочна и не только не переживет его, но даже просуществует меньше, чем продлится его жизнь, ибо он непрерывно все выше и выше возносил свое здание, и то, что его постройка приобретала в высоту, то она теряла в солидности.
«Император сошел с ума, говорил Декрэ Мармону, положительно сошел с ума; он заставит всех вас полететь кувырком и все это, вы увидите, окончится грандиозной катастрофой». — Действительно он толкал Францию в бездну, употребляя насилие и обман; он сознательно обманывал ее, злоупотребляя доверием, которое возрастало по мере того, как благодаря его честолюбию и ошибкам из года в год увеличивалось несоответствие между его личными интересами и интересами нации.
Еще во время Люневильского договора и до нарушения Амиенского мира ясно обнаружилось это несоответствие интересов. Оно еще ярче выступило при Пресбургском договоре и совершенно стало очевидным при Тильзитском договоре. Уж в 1808 году после изгнания из Испании Бурбонов, оно становится пагубным, а в 1812 году во время войны с Россией прямо-таки скандальным и чудовищным. Сам Наполеон признавал, что эта война не нужна была Франции, а, однако, он вел ее. Впоследствии на острове св. Елены он расчувствовался и на словах выражал свою нежность по отношению «французского народа, который он так искренно любил». В сущности он его любил любовью какою кавалерист любит свою лошадь; когда он ее дрессирует, когда он ее украшает и наряжает, когда он ее гладит и подгоняет, он это делает не с тем, чтобы принести ей пользу, а с целью воспитать из неё для себя полезное животное, чтобы затем пользоваться ею да изнеможения и гнать ее все вперед и вперед через все более широкие рвы, через все более высокие барьеры: вот еще один ров, вот еще одни, барьер; после препятствия, которое казалось последним последуют новые и так до бесконечности, пока животное в этой безумной скачке не надорвется окончательно. Ибо представьте себе, что этот русский поход окончился бы не чудовищным поражением, а блестящей победой; представьте себе, что под Смоленском французы одержали бы столь полную победу, как и под Фридландом, а Московский трактат оказался бы столь же выгодным, как и Тильзитский и царь был бы окончательно покорен, проследите теперь вероятные последствия; царь умерщвлен, либо свергнут с престола, в России как и в Испании вспыхивает народное восстание, приходится вести две непрерывных войны на двух противоположных концах континента против религиозного фанатизма, более непримиримого, чем реальные интересы, против рассеянных варварских орд более неукротимых, чем компактные массы цивилизованных людей; или в лучшем случае получится европейская держава тайно подрываемая сопротивлением всей Европы, внешняя Франция насильно навязанная покоренному континенту, французские резиденты и коменданты в Петербурге и Риге, точно также как в Данциге, Гамбурге, Амстердаме, Лиссабоне, Барселоне и Триесте; все работоспособные французы посвящают все свои силы удержанию и управлению покоренных стран; все здоровые юноши ежегодно призываются к рекрутскому набору, а если они пытаются ускользнуть от него, то согласно декретам арестовываются; все мужское население приспособляется к подавлению Сопротивления и нет другого исхода ни для образованного, ни для необразованного человека, не представляется никакой другой карьеры, кроме как продолжительная, опасная и грозная служба в качестве солдата, таможенного чиновника либо комиссара полиции, т.е. в качестве второстепенного тирана и сбира, чтобы угнетать подчиненных ему людей и собирать подати конфисковать и сжигать товары, ловить контрабандистов и водворять на места дезертиров. А из этих дезертиров уж в 1810 году — 160 тысяч было приговорено к наказанию, и свыше 170 миллионов штрафу было наложено на их семьи. В 1811 и 1812 летучие отряды, преследующие беглецов, поймали их 60 тысяч а толпами гнали их по берегу от Амура до устьев Немана, перейдя границу они присоединили их к великой армии, но с первого же месяца они снова дезертировали, а вместе с ними многие из их товарищей поневоле, в общей сложности ежедневно по 4–5 тысяч человек.
Если бы когда-либо Англия была покорена, то и там пришлось бы держать гарнизон и завести столь же усердных гарнизонщиков. — Таково неопределенное будущее, которое готовила Франции подобная система, даже в случае полного успеха всех предприятий. Но Францию постигла неудача и к концу 1812 года Великая Армия застряла в снегах: у лошади подломились все четыре ноги. К счастью лишь у лошади оказались разбитыми ноги; «Его Величество был вполне здоров и чувствовал себя лучше, чем когда бы то ни было в другое время»; наездник остался невредим и его в данный момент беспокоит не агония его вздыхающего коня, а собственная неудача, его терзает мысль о подмоченной репутации конюха, мысль о впечатлении произведенном на публику, терзают свистки и комичность опасного прыжка возвещенного с такой торжественностью и окончившегося таким жалким падением.
По прибытии в Варшаву он десять раз кряду повторял: «от великого до смешного всего один шаг». Еще более неосмотрительно в следующем году в Дрездене он открыто и грубо обнаружил свои сокровенные чувства, основные причины своих поступков, безграничность и дикость своего беспощадного честолюбия. «Чего они хотят от меня». — сказал он Меттерниху. — Чтобы я опозорил себя? Никогда! Я лучше умру, но не уступлю ни одной пяди территории. Ваши монархи, рожденные на троне, могут двадцать раз потерпеть поражение на поле брани и вернуться в свои столицы; я же не могу этого сделать, ибо я простой солдат, сам создавший свое положение. Мое же господство не переживет того дня, когда я потеряю силу, а, следовательно, стану безопасным». Действительно, его деспотизм во Франции опирался на его всемогущество в Европе; если бы он не был повелителем континента, «ему пришлось бы считаться с Законодательным Собранием». Он готов вести отчаянную борьбу на жизнь и смерть, готов поставить на ставку всю свою карьеру, готов всем рискнуть лишь бы не снизойти до этой второстепенной роли, не стать конституционным монархом, ограниченным Палатой.
«Я видел ваших солдат — сказал ему Меттерних — ведь все это дети. Что вы станете делать, когда вся эта армия юношей, поставленных вами под ружье, исчезнет?» — При этих словах, угодивших ему прямо в сердце, он побледнел, его лицо перекосилось от бешенства и, обезумев от нанесенной ему раны, он невольно сделал ложный шаг и выдал себя, горячо возразив Меттерниху: «Вы не солдат и не можете понять, что происходит в душе солдата. Я вырос на поле брани, а такой человек, как я, ни во что не ставит миллион человеческих жизней». Его державная химера уничтожила их значительно больше: с 1804 года по 1815 он убил 1.7 миллиона французов, рожденных в пределах старой Франции, к ним следует прибавить приблизительно два миллиона людей, рожденных вне Франции и убитых, благодаря ему либо в качестве его союзников, либо в качестве врагов. Доверчивые и восторженные галлы дважды вручавшие ему бразды правления ничего не получили от его блестящих побед, кроме двукратного иноземного нашествия и в награду за их безграничную преданность, за потоки пролитой ими собственной и чужой крови, он завещал им Францию, лишенную пятнадцати департаментов, приобретенной Республикой, лишенную Савойи, левого берега Рейна и Бельгии, с оторванным северо-восточным углом, которым она заканчивалась и укрепляла свое, наиболее уязвимое место и по словам Вобана дополняла свой «квадратный луг», оставил Францию, потерявшую четыре миллиона новых французов, с которыми она в течение двадцати лет совместной жизни сжилась и почти слилась воедино, и что хуже всего оставил ее сжатой в границах 1789 года, одинокую, совсем маленькую среди её окрепших и разросшихся соседей, ненавистную Европе, окруженную зловещим кругом недоверия к злопамятства.
Таков результат политики Наполеона, результат эгоизма, руководимого гениальностью; в его европейской постройке, точно также как и во французской постройке эгоизм неограниченного властелина породил крупную архитектурную ошибку. В Европейском здании эта фундаментальная ошибка стала сразу заметна и через пятнадцать лет вызвала грандиозное крушение, во французском здании была допущена столь же крупная ошибка, но она была не так очевидна; она была обнаружена лишь полвека, спустя или даже позже, но её медленные и постепенно обнаруживающиеся последствия оказались не менее пагубны и несомненны.
Книга вторая. Образование и характер нового государства
Глава I. Положение вещей в 1799 году
При каких условиях общественная власть может воспользоваться им. Два обстоятельства, упущенные и неизвестные авторам предыдущих конституций, Трудность дела и недоброкачественность имеющегося на лицо материала. Последствия 1789–1799 годов. Неповиновение местных властей, столкновение центральных властей, упразднение либеральных учреждений, учреждение деспотизма. Вред, приносимый таким управлением. С 1799 года положение становится все более тяжелым, а материал все ухудшается. Мотивы, послужившие к лишению граждан права избирать местные власти. Избиратели. Их эгоизм и их партийность. Избранники. Их бездеятельность, их испорченность, их непослушание. Причины заставившие сосредоточить в одних руках центральную исполнительную власти. Химические комбинации Сейеса. Возражения Бонапарта. Трудности, представляющиеся при установлении законодательной власти. Насилия и обманы при выборах, практиковавшиеся в продолжении десяти лет. Чувства избирателей в 1799 году. Ненависть к революционерам и догматам революции. Возможность создать свободно избранное собрание. Его две непримиримые половины. Чувства армии. Торжественность и вероятный смысл нового государственного переворота. Выборные и законодательные проекты Сейеса. Как ими воспользовался Бонапарт. Слабость и покорность трех законодательных собраний при новой конституции. Пользование сенатом как новым орудием правления, Сенатские решения и плебисцит. Окончательное учреждение её. Отныне общественная власть свободно может функционировать.
Всякое общество нуждается в правительстве, я хочу сказать, в общественной власти; нет более полезной машины. Но машина является полезной лишь в том случае, если она приспособлена к своему назначению: в противном случае она не может действовать или её действие становится обратным тому, какое от неё требуется. Поэтому при составлении её необходимо принять ко внимание какого рода работу придется ей исполнять и каким материалом она будет располагать: очень важно вперед знать придется ли ей ворочать тяжесть в один центнер или в тысячу центнеров, будут ли подвергаться обработке стальные и железные брусья или же из крепкого дерева, либо гнилого.
Но об этом не думал в течение десяти лет ни один из законодателей; все они действовали как теоретики и оптимисты, не задумываясь над положением вещей или же представляя себе все так, как им хотелось видеть и воображали, что это легкое и заурядное дело, тогда как оно было необычайно и очень трудно, ибо приходилось иметь дело с социальной революцией и поддерживать европейскую войну. Все воображали, что приходится иметь дело с превосходным материалом столь же гибким, как и прочным, тогда как наоборот материал был из рук вон плох. Одновременно легкий и твердый, ибо этот материал составляли французы 1789 года и последующих годов, т.е. люди очень чувствительные и сильно раздраженные взаимными столкновениями, совершенно неопытные, без всякой политической подготовки, утописты, нетерпеливые, непокорные и экзальтированные, сделали расчет согласно этим совершенно ложным данным, а затем после самых тщательных исчислений получились нелепые цифры и приняв на веру эти цифры, составили механизм, пригнали, установили, разместили все части машины. Вот почему безупречная в теории машина, на практике оказалась никуда негодной: и чем замысловатее она была на бумаге, тем более непригодной становилась она при работе.
С первых же шагов обнаружился крупный недочет в двух главных пунктах, во-первых, во взаимоотношении высших властей и в равновесии исполнительной власти. Прежде всего влияние каким пользовалось центральное правительство по отношению подчиненных ему местных властей, было безусловно слишком ничтожно; не имея возможности назначать их, оно не могло позаботиться о необходимом для пользы дела подборе их. Все администраторы департамента, округа, кантона и общины, уголовные и гражданские судьи, распределители и сборщики податей, офицеры национальной гвардии и даже жандармского корпуса, комиссары полиции и другие агенты власти, уполномоченные приводить в исполнение на местах закон, почти все без исключения получали инструкции из других мест: от народных обществ и собраний выборщиков. Они являлись для него взятыми на прокат орудиями; по своему происхождению они ускользали от его влияния, и оно не могло заставить их работать по своему желанию. Чаще всего они вырывались у него из рук, порою не взирая на производимое им давление они оставались неподвижными; иногда они исполняли постороннее или даже не соответствующее их прямому назначению дело, впадали в крайности и доходили до нелепостей; никогда они не работали толково и планомерно, дружно и последовательно. Вот почему, когда правительство намечало какой-либо план, оно не могло осуществить его. Его законные помощники, неспособные, робкие, равнодушные, оппозиционно, а порою даже враждебно настроенные; плохо повиновались ему, вовсе не повиновались или же оказывали явное сопротивление. В исполнительном орудии клинок был соединен с рукояткой весьма хрупкой и непрочной спайкой, когда рукоятка направляла клинок, он скользил в сторону и отделялся от неё.
Затем, когда два или три двигателя пытались придать направление рукоятке они всегда действовали несогласно и только потому, что их было несколько, они сталкивались и мешали друг другу, и дело кончалось тем, что один из них сокрушал всех остальных. Конституционное собрание ограничило права короля, законодательное собрание свергло его с престола, а Конвент обезглавил. Затем в Конвенте различные партии, занимая главенствующее положение, произносили приговор над другими партиями так: монтаньяры гильотинировали жирондистов, термидорианцы казнили монтаньяров. Позже при конституции III года фруктодорианцы изгнали конституционалистов, директория ослабила советы, а советы ослабили директорию.
Демократическое и парламентарное учреждение не только не отвечало своему назначению, не делало своего дела и легко приходило в негодность, но кроме того, благодаря собственным действиям, превращалось в нечто совершенно противоположное тому, чем должно было быть. Каждый год или немного реже в Париже производился государственный переворот, какая-либо партия овладевала центральной властью, и последняя в руках пяти или шести вожаков становилась неограниченной. Тотчас же новое правительство перековывало по своему усмотрению исполнительное орудие и основательно прикрепляло рукоятку к клинку, оно смещало в провинции народных избранников и лишало управляемых права избирать своих правителей. Отныне оно само при посредстве своих уполномоченных проконсулов или местных комиссаров, назначало местных властей и руководило их действиями.
К концу своего существования либеральная конституция породила централизаторский деспотизм и последний был самого низкого качества, безобразный и в то же время чудовищные, ибо он зародился из гражданского преступления, а правительство применяющее его, опиралось исключительно на шайку ограниченных фанатиков, либо политических авантюристов; не обладая авторитетом в глазах нации, ни влиянием на армию, ненавидимое, осыпаемое угрозами, расслабляемое несогласиями, постоянно страдающее от восстаний своих единомышленников и измены своих собственных членов, оно влачило жалкое существование; оно могло удержаться лишь при посредстве грубого произвола и не прекращающегося террора и общественная власть, главной обязанностью которой является защита собственности, совести и жизней в его руках превратилась в худшего из преследователей, воров и убийц.
Уже дважды кряду был произведен опыт. При монархической конституции 1791 года и при республиканской конституции 1795 года; и дважды кряду события принимали одно и тоже течение, чтобы привести к одному и тому же концу; дважды кряду теоретически превосходная машина всеобщего покровительства, на практике превращалась в грубое орудие всеобщего истребления. Следовательно, если в третий раз при аналогичных условиях, пускали в ход ту же машину, то следовало ожидать, что и действие её будет тоже, т.е., что она будет работать совсем не в том направлении в каком следовало.
А в 1799 году условия были не только аналогичные, но даже хуже прежних, ибо работа, предстоявшая машине, не была ничуть меньше, а человеческий материал, из которого пришлось ее построить был значительно хуже. Извне Франция находилась в беспрерывной войне с Европой; можно было достигнуть мира лишь при посредстве гигантского воинственного усилия, а сохранить этот мир было бы столь же трудно, как и завоевать его. Уж слишком было поколеблено европейское равновесие, соседние и враждебные государства слишком много выстрадали; вызванные победоносной и революционной республикой чувства озлобления и недоверия были слишком живы, и они бы еще долго существовали по отношению успокоившейся Франции, не взирая ни на какие договоры. Даже отказавшись от политики внушения и вмешательства, от ненужных захватов, от повелительного протектората и негласного присоединения Италии, Голландии и Швейцарии, нация вынуждена была бы находиться под ружьем, для того только, чтобы остаться целой и нетронутой, чтобы сохранить Бельгию и границы Рейна, ей нужно было правительство способное сконцентрировать все её силы, т.е. поставленное вне всяких пререканий и пользующееся полным повиновением.
Тоже самое и в внутренней жизни страны оставалось лишь водворить порядок, ибо там также учиненные революцией насилия были слишком значительны; было слишком много грабежа, арестов, изгнаний и казней, слишком много посягательств на личность и имущество как частное, так и общественное. Заставить уважать личность и имущество как частное, так и общественное, обуздывать одновременно роялистов и якобинцев, вернуть 140 тысяч эмигрантов в их отечество; а, однако же обеспечить 1,2 миллионов владельцев национального имущества; вернуть 30 миллионам правоверным католиков право, возможность и средства соблюдать все обрядности своего культа, но однако, не позволять им притеснять реформатское духовенство; поставить лицом к лицу в одной общине лишенного своих владений помещика и крестьян, завладевших его имуществом; заставить депутатов и арестантов комитета общественного спасения, громителей и разгромленных из Вандемиэра, фруктодорианцев и фруктидоризованных, голубых и белых из Вандеи и Бретани жить в мире, рядом друг с другом, — все это было тем труднее, что будущие работники этого колоссального дела, все начиная с деревенского мэра до сенатора и государственного советника включительно, принимали участие в революции, одни разжигая ее, а другие подавляя, монархисты, фельянтинцы, жирондисты, монтаньяры, термидорианцы, умеренные и крайние якобинцы, все они по очереди терпели притеснения и крушение всех своих надежд. Этот режим разжег их страсти, каждый из них вносил в свое дело личные чувства и партийность, и чтобы помешать ему быть несправедливым и вредным надо было надеть на него узду. При таком режиме, убеждения теряли свою устойчивость; теперь уж никто из них не служил даром, как это было в 1789 году; чтобы заставить их работать, надо было платить; теперь все разочаровались в бескорыстии; всякое показное усердие казалось лицемерием, всякое доказанное на деле усердие — обманом; каждый думал лишь о себе, а не о благе общества; дух гражданственности сменили беззаботностью, эгоизмом, потребностью безопасности, наслаждений и повышений. Испорченный революцией человеческий материал был менее, чем когда-либо годен для выработки граждан: из него получались лишь чиновники. С таким колесным прибором составленным по формулам 1791 и 1795 годов трудно было производить определенную работу окончательно и надолго. Два больших либеральных механизма были лишены работоспособности. Пока машины будут столь плохи, а работа столь тяжела, надо будет отказаться от выбора местных властей и разделения центральной власти.
В первом случае все были согласны, а если кто-либо сомневался еще в этом, то ему достаточно было открыть глаза и посмотреть на местных властей, проследить всю их деятельность с первой же минуты их появления. Понятно, что для замещения каждого места, избиратели выбирали человека своих взглядов и своего направления, а так как господствующее и определенное настроение было известно, они относились равнодушно к общественным делам, то и их избранник относился к ним равнодушно. Они не избрали бы того, кто слишком принимал к сердцу государственные интересы. Государство являлось для них докучливым моралистом и далеким кредитором; их уполномоченный должен был сделать выбор между ними и этим самозванцем, должен был сделать выбор в их пользу, а не становиться его приспешником и радетелем его интересов.
Когда власть образуется на месте и те, что избирают ее сегодня в качестве доверителей, должны будут завтра терпеть её в качестве подчиненных, они естественно не вручат розог тому, кто может высечь их ими; они требуют от него чувств отвечающих их наклонностям; во всяком случае они не потерпят противоречащих им. С первых же дней между ним и ими существует громадное сходство и изо дня в день это сходство возрастает, потому что творение остается в руках своих творцов; под ежедневным давлением с их стороны, оно постепенно формируется по их образу и подобию и в конце концов окончательно принимает их облик.
Таким образом сразу, либо очень скоро избранник становился сообщником своих избирателей. Порою, а это чаще всего случалось, в особенности, в городах, он бывал избран сильным партийным меньшинством; тогда общественный интерес он подчинял интересам партии. А иногда, преимущественно в деревнях, его избирало грубое и невежественное большинство, тогда общественный интерес, он приносил в жертву интересам своего прихода.
Если случалось, что это был порядочный и образованный человек, который пытался добросовестно исполнять свой долг это ему не удавалось: и сам он чувствовал свою слабость и другие считали его бессильным, у него не хватало авторитета и нужных средств для приведения в исполнение своих намерений. У него не было той силы, какою высшая власть наделяет низших властей: за его спиной не видно было ни правительства, ни армии; единственным его оплотом являлась национальная гвардия, которая либо уклонялась от исполнения своих обязанностей, либо отказывалась исполнять их, либо совсем не существовала. Зато он мог безнаказанно нарушать чужие права, грабить, притеснять людей, соблюдая исключительно свои личные интересы, да интересы своей клики, ибо ничто не сдерживало его, он не чувствовал над собою никакой власти; парижские якобинцы не хотели преследовать провинциальных якобинцев; это были их сторонники, их союзники, а у правительства не было других, поэтому ему важно было сохранить их, приходилось сквозь пальцы глядеть на их злоупотребления и самоуправство. Представьте себе большое имение, управляющий которого был бы назначен не отсутствующим владельцем, но фермерами, оброчными, крепостными и должниками: можете себе представить, как будут вносить арендную плату фермеры, как будут поступать оброки, как будет отбываться барщина, как будут уплачиваться долги, как будет охраняться и управляться имение, какой доход принесет оно владельцу, как до бесконечности будут умножаться злоупотребления, отчасти вследствие упущений, а отчасти благодаря злонамеренным поступкам, каких чудовищных размеров достигнут беспорядок, нерадение, мотовство, мошенничество, и наглость.
То же самое и по той же причине происходило во Франции: все общественные учреждения дезорганизованы, обезличены либо извращены, ни правосудия, ни полиции; власти воздерживаются от преследований, магистрат не решается произносить приговоров, жандармерия не получает никаких инструкций, либо совсем отсутствует; мародерство по селам вошло в обычай; в сорока пяти департаментах кочуют банды вооруженных разбойников; по всем дорогам, вплоть до окрестностей Парижа останавливают и грабят дилижансы и почтовые кареты; контрабанда свободна, таможни бездействуют; казна пуста, её сборы перехватываются и расходуются, не попадая в нее, определенные ею подати не взимаются, везде царит произвольное распределение косвенных и прямых налогов; послабление являются не менее несправедливыми, чем предъявление чрезмерных требований; во многих местах нет специальных должностных лиц для сбора податей; некоторые общины под предлогом защиты республики от посягательств соседних общин, самовольно освобождают от рекрутского набора и взноса податей; рекруты, которым их мэр вручил ложные свидетельства о болезни, либо о браке, не явившиеся к призыву или же сотнями дезертирующие с пути при отправке их на место служения, образуют шайки и с оружием в руках отбиваются от преследующего их войска; таковы были плоды данной системы.
При агентах власти, выдвигаемых эгоизмом и невежеством сельского большинства, правительство не могло иметь никакого влияния на сельское большинство. При агентах же власти, поставляемых партийностью и разнузданностью городского меньшинства, правительство не могло обуздывать городского меньшинства. Нужны руки, да притом сильные и цепкие руки, чтобы схватить за шиворот рекрута и наполнить карман податями, а у государства не было рук. А они были нужны ему немедленно, хотя бы для того, чтобы защищаться и позаботиться о самых насущных нуждах. Желая подчинить и умиротворить западные департаменты, освободить подвергшегося в Генуе осаде Массену, помешать Меласу овладеть Провансом, перенести армию Моро по ту сторону Рейна, следовало прежде всего вернуть центральной власти право назначать местных властей.
Что же касается второго вопроса, то неоспоримость такой точки зрения была также очевидна. Прежде всего с той минуты, как только местные власти стали бы назначаться центральной властью, само собою разумеется, что исполнительная власть центра должна бы была стать единой. При такой грандиозной запряжке чиновников, управляемой сверху, нельзя было поставить наверху нескольких возниц; ибо если бы их было много, и каждый тащил бы в свою сторону лошадей, последние разрываемые во все стороны, топтались бы на одном месте. В этом отношении расчет Сейеса был ниже всякой критики; чистый теоретик, он при составлении плана новой конституции рассуждал так, словно кучера, которых он садил на козлы, были не люди, а автоматы: на самой верхушке главный избранник, парадный властелин, располагающий всего двумя местами, вечно бездействующий, за исключением тех случаев, когда приходилось назначать, либо отставлять двух действующих властелинов, двух консулов-правителей: один из них, консул-мира, заведует всеми гражданскими делами, другой консул-войны заведует всеми военными и дипломатическими делами; каждый из них имеет своих министров, свой государственный совет свою судебную палату; все чиновники, министры-консулы, даже сам верховный избранник, подчинены воле сената, который не сегодня завтра может поглотить их, т.е. присоединить их к себе в качестве сенаторов с окладом в 100 тысяч франков и вышитым мундиром. Очевидно, Сейес не принял в расчет ни дела, какое предстояло делать, ни людей, которым оно было поручено, а Бонапарт, который в данный момент занимал первое место, который знал людей и знал самого себя, тотчас же нажал самые слабые места этого столь сложного и столь плохо составленного и хрупкого механизма. Два консула «одному из них подведомственны министр юстиции, внутренних дел, полиции, финансов и казны, а другому морской министр, военный и иностранных дел». Но ведь конфликт между ними неизбежен. Представьте себе, что им пришлось столкнуться лицом к лицу: у них совершенно различные интересы, оба они находятся под влиянием разнородных элементов; первый окружен исключительно «судьями, администраторами, финансистами, людьми в длинных одеждах»; второй же окружен лишь «эполетами, да людьми, владеющими шпагой». Понятно, что «один из них потребует солдат и денег для своих армий, а другой не пожелает их дать».
И вашему великому избраннику не примирить их. «Если он строго будет придерживаться намеченного вами плана действий, то он будет лишь тенью, бесплотной тенью, праздного короля. Удастся ли вам найти человека с настолько оподлившимся характером, которому пришлась бы по вкусу такая комедия? Как могли вы вообразить, что мало-мальски способный и частный человек согласится играть роль, откармливаемой несколькими миллионами, свиньи». Тем более, что для выхода из этой роли ему широко раскрыта дверь. Если бы я был великим избранником, я сказал бы, назначая консула мира и консула войны: «если вы осмелитесь назначить министра или же подписать какой-либо акт без моего согласия, я тотчас лишу вас вашего звания». Таким образом великий избранник становится деятельным и неограниченным монархом. «Но вы скажете, что сенат поглотит великого избранника» — «Это лекарство хуже самой болезни; в этом проекте никто ни чем не гарантирован», следовательно, каждый будет стараться оградить себя от других, великий избранник от сената, консулы от великого избранника и министры от консулов, все они будут вечно терзаемы беспокойством, недоверием, опасениями и из чувства самосохранения станут преследовать друг друга, злоупотреблять своей властью; таким образом, неправильно станут вертеться колеса, машина расстроится, перестанет работать и в конце концов сломается.
В этом отношении, как и во всех остальных. Бонапарт был уже полным властелином, разъединенную исполнительную власть сосредоточили в одном месте и вручили ему. Правда, «чтобы не возбуждать недовольства среди республиканцев» ему дали двух помощников, которые носили, тот же титул, что и он, но существовали лишь для формы, являясь по отношению его простыми секретарями-советчиками, подчиненными ему и лишенными всех прав, за исключением права подписываться под ним и «скрепить своей подписью протоколы его постановлений; он один всем управлял; один он имел решающий голос, он назначал на все должности», так, что фактически все занимающие их были его подданными, а он был их властелином.
Оставалось создать законодательную власть, которая являлась бы противовесом этой столь сильной и сосредоточенной в одних руках исполнительной власти.
В хорошо устроенном и относительно здоровом обществе, это достигается при посредстве выборного парламента, являющегося представителем общественной воли, он является точным выразителем её, ибо представляет из себя точное воспроизведение в миниатюре самого общества; его состав — это законное и пропорциональное резюме господствующих разнородных мнений. В этом случае выборы очевидно производились правильно; высшее право выборов уважалось; другими словами, руководившие их участниками страсти не были слишком сильны, из чего следовало, что преобладающие интересы не были слишком разнородны
К несчастью в раздираемой несогласиями и раздорами Франции все важнейшие интересы постоянно сталкивались; вот почему при выборах разыгрывались бешеные страсти, они не уважали чужих прав, а менее всего уважали право свободных выборов; вследствие всего этого выборы производились неправильно и выборный парламент отнюдь не являлся выразителем воли всей страны, с 1791 года малочисленные и подвергаемые давлению извне выборные кампании возводили на законодательные скамьи под именем народных представителей разных самозванцев. Их поневоле терпели за неимением лучшего, но за то они не пользовались ни доверием, ни снисхождением; все знали каким образом они была избраны и какое ничтожное значение имело их звание. Из равнодушия, страха, либо презрения к существующим порядкам большинство избирателей не подавало своих голосов; у избирательных урн голосующие граждане вступали в драку; более сильные или более наглые из них изгоняли, либо силой заставляли подчиниться себе своих противников. В течение последних трех лет директории, выборные собрания часто распадались на две части; каждая партия избирала своего собственного депутата, тогда правительство из двух избранников произвольно и с бесстыдным пристрастием утверждало того, который ему больше нравился; еще того хуже, если избирали единодушно одного депутата, но последний являлся противником правительства, оно безцеремонно устраняло его. В общем, в течение девяти лет законодательное учреждение, руководимое отдельными партиями, отнюдь не было законнее исполнительной власти, это был самозванец, самовольно замещающий нацию, либо обессиливающий ее. Невозможно было исправить этот недостаток избирательной машины; он проистекал из сущности её строения и кроме того, являлся естественным следствием плохого качества рабочего материала. В этот период даже при беспартийном и сильном правительстве, машина не могла бы производительно работать, выжать из нации группу здравомыслящих и уважаемых людей, дать Франции парламент, способный принимать хоть какое-нибудь все равно большее или меньшее участие в ведении общественных дел.
Ибо представьте себе новых правителей, не выходящих из рамок законности, энергичных, стоящих на страже общественных интересов, отличающихся редким самоотвержением и административными талантами, представьте себе, что партийные страсти усмирены при сохранении полной свободы слова и агитации, центральная власть сохраняет нейтралитет по отношению всех кандидатов, принимая, однако, деятельное участье в выборах; нет ни одной официальной кандидатуры, никакого давления сверху никакого противодействия снизу, почтительные комиссары полиции и жандармы дежурят у входа всех выборных собраний, весь процесс выборов протекает правильно, в зале не замечается никакого волнения, голосование производится вполне свободно, избирателей много, пять или шесть миллионов французов толпится вокруг избирательных урн и посмотрите каков будет результат выборов.
В недавно присоединенной Бельгии, где монахи и белое духовенство подвергались беспрестанным гонениям, вспыхнуло грандиозное крестьянское восстание. Из страны Усса и старинных владельческих земель Малинов оно раскинулось вокруг Лувена до Тирлемона, наконец до Брюсселя, в Кампине, в южном Брабанте, во Фландрии, в Люксембурге, в Арденнах, вплоть до границ Льежа: пришлось сжечь много деревень, убить несколько тысяч крестьян, и оставшиеся в живых хорошо все это помнят.
В двенадцати западных департаментах в начале 1800 года роялисты были хозяевами почти всех деревень и располагали хорошо вооруженной армией численностью в 40 тысяч; — само собою разумеется их не трудно было победить и обезоружить, но, однако, невозможно было отнять у них их убеждения, так же просто, как их ружья.
В августе месяце 1799 года шестнадцать тысяч повстанцев из верхней Гароны и шести соседних департаментов, возглавляемые графом Поло, водрузили белое знамя; один из кантонов, а именно кантон Кадур «поднялся почти поголовно», один из городов Мюре, отдал всех своих способных носить оружие людей. Они достигли окрестностей Тулузы и потребовалось несколько стычек, правильное сражение, чтобы рассеять их, в один раз при Монтрежо их было убито и потоплено до 2 тысяч человек; крестьяне «дрались с бешенством, граничащим с безумием. Они до последнего вздоха не переставали провозглашать: „да здравствует король!“ и скорее позволили бы изрубить себя в куски, чем согласились бы крикнуть: „да здравствует Республика!“»
Между Марселем и Лионом по обе стороны Роны в течение пяти лет процветал мятеж в форме разбоя; шайки роялистов, наполняемые дезертировавшими новобранцами под покровительством крестьян, которых они щадили, грабили и убивали представителей республики и стяжателей национальных богатств. В тридцати других департаментах не прекращались рассеянные по разным местам Вандейские войны. Во всех же католических департаментах тайно велась Вандейская война. При таких отчаянных условиях весьма вероятно, что, если бы выборы были вполне свободны, половина Франции голосовала бы за представителей старого режима, католиков, роялистов или по крайней мере за монархистов 1790 года.
Представьте себе этих народных избранников лицом к лицу, в одной и той же зале с почти таким же числом избранников другой партии, с цветом республиканцев, я подразумеваю с преемниками предыдущих собраний, по всей вероятности, с конституционалистами IV и V годов, с конвентцами Плэны (de la Plaine) и фельянтинцами 1792 года, начиная с Лафайета и Дюмолара и кончая Дону, Тибодо и Грегуаром, а среди них нескольких жирондистов и монтаньяров, в числе последних Барера. Представьте себе два противоположных лагеря, один всецело проникнутый теориями, а другой традициями. Для человека, хорошо изучившего оба эти лагера ясно, что поставленные лицом к лицу они представляют два враждебных догмата, две системы непримиримых страстей и убеждений, два противоположных взгляда на право, общество, государство, собственность, религию, церковь старый строй, Революцию, настоящее и прошлое; таким образом, гражданская война из нации перенеслась бы в парламент. Понятно, что правая пожелала бы, чтобы первый консул был Монком, а затем превратился в Кромвеля, ибо его могущество всецело зависело бы от степени влияния на армию, которая являлась бы единственной реальной силой. Но в эту эпоху армия была еще республиканской, если не сердцем, то во всяком случае рассудком, вся проникнутая якобинскими предрассудками, и преданная революционным целям, она естественно относилась со слепой враждебностью к аристократам, королям и священникам. При первом же намеке на монархическую и католическую реставрацию, она потребует от него устройства 18 фруктидора, в противном же случае кто-либо из якобинских генералов Журдан, Бернадот, Ожеро, устроят им это без него, против него и снова общественная жизнь войдет в колею, из которой её пытались вывести, в заколдованный круг революционных вспышек и государственных переворотов.
Сейес понял это: он заметил на горизонте два призрака, в течении десяти лет посещавшие всех правителей Франции, законную анархию и временный деспотизм; он придумал магическую формулу для заклинания двух этих выходцев: отныне «вся власть» будет получаться сверху, а доверие исходить снизу.
Вследствие этого новый конституционный акт отнял у нации право избрания депутатов, отныне она может избирать лишь кандидатов в депутаты, и то при посредстве третьестепенных последовательных выборов; таким образом, оно оказывает влияние на выбор своих представителей лишь в виде «призрачного и метафизического соучастия». Все права избирателей в первой стадии выборов, сводятся к избранию из своей среды десяти человек, все права избирателей во второй стадии выборов также к избранию из их среды десяти человек, и наконец все права выборщиков в третьей стадии выборов опять-таки сводятся к избранию из их среды десяти человек, в общей сложности, шести тысяч кандидатов. К этому списку правительство, согласно дарованному ему праву, прибавляет всех своих главных чиновников и естественно, что из такого длинного списка оно без труда может выбрать соответствующих его требованиям людей. Из предосторожности оно самолично, не считаясь ни с каким списком кандидатов имеет право назначат членов главного законодательного учреждения. Наконец для всех предоставляемых им законодательных должностей, оно присваивает прекрасные оклады в 10 тысяч франков, в 15 тысяч франков и в 30 тысяч франков в год; с самого начала все усиленно начинают добиваться их и будущие представители законодательной власти начинают свою карьеру обиванием порогов.
Чтобы добиться полного послушания с их стороны, законодательная власть сразу была разделена на три части, ее расчленили на три отдельных органа, бессильные по своему существу и без деятельные по своему устройству. Все они лишены возможности иметь личную инициативу; они могут обсуждать лишь законы, предложенные правительством. Каждый из них имеет свою особою область: Трибунат обсуждает, но не может постановлять; законодательный корпус постановляет, но не может обсуждать, а на обязанности сената охранителя лежит забота о поддержании этого общего бессилия. «Ничего не поделаешь, говорил Бонапарт Лафайету, Сейес наполнил страну одними лишь тенями, тенями правосудия, тенями правительства, так надо же было хоть где-нибудь поместить реальную материю и я, честное слово, достаточно вложил её в исполнительную власть».
Последняя всецело и безраздельно находилась в его руках, остальных же представителей власти он превратил в простые декорации, либо в орудия своей воли. Ежегодно, немые из законодательного корпуса собирались в Париж для четырехмесячного молчания, и если бы он когда-либо забыл созвать их, то никто и не заметил бы отсутствия. Что же касается слишком болтливого Трибуната, то он ограничил количество его речей, «посадив его на законную диету!» затем при посредстве сената устраняющего от участия в делах нежелательных членов, он избавился от докучливых болтунов; наконец при посредстве того же сената, долженствовавшего истолковывать, охранять и в случае нужды исправлять конституцию, он ограничивал, а затем и совсем уничтожил Трибунат.
Сенат же являлся в его руках главным орудием управления; он ему диктовал нужные ему сенатские постановления. Благодаря этой комедии, которую он заставлял играть наверху и другой дополнительной, плебесциту, разыгрываемой по его указанию внизу, он превратил свое десятилетнее консульство в пожизненное, затем в империю, т.е. в полную, неограниченную и законную диктатуру. Таким образом нация была отдана на произвол одного человека, который будучи человеком не мог не ставить на первом плане свою личную пользу.
Оставалось лишь определить до какой степени и как долго его личные интересы в том виде, как он их понимал или воображал, будут согласоваться с общественными интересами. Если это согласие будет полным и постоянным, то тем лучше для Франции. Если же это согласие будет лишь частичным и временны, то тем хуже для Франции. Риск громадный, но он неизбежен избавиться от анархии можно лишь путем деспотизма, рискуя при этом в лице одного и того же человека встретить сперва спаси теля, а затем разрушителя, при этом всегда надо быть готовым всецело зависеть от неизвестной воли, которую гений и здравый смысл; либо воображение и эгоизм образуют в душе воспламененной и взволнованной стремлением к неограниченной власти; безнаказанностью и всеобщей лестью, в душе деспота ответственного лишь перед собственною совестью; победителя, который под влиянием собственных побед, приучается видеть себя и весь в все более и более ложном свете.
Таковы горькие плоды общественного разложения; благодаря ему вещественная власть гибнет, либо извращается, каждый пытается захватить ее в свои руки, а никто не соглашается вручить третьему лицу, и завладевшие ею узурпаторы становятся её представителями лишь благодаря злоупотреблениям; в их руках она направляется в сторону, противоречащую их прямому назначению. За неимением лучшего и из опасения худшего приходится мириться, когда, она, благодаря окончательному захвату, целиком попадает в единственные руки, которые в состоянии укрепить ее, организовать и применить к общественному служению.
Глава ΙΙ. Главная услуга, оказываемая общественной властью
Она представляет из себя орудие. Общий закон для всех орудий. Механические орудия. Физиологические орудия. Социальные орудия. Совершенство каждого отдельного орудия возрастает по мере специализации его. Сосредоточение всех сил в одном месте исключает возможность применения их в другом месте. Применение этого закона к общественной власти. Последствия, вызываемые вмешательством её. Она исполняет не свойственные ей функции. Её захваты являются покушением на свободу личности и собственности. Она плохо исполняет работу вытесненных ею органов. Случаи, когда она завладевает их специальными суммами, освобождая себя от обязанности пополнить их. Случай, когда она насилует либо эксплуатирует их механизм. Во всяком случае она является плохим или посредственным заместителем. Выводы, полученные при сравнении её устройства, с устройством других органов. Другие последствия. Органы в течение продолжительного времени, бездействующие либо стеснённые, в конце концов теряют способность реагировать. Бездарность отдельных личностей создаёт общую политическую и социальную бездарность. В какие руки попадает тогда общественная власть. Оскудение и упадок общественных органов.
В чем заключается главная услуга, оказываемая обществу общественной властью? Самая важная услуга, какую только она может оказать обществу, заключается в защите всего общества от иноземцев и частных лиц одного от другого. Понятно, для исполнения такого рода обязанностей ей во всяком случае нужны необходимые орудия, а именно: дипломатия, армия, флот и арсеналы, гражданские и уголовные суды, тюрьмы, жандармерия и полиция, подати и сборщики податей, целая иерархия представителей власти и местных охранителей, старающихся каждый на своем месте и в подведомственной ему области достигнуть надлежащего результата.
Само собой разумеется также, что для применения на практике этих орудий ей, смотря по обстоятельствам, нужно то, либо другое государственное устройство, та, либо другая степень силы и энергии: смотря потому, какого рода и насколько серьезная внешняя или внутренняя опасность угрожает ей, она должна быть разделена либо сконцентрирована, подвергнута строгому контролю либо бесконтрольна, либеральна либо консервативна. Каково бы ни было устройство её механизма никогда не следует заранее возмущаться им. Собственно говоря, оно представляет из себя машину, сложный механизм человеческого общества, схожий по своему устройству с машинами на заводах и органами человеческого тела. Если известное дело может быть сдельно лишь при посредстве машины, то приходиться мириться с машиной и её устройством: цель оправдывает средства. Все что мы можем требовать — это, чтобы все средства неуклонно вели к определенной цели, другими словами, чтобы мириады отдельных частей больших и маленьких, местных и центральных были приведены в порядок, приноровлены друг к другу и распределены так, чтобы в конце концов получился результат, к достижению которого все они посредственно или непосредственно стремились.
Но простая ли или сложная, каждая рабочая машина подчиняется одному общему правилу: чем больше отвечает она известному назначению, тем меньше отвечает всем остальным; по мере усовершенствования её, ограничивается круг её применения. Следовательно, если имеется два различных орудия предназначенных для различного употребления, то чем более совершенны будут они каждый в своем роде, тем резче будут ограничены области их применения и тем сильнее будет различие между нами; по мере того как каждый из них будет становиться все более способным исполнять собственное дело, ему все труднее будет становиться исполнять чужое дело, в конце концов они не смогут более заменять друг друга; все это в разной степени применимо к механическим, физиологическим и социальным орудиям.
На самой низкой ступени человеческого производства дикарь обладает всего лишь одним орудием: при посредстве остроконечного и отточенного камня он убивает, раскалывает, рубит, прокалывает, пилит, разрезает, одним и тем же инструментом он худо ли, хорошо ли пользуется для различных целей. Но затем появляются копье, топор, молоток, шило, пила, нож, все они лучше отвечают своему назначению, но за то менее пригодны для другого употребления: трудно пилить ножом и неудобно резать пилою. Затем появляются сложные, усовершенствованные машины, применимые лишь в известной, строго определенной области: швейная машина и пишущая машина, невозможно шить при помощи пишущей машины и писать на швейной машине.
Тоже самое замечается на самой низкой ступени зоологической лестницы, когда животное является лишь однородной студенистой, бесформенной массой, все части его организма одновременно исполняют все его функции; все клеточки тела амебы без различия играют одновременно роль органов передвижения, дыханья, пищеварения, кровообращения, размножения и выделенья отбросов. Одной ступенькой выше, у полипа пресных вод, внутренняя сумка, являющаяся органом пищеварения и внешняя оболочка, исполняющая функции кожи, также могут еще в буквальном смысле этого слова заменить друг друга; если вывернуть животное как перчатку на изнанку она останется в живых: его оболочка превратится в пищеварительный орган, а пищеварительная сумка станет кожей. Но подымаясь все выше по зоологической лестнице мы увидим, что все более усложняющиеся, благодаря делению и подразделению труда — органы, все дальше расходятся в различные направлениях, и все более теряют способность замещать друг друга, например, у млекопитающих сердце годится лишь для снабжения организма кровью, а легкие для снабжения крови кислородом; они не в состоянии заменить друг друга; между двумя областями специальное строение одной из них и столь же специальное строение другой выдвигают непроходимую стену.
Тоже самое наблюдается на самой низкой ступени социальной лестницы; ещё раньше Андаманов мы видим низшую форму общественного устройства: человечество, живущее стадной жизнью; внутри этого стада нет никаких определенных учреждений, преследующих определенные цели; нет даже семьи, по крайней мере, постоянной; никаких взаимных обязательств между самцом и самкой, ничего, кроме полового влечения. Постепенно из этой кучи равных и схожих между собою индивидуумов выступают, формируются и выделяются отдельные группы; появляется все более и более определенное родство, все более и более замкнутые семьи, все сильнее и сильнее развивается наследственность семейных очагов и одновременно появляются рыболовные и охотничьи снаряды, военное оружие и маленькие мастерские ремесленников; если же это народ, подчинивший себе другие, то мало по малу он, подразделяется на касты. В конце концов в разросшемся и глубоко организованном общественном организме мы встречаем общины, провинции, церкви, больницы, школы, целый ряд разнородных более или менее значительных организаций и обществ, временных и постоянных, случайных и нарочно учрежденных, словом, множество общественных механизмов, составленных человеческими особями, которые из расчета, по привычке или по принуждению или же по совести, благодаря известного рода наклонностям либо из великодушия, действуют согласно определенному либо подразумеваемому уставу, чтобы достигнуть в материальном либо духовном отношении, того либо другого определенного результата; во Франции мы теперь насчитываем кроме государства восемьдесят шесть департаментов, тридцать шесть тысяч общин, четыре церкви, сорок тысяч приходов, семь или восемь миллионов семей, миллионы земледельческих, промышленных и коммерческих учреждений, сотни ученых и художественных обществ, тысячи учебных и богоугодных заведений, сотни тысяч обществ взаимной помощи и благотворительных, деловых и увеселительных учреждений, словом бесчисленное множество разнородных организаций, имеющих каждая свое специальное назначение и исполняющих в качестве орудия или органа свое особое строго определенное дело.
А в качестве орудия или органа каждая из них подчинена общему закону, чем совершеннее она в известной роли, тем посредственнее и хуже в других ролях, её уменье в специальной области порождает полнейшую бездарность во всех остальных областях. Вот почему у культурных народов они не могут заменять друг друга. — «Весьма вероятно, что академия художеств, исполняющая одновременно функции банкирской конторы, будет выставлять лишь посредственные картины и выпускать сомнительного качества бумаги. Также не подлежит сомнению, что газопроводная компания, являющаяся вместе с тем учебным заведением, не даст своим питомцам солидного образования и плохо будет освещать улицы». Ибо всякое орудие, будь то механический инструмент, физиологический орган или человеческая ассоциация, является совокупностью частей, все действия которых направлены к одной общей цели; не важно, что эти части составлены из кусков дерева и железа, как в рабочем инструменте; из клеточек и нервов, как в физиологическом органе; из отдельных умов и душ как в человеческих обществах, вся суть в планомерности и стройности их действий, ибо чем теснее связаны между собою все действия, тем легче данному орудию достигнуть намеченной цели. Но, благодаря этой тесной связи всех отдельных частей орудие приобретает способность действовать лишь в известном направлении и теряет способность действовать во всех остальных, оно не может делать одновременно два различных дела, ибо немыслимо идти направо и в то же время подвигаться влево.
Если какое-либо общественное орудие, созданное для выполнения известного дела, станет сверх того браться за чужое дело, то оно испортит и одно, и другое. Из двух исполняемых дел первое будет исключать второе, а второе первое. Обыкновенно ему приходится одно из них принести в жертву другому, а чаще всего он забрасывает оба.
Проследим действие этого закона, в тех случаях, когда общественная власть сверх своей первой и основной задачи возлагает на себя постороннюю обязанность и заменяет собою другие органы управления, стараясь выполнять их дело, когда государство, не довольствуясь защитой общества и частных лиц от внешней и внутренней опасности, берется, сверх того, руководить религией, образованием и благотворительностью, управлять науками и искусствами, вести все коммерческие, муниципальные, земельные, промышленные, провинциальные и домашние дела. Без сомнения оно может вмешиваться в дела всех органов управления, это не только его права, но даже обязанность; оно должно в качестве защитника личности и собственности не допускать грабежа и притеснений со стороны разных органов управления, должно следить за соблюдением закона, заставлять всех отдельных представителей власти строго придерживаться рамок законности; должно в духе того же закона улаживать недоразумения, какие могут возникнуть между правителями и управляемыми, между директорами и акционерами, между настоятелями церквей и их прихожанами, между усопшими жертвователями и их живыми наследниками.
С этой целью оно предоставляет им свои суды, своих судебных приставов и своих жандармов, и оно это делает вполне сознательно, сообразуясь со смыслом закона. Это входит в круг его обязанностей. Его полномочия не позволяют ему пользоваться общественной властью для поддержки предприятий, основанных на грабеже и притеснении; ему воспрещено утверждать безнравственные либо закрепощающие кого-нибудь договоры, а тем более разбойничьи или мятежные общества, а также вооруженные либо готовые вооружиться лиги, враждебно настроенные против всего общества, части его или же самого государства. Но между этим законным вмешательством, защищающим права граждан и самовольным вторжением в чужие области существует, резко обозначенная граница, и оно всегда ее переступает, как только к своей обязанности защитника правосудия присоединяет новую обязанность, когда оно начинает управлять или распоряжаться средствами другого органа управления. В таком случае получается два отрицательных явления, — с одной стороны, государство не отвечает своему прямому назначению, а с другой стороны, оно плохо исполняет свою добавочную обязанность.
Ибо прежде всего, управляя чуждой областью, например, церковью, оно, то назначает духовных начальников, как это было при старой монархии после уничтожения Прагматического уложения конкордатом 1516 года, то, как национальное собрание 1791 года, изобретает новый способ избрания их; другими словами оно навязывает церкви новую дисциплину, противную не только духу, но даже её догматам. Порою оно заходит так далеко, превращает отдельные органы власти в ветви своего собственного управления, а их начальников — в ответственных чиновников, всеми действиями которых она управляет и руководит: так оно поступало при Империи и Реставрации с мэрами и советниками общин, с профессорами и провизорами университетов, наконец, еще один шаг и захват достигает своего кульминационного пункта; понятно, что возложив на себя новую обязанность, оно из самолюбия или предосторожности, в силу предрассудка или же вследствие определенной теории, стремится распространить на новую область, либо сохранить за ней монополию; до 1789 года существовала монополия в пользу католической церкви в виде воспрещения исповедовать какую-либо другую религию; существовала также монополия в пользу артистических и ремесленных цехов, воспрещавшая свободный труд; после 1800 была учреждена монополия по отношению существующих уж либо проектируемых частных учебных заведений.
Но такой произвол со стороны государства является посягательством на права личности. Чем дальше распространяет оно свои захваты, тем больше подтачивает и ограничивает круг личной инициативы и независимых действий, составляющий сущность жизни каждого отдельного индивидуума. Если согласно якобинской программе, оно повсеместно раскинет сеть своих захватов, оно поглотит все индивидуальные жизни; отныне общины станут управляться руководимыми свыше автоматами, безличными людьми с искалеченными, безвольными и, если так можно выразиться, мертвыми душами. Существующее для защиты личности государство в таком случае убивает ее.
Тоже самое получается по отношению собственности, когда оно берет на себя заботу о денежной стороне какого-либо органа управления. Ибо для расходов на его нужды у него нет других денег, кроме получающихся от взимания налогов; следовательно оно руками своих сборщиков податей берет эти деньги у него из его же собственного кармана. Таким образом все граждане волей-неволей косвенным образом уплачивают добавочный налог за добавочные услуги, в которых они либо не нуждаются, либо даже тяготятся ими. Если я, будучи католиком, живу в протестантском государстве; либо будучи протестантом живу в католическом государстве, я плачу налоги в пользу религии являющейся, с моей точки зрения ложной, и в пользу церкви, которую я считаю вредною. Если я по убеждениям скептик или свободомыслящий, относящийся равнодушно или враждебно, ко всем религиям, то при теперешнем положении дел во Франции я плачу налоги для поддержания четырех вероисповеданий, которые мне кажутся лишними и бесполезными; если я провинциал или крестьянин, то я плачу за содержание оперы, куда я никогда не попаду, поддерживаю своими деньгами процветание Севра и Гобелен, [27] хотя никогда не увижу ни одной вышивки и ни одной вазы их производства.
В спокойные времена грабеж несколько маскируется, но во время смут и волнений открыто воцаряется повсюду. При революционном правительстве шайки сборщиков податей, вооружившись пиками, врывались в деревни и хозяйничали там, как в покоренной стране: схваченный за горло и награждаемый ударами земледелец поневоле молчал, видя как увозили зерно из его амбара и уводили его скот; «все это непосредственно направлялось в город», и вокруг Парижа на расстоянии сорока лье все департаменты постились, откармливая столицу. Тоже самое вымогательство мы видим, но только в более мягкой форме, когда при законном правительстве, приличный сборщик податей в сюртуке вытаскивает из нашего кармана лишний талер на такое дело, которое, не должно быть руководимо правительством. Если оно по примеру якобинского правительства захватывает в свои руки все области, то оно окончательно опустошает кошельки; учрежденное для защиты собственности, оно ее уничтожает. Таким образом, если общественная власть, не довольствуясь заботой об охране неприкосновенности личности и собственности, возлагает на себя еще какие-либо обязанности, она не только превышает свои полномочия, но поступает даже вопреки им.
Постараемся теперь изучить другой род злоупотреблений властей и посмотрим, каким образом государство исполняет обязанности вытесненных им органов управления. Прежде всего есть основание предполагать, что рано или поздно оно постарается освободиться от них, ибо эти новые обязанности более или менее дорого стоят, и оно рано или поздно приходит к убеждению, что они слишком дорого обходятся. Оно разумеется берет на себя расходы по содержанию их, а порою, как, например, конституционное собрание и законодательное собрание оно, конфисковав доходы, которыми они жили, обязуется возместить их равноценными доходами, то оно должно исчерпанные им, либо присвоенные себе местные и специальные источники — заменить тем же количеством влаги из большего центрального резервуара, общественной казны.
Но если в этом резервуаре уровень воды понижается, если недоимки уменьшают приток её, если война пробивает широкую брешь в стенках его, если расточительность и бездарность правителей увеличивают число трещин и способствует увеличению отлива воды, если не хватает денег на побочные и второстепенные нужды, взявшее на себя заботу о них, то государство умывает руки; мы видели при Конвенте и Директории, как оно после захвата имущества всех органов: провинций, общин, учебных заведений, ученых и художественных обществ, приютов и больниц справилось с своей задачей, как быв сперва хищником и вором, оно вдруг стало несостоятельным и заявило о своем банкротстве; как своей узурпацией, затем своим банкротством оно разорило, а потом обессилило все остальные органы власти, как благодаря своему вмешательству и отступлению, оно уничтожило во Франции образование, религию и благотворительность; мы видели почему в городах улицы не подметались и не освещались более; почему в департаментах были испорчены дороги и разрушены плотины; почему школы были пусты, либо закрыты; почему в приютах и больницах, подкидыши умирали от недостатка молока, старики от отсутствия одежды, а больные от отсутствия говядины, бульонов, лекарств и кроватей.
Но во всяком случае, если даже государство заботится о доставлении средства, управляемому им органу, есть основание опасаться, что оно неправильно будет распределять их. Обыкновенно, если правители овладевают каким-либо учреждением, они это делают с целью эксплуатировать последнее в свою пользу и во вред ему; при управлении им они отдают предпочтение своим интересам и своим теориям; они вносят в дело свои личные страсти; они по своему усмотрению переделывают отдельные части либо главные двигатели механизма; они придают ему ложное направление, расшатывают его; они превращают его в избирательную, доктринерскую либо фискальную машину, в орудие партии или же королевской власти. Таковы в XVIII столетии известные представители церкви, придворные епископы, салонные аббаты, наделенные свыше своими епархиями и аббатствами, не живущие там, а причисленные к министерствам, для которых они ровно ничего не делают, получающие громадные оклады за свое ничегонеделание, паразиты Церкви, кроме того, светские люди, франты, подчас скептики, странные руководители христианского духовенства, словно нарочно избранные для ослабления веры в душах своей паствы и дисциплины в монастырях. Таково в 1761 году новое духовенство, пришлое, еретическое, навязанное правоверному большинству, дабы служить ему обедни, которые оно считало святотатством и уделять насильно таинства.
Наконец если даже правители не подчиняют интересы известного учреждения своим страстям, своим теориям и своим личным интересам, если они не калечат их и не извращают, если даже они самым добросовестным образом исполняют возложенные на себя добавочные обязанности, они неизбежно будут плохо их исполнять, много хуже, вытесненных ими специальных органов, ибо между устройством этих органов и устройством государства существует громадная разница.
Единственное в своем роде, обладающее лишь шпагой, действующее свысока и издали, опираясь на свой авторитет и грубую силу, государство управляет одновременно всей территорией при посредстве однообразных законов, властных и точно обозначенных правил и иерархий послушных чиновников, обязанных пунктуально исполнять получаемые свыше приказания. Вот почему оно непригодно для дела, которое для успешного ведения нуждается в иных двигателях и иных способах производства. Его воздействие внешнего свойства, оно слишком слабо и не может поддерживать и двигать вперед предприятий, нуждающихся во внутреннем двигателе, как например, личный интерес, местный патриотизм, семейные привязанности, научная любознательность, филантропические наклонности, религиозность. Его способ ведения дела вполне механический, он слишком суровый и слишком ограниченный, чтобы способствовать процветанию предприятий, требующих от предпринимателя большего такта и изворотливости, ловкости рук, верной оценки всех обстоятельств, постоянного приноравливания средств к цели, неиссякаемой изобретательности, инициативы и независимости, следовательно, государство является плохим главою семьи, плохим промышленником, земледельцем и коммерсантом, плохим распределителем труда и продовольствия, плохим руководителем производства, обмена и потребления, посредственным правителем провинции и общины, неразборчивым филантропом, неумелым руководителем изящных искусств, науки, образования и вероисповеданий. При исполнении всех этих обязанностей, оно проявляет большую медлительность и неумелость, отсталость, неприспособленность и расточительность, все действия его оказываются малодействительными и мало производительными, и всегда направленными в противоположную его прямым обязанностям сторону, вследствие чего не могут удовлетворять своему прямой назначению. Это происходит оттого, что оно действует слишком издалека и свысока и распространяет свое влияние на слишком обширную область. Влияние это, передаваемое при посредстве длинной цепи чиновников, ослабляется множеством разнородных формальностей и запутывается в бесчисленных канцелярских бумагах. Достигнув в известный срок места назначения оно распространяет на все области одну и ту же программу, цельную программу составленную заранее в кабинете, без предварительных испытаний и необходимого приспособления к обстоятельствам; программу, рассчитанную приблизительно, на основании общих выводов и средних данных, не подходящую полностью ни к какою частному случаю, программу навязывающую всем предметам свое точно определенное однообразие, вместо того, чтобы приспособлять к изменчивости и подвижности жизненных форм, нечто вроде официальной одежды, обязательной формы и покроя, отправляемой центром в провинцию в тысячах экземпляров для ношения их во все времена года, людьми различного роста и разного телосложения.
Но хуже всего то, что государство не только плохо, грубо, расточительно и непродуктивно работает в чуждой ему области, но еще сверх того в силу ли присвоенной себе законной монополии или благодаря практикуемой им изнурительной конкуренции, убивает все эти, естественным путем зарождающиеся учреждения, парализует их, либо препятствует их появлению на свет, вследствие чего у общественного организма оказываются отрезанными, омертвевшими, либо недоношенными и недоразвившимися, необходимые для него органы.
Еще хуже того, если такой режим длится и продолжает уничтожать их, ибо общество теряет способность воспроизводить их, вырванные с корнем, они не дают новых ростков и даже зерно вскоре погибает. Отдельные индивидуумы не могут больше без воздействия извне и свыше сплачиваться, по собственной инициативе, организоваться надолго, с точно намеченной целью, по известному плану, под начальством свободно избранных, добровольно всеми признанных и пользующихся всеобщим доверием людей. Взаимное доверие, уважение закона, лояльность, добровольное повиновение, предусмотрительность, терпимость, терпение, постоянство, житейский здравый смысл и все те свойства ума и сердца, отсутствие которых делают недействительным и не жизнеспособным всякое общество, замирают в них, потому что они лишены возможности упражняться в них. Отныне свободное, мирное и плодотворное сотрудничество, такое, какое встречается у здоровых народов, становится для них недоступным: в них развивается общественная бездарность, а затем как естественное следствие её, политическая бездарность.
На деле они не избирают больше ни образа правления, ни своих правителей, они волей неволей принимают их такими, какими угодно их наделить случаю, либо узурпации; у них общественная власть принадлежит партии, либо смелой и энергичной личности, сумевшей захватить ею и сохранить за собою, чтобы эгоистично и обманным образом пользоваться ею при посредстве личного обаяния, громких подвигов и трескучих фраз о правах человека и общественном благе. А у центральной власти для восприятия их мнений имеется под рукою один лишь оскудевший, инертный и вялый общественный орган, способный лишь на перемежающиеся судороги, да на искусственную неподвижность по заказу, организм лишен второстепенных членов, упрощенный до крайности, низведенный на низшую ступень, народ, превратившийся в арифметическую сумму отрицательных единиц; словом, человеческая пыль иди человеческая грязь.
Вот к чему приводит вмешательство государства во все общественные дела. В духовном мире, точно также как и в физическом, есть свои законы, мы можем, конечно, не знать их, но не в состоянии уклониться от их влияния. Они бывают, смотря по обстоятельствам то благоприятны, то неблагоприятны для вас, но всегда остаются неизменными и не считаются с нашими желаниями, так что нам приходится считаться с ними, ибо две величины соединяемые ими во едино неразлучно, лишь только появляется первая, неизбежно за нею следует вторая.
Глава III. Прежние случаи новой организации
Практика. Прежние захваты общественной власти. Органы самоуправления при старом режиме и во время революции. Падение и крушение всех их подпор. Центральная власть в качестве единственной сохранившейся точки опоры. Теория. Согласование умозрительных идей с реальными нуждами. Общественное право при старом режиме. Три первоначальных титула короля. Работы законоведов над расширением государственных прав. Исторические препятствия. Первоначальные и дальнейшие ограничения королевский власти. Философский и революционный принципы народовластия. Неограниченное распространено прав государства. Применение их к органам самоуправления. Сходство старых доктрин с новою доктриною. Органы управления, рассматриваемые как создания общественной власти. Централизация вследствие захвата всех областей государством. Организатор. Влияние, оказываемое характером и умом Наполеона на внутренние французские дела. Требования его внешней, европейский роли. Отмена всех центров соединения и взаимного понимания. Распространение и значение общественной области. Причины, заставлявшие заботиться о сохранении частной жизни, Место, уделяемое индивидууму. Его собственное укромное убежище. Открытый для него выход оттуда. Таланты вербуются для служения общественной власти. Окончательное устройство французского государства. Его особый вид и временное могущество, отсутствие в нём равновесия и его сомнительная будущность. Его отличительные черты и общий вид. Разница между его строением, и строением других современных государств. Старая Франции, её разношерстность, её сложность, её недочеты. Новая Франция, её единство, её простота, её безукоризненность. Аналогичные явления в физическом мире и в литературе. К кому разряду явлений принадлежит она. В политическом и общественном отношении она является образцовым произведением современности в классическом духе. Аналогичное явление в древнем мире. Римское государство от Диоклетиана до Константина. Право ума Наполеона на восприятие римского мировоззрения. Новая Западная Империя.
К несчастью, в конце XVIII столетия во Франции прочно установилась известного рода привычка и это была очень скверная привычка. В продолжение трех веков и даже больше, общественная власть лишала свободы и авторитета органы самоуправления. Иногда она их калечила и обезглавливала: так на протяжении трех четвертей территории, во всех избирательных округах она уничтожила провинциальные Штаты, от прежней провинции осталось лишь название. А иногда она не калеча органов лишь ослабляла их и извращала, либо портила и расчленяла: в городах — благодаря переделке старых демократических конституций, ограничению избирательного права и возобновлению продажи муниципальных должностей, она всецело отдала муниципальную власть в руки небольшой кучки олигархов из буржуазных семей, привилегированных за счет податного сословия, на половину оторванных от народной массы, не пользующихся симпатиями бедного люда и не поддерживаемых ни сочувствием, ни доверием общества. Так в приходах и сельских кантонах она лишила помещика его роли местного покровителя и наследственного хозяина, низведя его до унизительного положения простого кредитора, а если он был придворным, то до отвратительного положения отсутствующего кредитора. Так среди духовенства она почти отделила вершину от ствола, словно по мановению волшебного жезла противопоставляя штабу прелатов-дворян, обеспеченных, тщеславных, праздных и неверующих, — армию разночинцев-священников, бедных, трудолюбивых и верующих. Иногда же наконец, её благосклонность, столь же злополучная, как и враждебность, награждала некоторые органы привилегией притеснения других, что делало их вредными и неудобными, или же она их втискивала в обветшавшие формы и, таким образом, парализовала их движения и лишала возможности удовлетворять своему назначению. Так, например, обстояло дело с художественными и ремесленными корпорациями, которым она за наличные деньги даровала монополии, являвшиеся тяжелым бременем для потребителя и ненужными путами для производства. Тоже самое замечалось и по отношению церкви, которую она каждые пять лет взамен за добровольные даяния награждала жестокими милостями и поддерживала унизительные для неё прерогативы, как например, непрекращающиеся преследования протестантов, контроль свободной мысли, право руководить образованием и школами. Тоже самое было и с университетами, погрязшими в рутинах, с последними провинциальными Штатами, учрежденными в 1789 году по образцу 1489 года, с дворянскими родами, стесненными законом о старинном порядке наследования и майоратах, т.е. подчиненными обычаю, некогда установленному для их личной и общей пользы с целью поддержания правильной передачи местного господства и политической власти, но ставшему теперь, когда дворянство, получив придворные должности, отказалось от местного господства и утратило политическую власть, — вредным и развращающим, являясь источником тщеславия, низких расчетов, домашней тирании, ложно понятого призвания и семейных столкновений.
Таким образом органы лишенные возможности отправлять свои естественные функции стали неузнаваемы под обезобразившей их толстой корой злоупотреблений; никто кроме Монтеськё не понимал, зачем они существуют. В начале революции они производили впечатление неестественных органов, а каких-то безобразных наростов, чудовищных придатков и, так сказать, казались престарелыми угрозами. Никто не замечал более их исторических и естественных корней, их глубоко ушедших в почву, живых еще и бесконечно жизненных ростков, их социальной необходимости, их несомненной полезности и возможности пользоваться ими. Все лишь чувствовали их неудобство в данный момент; страдали от их шероховатостей и тяжести, возмущались их нескладностью и несвязностью, считали отличительным свойством их строения, то что являлось следствием их вырождения; полагали что они вредны по своему существу и осуждали их в принципе за уклонение и задержки в их развитии, порожденные вмешательством общественной власти.
Но тут общественная власть причинившая столько зла своим вторжением в чуждые ей области вздумала исправить дело путем еще большего произвола: в 1789 года она снова стала вмешиваться в дела различных органов самоуправления, но этим новым вмешательством не только не восстановила их в прежних правах, не наметила точно границ их деятельности, но окончательно разрушила их. При посредстве коренной, всеобщей, необычайной ампутации, равной которой не встречается в истории, произведенной со смелостью теоретика и грубостью коновала, законодатель с корнем вырвал их все до последнего, включая и семью; и его остервенение было так велико, что не довольствуясь настоящим, он простер свое преследование и на будущее. Кроме законной отмены и поголовной конфискации, он вооружился против них систематической враждебностью своих предварительных законов и преградил им путь к дальнейшему развитию, своими новыми установлениями; в трех законодательных собраниях он неизменно стремился не допустить их возрождения, боролся с их стойкими инстинктами и потребностями, могущими воскресить в будущем прочную семью, отдельные провинции правоверную церковь, артистические, ремесленные, финансовые, благотворительные и образовательные общества; боролся со всеми организованными и самодеятельными кружками, со всеми коллективными, местными либо специальными предприятиями. А на их место он помещал искусственные учреждения: церковь без верующих, школы без учеников; не приносящие дохода больницы; геометрическую иерархию общинных, окружных и департаментских властей, неподготовленных к своей деятельности, плохо организованных, плохо подобранных, плохо приспособленных, заранее обреченных на разлад между собою, обремененных политическими обязанностями, равно неспособных исполнять, как свои прямые, так и добавочные обязанности и с первых же шагов бессильных и вредных. Видоизменяемые неоднократно, терзаемые произволом сверху и произволом снизу, свергаемые либо обезличиваемые, то народными восстаниями, то правительством; бездеятельные в деревнях и деспотические в городах, мы видели во что они превратились к концу Директории; как, вместо того чтобы быть убежищем свободы, они стали притонами тирании и гнездами эгоизма; мы видели почему в 1800 году они пользовала столь же дурной репутацией, как и их предшественники в 1788 году, почему две их последовательные опоры, — старая и новая, историческая привычка и всеобщее избирательное право были дискредитированы и негодны к употреблению.
После злосчастного опыта монархии, после еще худшего опыта республики пришлось искать для органов самоуправления иной точки опоры, нашлась всего одна очевидная и, казалось, прочная, а именно, центральная власть; за неимением лучшего пришлось примириться с нею. По крайней мере нигде не замечалось даже скрытого протеста против слияния государства с органами самоуправления и ничто не мешало ему завладеть ими всецело и пользоваться как орудиями для своих целей.
В этом случае теория вполне согласовалась с требованиями данной минуты и не только современная теория, но и старинная. Много раньше 1789 года общественное право возвело в догмат и вознесло превыше всякой меры преимущества центральной власти.
Три почетных звания наделяли ее ими. Государь и феодальный властелин, т.е. главнокомандующий великой постоянной армией, полки которой в начале IX века пересоздали человеческое общество, король издавна в силу своего происхождения, я хочу сказать, благодаря практикуемому с незапамятных времен смешению понятий о власти и собственности, был таким же полным властелином Франции, как любой помещик своего имения.
Связанный крепкими узами с церковью, коронованный в Реймсе, такой же помазанник Божий как и Давид, он считался не только уполномоченным свыше, как другие монархи, но со времени Людовика Толстого, а главное после Людовика Святого признавался чуть ли не ниспосланным свыше, облеченным во священнический сан, наделенным духовными свойствами министра вечной справедливости, карающего грешных, защищающего слабых, благодетельствующего малых, словом, пользовался репутацией «наихристианнейшего короля».
Наконец, в XIII столетии новое открытие и усидчивое изучение кодекса Юстиниана указали на него, как на наследника римских цезарей и византийских императоров. Согласно этому кодексу, народ в полном своем составе передавал все свои права государю, а так как в древних городах отдельные индивидуумы не пользовались никакими правами, а все права принадлежали всему обществу, то при посредстве этой передачи все как частные, так и общественные права сосредоточивались в руках государя и отныне он неограниченно и бесконтрольно пользовался ими. Он был выше закона, ибо он сам издавал законы: его влияние было беспредельно, а его власть безгранична.
На этой тройной основе со времен Филиппа Красивого все законодатели, словно государственные пауки, плели свою сеть и их инстинктивно дружные последовательные усилия извлекли все нити из утка для создания всемогущества короля.
В качестве законоведов, т.е. логиков, они должны были делать выводы и их руки неизменно протягивались к единственному точному принципу, к которому они могли применить свои рассуждения. В качестве адвокатов и царских советников они из профессионального усердия, защищая права своего клиента, извлекали полезные для него тексты и указания на предшествовавшие случаи, а если надо было, то и искажали их соответственным образом. Когда же они являлись администраторами и судьями, то сознавая, что величие их повелителя создало их собственное величие, они ради собственной пользы старались расширить прерогативы, часть которых путем полномочий приходилась на их долю. Вот почему в течение четырех столетий они ткали сеть «государственных прав», гигантские тенета, в которых со времен Людовика XIV были захвачены все жизни.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
