
Ипполит Тэн, «Происхождение современной Франции»
Революция
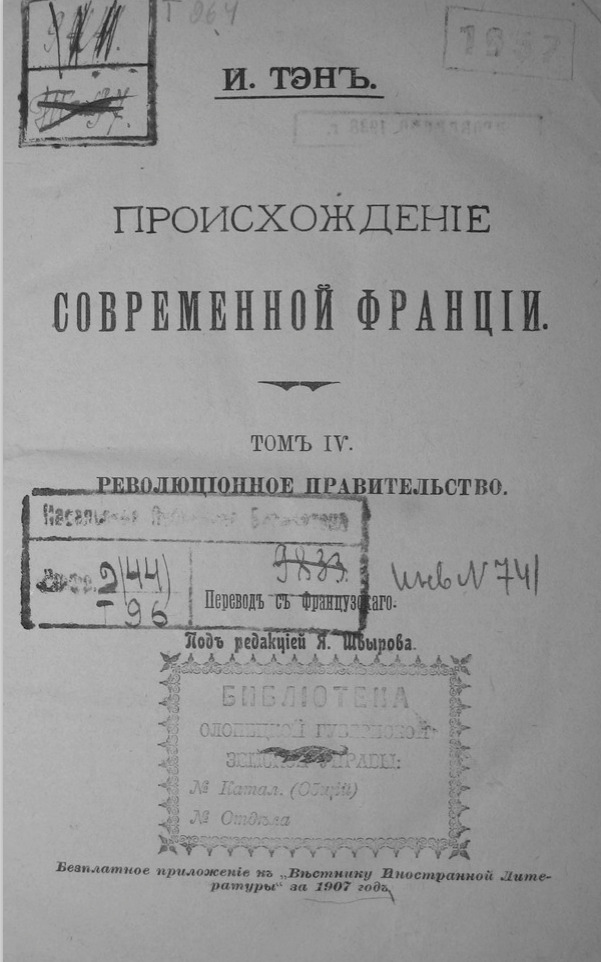
Книга первая. Революционное правительство
Глава I. Слабость предшествующих правительств
Энергия нового правительства. Абсолютистские догматы и инстинкты якобинца. Контраст между его словами и действиями. Как он скрывает перемену своих убеждений. Конституция июня 1793 года. Обещания свободы. Первичные Собрания. Пропорция отсутствующих. Единогласие вотирующих. Мотивы, по которым они принимают конституцию. Давление на выборах. Избрание делегатов. Они приезжают в Париж. Меры предосторожности против них. Они заявляют свои якобинские политические убеждения. Их роль в празднике 10 августа. Их экзальтация. Маневры Горы. Вечер 11 августа в якобинском клубе. Заседание 12 августа в Конвенте. Делегаты берут на себя инициативу террора. Народ санкционирует диктатуру якобинцев. Последствия этого. Восстание в департаментах. Его основная слабость. Широкие слои населения относятся к нему с недоверием или же инертны. Незначительное количество жирондистов. Равнодушие их приверженцев. Колебания бежавших депутатов и восставшей администрации. Они не создают центрального правительства. Они оставляют в руках Конвента военную власть. Неизбежность усиления уступок с их стороны. Департаменты уступают один за другим. Перемена политических взглядов скомпрометированных властей. Бессилие и иллюзии умеренных. Последние местные сопротивления. Политическая ортодоксальность восставших городов. Они оговаривают свое подчинение одним только условием. Государственные соображения в пользу этого. Партийные соображения против этого. Подавление мятежа в городах. Бордо. Марсель. Лион. Тулон. Уничтожение партии жирондистов. Проскрипция правых депутатов. Заключение в тюрьму. Казнь двадцать одного. Казнь, самоубийство или бегство остальных. Учреждение революционного правительства. Его принцип, его цели, его способы действия, его орудия, его механизм. Комитет общественного спасения. Подчинение Конвента и министерства. Функции Комитета общественного спасения и Революционного трибунала. Административная централизация. Представители с полномочиями, национальные агенты и революционные комитеты. Закон об оскорблении величества. Восстановление прежних монархических учреждений.
До этого времени слабость законного правительства была чрезвычайна. В течение четырех лет ему везде и беспрестанно оказывали неповиновение. В течение четырех лет оно не осмеливалось силою заставить себе повиноваться. Стоявшие во главе правления люди, принадлежавшие к культурному классу, вносили с собой предрассудки и чувствительность своего века, находясь во власти царившего тогда догмата. Они подчинялись желаниям толпы и питая слишком сильную веру в права человека, слишком мало верили в права должностного лица; тем более, что из человечности они чувствовали отвращение к крови и не желая применять силу, шли на уступки. Так с 1 мая 1789 по 2 июня 1793 года они законодательствовали и управляли среди тысячи мятежей, которые остались почти все безнаказанными; и их конституции, — вредному созданию теории и страха, только и удалось превратить анархию произвольную в узаконенную анархию. Они умышленно и из недоверия к власти, привели ее в расстройство, превратили короля в декоративный манекен и почти уничтожили центральную власть. С верху до низу иерархии, начальство потеряло всякую власть над своими подчиненными, министр над департаментами, департамент над округами, округ над коммунами, во всех отраслях управления начальство, избираемое на местах своими подчиненными, очутилось в полной зависимости от них. И вот, так каждое место, занятое властью, очутилось в полной беззащитности, оно явилось как бы добычей для желающих им овладеть и в довершение всего декларация прав, провозгласившая «юрисдикцию лиц, давших полномочия над уполномоченными», пригласила нападающих броситься на приступ.
Тогда-то создалась крамольная партия, превратившаяся в конце концов в банду: при её криках, под её угрозами, в Париже и в провинции, на выборах и в парламенте, большинство умолкло, меньшинство вотировало, постановляло, управляло, законодательное собрание было распущено, король лишен престола, Конвент был искалечен. Из всех гарнизонов центральной крепости, монархических, конституционных, жирондистских, ни один не сумел защитить себя, переделать исполнительную власть, обнажить оружие, пустить его в ход на улице; все они при первом нападении, иногда только еще при первом словесном обращении, сдавали свое оружие и теперь цитадель вместе с другими общественными крепостями занята якобинцами.
На этот раз гарнизон совершенно другого рода. Из народной массы, мирной и культурной, Революция отобрала людей фанатичных, грубых, развращенных и поэтому потерявших всякое уважение к ближнему. И вот из кого состоит новый гарнизон, из ослепленных своими догматами фанатиков, из зачерствевших, благодаря своему ремеслу, мясников, из цепляющихся за свои места честолюбцев. По отношению к человеческой жизни и собственности эти люди не знают никаких стеснений, так как они приноровили теории, как им это было удобнее и достигли того, что верховенство народа превратилась в их собственное верховенство.
По мнению якобинца государство принадлежит ему, и он полагает, что государство заключает в себе все частное, и тело, и душу отдельных граждан; поэтому все ему принадлежит, только благодаря одному тому факту, что он якобинец и он вполне законно является и царем, и папой. Ему нет никакого дела до истинной воли французов, свой мандат он получил не вотумом, он получил его свыше, он ему дарован Истиной, Разумом, Добродетелью. Он один просвещенный человек, он один патриот, он один достоин начальствовать, и он в своей надменной гордости считает всякое сопротивление преступлением. Если большинство протестует, значит оно глупо или подкуплено, в обоих этих случаях оно заслуживает того, чтобы оно было сокрушено, и оно будет сокрушено.
И поэтому с самого начала якобинец ничем другим и не занимался, как восстаниями и насильственными захватами, грабежами и убийствами, насилиями над частными, должностными лицами, над собраниями, посягательствами на закон, на государство и нет насилий, которых бы он не свершил. Инстинктивно он всегда вел себя сувереном, он был уже им тогда, когда являлся частным человеком и членом клубов, теперь то он во всяком случае не перестанет им быть, раз ему принадлежит законная власть, тем более что он сознает, что погибнет, если ослабит бразды правления и что для спасения от эшафота у него только одно средство — диктатура. Такой человек не даст себя выгнать подобно своим предшественникам, напротив, он заставит себе повиноваться, во чтобы то ни стало, он не остановится перед тем, чтобы восстановить центральное правительство и орудие исполнительной власти, он присоединит местные механизмы, которые были ранее отделены от центрального правительства; он воссоздаст старую машину принудительной системы и будет ею управлять более грубо, более деспотично, с большим презрением к частным правам и к общественным свободам, чем Людовик XIV и Наполеон.
Однако ему остается согласовать свои будущие действия со своими недавними словами и на первый взгляд это кажется делом нелегким, так как произнесенные им слова заранее осуждают замышляемые им действия. Вчера он преувеличивал права управляемых, доходя до того, что уничтожал все права, стоящих во главе правления, завтра он преувеличит права правителей и уничтожит все права управляемых. Он раньше утверждал, что народ единственный властитель, а теперь он будет обращаться с народом как с рабом. Он говорил, что правительство только слуга, а теперь он даст правительству власть султана. Только что он объявлял преступлением малейшее функционирование общественной власти, теперь он будет наказывать как за преступление малейшее сопротивление общественной власти. Каким образом он оправдает подобную резкую перемену убеждений, и как он посмеет отрицать принципы, на которых он основал свою собственную узурпацию?
Он поостережется отрицать эти принципы, так как это значило бы довести до крайности уже восставшую провинцию, напротив, он будет их громко провозглашать и благодаря этому невежественная толпа, видя, что ей дают всю ту же склянку, будет думать, что в ней находится все то же лекарство, а между тем этикетка свободы будет скрывать истинное её содержимое — тиранию. В течение шести месяцев будут разбрасывать во все стороны этикетки, значки, тирады и выдумки шарлатанов, для того чтобы обмануть народ новой микстурой. Тем хуже для него, если она потом покажется ему горькой, рано или поздно ему придется проглотить ее по неволе.
Для начала создают наспех конституцию столь давно ожидаемую и столько раз обещанную: декларацию прав в тридцати пяти статьях, конституционный акт в ста двадцати четырех статьях, политические принципы и всякого рода учреждения, выборные, законодательные, исполнительные, административные, судебные. финансовые и военные.
Понятно новые законодатели и не думают создать машину, которая могла бы исправно действовать, об этом они совершенно не заботятся. Разве докладчик, Геро-де-Сешель не писал 7 июня, чтобы ему немедленно доставили законы, в которых он неотложно нуждался, именно неотложно, потому что он должен был выработать Конституцию и представить её в течении той недели, на которую приходится день 7 июня. Одного этого факта достаточно для суждения о рабочих и об их деле. Дело их — показное, рекламное, что касается рабочих, то одни, осторожные политики, стремятся только к тому, чтобы дать народу слова, но не дело; а другие, отвлеченные болтуны, или простые ротозеи, не умеют отличать дел от слов и думают, что, произнося фразы — творят законы.
Дело это не представляет ни малейшего труда: фразы выработаны заранее «Пусть махинаторы антинародных систем, говорит докладчик, с трудом измышляют свои проекты! Французам остается только заглянуть в свои сердца: они прочтут там одно слово — республика». Составленный по «Социальному договору», с греческими и латинскими заимствованиями, проект заключает в себе «в лапидарном стиле» популярные афоризмы, догматы и математические предписания Руссо, «аксиомы Разума и первые последствия этих аксиом», одним словом, прямолинейную Конституцию, которую придумывает каждый школьник по выходе из училища. Подобно объявлению, наклеенному на двери вновь открытого магазина, Конституция обещает покупателям все, что только они могут вообразить себе лучшего.
Угодно вам иметь права и свободы? Вот вам все права и все свободы. Никогда еще более определенно не заявляли, что правительство есть создание, слуга и орудие управляемых, оно создано только для того, «чтобы гарантировать им пользование их естественными и незыблемыми правами». Никогда более строго не ограничивали его мандата: «Право гласно заявлять свои мысли и мнения, путем прессы или всяким другим способом, право мирно собираться, свободно исповедовать веру по могут быть отняты у народа». Никогда граждан более не предостерегали против правонарушений и злоупотреблений общественной власти:
«Закон должен защищать общественную и индивидуальную свободу от гнета тех, которые управляют… Проступки уполномоченных народа и их агентов никогда не должны оставаться безнаказанными… Всякий человек узурпирующий суверенитет должен быть тотчас же казнен свободными людьми… Всякий акт совершенный по отношению к человеку, вне случаев и форм определенных законом, является актом произвольным и тираническим: тот, против которого употребляется насилие, имеет право отразить его силой же… Когда правительство нарушает права народа, восстание является для народа и для каждой части народа, самым священным правом и самой неотложной обязанностью».
К правам гражданским великодушный законодатель присоединил права политические и умножил предосторожности, чтобы удержать стоящих во главе правления в зависимости от народа.
Во-первых, их назначает народ путем прямых или почти прямых выборов: в своих первичных собраниях он избирает депутатов, муниципальные власти, мировых судей и избирателей второй степени; в свою очередь эти последние во вторичных собраниях выбирают должностных лиц округа и департамента, гражданских третейских судей, судей в уголовных, кассационных инстанциях и восемьдесят четыре кандидата, из среды которых законодательный корпус должен выбрать исполнительный совет.
Затем, полномочия, каковы бы они не были, предоставляются всегда только на очень короткий срок; один только год продолжаются полномочия депутатов, избирателей второй степени, гражданских третейских судей и судей какого бы то ни было наименования и рода; что касается муниципальных властей и администрации, департаментской и окружной, то ежегодно возобновляется половина их состава. Таким образом ежегодно 1 мая снова начинает бить источник власти и в своих, созываемых по собственному побуждению, первичных собраниях народ по своему желанию оставляет или меняет свой служебный персонал.
Наконец, даже когда служащие водворены и исполняют свои обязанности, народ может, если захочет, стать их сотрудником: ему предоставили средства «совещаться» со своими депутатами. По вопросам, представляющим временный интерес, или не имеющим большего значения депутаты издают декреты; но по вопросам, имеющим общий и постоянный интерес, они только вносят предложения и, если дело идет об объявлении войны, решение вопроса предоставляется народу. Он обладает правом приостанавливающего, а затем и окончательного вето и он пользуется им, как ему заблагорассудится. С этой целью он по собственному побуждению собирается в первичные собрания, и для созыва таких собраний достаточно требования одной пятой части граждан, имеющих право принимать в них участие. Раз собрание созвано, оно принимает или отвергает проект Законодательного Собрания. Если по истечении сорока дней в большинстве департаментов десятая часть первичных собраний отвергла проект, мы имеем дело с приостанавливающим вето. Тогда созываются все первичные собрания Республики и, если большинство первичных собраний снова выскажется в отрицательном смысле, народ этим накладывает окончательное вето на проект. Таже процедура необходима для изменения существующей Конституции.
Во всем этом план монтаньяров превосходит план жирондистов; никогда еще не придавали столь незначительной роли правящим, и столь значительной роли управляемым; якобинцы чувствуют к народной инициативе уважение, доходящее до щепетильности. Так в докладе Геро-де-Сешеля говорится: «Мы все имели одно и то же желание — достигнуть самого демократического результата. Суверенитет народа и достоинство человека были постоянно перед нашими глазами… Тайное чувство подсказывает нам, что наше дело быть может одно из самых популярных дел, которые когда-либо существовали». По мнению якобинцев, народ должен быть сувереном фактическим, постоянным, без междуцарствия, он должен иметь возможность вмешиваться во все серьезные дела, он должен обладать не только правом, но и возможностью подчинить своей воле своих уполномоченных. Тем более необходимо сговориться с ним по вопросу об учреждениях, которые ему теперь дарят. Вот почему Конвент, созывает уже 24 июня первичные собрания и вносит на их утверждение приготовленный им конституционный акт.
Нет никакого сомнения, что акт будет утвержден; уже заранее все подготовлено, чтобы получить согласие, и притом такое согласие как оно желательно, с внешней стороны добровольное и почти единодушное.
В действительности первичные собрания немноголюдны; в городах на баллотировку является только треть избирателей, а в деревнях четверть, или даже менее четверти. Искушенные опытом предыдущих собраний избиратели воздерживаются, так как они слишком хорошо знают, как проходят эти собрания, как на них первенствует якобинская партия, как она ведет избирательную комедию, какими угрозами и насилиями она заставляет несогласных с нею играть роль статистов или клакеров. Четыре или пять миллионов избирателей предпочитают, по обыкновению, воздержаться и не явиться на собрания.
Тем не менее большинство собраний созывается, причем их насчитывают до семи тысяч. Дело в том, что в каждом кантоне имеется своя незначительная группа якобинцев. С ними заодно действуют наивные люди, не потерявшие еще веры в официальные заявления и полагающие, что конституция, которая обеспечивает частные права и устанавливает общественные свободы, должна быть принята, кем бы она не была предложена, тем более что узурпаторы обещают сложить с себя власть. И действительно Конвент торжественно заявляет, что раз конституция будет принята, народ будет снова созван, для избрания «нового национального собрания, нового представительства, облеченного более недавним и более непосредственным доверием», что даст возможность избирателям, если они этого захотят, переизбрать честных депутатов и исключить мошенников.
После этого, даже в мятежных департаментах, большая часть жирондистского населения решается после долгих колебаний вотировать, но поздно, так в Лионе, в Кальвадосе, собрания происходят только 30 июля. Многие конституционалисты, или нейтральные уже раньше решились на это, одни из страха перед гражданской войной и из духа примирения, другие из боязни преследований и обвинения в монархизме. Вот еще одна уступка. В силу своей покорности в конце концов они, быть может, не дадут Горе никакого повода для насилий.
Один из политических деятелей того времени пишет в своих мемуарах: «хотя нас уверили, что мы будем проезжать только по городам приверженным Марату, мы, к величайшему нашему удовольствию, нашли, что почти все население было проникнуто отвращением к Марату. Оно правда приняло конституцию, представленную Комитетом общественного спасения, но исключительно из желания покончить со всем и притом на условиях не лестных для него, так как везде требовали возобновления Конвента и наказания за совершенные против него покушения». Это пожелание и другие аналогичные ему внесены в протоколы многих первичных собраний, например, в протоколах тринадцати кантонов департамента Эн. Кроме того, требовали восстановления Двадцати двух, уничтожение революционного трибунала, должностей комиссаров при армии в департаментах, учреждения департаментской гвардии для охраны Конвента, роспуска революционной армии и т. д.
Но напрасно полагали лишить Гору всяких поводов к насилию. Ведь с самого начала легко констатировать, как якобинцы понимают свободу выборов. Во-первых, все внесенные в списки и, главным образом, подозрительные должны голосовать и притом голосовать за, «в противном случае, говорит одна якобинская газета, им не придется более жаловаться на вполне обоснованную подозрительность, с которой будут к ним относиться». И вот они являются на собрания «вполне покорные и смиренные»; тем не менее их резко отталкивают, к ним поворачиваются спиной, их оттесняют в угол залы или к дверям, их громко оскорбляют. Очевидно, что после такого приема они будут вести себя смирно и не рискнут сделать ни малейшего замечания.
В Маконе, например, «несколько аристократов тихо шептались, но не осмеливались сказать — нет». Это было бы крайним безрассудством. Так в Монбризоне на шесть граждан, отказавшихся голосовать — за, будет сделан донос в протоколе собрания, и один депутат потребует в Конвенте применения к ним суровых мер. В Ножан-на-Сене смещают трех администраторов, виновных в том же проступке; несколько месяцев спустя проступок превратится в преступление, влекущее за собою смертную казнь, и будут гильотинировать людей «за то, что они голосовали против конституции 1793 года». Этими словами были мотивированы приговоры самими судьями.
Почти все неблагонамеренные люди предчувствовали эту опасность, вот почему почти во всех первичных собраниях предложение Конвента принято единодушно или почти что так. В Руане оказывается только двадцать шесть оппозиционеров; в Каене, центре жирондистской оппозиции, четырнадцать; в Реймсе — два; в Труа, Безансоне, Лиможе и Париже — ни одного; в пятнадцати департаментах число, голосовавших против, колеблется между пятью и одним; ни одного протестанта не оказывается в департаменте Вара. Может ли быть более назидательное согласие? Во всей Франции только одна коммуна Сен-Дуан, в глухом округе департамента Кот-дю-Нор осмеливается просить реставрации духовенства и назначения королем сына Капета.
Все остальные коммуны голосуют как бы по мановению жезла; они поняли секрет плебисцита, от них не требуют искреннего голосования, их заставляют произвести якобинскую манифестацию.
Член Конвента Шабо говорил следующее в заседании 11 августа 1793 года: «Я требую, чтобы вы объявили, что всякий не явившийся без основательной причины в первичные собрания, что всякий высказавшийся против конституции, лишается права быть выбранным на какие бы то ни было конституционные должности». Буайллона из Бельэрба арестовывают «за то, что он явился на первичное собрание кантона Воклюз и удалился, не приняв участия в голосовании».
Вся операция, предпринятая местными клубами, всецело проводится ими. Они пробили сбор у баллотировочных ящиков, они являются на собрания представляя из себя силу и играют на них главную роль; они назначают бюро, вносят предложения и составляют протоколы, и комиссары правительства усиливают их местный авторитет авторитетом центрального правительства. В Маконе, на собрании «они каждый параграф сопровождали речью к народу, эта речь вызывала бесчисленные аплодисменты и усиленные крики: да здравствует республика! да здравствует конституция! да здравствует французский народ!» Пусть берегутся равнодушные, не присоединяющиеся к общему хору, их заставляют голосовать «громким и отчетливым голосом», кричать вместе с другими, подписывать высокопарный адрес, которым местные якобинцы свидетельствуют свою благодарность перед Конвентом и подавать свой голос за выдающегося патриота, которому первичное собрание поручает отвести протокол в Париж.
Первый акт комедии кончен, начинается второй акт. Не без цели якобинская партия созвала в Париже делегатов первичных собраний; подобно последним они должны явиться для неё орудиями власти, основаниями диктатуры и поэтому необходимо подготовить их к этому.
По правде сказать, нельзя быть уверенным, что все согласятся на это, так как среди семи тысяч комиссаров, некоторые, избранные непокорными собраниями, привезли с собой вместо согласия — отказ; другим, более многочисленным, поручено высказать замечания и указать на пробелы. Очень вероятно, что посланные жирондистскими департаментами потребуют освобождения и возвращения своих изгнанных представителей, наконец значительное количество делегатов, принявших с полным доверием новую конституцию, желает, чтобы ее применили как можно скорее, и чтобы Конвент, согласно своему обещанию, удалился, чтобы уступить место новому собранию.
Необходимо заранее подавить все эти стремления к независимости или к оппозиции: в виду этого декрет Конвента «дает разрешение комитету общей безопасности арестовывать подозрительных комиссаров». Комитет должен наблюдать за теми, «которые взяв на себя особую миссию, задумают устраивать собрания, привлекать своих коллег и побуждать их к действиям противным их мандатам». Предварительно и до допущения их в Париж их якобинство будет проверено, подобно тюку на таможне, специальными агентами исполнительного совета, а именно Станиславом Майльяром, пресловутым судьей сентябрьских дней и его шестьюдесятью негодяями солдатами, кичащимися своим воинским званием, за которое они получали по пяти франков в день.
«По всем дорогам, в пятнадцати и даже двадцати лье от столицы» делегатов обыскивают; вскрывают их сундуки и распечатывают их письма. У парижских застав их встречают «инспектора», присланные коммуной под предлогом необходимости защитить их от распутных женщин и мошенников. Там ими всецело завладевают, ведут их в мэрию, выдают им билет на отвод квартиры и жандармский пикет разводит их по одиночке в предназначенное для них помещение. И вот они помещены подобно овцам в загоны. Протестанты не смеют пытаться ускользнуть и устроиться отдельно.
С одним из них, явившимся в Конвент с просьбой предоставить помещение для него и его единомышленников, обращаются самым ужасным образом, его называют интриганом, обвиняют в том, что он хочет защищать изменника Кюстина, записывают его имя и угрожают ему следствием. Злополучный оратор слышит, что упоминают уже об Аббатстве, и он должен считать за счастье, что ему не придется немедленно же отправиться туда. После всего этого вполне очевидно, что он более не пожелает ораторствовать и что коллеги его не раскроют рта, тем более, что на их глазах революционный трибунал заседает непрерывно, что на площади Революции гильотина водружена и уже работает, что недавнее постановление коммуны предписывает полицейским должностным лицам «иметь самый бдительный надзор» и настоятельно приказывает воинским частям высылать «постоянные патрули», что с 1 по 4 августа заставы были закрыты и что 2 августа при облаве в трех театрах арестовано и отправлено в тюрьму более пятисот молодых людей. Недовольные, если они имеются, быстро понимают, что ни место, ни момент не благоприятствуют протесту.
Что касается других, уже бывших якобинцами, партия позаботилась о том, чтобы еще более пропитать их якобинскими убеждениями. Затерянные в громадном Париже, все эти провинциалы нуждаются в том, чтобы ими руководили, как в моральном, так и в физическом отношении, к ним нужно отнестись «с гостеприимством во всей его полноте — этой самой нежной добродетелью республиканцев». Вот почему восемьдесят шесть санкюлотов, избранных секциями, ожидают их в мэрии, для того, чтобы быть их корреспондентами, быть может даже их поручителями и уже наверное их руководителями, для того, чтобы раздать им квартирные билеты, сопровождать их, помочь им устроиться, чтобы наставить их как прежде представителей откомандированных в 1792 году на праздник Федерации, чтобы помешать им завести дурные знакомства, чтобы ввести их во все кипучие собрания, чтобы наблюсти за тем, чтобы их разогретый патриотизм скоро принял оттенок парижского якобинства.
Театрам запрещено оскорблять их взоры и слух представлением пьес, «противных духу революции».
Кутон говорит в своем докладе Конвенту: «Вы оскорбили бы этих республиканцев, если бы допустили, чтобы в их присутствии продолжали играть бесконечное количество пьес, наполненных оскорбительным для свободы намеками».
Отдан приказ ставить три раза в неделю «такие республиканские трагедии, как Брут, Вильгельм Телль, Кай Гракх и другие драматические пьесы, пригодные к поддержанию принципов равенства и свободы». Раз в неделю даются даровые представления и со сцены раздаются высокопарные стихи Марии Шенье, для назидания делегатов, переполняющих ложи на счет государства.
На следующий день их приводят целыми толпами в трибуны Конвента, где пред ними развертывается та же трагедия, классическая и простая, напыщенная и требующая смерти, но только на этот раз это не изображаемая, но действительная трагедия и тирады произносятся не в стихах, а в прозе. Окруженные крикунами, которым платят деньги, наши провинциалы рукоплещут, кричат и приходят в восторг как накануне, по сигналу, даваемому клакерами и обычными посетителями.
А то еще прокурор-синдик Люлье созывает их в Епископский дворец «для братания с властями парижского департамента», то секция братства приглашает их на свои ежедневные собрания, то общество якобинцев утром предоставляет им свою обширную залу, а вечером допускает их на свои заседания.
Захваченные, таким образом, и находясь как бы под водолазным колоколом они дышать в Париже только якобинским воздухом. По мере того, как их водят из одного якобинского клуба в другой, и они дышат этим раскаленным воздухом, пульс их бьется быстрее. Многие из них были при приезде своем «людьми простыми и тихими», но их сбивают с толку, и они, не имея никакого предохранительного средства, быстро заражаются революционной лихорадкой.
7 августа дается финальный толчок. Под председательством департаментских и муниципальных властей, большинство делегатов является в Конвент, чтобы громко заявить о своих якобинских политических убеждениях.
«Скоро, говорят они, будут искать, где находилось на берегу Сены топкое болото, которое хотело нас поглотить. Пусть лопнут с досады монархисты и интриганы, но мы будем жить и умрем монтаньярами!»
Аплодисменты и лобызания.
Оттуда они отправляются в Якобинский клуб и один из них предлагает заранее составленный адрес, цель которого оправдать 31 мая и 2 июня, «открыть глаза» провинциальной Франции, объявить «войну федералистам».
«Да погибнут гнусные пасквилянты, оклеветавшие Париж!.. Нами здесь овладело только одно чувство; все души наши слились… Мы все образуем здесь одну громадную и страшную Гору, которая обрушится на всех роялистов и пособников тирании». Аплодисменты и крики. Робеспьер объявляет им, что они спасают отечество.
На следующий день 8 августа адрес передается Конвенту и по предложению Робеспьера Конвент объявляет, что он будет послан в армии, иностранным державам, во все коммуны. Новые рукоплескания, новые лобызания, новые крики. 9 августа по приказанию Конвента делегаты собираются в Тюйльрийский сад и разделившись на группы по департаментам, они изучают программу Давида, чтобы вполне проникнуться ролью, которую им предназначено играть на завтрашнем празднестве.
Странное празднество, на котором ярко сказывается дух времени. Это как бы опера, которую власти разыгрывают на улице, с триумфальными колесницами, курильницами, алтарями, ковчегом объединения, погребальными урнами и остальной классической мишурой. Гипсовые статуи изображают божества: природу, свободу, народ в виде Геркулеса. Все это одни только олицетворенные отвлеченности, как их рисуют на потолках театров. Ничего непосредственного, или искреннего. Актеры, которым совесть подсказывает, что они только актеры, оказывают почтение символам, которые, как им отлично известно, являются только символами и в этом механическом шествии восклицании, обращения жести, позы, заранее подготовлены как на сцене. Для умов, любящих истину и ненавидящих театральность это кажется шарадой, разыгрываемой картонными плясунами.
Но торжество это колоссально, оно рассчитано на то, чтобы но трясти умы и возбудить гордость физическим возбуждением всех чувств. Праздник этот стоил один миллион двести тысяч франков, кроме расходов по поездке семи тысяч делегатов. В этой грандиозной декорации делегаты опьяняются своей ролью так как, очевидно, они играют главную роль: ведь они являются представителями двадцати шести миллионов французов. Вся церемония только и имеет своей целью прославления их национальной воли, носителями которой они являются.
На Бастильской площади, где из обоих сосцов гигантского изображения природы изливается «вода возрождения», президент Гюро, совершив «возлияния», после приветствия новой богини передает кубок восьмидесяти семи старейшим по возрасту представителям восьмидесяти семи департаментов. Каждый из них «призываемый при звуках барабанов и труб» пьет поочередно из кубка и, после того как он его осушает, пушки грохочут, как будто бы он был королем; затем после того, как кубок осушает последний, восемьдесят седьмой представитель, гремит вся артиллерия. После этого кортеж приходит в движение, и в шествии делегаты опять-таки занимают почетное место. Старейшие, держа в одной руке оливковую ветвь, а в другой пику с флагом, на котором обозначено название их департамента, «соединены между собой тонкой трехцветной лентой» и окружают Конвент, как бы для того, чтобы показать, что нация поддерживает и ведет своих законных представителей. Сзади них остальные семь тысяч делегатов, тоже держащие в руках оливковые ветви, образуют вторую отдельную, самую грандиозную группу, на которую обращены все взоры, так как за ними идет смешанная толпа, в состав которой входит исполнительный совет, муниципалитет, судьи. Все они смешались с толпой в силу равенства. При каждой остановке делегаты сразу бросаются всем в глаза, благодаря своим отличительным признакам. При последней остановке, на Марсовом поле, они одни вместе с членами Конвента всходят по ступеням, ведущим к алтарю отчизны; на самой верхней ступени рядом с председателем Конвента становится старейший из них. Размещенные, таким образом, семь тысяч делегатов, окружающие семьсот пятьдесят членов Конвента, образуют «истинную Святую Гору». На вершине эстрады председатель обращается к восьмидесяти семи старейшим и вручает им ковчег, в котором хранятся конституционный акт и результаты голосования. Они с своей стороны вручают ему свои пики, которые он собирает воедино, в знак народного единства и нераздельности. После этого со всех сторон поднимаются приветственные клики, пушки усиленно грохочут, «казалось, и небо, и земля празднуют величайшую эпоху человеческого рода».
Конечно, делегаты вне себя от волнения, нервная система, напряженная до нельзя, слишком сильно вибрирует. Еще на площади Бастилии многие «охваченные пророческим духом» обещали конституции вечность. Они чувствуют, что «возрождаются с человеческим родом», они считают себя творцами нового мира, будущее в их руках, они считают себя богами, сошедшими на землю. В таком критическом положении рассудок их неустойчив, подобно испортившимся весам. Под напором фабрикантов энтузиазма их охватит внезапный поворот мыслей. Они считали конституцию панацеей, и они ее уберут как опасное лекарство в сундук, называемый ковчегом. Они только что возвестили свободу народа, и они же увековечат диктатуру Конвента.
Понятно, что поворот мыслей должен казаться непосредственным и рука стоящих во главе правления не должна быть видна. По обыкновению узурпаторов Конвент будет симулировать осторожность и бескорыстие. Поэтому на следующий день, 11 августа, тотчас же по открытии заседания он заявляет, что «миссия его окончена». По предложению Делакруа, единомышленника Дантона, он объявляет, что в самом непродолжительном времени будет произведена перепись населения и избирателей, для того чтобы иметь возможность созвать как можно скорее первичные собрания, он с восторгом принимает делегатов, принесших конституционный ковчег, он как один человек встает перед этим святым ковчегом, он терпеливо выслушивает делегатов, которые обращаются к нему с призывом и с указаниями на его обязанности. «Помните, говорит оратор делегатов, что вы отвечаете за этот святой ковчег перед нацией, перед миром. Помните, что вы обязаны скорее умереть, чем допустить, чтобы его коснулась святотатственная рука…»
Но вечером в Якобинском клубе, Робеспьер, после длинной смутной речи об общественной опасности, о заговорщиках, об изменниках, вдруг произносит решающее слово: «я чуть было не позабыл о самом важном соображении… Предложение сделанное сегодня утром направлено только к тому, чтобы членов настоящего Конвента сменили агенты Питта и Кобурга». Это ужасные слова в устах человека принципов и их тотчас же понимают все вожаки, крупные и незначительные, избранные тысяча пятьюстами якобинцев, наполняющих залу.
«Нет, нет!» восклицает все собрание. — Делегаты увлечены. «Я требую, говорит один из них, чтобы Конвент не был распущен до конца войны». — Вот оно наконец это пресловутое предложение, столь давно желанное и ожидаемое. Теперь клеветы жирондистов рассеются прахом, ведь доказано, что Конвент не имеет намерения вечно существовать, что он не честолюбив. Если он остается у власти, то только потому, что его удерживают, что народные делегаты принуждают его к этому.
Лучше того, они же укажут им, как им следует себя вести. На следующий же день, 12 августа, с рвением новообращенных они рассеиваются в зале заседаний в столь большом количестве, что Конвент, не имея возможности обсуждать дела, собирается на левой стороне залы и предоставляет им всю правую сторону. Все горючие материалы, сконцентрировавшиеся в них уже в течение двух недель, воспламеняются. Они более горячи, чем самые необузданные якобинцы, они повторяют нелепости Розы Лакомб и клубов, они выходят за пределы программы, начертанной им Горой.
«Теперь не время обсуждать, кричит один, из ораторов, нужно действовать. Народ должен восстать массами, он один может уничтожить своих, врагов… Мы требуем, чтобы все подозрительные люди были арестованы, чтобы они были посланы к границам и за ними последовала страшная масса санкюлотов. Там, в первых рядах, они будут биться за свободу, которую оскорбляют вот уже четыре года или же они будут уничтожены пушками тиранов… Их жены, дети, старики и немощные будут в качестве заложников охраняться женами и детьми санкюлотов».
Дантон пользуется моментом, со своей обычной прозорливостью, он находит слово определяющее положение: «Депутаты первичных собраний возбуждают среди нас инициативу Террора». Затем он нелепые предложения фанатиков сводит к практическим мерам: «Восстать массами, — да, но в порядке», призвав сначала первый разряд, молодых людей от восемнадцати до двадцати пяти лет, арестовывать всех подозрительных, но не посылать их против неприятеля, «они были бы в наших войсках более опасны, чем полезны; заключим их в тюрьмы, они будут нашими заложниками». Наконец, он придумывает занятие делегатам, которые теперь не нужны в Париже и могут пригодиться в провинции. «Сделаем из них представителей, как бы обязанных возбуждать граждан… Пусть им будет поручено вместе с добрыми гражданами и установленными властями, составлять описи хлебным запасам и оружию, набирать солдат и пусть Комитет Общественного Спасения направляет это великое движение… Они все дадут клятву вернувшись к своему очагу побудить к этому своих сограждан». — Всеобщие рукоплескания, все делегаты кричат: «Мы клянемся!» Вся зала поднимается, все сидящие в трибунах машут шляпами, и дают ту же клятву.
Дело сделано: подобие народного пожелания как бы санкционировало политику, принцип и самое название террора. Что касается инструментов, посредством которых произведена эта операция, то они теперь пригодны только на то, чтобы их послать на места. Комиссары, требований и вмешательства, которых могла бы еще опасаться Гора, высылаются в свои департаментские захолустья, там они станут её агентами и миссионерами. Не говорят уже больше о том, чтобы пустить в ход новую конституцию, она была только приманкой, обманом для того, чтобы половить рыбу в мутной воде: по окончании рыбной ловли ее положили на видном месте залы в маленьком ковчеге, рисунок которого был составлен Давидом. «Теперь, говорит Дантон, Конвент должен быть проникнут всем своим достоинством, так как теперь он облечен всей народной силой». — Другими словами коварство доканчивает то, что начато насилием, благодари майским и июньским покушениям суверенное собрание перестало быть законным, июльскими же и августовскими маневрами, оно вернуло себе внешность законности. Монтаньяры все еще ведут на цепочке Конвент. Для того чтобы извлекать из него пользу, они вернули ему его престиж.
Этим же ударом и теми же самыми выходками они почти обезоружили своих противников. При известии о 31 мае и 2 июне среди республиканцев культурного класса, среди того поколения, которое, воспитанное философами, искренне верило в права человека, поднялся громкий крик негодования; шестьдесят девять департаментских администраций высказали протест и почти во всех городах запада, юга, востока и центра, в Каене, в Алансоне, Эврё, Ренне, Бресте, Лориане, Нанте и Лиможе; в Бордо, Тулузе, Монпелье, Ниме и Марсели; в Лионе, Гренобле, Клермоне, Лонсе, Безансоне, Маконе и Дижоне, граждане собравшись в своих секциях вызвали или поддержали своим громким одобрением энергичные распоряжения своих администраторов. И администраторы, и граждане заявляли, что, так как Конвент не был более свободен, декреты его начиная с 31 мая не имели более силы закона, что департаментские войска двинутся в Париж, чтобы освободить Конвент от его противников и что его заместители приглашаются собраться в Бурже.
В нескольких местах от слов перешли к делу. Уже в середине мая Марсель и Лион взялись за оружие и стали преследовать своих местных якобинцев. После 2 июня Нормандия, Бретань, Гард, Юра, Тулуза и Бордо тоже вооружились. В Марсели, Бордо и Каене, уполномоченные на местах были арестованы или находились под надзором в качестве заложников. Инсургенты так убеждены в своей правоте, что уполномоченные правительства в Каене, Ромм и Приёр в письме к Комитету Общественного Спасения одобряют свой собственный арест: «Граждане-коллеги, этот арест может получить большое значение, послужить в пользу деду свободы, способствовать единству республики и возбудить доверие, если, как мы усердно вас просим, вы подтвердите его декретом, объявляющим нас заложниками… Мы заметили в населении Каене любовь к свободе, к правосудию и послушанию».
В Нанте народные власти и национальные гвардейцы, столь доблестно отразившие шесть дней тому назад вандейскую армию, осмелились на большее; они ограничили полномочия Конвента и осудили его вмешательство. По их мнению, посылка уполномоченных являлась «узурпацией, посягательством на народную верховную власть, представители были выбраны для того, чтобы творить законы, а не для того, чтобы приводить их в исполнение, чтобы подготовить конституцию и привести в порядок все общественные власти, а не для того, чтобы произвести замешательство и самим являться в их роли, для защиты и поддержки промежуточных властей делегируемых народом, а не для разрушения и уничтожения их».
Действуя еще смелее Монпелье приглашал всех представителей отправиться в главные города своих соответствующих департаментов и ждать там решения народного суда. Одним словом, в силу самого демократического догмата, членов Конвента, униженных и изуродованных, считали какими-то втершимися в народное доверие «прокурорами», призывали «рабочих народа вернуться к послушанию и обратить внимании на упреки, делаемые им их законным хозяином». Нация лишала места своих приказчиков столицы, она отнимала от них мандат, которым они злоупотребили и объявляла их узурпаторами в случае, если они будут упорствовать и не подчинят свой позаимствованный суверенитет «её бесспорному суверенитету».
На этот прямой удар, поражающий до самого корня, Гора отвечает таким же ударом, она тоже выказывает уважение к принципам и санкционирует свои действия народной волею. Она оправдывает и обеляет себя посредством внезапной фабрикаций ультра-демократической конституции, созыва первичных собраний, ратификации, даваемой собравшимся народом её действиям, созыва делегатов в Париже, посредством одобрения этих делегатов, обращенных в якобинство, ослепленных или приневоленных к этому. Она лишает жирондистов возможности приводить упреки, которые они раньше заявляли, лишает их популярности, которой, как они были убеждены, они уже добились, похищает у них аксиомы, которыми они размахивали, как знаменем.
Начиная с этого момента почва, на которой основывались оппозиционеры, ускользает из-под их ног, материалы, собранные ими, рушатся в их руках, их союз рассеивается, еще даже не собравшись и неизлечимая слабость партии проявляется вполне.
Прежде всего надо заметить, что в таких департаментах, как Париж, партия не имеет корней. Вот уже три года как люди рассудительные, серьезные, занятые, не чувствующие склонность к политике и не являющиеся профессионалами в этом деле, всего девять десятых избирателей, воздерживаются от участия в выборах и в этой массе жирондисты не имеют приверженцев. По их собственному признанию она остается привязанной к учреждениям 1791 года, которые они ниспровергли, если она их и уважает, то только как «необычайно честных безумцев». К тому же это уважение смешано с нерасположением, она ставит им в вину насильственные декреты, вынесенные ими сообща с Горой, преследования, конфискации, несправедливости и жестокости всякого рода, она все еще видит на их руках кровь короля, и они в её глазах тоже являются цареубийцами, анти-католиками, анти-христианами, разрушителями.
Конечно, они в этом уступают Горе, и вот почему в самом начале возмущения в провинции, многие умеренные республиканцы и даже роялисты идут за ними в секционных собраниях и протестуют вместе с ними. Но большинство останавливается на этом и быстро впадает в свою обычную инертность. Оно не согласно со своими вожаками, оно не питает к ним полного доверия, оно не чувствует к ним беспредельной любви, его недавние симпатии заглушены прежним злобным чувством. Рассеявшиеся по провинции жирондистские депутаты рассчитывали, что по их призыву поднимутся все департаменты и явятся по отношению к Горе республиканской Вандеей, но они везде встретили только вялое одобрение и спекулятивные пожелания.
Остается для их поддержки избранная часть республиканской партии, образованные или полуобразованные люди, честные и убежденные резонеры, которые проникнувшись догматами того времени, приняли в серьез философский катехизис. Являясь выборными судьями, администраторами департаментскими, окружными и муниципальными, начальниками и офицерами национальной гвардии, председателями и секретарями секций, они занимают почти все посты, предоставляющие власть на местах, и вот почему их единодушный протест показался сначала голосом Франции. В действительности он только крик отчаяния генерального штаба без армии. Назначенные под выборным давлением, они имеют чин, звание, должность, но не пользуются ни кредитом, ни влиянием: за ними идут только те, которые выбрали их, десятая часть населения, меньшинство фанатиков.
К этому надо прибавить, что среди этого меньшинства много равнодушных людей. У большинства людей между убеждениями и действием дистанция большего размера; приобретенные привычки, лень, страх и эгоизм заполняют весь промежуток. Как ни веришь в отвлеченности социального договора, не так-то легко решиться действовать в пользу отвлеченной цели. Беспокойство охватывает тебя в момент выступления, находишь дорогу, по которой нужно идти, крайне опасной и неясной, колеблешься, не решаешься двинуться, чувствуешь себя домоседом, боишься зайти слишком далеко. Один человек охотно дающий слово, дает менее охотно деньги; другой, охотно дающий деньги, не расположен жертвовать своей особой, и это относится как к жирондистам, так и к умеренным фейльянам.
«В Марсели, говорит один депутат, в Бордо, почти во всех главных городах, собственник, ленивый, беспечный, робкий не мог решиться покинуть на мгновение свой домашний очаг, он поручал наемникам взяться за оружие и выступить за него». Одни только федералисты Майенн, Иль-Виллен и, в особенности, Финистера были «хорошо воспитанными молодыми людьми, вполне понимавшими распрю, которую они намеревались вести». В Нормандии центральный комитет принужден по неволе набирать платных рекрутов, а именно артиллеристов, из среды людей, бывших некогда якобинцами, способных на всевозможные преступления, грабителей и трусов, которые обратятся в бегство при первом пушечном выстреле.
Когда в Каене Вимпфен собрал восемь батальонов национальной гвардии и вызвал добровольцев, готовых идти на нее, на его вызов из рядов вышло всего семнадцать человек; на следующий день официальная реквизиция дает только сто тридцать солдат. За исключением Вира, выставившего около двадцати человек, остальные города отказываются выставлять солдат. Одним словом, войско не образуется.
С другой стороны, в качестве честных и логически мыслящих людей, инсургенты чувствуют колебание и сами ограничивают свое восстание. Стоящие во главе их беглые депутаты считали бы себя виновными в узурпации, если бы они подобно Горе в Париже, образовали в Каене верховное собрание. Их права и обязанности, по их мнению, сводятся к тому, чтобы свидетельствовать о 31 мае и 2 июне, призывать народ, быть красноречивыми. Они не имеют законных прав, чтобы взять в свои руки исключительную власть. Во главе управления в департаменте стоят местные власти, избранники секций, вернее департаментский комитет. А они печатают записки, пишут послания, и крайне корректно ждут, чтобы суверенный народ, уполномоченными которого они являются, снова посадил их на старые места. В лице их, он был оскорблен, он должен поэтому отомстить за это оскорбление. Раз он одобряет своих уполномоченных, он должен вернуть им их места, раз он хозяин дома, он должен добиться чтобы его авторитету в доме все подчинялись.
Что касается департаментских комитетов, то правда, они, в пору увлечения, задумали образовать новый Конвент в Бурже, путем созыва кандидатов в депутаты или же национальной комиссии из ста семидесяти членов. Но для этого не хватает времени, не хватает средств для осуществления проекта, и он остается висеть в воздухе, как пустая угроза. Через две недели он рассеется как дым, департаментам только удается объединиться в группы, они больше не будут думать о создании центрального правительства и благодаря только этому факту, они сами явятся виной того, что мало по малу перестанут играть какую бы то ни было роль.
Хуже того, сознательно и из патриотизма они сами готовят себе поражение, они воздерживаются от того, чтобы обратиться к армии и убрать ее с границ, они не отрицают у Конвента права заботиться, как он этого желает, о национальной защите. Лион пропускает транспорт ядер, которыми впоследствии будут обстреливать его защитников, власти Пюи-де-Дома в конце концов высылают против Вандеи батальон, образованный ими для действия против Горы. Бордо выдает уполномоченным Конвента Шато-Тромпетт, свои военные припасы и беспрекословно, с полной покорностью оба бордосские батальона, охраняющих Блэ, уступают свою позицию двум якобинским батальонам. Можно быть заранее уверенным в своем поражении при такой манере вести восстание.
Но инсургенты отлично сознают ложность своего положения; они смутно чувствуют, что, признавая военный авторитет Конвента, они признают всю полноту его авторитета; незаметно переходя от уступок к уступкам, они катятся вниз по наклонной плоскости и в конце концов приходят к полному послушанию. Уже 16 июня «в Лионе начинают чувствовать, что не нужно разрывать с Конвентом». Пять недель спустя лионские власти торжественно признают «Конвент единственным центральным и объединяющим всех граждан французов и республиканцев пунктом» и постановляют, «что все исходящие от него декреты, касающиеся общих интересов Республики должны быть приводимы в исполнение». В виду этого в Лионе и в других департаментах администрация созывает первичные собрания согласно предписанию Конвента. В виду этого первичные собрания вотируют конституцию, которую предложил Конвент. В виду этого же, делегаты первичных собраний отправляются в Париж, как это приказывает Конвент.
Теперь дело жирондистов уже пропало; несколько пушечных выстрелов в Верноне и Авиньоне рассеивают единственные две вооруженные колонны, двинувшиеся в поход. Во всех департаментах якобинцы, ободренные уполномоченными Конвента, поднимают голову; везде местные клубы предлагают администрации подчиниться, везде администрация отменяет свои постановления, извиняется и просит прощения. По мере того, как подчиняется один департамент, другие, напуганные его дезертирством, становятся более расположенными к подчинению. К 9 июля насчитывают уже сорок девять подчинившихся. Многие заявляют, что с их глаз спала пелена, одобряют декреты 31 мая и 2 июня и, выказывая свое рвение, заботятся о своей безопасности. Администрация Кальвадоса объявляет бретонским федералистам, что «в виду принятия ею конституции она не может более допустить их пребывания в городе Каене», она предлагает им разойтись по домам, она тайно заключает мир с Горой, она извещает об этом депутатов, являющихся гостями только три дня спустя и при том извещает самым простым способом: она наклеивает на их дверях декрет, которым они ставятся вне закона.
Переодетые солдатами они уходят с бретонцами; по дороге они имеют полную возможность констатировать истинные чувства народа, который они считали проникнутым сознанием своих прав и политической инициативой. Мнимые граждане и республиканцы, с которыми они имеют дело, в сущности, бывшие подданные Людовика XVI, будущие подданные Наполеона, то есть администраторы и управляемые, дисциплинированные сердцем и подчиненные инстинктом, имеющие потребность в правительстве подобно тому, как овцы имеют потребность в пастухе и сторожевой собаке, переносящие и пастуха и сторожевую собаку, только бы они имели подходящий внешний вид, даже когда пастух — мясник, даже когда сторожевая собака — волк. Избегать изолированности, как можно скорее присоединиться к самой скученной массе, всегда держаться гуртом, поэтому следовать указаниям свыше, объединяющим рассеявшихся, таков инстинкт стада.
В батальоне федералистов начинают говорить о том, что раз конституция принята и Конвент признан, нечего более защищать Депутатов, которых они поставил вне закона. «Это значило бы составлять заговор». После этого депутаты отделяются от бретонцев, и их маленькая кучка продолжает идти отдельно. Так как их девятнадцать человек, решительных и хорошо вооруженных, власти местечек, через которые они проходят не оказывают им сопротивления. Для того чтобы воспрепятствовать им пройти, нужно выступить активно, а это слишком много для чиновника; впрочем, население относится к ним безразлично и даже с некоторой симпатией. Но их стараются удержать, иногда окружить, или застать врасплох, так как по иерархической цепи им передан приказа, арестовать депутатов, и каждый местный администратор считает себя обязанным играть роль жандарма. Поэтому беглецам, охваченным со всех сторон этой административной цепью, остается только бежать морем.
Прибыв в Бордо, они находят там других овец, приготовляющихся к бойне. Мэр Сэж проповедует примирение и терпение. Он отказывается от услуг четырех-пяти тысяч молодых людей, трех тысяч гренадер национальной гвардии, двух-трех сот всадников; добровольцев, объединившихся против якобинского клуба; он предлагает им рассеяться, посылает в Париж умилостивительную депутацию, чтобы добиться от Конвента забвения «минуты ошибки и прощения заблудших братьев».
«Льстили себя надеждой, говорит один депутат, очевидец этих событий, что быстрое подчинение успокоит неудовольствие тиранов и что они будут настолько великодушными, что пощадят город, более всех других отличившийся во время революции».
До самого конца жители Бордо сохранят эти иллюзии и будут являть свидетельство такого же послушания. Когда Тальен войдет в Бордо со своими 1.800 крестьянами и разбойниками, двенадцать тысяч солдат национальной гвардии, вооруженные, экипированные в полной форме, выйдут встретить их с дубовыми венками. Они молча выслушают его громовую и оскорбительную речь, и у командиров их без всяких протестов вырвут дубовые ветви, сорвут с них кокарды, эполеты. Батальоны тут же рассеиваются по приказанию Тальена, и вернувшись домой начальники и солдаты с опущенной головой выслушивают прокламацию, предписывающую «всем жителям без различия, в течение тридцати шести часов, под угрозою смерти, сдать оружие на крепостном валу: до окончания срока жителями сдаются тридцать тысяч ружей, сабли, пистолеты и даже перочинные ножи».
Здесь, как в Парнасе 20 июня, 10 августа, 2 сентября. 31 мая и 2 июня, как в провинции и в Париже во всех решительных фазисах Революции, привычка покорности и субординации, воспринятые при административной монархии и вековой цивилизации, притупили в человеке предвидение опасности, воинствующий инстинкт, способность рассчитывать только на себя, стремление к самопомощи. Когда анархия приводит подобную нацию к естественному состоянию, прирученные животные неизменно пожираются дикими зверями, естественные наклонности которых тотчас же сказываются, как только они вырываются на свободу.
Если бы люди Горы были государственными, иди только хотя бы умными людьми, они выказали бы себя человечными, если не из человечности, то хоть бы из расчета, так как в этой столь мало республиканской Франции было не слишком много республиканцев для основания Республики и благодаря своим принципам, своей культуре, своему социальному положению, своему количеству, жирондисты были избранной частью и силой, соком и цветом партии.
Когда Гора преследовала и казнила инсургентов Лозеры и Вандеи — это вполне понятно, ведь они развернули белое знамя, они получают своих начальников и свои инструкции из Кобленца и Лондона. Но ни Бордо, ни Марсель, ни Лион не являются роялистскими городами и не входят в сношения с заграницей.
«Мы — мятежники?! пишут лионцы, но у нас развевается только трехцветное знамя, белая кокарда, символ восстания, никогда не появлялась в наших стенах. Мы роялисты?! но ведь крики да здравствует Республика! слышатся со всех сторон и не побуждаемые никем в заседании 2 июля, мы все дали клятву преследовать всякого, кто бы предложил короля… Ваши представители вам говорят, что мы контрреволюционеры, а мы приняли конституцию. Они вас убеждают, что мы покровительствуем эмигрантам, а мы предложили им выдать всех, на кого они только могли бы нам указать. Они вам говорят, что улицы наши переполнены непокорными священниками, а мы даже не выпустили из тюрьмы тридцать двух священников, брошенных туда прежним муниципалитетом без всякого суда, без доноса с чьей-либо стороны, только потому что они были священниками».
Таким образом в Лионе мнимые аристократы были тогда не только республиканцами, но демократами и радикалами, верными утвердившемуся режиму, подчиняющимися самым худшим революционным законам. Совершенно такое же положение было в Бордо, Марсели, даже Тулоне. Восстание в Тулоне, в своем начале жирондистское, вспыхнуло 14 июля. Новая администрация Тулона пишет в своем послании к Конвенту следующее: «Мы желаем единой и нераздельной Республики; у нас не видно никаких признаков мятежа… Представители Баррас и Феррон гнусно лгут, выставляя нас контрреволюционерами, находящимися в сношениях с англичанами и фанатиками Вандеи». Администрация Тулона продолжает снабжать провиантом французские войска в Италии. 19 июля английская шлюпка, посланная для парламентерских переговоров, вынуждена была поднять трехцветное знамя. Вступление англичан в Тулон произошло только 29 августа.
Более того, население этих городов примирилось с событиями 31 мая и 2 июня. Так в послании жителей Лиона к народным представителям говорится: «Население Лиона всегда соблюдало законы и если подобно некоторым другим департаментам, департамент Роны и Луары ошибочно понял происшествия 31 мая, то он поспешил, как только он понял, что Конвент вполне свободен в своих действиях, признать его и привести в исполнение его декреты. И еще до сих пор все декреты, которые могут дойти до него распубликовываются и соблюдаются в его стенах». Перестали оспаривать узурпации Парижа, не требовали более возвращения исключенных депутатов. 2 августа в Бордо, 30 июля в Лионе, чрезвычайная Комиссия общественного спасения, сложила с себя полномочия: таким образом, не существовало более никакого соперничавшего с Конвентом собрания. Уже 24 июля Лион торжественно признал центральную и верховную власть и заявлял притязания только на свои муниципальные вольности. Администрация департамента Роны и Луары заявляет Конвенту: «Мы обращаемся к Конвенту с заявлением, что отрекаемся от сделанного и сказанного и препровождаем ему декларацию, выпущенную сегодня властями города Лиона. Раз мы подчиняется закону, мы должны пользоваться его покровительством. Мы просим Конвент обсудить наше отречение и взять обратно касающиеся нас декреты, так как у нас всегда были воззрения истинных республиканцев».
Более того, для разительного доказательства политической правоверности генеральный совет департамента установил гражданский праздник 10 августа, аналогичный празднику в Париже. Уже блокированные лионцы не позволяли себе никакого враждебного акта; 7 августа они вышли брататься с первыми войсками, посланными против них. Они уступали во всем, за исключением одного пункта, в котором не могли уступить не губя себя, я говорю об уверенности, что они не будут преданы без всякой зашиты неограниченному произволу их местных тиранов, грабежам, проскрипциям, мести их якобинской сволочи. В сущности, в Марсели, в Бордо, в особенности, в Лионе и Тулоне секции поднялись только для этого: внезапным и самопроизвольным усилием народ отвел нож, который горсть негодяев поднесла к его горлу, он не хотел подвергнуться сентябрьским избиениям, вот и все. Он открыл ворота только с тем, чтобы не предали его, связав по рукам и ногам, в руки убийц.
Этой незначительной ценой Гора имела возможность окончить гражданскую войну до конца июля, ей нужно было только следовать примеру Роберта Линде, который в Эвре, родине Бюзо, в Каене, родине Шарлоты Кордэ и центре бежавших жирондистов, водворил полный порядок, благодаря выказанной им умеренности и сдержанным им обещаниям. Очень вероятно, что средства, которыми умиротворили самую скомпрометированную провинцию, подействовали бы благотворно и на другие провинции, и благодаря этой политике к Парижу без боя присоединились бы столица центральной Франции, столица Юго-Запада и столица Юга.
Напротив, упорно навязывая им господство маратистов, рисковали бросить их в объятия врага. Не желая вновь попасть в добычу бандитам, ограбившим и разрушившим его, изнуренный голодом Тулон решился принять в свои стены англичан, и выдать им громадный арсенал южной Франции. Не менее терпя от голода Бордо мог соблазниться этим примером и потребовать помощи от другого английского флота. В несколько переходов пьемонтская армия могла дойти до Лиона: Франция была бы тогда разделена на двое, Юг был бы отрезан от Севера и этот проект — возмутить Юг против Севера — был предложен союзникам одним из самых дальновидных их советников. Если бы они последовали его совету, отечество, наверное, погибло бы.
Во всяком случае было опасно доводить инсургентов до отчаяния, так как люди с сердцем не могли колебаться между неограниченной диктатурой их торжествующих убийц, и выстрелами осаждающей армии. Лучше стоило биться на укреплениях, чем дать себя связать для гильотины. Они были притиснуты к эшафоту и единственным их выходом было защищаться до последней крайности.
Таким образом, благодаря своим требованиям Гора обрекала себя на необходимость приступить к осаде нескольких городов или к блокаде в течении нескольких месяцев. Так, республиканские войска вошли в Лион 9 октября, в Тулон 19 декабря. Бордо покорился 2 августа, выведенный из себя декретом 6 августа, осуждающим на изгнание всех пособников мятежа, город выгоняет 19 августа депутатов Будо и Изобо. Он снова покоряется 19 сентября, но возмущение населения так велико, что Тальен с тремя своими коллегами решается въехать в город только 16 октября. Горе приходилось убрать войска из Вара и Савойи, исчерпать свои арсеналы, употребить против французов сто тысяч солдат, которые были так необходимы Франции для действий против внешнего врага. Потребовалась армия в 70 тысяч для усмирения Лиона и 60 тысяч для усмирения Тулона и все это в тот момент, когда иностранцы овладевали Валенсиенном и Майнцом, когда в Лозер восстали тридцать тысяч роялистов, когда главная вандейская армия осаждала Нант, когда каждый новый очаг пожара грозил соединиться с пожаром, пылавшим на границе и с пожаром, постоянно охватывавшем католические местности.
Политический агент Шепи доносил из Гренобля относительно положения дела на границе: «Пьемонтцы завладели Клюзом. Большое количество горцев присоединилось к ним. В Аннеси женщины срубили дерево свободы и сожгли архив клуба и коммуны. В Шамбери народ хотел сделать тоже самое, но вооружили лежавших в больнице и, таким образом, его остановили».
Вылитым во время ведром холодной воды Гора могла еще потушить пламя, которое она зажгла в крупных республиканских городах, в противном случае ей оставалось только дать ему разрастись, разжигать его своими собственными руками, рискуя воспламенить отечество, не имея никакой другой надежды, как потушить пожар под грудою развалин, не имея никакой другой цели, как царить над побежденными, над пленными и над мертвецами.
Но именно это и составляет цель якобинца, так как он довольствуется только неограниченным подчинением, он хочет царствовать во чтобы то ни стало, какими бы то ни было средствами, на каких бы то ни было развалинах. Он деспот по инстинкту, и по своему существу, и догмат помазал его на царство; он король по естественному и божественному праву, подобно какому-нибудь Филиппу II испанскому, получившему помазание на царство от инквизиции. Вот почему он не может отступиться ни от малейшей доли своего авторитета, не нарушив принципа, или вступить в переговоры с мятежниками, за исключением случаев, когда они сдаются на полную его милость. Уже одним тем, что они восстали против законного суверена, они стали изменниками и злодеями. Есть ли более ужасные злодеи, чем эти лжебратья, которые оказали сопротивление в тот момент, когда партия после трех лет ожидания и усилий наконец-таки захватывала в свои руки власть!
В Ниме, Тулузе, Бордо, Тулоне и Лионе они не только предотвратили переворот, имевший место в Париже, но они сокрушили зачинщиков, закрыли клуб, обезоружили фанатиков, арестовали главных маратистов. Более того, в Тулоне и Лионе пять или шесть погромщиков или зачинщиков убийств, Шалье и Риар, Жассо, Сильвестр и Лемайль, преданные суду, были присуждены к смерти и казнены, после судебного процесса, проведенного с соблюдением всех формальностей.
Вот преступление, искупить которое невозможно, так как в этом процессе затрагивается Гора. Принципы Сильвестра и Шалье — её принципы. Они попытались сделать в провинции то, что она сделала в Париже, если они виновны, значит виновна и она, она не может согласиться на их наказание, не давши согласия на свое. Поэтому она должна провозгласить их героями и мучениками, она должна канонизировать их память, она должна отомстить за их мучения, она должна продолжать их посягательства, она должна предоставить должное место их сообщникам, она должна их сделать всемогущими, она должна отдать каждый мятежный город во власть его черни и злоумышленников.
Какое значение имеет то обстоятельство, что якобинцы находятся в меньшинстве, что в Бордо на их стороне стоят только четыре секции из двадцати восьми, что в Марсели за них стоят только пять секций из тридцати двух, что в Лионе у них всего только тысяча пятьсот приверженцев. Но голоса идут не на счет, а на вес, так как право основывается не на количестве, а на патриотизме и суверенный народ состоит только из санкюлотов. Тем хуже для городов, в которых контрреволюционное большинство так значительно, тем более они опасны. Под их республиканскими проявлениями скрывается враждебность прежних партий и подозрительных классов, умеренных, фейльянов и роялистов, купцов, юристов, и рантье и «мускусников». [1] Это гнезда гадов, остается только их уничтожить.
И действительно, подчиняются они или нет, их уничтожают. Изменниками отечеству объявляются не только члены департаментских комитетов, но, например, в Бордо, все те, «которые принимали участие или соглашались с действиями Комиссии общественного спасения», в Лионе все администраторы, чиновники и офицера, принимавшие участие в созыве или допустившие созыв конгресса департамента Роны и Луары, более того, «всякий человек, сын которого или приказчик, или слуга, или рабочий носили оружие или способствовали усилению средств сопротивления», то есть вся национальная гвардия, которая вооружилась и почти все население, которое пожертвовало деньгами или вотировало в секциях.
В силу декрета все диссиденты объявлены «вне закона», то есть их можно гильотинировать, для этого достаточно просто удостоверения их личности, и имущество их конфискуется. Поэтому в Бордо, где не было дано ни одного выстрела, мэра Сэжа, главного виновника подчинения, тотчас же ведут на эшафот без всяких формальностей и за ним следуют еще 881 человек среди мрачного безмолвия смущенного народа.
«Казнь мэра Сэжа, которого народ очень любил за расточаемые им вокруг себя благодеяния, говорит Дегранж, сильно опечалила народ, но не было слышно ни одного преступного ропота». «Несколько времени тому назад, пишет Жюльен Комитету общественного спасения, мрачное молчание во время заседаний военной комиссии было ответом народа на смертные приговоры, выносимые заговорщикам. То же самое безмолвие сопровождало их на эшафот. Казалось, вся Коммуна втайне сокрушалась об их казни».
200 крупных негоциантов арестовывают в одну и ту же ночь, более 1.500 человек бросают в тюрьму, облагают данью всех состоятельных людей, даже тех, к которым нельзя было предъявить каких бы то ни было политических обвинений. «Богатые эгоисты» обложены штрафом в девять миллионов. Например, один обвиненный «в беспечности и политической умеренности», принужден внести 20 тысяч франков, за то, что он не впрягся в колесницу Революции». Другой «обвиненный в том, что он выказывал презрение своей секции и беднякам, так как жертвовал всего 30 ливров в месяц», облагается штрафом в 1,2 миллиона ливров и новые власти, мэр-мошенник и двенадцать негодяев, составляющих революционный комитет, торгуют жизнью и имуществом граждан.
«В Марсели, говорит Дантон, нужно дать хороший урок купеческой аристократии, мы должны выказать себя столь же справедливыми по отношению к купцам, как к дворянам и священникам». После этого 12 тысяч человек попадают в проскрипционные листы и имущество их продается с торгов. С самого же первого дня гильотина усиленно работала, тем не менее депутат Фрерон держится того мнения, что она действует медленно и находит средство ускорить её действие.
«Военная комиссия, которую мы учредили вместо революционного трибунала, пишет он сам, действует, необычайным темпом против заговорщиков… Они падают подобно граду под мечем закона. Четырнадцать человек уже заплатили своей головой за свои гнусные измены. Завтра должны быть гильотинированы еще шестнадцать, почти все начальники легионов, нотариусы, секционеры, члены народного трибунала; завтра три купца будут также танцевать карманьолу». Всё должно погибнуть, и люди, и вещи, он хочет разрушить город и предлагает засыпать порт, с большим трудом удается его остановить, и он довольствуется тем, что разрушает «гнезда аристократии», две церкви, концертную залу, окружающие дома и двадцать три здания, в которых заседали мятежные секции.
В Лионе, для того чтобы увеличить добычу, представители смутными обещаниями постарались сначала успокоить промышленников и негоциантов, которые снова открыли свои магазины и вынули из тайников драгоценные товары, приходные книги. Немедленно, выставленная на показ добыча захватывается; составляют «список всего имущества, принадлежащего богатым и контрреволюционерам», «конфискуют их в пользу патриотов города», налагают, кроме того, штраф в шесть миллионов, который должен быть уплачен в течение недели теми, которых еще может пощадить конфискация, провозглашают принцип, что излишек каждого человека — естественное наследие санкюлотов и что, если он сохраняет что-либо свыше самого необходимого, он совершает воровство и наносит ущерб нации.
Согласно этому правилу, благодаря общему и производящемуся в течение шести месяцев грабежу все имущество города с 120 тысяч населением попадает в руки его подонков. Тридцать два революционных комитета накладывают печати на секвестрированные дома и магазины, не составив инвентаря, выгоняют оттуда жен, детей, слуг, «чтобы не иметь свидетелей», оставляют у себя ключи, чтобы входить и выходить, когда им вздумается или устраиваются там, чтобы проводить время в оргиях с девками.
В то же самое время гильотинируют, расстреливают из ружей, обстреливают картечью; официально революционная комиссия сознается в 1.682 убийствах в течение пяти месяцев, а близкий к Робеспьеру человек утверждает, по секрету, что их было 6 тысяч. Кузнецы приговариваются к смертной казни за то, что они подковывали лошадей лионской кавалерии, пожарные, за то, что они потушили пожар, вспыхнувший от республиканских бомб, одну вдову приговаривают к смерти за то, что она платила военную контрибуцию во время осады, рыбных торговок за то, что они отнеслись к патриотам без должного уважения. Это попросту организованные, узаконенные сентябрьские избиения, длящиеся продолжительное время. Авторы их так отлично понимают это, что, не скрывая — так и называют события в своей публичной переписке.
В Тулоне положение еще ужаснее, там убивают массами, почти на удачу. Хотя самые скомпрометированные жители в количестве 4 тысяч и бежали на английские суда, тем не менее, по словам депутатов, виновен весь город. Фрерона встречают четыреста портовых рабочих. Тот, в виду того, что они работали во время английской оккупации, на месте предает их смертной казни. Отдается приказание «добрым гражданам отправиться на Марсово поле под угрозой смерти», туда являются 3 тысячи человек. Фрерон, окруженный пушками и войсками, является верхом, с сотней маратистов, бывших сообщников Лемайля, Сильвестра и других заведомых убийц — это его местные пособники и советчики. Он предлагает им выбрать в толпе кого они пожелают, по своему капризу, руководясь жаждой мести или завистью. Всех указанных ими выстраивают вдоль стены и расстреливают. На следующий же день операция возобновляется и продолжается в последующие дни. Фрерон пишет 16 нивоза, что уже расстреляно 800 тулонцев. «Расстрелы, пишет он в другом письме, и расстрелы, пока совершенно не будет изменников». Затем в течение трех следующих месяцев гильотина кончает с 1.800 гражданами; одиннадцать молодых женщин сразу поднимаются на эшафот во славу Республики, девяносто четырехлетнего старика приносят туда на носилках. С двадцати восьми тысяч численность населения падает до шести или семи тысяч.
Всего этого не довольно. Необходимо, чтобы оба города, осмелившиеся выдержать осаду, исчезли с лица земли. Конвент объявляет, «что город Лион будет уничтожен, все здания, где обитали богачи будут срыты, останутся только дома бедняков, дома убитых и изгнанных патриотов, здания специально занятые для целей промышленности, памятники, посвященные человечеству и народному просвещению». Точно также и в Тулоне «дома в городе будут срыты, оставлены будут только помещения, необходимые для военных целей, нужд интендантства и снабжения провиантом». Поэтому в Варе и соседних департаментах набираются 12 тысяч каменщиков для срытия Тулона.
В Лионе 14 тысяч рабочих разрушают замок Пьер-Ансиз, чудные дома Белькурской площади, Сен-Клерской набережной, Фландрской, Бургиевской и многих других улиц. Вся эта операция обходится в 400 тысяч ливров в декаду. В шесть месяцев Республика тратит пятнадцать миллионов для уничтожения ценностей в триста или четыреста миллионов, принадлежащих Республике же. Со времени монголов пятого и тринадцатого веков мир еще не был свидетелем таких громадных и безрассудных разрушений, такой ярости против самых полезных созданий человеческой промышленности и цивилизации.
Со стороны монголов, бывших кочевым народом, эти разрушения еще понятны, они стремились превратить землю в обширную степь. Но разрушить город, арсенал и порт которого сохраняется, уничтожить людей, стоящих во главе промышленности и их дома в городе, в котором сохраняют рабочих и мануфактуры, сохранить родник, уничтожив ручей, или наоборот сохранить ручей, уничтожив родник, столь нелепый проект мог родиться только в голове якобинца. Голова его так разгорячена, что он не сознает противоречий, жестокая глупость варвара сталкивается с idée fixe инквизитора, на земле есть место только для него и для подобных ему правоверных. С нелепым мрачным пафосом он объявляет об уничтожении еретиков. Не только вместе с ними будут уничтожены их памятники и жилища, но даже последние слезы их будут истреблены и имена их будут вычеркнуты из людской памяти.
«Название Тулон будет уничтожено, эта коммуна будет отныне называться Пор-ла-Монтань». «Название Лиона будет вычеркнуто из ряда названий городов Республики, отныне собрание сохранившихся домов будет называться — Освобожденный город». На развалинах Лиона будет воздвигнута колонна со следующей надписью: «Лион вел войну против свободы, Лиона больше нет». Депутаты-уполномоченные хотели также уничтожить название Марселя. «Название Марсель, которое носит еще этот преступный город будет изменено. Национальному Конвенту будет предложено дать ему другое название. Временно он будет лишен всякого названия». Действительно в нескольких позднейших актах Марсель называется Коммуна без названия.
Это делается не для того, чтобы пощадить в Париже вожаков восстания или партии, депутатов, генералов или министров; напротив, — крайне необходимо довести до конца подчинение Конвента, заглушить ропот правой стороны, заставить замолчать Дюкоса, Бойе-Фонфреда, Вернье, Куэ, которые все еще говорят и протестуют. Вот почему каждую неделю приказы об аресте или смертные приговоры, посылаемые с вершины Горы поражают большинство, подобно ружейным выстрелам произведенным в толпу. 15 июня — приказ об аресте Дюшателя; 17 — Барбару; 23 — Бриссо; 8 июля — Деверите и Кондорсе; 14 — Лоз-Деперре и Фоше; 30 — Дюпра младшего, Валле и Менвиелля; 2 августа — Руйе, Брюнеля и Карра-Карра; — Лоз-Деперре и Фоше, бывших в числе присутствующих в заседании, арестовывают тут же. Это весьма ощутительное предупреждение, нет более действительного, чтобы сокрушить не желающих подчиниться.
Обвинительные декреты вынесены — 18 июля против Кустара; 28 июля против Женсонне, Ласурс, Верньо, Моллево, Гардиена, Гранжнева, Фоте, Буало, Валазе, Кюсси, Мейллано. Каждый из них знает, что трибунал, перед которым они должны явиться, это прихожая гильотины.
12 июля объявлены приговоры Биротто; 28 июля Бюзо, Барбару, Горсасу, Ланжюине, Саллю, Луве, Бергоену, Попону, Гуаде, Шассе, Шамбону, Лидону, Валади, Дефермону, Кервелегану, Ларивьеру, Рабо-Сент-Этьенну и Лесажу; все они объявлены изменниками, поставлены вне закона и их поведут на эшафот без всякого суда.
Наконец 3 октября в самом собрании удачным ловом захватывают всех тех, которые кажутся еще способными быть хотя бы сколько-нибудь независимыми. Предварительно докладчик Комитета общественной безопасности отдает приказание закрыть двери залы, затем после высокопарной и клеветнической речи, продолжающейся два часа, он прочитывает два проскрипционных листа: сорок пять более или менее выдающихся депутатов Жиронды будут тотчас же преданы революционному трибуналу; другие семьдесят три депутата, подписавшие тайные протесты против 31 мая и 2 июня будут заключены в арестные дома. Никакое обсуждение не допускается, большинство даже не осмеливается высказать свое мнение. Некоторые из опальных пытаются оправдаться, но якобинцы отказываются их выслушать. Одни монтаньяры имеют права голоса и при том пользуются им для того, чтобы внести добавочно в проскрипционные листы своих личных врагов: так Левассер вносит Виже, Дюруа — Тишу.
По мере того, как их вызывают по фамилиям все несчастные присутствующие покорно «толпятся у решетки, подобно овцам предназначаемым к отсылки в бойни», тут их разделяют на две части, с одной стороны, семьдесят три, с другой десять или двенадцать, которые, вместе с уже находящимися в тюрьме жирондистами, составят сакраментальное и популярное число двадцати двух изменников, смерть которых является необходимостью для якобинского воображения.
Для всякого, кто задумал бы им подражать или их защищать, обхождение с ними монтаньяров является достаточным уроком. Среди проклятий и оскорблений стоявших на их пути мегер, этих семьдесят трех депутатов приводят в уже переполненную арестантскую камеру, они проводят там ночь на ногах или приткнувших на скамейки, почти задыхаясь от спертого воздуха. На следующий день их бросают в тюрьму убийц и воров, в Форс, и помещают в шестом этаже, под крышей; чердак этот так узок, что кровати их соприкасаются и два депутата за неимением кровати, спят на полу. У лестницы и под слуховым окном помещаются две клетки с свиньями; общие отхожие места в глубине комнаты и ночная «параша», окончательно отравляли воздух, уже испорченный скоплением людей, постели их — простые соломенные мешки, кишащие насекомыми; депутатов кормят и содержат как каторжников. Они еще должны быть счастливы, что так дешево отделались, так как Амар назвал их заговорщиками за их обычное молчание на заседаниях, и другие монтаньяры хотели бы и их тоже предать революционному трибуналу. По крайней мере условлено, что Комитет общественной безопасности рассмотрит их дела и сохранит за собою право указать на новых преступников между ними. В течение десяти месяцев они живут, таким образом, под Дамокловым мечем и могут ждать каждый день, что их пошлют вслед за казненными двадцатью двумя на площадь Революции.
Что касается этих последних, то монтаньяры заботились не о суде над ними, а об их убийстве, и их мнимые процессы являются юридическим убийством. В качестве обвинения против них выставляют клубные сплетни, их обвиняют в том, что они хотели восстановить королевскую власть, что они находятся в сношениях с Питтом и Кобургом, что они подняли Вандею, их влиянию приписывают измену Дюмурье, убийство Лепелетье, убийство Марата и мнимые свидетели, выбранные из среды их личных врагов, являются перед судом и повторяют как заученный урок всю ту же нескладную выдумку, не приводя ни одного точного факта, ни одного убедительного доказательства. Недостаток доказательств так очевиден, что судьи вынуждены скомкать, как можно скорее процесс.
Так Фукье-Тенвилль пишет Конвенту: «Разве каждый обвиняемый не потребует себе слова, после судебного следствия? Этот процесс будет бесконечен. И к чему тут, позволительно спросить, свидетели? Конвент, вся Франция обвиняет тех, которых судят. Доказательства их преступлений очевидны. Каждый убежден в душе, что они виновны… Дело Конвента отбросить все формальности, которые задерживают ход судебного разбирательства».
Главным образом стараются не дать им возможности говорить. Логика Гуаде, красноречие Верньо могли бы все испортить в последний момент. Вот почему неожиданный декрет разрешает трибуналу прекратить судебное разбирательство, как только присяжные найдут, что они достаточно ознакомились с делом. А ознакомились они с ним к седьмому заседанию, и смертный приговор неожиданно обрушивается на обвиняемых, которые даже не имели возможности защищаться. Один из них, Валазе, тут же закалывает себя, и на следующий день национальный нож гильотины отрубит двадцать остальных голов.
Еще большей поспешностью отличается процедура против обвиняемых, уклонившихся от суда. Горсаса, схваченного в Париже 8 октября, гильотинируют в тот же день; Биротто, схваченного в Бордо 24 октября, ведут на казнь через двадцать четыре часа. Остальные депутаты, преследуемые как дикие звери, блуждают переодетые, скрываются и большинству из них, наконец-таки арестованному, предоставляется только выбор между различными родами смерти. Шамбон убит с оружием в руках, Лидон пускает себе пулю в лоб, после отчаянного сопротивления; Кондорсе отравляется в кордегардии Бург-ла-Рень; Ролан на большой дороге прокалывает себя шпагой. Клавьер закалывается в тюрьме; труп Ребеки находят в водах Марсельского порта; трупы Перона и Бюза находят полу обглоданными волками в Сент-Эмилион; Валади казнят в Периге; Дешезо в Рошфоре; Гражнева, Гуаде, Салля и Барбару в Бордо; Кустара, Кюсси, Рабо Сент-Этьена, Бернара, Масюке и Лебрена в Париже. Даже Керссн и Манюель, сложившие с себя депутатские полномочия еще в январе 1793 года, платятся своей жизнью за то, что сидели на правой стороне и, конечно, г-жа Ролан, считающаяся главой партии, умирает на эшафоте одной из первых.
Из 180 жирондистов, руководивших Конвентом, сто сорок погибли, или заключены в тюрьму, или бежали от угрожавшей им смертной казни. После всего этого оставшиеся депутаты, конечно, выказывают полное послушание, Гора не встретит сопротивления ни в местных властях, ни в центральной власти, деспотизм её утвердится на практике, остается только провозгласить его в законе.
Страх и отвращение остатка прежнего большинства сказывается в том факте, что в голосованиях принимает участие самое незначительное количество членов Конвента и это тем более многозначительно, что дело идет о назначении диктаторов. Члены Комитета общественного спасения, избранного 10 июля, получают только от 100 до 192 голосов; члены Комитета общей безопасности, избранного 16 июня, от 22 до 113 голосов; члены того же Комитета переизбранного 11 сентября — только от 52 до 108 голосов, судьи революционного трибунала, пополненного 3 августа от 47 до 65 голосов. Мейльан говорит по поводу первого учреждения революционного правительства, 28 августа, по предложению Базира: «Декрет этот постановлен 60 или 80 депутатами, предыдущий декрет был вынесен большинством 13 против 10… В течение двух месяцев на самом многолюдном заседании не было более 100 активных депутатов. Монтаньяры объезжали департаменты, чтобы обмануть или запугать народ, остальные, лишившись всякой энергии, не являлись на заседания, или же, если и являлись, воздерживались от участия в прениях и голосованиях».
Уже 24 августа, по предложению Базира, Конвент декретировал, «что Франция будет находиться в состоянии революции, до тех пор, пока независимость её не будет признана».
Смысл и мотивы этой декларации ясно указаны в речи Базира: «Со времени принятия конституции фейльянтизм поднял голову, возникла борьба между энергичными патриотами и умеренными. К концу существования учредительного собрания, фельяны завладели словами закон, общественный порядок, мир, безопасность, чтобы обуздать рвение друзей свободы, те же приемы употребляются и теперь. Вы должны разломать оружие в руках ваших врагов, которым они пользуются против вас. Простое выполнение конституционных законов, пригодное для мирного времени, было бы неуместно при существовании заговоров, окружающих нас в настоящее время».
Это означает, что период лицемерных фраз кончился; что конституция является только ярмарочной вывеской; что шарлатаны, парадировавшие ею, в ней больше не нуждаются; что свободы — частные и общественные, местные и парламентские, уничтожены; что настоящее правительство есть правительство произвола и абсолютизма; что отныне ни одно учреждение, ни один закон, принцип, догмат, не гарантирует от его посягательств, ни права отдельной личности, ни права народа; что имущество и жизнь всех граждан находятся в полной его власти и что прав человека более не существует.
Шесть недель спустя, когда послушание Конвента обеспечено, благодаря проскрипции шестидесяти семи и аресту семидесяти трех, все это нагло и официально объявляется с трибуны.
«При обстоятельствах, в которых теперь находится республика, говорит Сен-Жюст, конституция не может быть введена, она будет гарантировать посягательства на свободу, потому что она лишена необходимой мощи для их подавления».
Теперь уже вовсе по необходимо управлять «согласно естественным принципам мира и справедливости. Эти принципы хороши для друзей свободы», но между патриотами и недоброжелателями они не могут быть в обращении. Эти последние — вне закона; они исключены из общественного договора; они — восставшие рабы, их должно наказывать. К их числу принадлежат и «безразличные».
«Вы обязаны наказывать всякого, кто ведет себя в республике пассивно и ничего не делает в её пользу», так как его инертность — измена и благодаря этому он должен быть причислен к врагам республики. «Между народом и его врагами нет ничего общего кроме меча, нужно заносить меч над теми, которыми нельзя управлять справедливостью», необходимо «подавить» монархическое или нейтральное большинство; «республика будет прочно основана» только в тот день, когда санкюлоты, единственные представители нации, единственные граждане, будут управлять основываясь на праве сильного.
Режим, устанавливаемый проектом Сен-Жюста есть режима, при посредстве которого водворяется олигархия завоевателей и обеспечивает себе существование среди покоренной нации. Этим режимом в Греции 10 тысяч спартиатов, после дорийского нашествия, подчинили себе 300 тысяч илотов и периэков. Этим режимом, в Англии 60 тысяч норманнов, после битвы при Гастингсе, подчинили себе два миллиона саксонцев. Этим режимом в Ирландии, после Бейнской битвы, 200 тысяч англичан-протестантов обуздали миллион ирландцев-католиков. Подобным же режимом 300 тысяч французских якобинцев сумеют подчинить себе шесть или семь миллионов жирондистов, фейльянов, роялистов или безразличных.
Он очень прост и заключается в том, чтобы держать подвластное население в крайней слабости и в крайнем страхе. С этой целью его обезоруживают, его держат под надзором, ему запрещают всякие действия сообща, ему показывают всегда готовый к нанесению ударов меч и всегда открытые тюрьмы, его раззоряют и его губят.
Малле дю-Пан говорит: «В настоящий момент весь народ обезоружен. Не остается ни одного ружья, ни в городах, ни в деревнях. Если что и доказывает сверхъестественное могущество вожаков Конвента, так это то, что в один момент, одним усилием воли и притом без всяких жалоб и протестов, от Перпиньяна до Лилля вся нация лишена каких бы то ни было средств для защиты от угнетения и притом с гораздо большей легкостью, чем в 1789 году она вооружилась против королевской власти». Другой писатель говорит: «Национальная гвардия как постоянная армия была в большей части уничтожена летом 1793 года, и солдаты были постепенно обезоружены. Караулы занимали везде по-прежнему, но граждане, за очень немногими исключениями, были вооружены только пиками и к тому же им не разрешалось брать эти пики домой. Каждый из них после ухода с караула возвращал свое оружие, с больше́й точностью, чем если бы он был обязан это сделать на основании статьи капитуляции, заключенной с победоносным врагом».
В течение шести месяцев декретированы и практикуются все эти строгости, обезоружение подозрительных, обложение богатых, коммерсантов, реквизиции у домовладельцев, массовые аресты, суды на скорую руку, произвольные смертные приговоры, смертные казни на народе и притом без конца. В течение шести месяцев сфабрикованы и действуют все орудия смертной казни, комитет общественного спасения, комитет общей безопасности, полевые проконсулы с неограниченными полномочиями, местные комитеты, имеющие право облагать штрафами и заключать в тюрьмы кого им будет угодно, революционная армия, революционный суд. Но за отсутствием внутренней согласованности и центрального импульса, машина функционирует не вполне исправно и ход её не отличается ни правильностью, ни силой.
«Вы слишком далеко стоите от всех покушений, говорит Сен-Жюст, нужно чтобы меч правосудья обрушивался везде с быстротой, и чтобы вы были везде, для того чтобы во время остановить преступление… Министры сознаются, что они сталкиваются с инертностью и беспечностью, как только имеют дело со своими подчиненными, иерархически более отдаленными».
«У всех правительственных агентов, добавляет Бийо-Варенн, одинаковая апатия… Второстепенные власти, являющиеся пунктами опоры революции, только ставят ей препоны», декреты, передаваемые по административной цепи, доходят слишком поздно и применяются с вялостью. «Вам недостает той принудительной силы, которая составляет принцип существования, движения и исполнения. Всякое сильное правительство должно иметь центр воли и прикрепленные к нему рычаги… Нужно, чтобы все эманации общественной силы были почерпнуты исключительно в первоисточнике».
«При обыкновенном правительстве, говорить, наконец, Кутон, народу принадлежит право выбирать, вы не можете отнять у него это право. При чрезвычайном правительстве, из центра должны исходить все импульсы, из Конвента должны исходить все выборы… Вы окажете вред народу предоставив ему право избирать должностных лиц, потому что вы этим заставите его избрать людей, которые впоследствии ему изменят». Поэтому конституционные принципы 1789 года уступают место противоположным принципам; вместо того, чтобы подчинить правительство народу, подчиняют народ правительству. Под революционными названиями восстановлена иерархия прежнего режима и отныне власть, гораздо более мощная, чем власть прежнего режима передается уже не снизу вверх, а наоборот сверху вниз.
Над всем стоит комитет из двенадцати членов, подобно прежнему королевскому совету, и царствует коллективно. Номинально власть поровну разделена между всеми двенадцатью, фактически она сосредоточивается всего в нескольких руках, некоторые члены занимают второстепенное положение, как например, Баррер, играющий всегда роль оратора или редактора, официального секретаря или истолкователя; другие, специалисты как Жанбон Сент-Андре, Ленде, в особенности, Приёр-де-ла-Кот и Карно, замыкаются каждый в своей специальной области морской, военной, продовольственной, в обмен чего они дают свои подписи политическим вожакам. А те, так называемые «государственные люди», Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст, Бийо-Варенн, Колло-д’Эрбуа, являются истинными суверенами и дают общее направление.
В сущности? мандаты их должны быть возобновлены каждый месяц, но можно быть уверенным заранее, что, в случае голосования, другого результата и быть не может: при положении, в котором находится Конвент, голосование представляет из себя пустую формальность. Более покорный? чем парламент Людовика XIV, он без прений принимает декреты, докладываемые ему Комитетом Общественного Спасения. Он является простой канцелярией, даже менее того, так как он отказался от права самому образовывать свои собственные внутренние комитеты, он предоставляет заботу об этом Комитету Общественного Спасения и целиком принимает представляемый им лист с именами кандидатов в члены этих комитетов. Конечно? он помещает туда только своих единомышленников или свои креатуры и, таким образом, ему принадлежит законодательная и парламентская власть.
Что касается исполнительной и административной власти, то министры стали его приказчиками: «они являются ежедневно, в указанные часы, получать от него постановления и приказания», они подносят ему на рассмотрение «мотивированный список всех агентов», посылаемых ими в департаменты и заграницу, они обращаются к нему за малейшими пустяками. Это писцы, простые машины или манекены, столь ничтожные, что в конце концов их лишат даже звания министров и что для занятия должности «комиссара по внешним сношениям» не найдут никого лучшего, чем бывшего школьного учителя, неспособного клубиста, биллиардного игрока и трактирного завсегдатая, еле могущего читать бумаги, которые ему приносят для подписи в кафе, где он проводит все свое время. Таким образом представителей исполнительной и административной власти комитет превратил в покорных слуг, а законодателей обратил в аудиторию клакеров.
У него две руки для того, чтобы удержать их в повиновении. Одна — правая, хватающая людей нежданно негаданно за горло, — это Комитет общей безопасности, состоящий из крайних монтаньяров, Паниса, Леба, Жеффруа, Амара, Давида, Вадье, Лебона, Руля, Лавиконтери, предложенных, то есть назначенных им самим, из его доверенных, его подчиненных. Они его полицейские надзиратели и являются раз в неделю заниматься с ним, подобно тому, как прежде Сартины, Лелуары являлись с докладами к генеральному контролеру. Неожиданно схваченный человек, которого сочли подозрительным, кто бы он ни был, депутат, министр, генерал, на следующее утро просыпается в камере одной из десяти новых бастилий.
Там, другая рука схватывает его за горло — это революционный трибунал, суд чрезвычайный, аналогичный чрезвычайным комиссиям прежнего режима, но гораздо более страшный. При содействии своих полицейских, Комитет Общественного Спасения сам выбрал шестнадцать судей, шестьдесят присяжных и он выбрал их среди самых подлых, самых грубых, или самых ярых фанатиков. Это — Фукье-Тенвиль, Герман, Дюма, Пайан, Флерио-Леско, за ними священники-отступники, дворяне-ренегаты, артисты-неудачники, бездарные живописцы; ремесленники, едва умеющие писать; столяры, сапожники, плотники, портные, парикмахеры, бывшие лакеи; идиоты, вроде Ганнея; глухие, вроде Леруа. Их имена и звания ясно указывают, кто они такие. Это патентованные убийцы и притом наемные. Даже сами присяжные получали по восемнадцати франков в месяц, для того чтобы они относились к своему делу с большею любовью. А дело это состоит в том, чтобы осуждать без доказательств, без судебного разбирательства, почти без допроса, на спех, целыми массами, всех, кого только предает им Комитет Общественного Спасения, даже самых заведомых Монтаньяров, в чем скоро убедится Дантон, сам создатель этого суда. Благодаря двум этим правительственным приспособлениям Комитет Общественного Спасения держит занесенный нож над головами всех граждан и все головы из страха смерти преклоняются, как в провинции, так и в Париже.
Как в провинции, так и в Париже благодаря искалечению местной иерархии и установлению новых властей его всемогущая воля проявлялась всюду и везде. Прямо, или косвенно «во всем что касается правительственных и общественных мероприятий, личностей и полиции общей и внутренней, все установленные власти и все должностные лица находятся под его надзором». Чтобы заранее уничтожить всякое стремление к административной инертности он лишил департаментскую администрацию слишком могущественной, пользовавшейся слишком большим уважением, «слишком склонной к федерализму», её значения в департаменте и её «политического влияния», он свел её функции к распределению податей, к наблюдению за дорогами и каналами, он ее фильтрует, он таким же образом фильтрует окружную администрацию и муниципальные учреждения. Чтобы заранее уничтожить всякую возможность народного сопротивления он ограничил заседания секций двумя в неделю, он ввел туда путем установления ежедневной платы по сорока, су на человека, большинство санкюлотов и он заставил отложить «впредь до особого распоряжения» муниципальные выборы. Затем, чтобы иметь возможность распоряжаться на местах, он назначает своих приверженцев, сначала комиссаров и уполномоченных депутатов, как бы временных начальников провинций, которых он посылает во все департаменты с неограниченными полномочиями, затем национальных агентов, нечто в роде постоянных суб-делегатов, которыми в каждом округе или муниципалитете он заменяет прокуроров-синдиков.
Прибавьте к этой армии чиновников в каждом городе, местечке или крупном селе революционный комитет, члены которого получают от трех до пяти франков ежедневно, на обязанности которого лежит осуществлять его постановления и отдавать ему отчет. Никогда еще сверху на народ не накидывалась более плотной и крепкой сети, для того чтобы охватить и не выпустить из неё двадцать шесть миллионов населения Франции.
Такова фактическая конституция, которою якобинцы заменяют свою показную конституцию. В арсенале монархии, которую они уничтожили, они отыскали самые деспотические учреждения, централизацию власти, королевский совет, полицейских начальников, исключительные суды, временных начальников провинций и суб-делегатов; они откопали древний римский закон об оскорблении величества и снова отполировали древние мечи, притупившиеся благодаря цивилизации, для того чтобы иметь возможность подносить их к горлу каждого. Они действуют ими со всего размаху, не обращая никакого внимания ни на свободы, ни на имущество, ни на жизнь, ни на совесть граждан. Это называется «революционным правительством». Судя по его официальной декларации, оно должно просуществовать до водворения мира; истинные же якобинцы убеждены, что оно должно существовать до тех пор, пока все французы не возродятся согласно якобинской формуле.
Книга вторая. Якобинская программа
Глава I. Программа якобинской партии
Абстрактный принцип и самопроизвольное развитие теории. Представление об обществе. Общественный договор. Полное поглощение личности обществом. Государство — собственник всех предметов. Конфискации и секвестры. Государство — собственник личности. Реквизиция людей для военной службы. Реквизиция для гражданской службы. Государство — филантроп, педагог, теолог, моралист, цензор, руководитель идей и интимных чувств. Цель государства — возрождение человека. Две части этой задачи. Возрождение естественного человека. Образование общественного человека. Величие этой задачи. Для выполнения её употребление силы является правом и обязанностью. Оба искажения естественного человека. Позитивная религия. Меры против не давших присяги священников. Закрытие церквей и уничтожение церемоний. Преследования вплоть до Консульства. Социальное неравенство. Зловредность аристократии расы. Меры против собственников, капиталистов и рантье. Уничтожение крупных состояний. Требуемые условия для образования гражданина. Проекты для уничтожения бедности. Меры в пользу бедняков. Подавление эгоизма. Меры против землевладельцев, промышленников и купцов. Социалистические проекты. Подавление федерализма. Меры против местного, корпоративного и семейного духа. Формация умов и душ. Гражданская религия. Национальное воспитание. Эгалитарные нравы. Обязательная гражданская доблесть. Пересоздание человеческой натуры соответственно якобинскому типу.
Нет ничего более опасного существования общей идеи в узких и пустых умах. Так как они пусты, то она не находит никакого знания, которое могло бы ей явиться помехой, так как они узки, то она скоро наполняет собой весь ум. С этого момента люди такого ума более не принадлежат себе, она всецело овладевает ими, так что люди эти становятся подобны одержимым, в подлинном смысле этого слова. Что-то существующее вне их, чудовищный паразит, странная и несоразмерная мысль живет в них, развивается, порождает проявления зловредной воли. Они не предвидели, что у них явятся эти волевые желания, они не знали, что заключает в себе его принцип, какие губительные и ядовитые последствия произойдут от этого. А эти последствия неизбежно наступают, одно за другим, под давлением обстоятельств, сначала анархические, а затем и деспотические. Достигнув власти якобинец вносит и с собой свою idée fixe.
Последуем за внутренним развитием и обратимся вместе с якобинцем к принципам, к первоначальному договору, к учреждению общества. Существует только одно надлежаще поставленное общество, это общество, основанное на «общественном договоре», и все пункты этого договора сводятся к одному: и к полному отчуждению каждого индивидуума со всеми его правами обществу, каждый отдает себя всецело, каков он есть в настоящее время, со всеми своими силами, частью которых является и имущество, которым он владеет. Недопустимы никакие исключения или ограничения. Ему, собственно, не принадлежит ничего из того, чем он был или что имел раньше. То, чем он отныне является или что у него есть, предоставлено ему по полномочию. Его собственность и его личность являются отныне частью государственной собственности, если он и владеет ими, то только из вторых рук, если он пользуется ими, то только потому что ему это разрешается. Он просто хранитель, управитель ими и ничего более. Другими словами, он по отношению к ним только управляющий, то есть чиновник, подобно другим чиновникам. Он может быть всегда смещен государством, которое его назначило на это место.
«Подобно тому как природа даст каждому человеку право неограниченного распоряжения всеми его членами, так и общественный договор предоставляет общественному телу абсолютную власть над его членами». Всемогущий суверен, всемирный собственник-государство своими неограниченными правами над лицами и предметами, как ему заблагорассудится пользуется, а поэтому мы, его представители, накладываем руку на вещи и на лица. Они принадлежат нам, так как принадлежат государству. Мы конфисковали духовные имения, приблизительно 4 миллиарда, мы конфискуем имущество эмигрантов, ценою приблизительно в 3 миллиарда, мы конфискуем имущество гильотинированных и сосланных, его там на несколько сотен миллионов. Сосчитать можно будет впоследствии, ведь список не заканчивается и новые имена вносятся в него каждый день. Мы секвеструем имущество лиц подозрительных, благодаря чему мы им пользуемся, а это опять-таки дает нам несколько сотен миллионов. После войны и изгнания подозрительных мы сделаемся и собственниками, это доставит нам капитал в несколько миллиардов. А тем временем мы конфискуем имущество больниц и других благотворительных учреждений, приблизительно 800 миллионов, мы возьмем имущества фабрик, учреждений, воспитательных заведений, литературных и научных обществ: опять целая куча миллионов. Мы возьмем обратно имения, заложенные или отчужденные государством три столетия и более тому назад! Их наберется миллиарда на два. Мы уже по наследству получили прежние земли короны и имущество более недавнего происхождения по цивильному листу».
Таким образом более трех пятых французской территории попадает в наши руки и эти три пятые представляют гораздо большую ценность чем остальные две пятые, так как они обнимают почти все крупные и прекрасные постройки, замки, аббатства, дворцы, гостиницы, особняки и почти всю роскошную обстановку, королевскую, епископскую, дворянскую и буржуазную, дорогую мебель, посуду, библиотеки, картины, художественные предметы, собиравшиеся в течение веков.
Прибавьте к этому захват наличной звонкой монеты и всех серебряных, и золотых слитков. В течение одних только ноября и декабря 1793 года, мы таким путем прячем в наши сундуки триста или четыреста миллионов, не ассигнациями, а звонкой монетой. Так, по предложению народного общества в Тулузе, департамент Верховьев Гаронны отдал приказание всем владельцам золотых и серебряных вещей предъявить их в окружные кассы для обмена на ассигнации. «Благодаря этому постановлению, говорит Камбон в своем докладе, в кассы Тулузы до сих пор набралось около 1–1,5 миллиона фунтов серебряных и золотых вещей». Также дело обстояло в Монтобане и других городах. «Многие из наших коллег, говорит Камбон, даже постановили предавать смертной казни всех, которые не представят к известному сроку своих золотых или серебряных вещей». Одним словом, какова бы ни была форма постоянного капитала мы отберем все что будем в состоянии отобрать, вероятно более трех четвертей его.
Остается часть нефиксированная и обесценивающаяся от употребления, то есть предметы потребления, земные плоды, всякого рода припасы, все произведения искусства и человеческого труда, способствующие поддержанию жизни. «Благодаря праву преимущественного приобретения и реквизиции республика мгновенно становится собственником всего, что торговля, промышленность и земледелие создало и произвело на территории Франции». Все продукты и товары принадлежат нам, прежде чем принадлежат их фактическому владельцу, мы отбираем у него все что нам угодно, мы расплачиваемся с ним ничего не стоящей бумагой, часто мы ему совершенно ничего не платим. Для большего удобства мы непосредственно захватываем предметы в том месте, где они находятся, хлеб и кормовую траву у земледельца, скот у скотовода, вино у виноградаря, кожи у кожевника, шкуру у мясника, мыла, сало, сахар, водку, полотно, материи и остальное у фабриканта, владельца склада и торговца.
Мы останавливаем на улицах экипажи и лошадей, мы являемся к содержателю почтовых станций и транспортных предприятий и очищаем его конюшни. Мы уносим кухонную медную посуду, чтобы достать медь, мы выгоняем людей из их квартир, для того чтобы достать кровати. Мы снимаем у них с плеч плащи и рубашки, мы в один день снимаем сапоги с десяти тысяч жителей одного города. Так, постановление депутата Боман гласит: «Все синие и зеленые плащи отныне подлежат реквизиции как в департаменте Верховьев-Гаронны, так в департаментах Ланга, Гарса и других. В течении двадцати четырех часов всякий гражданин, владеющий синими или голубыми плащами обязан сдать их муниципалитету той местности, где он находится». В противном случае он будет считаться «подозрительным» и с ним будет поступлено как с таковым. «В случае государственной необходимости, говорит депутат Изоре, все принадлежит народу и ничего отдельным личностям». В силу того же права мы располагаем людьми как предметами. Мы объявляем созыв поголовного ополчения и, что является самым странным, осуществляем его на многих пунктах территории и в течение первых месяцев. В Вандее и в департаментах северных и восточных мы набираем все мужское и годное для военной службы население, всех мужчин до пятидесятилетнего возраста и целыми толпами направляем их на врага. Затем мы берем в солдаты целое поколение, всех молодых людей от восемнадцати до двадцати пяти лет, почти миллион жителей. Десятилетнее тюремное заключение грозит всякому уклонившемуся от призыва, он считается дезертиром, имущество его конфискуется, родственники его наказываются вместе с ним, впоследствии он будет приравниваться к эмигрантам, приговариваться к смерти, его отец, мать, родственники по восходящей линии будут находиться под подозрением, а поэтому значит будут заключаться в тюрьму и имущество их будет подлежать конфискации.
Чтобы вооружить, одеть, обуть, экипировать наших рекрутов, нам нужны рабочие, поэтому мы созываем в главные города округов и департаментов оружейников, кузнецов, слесарей, всех портных, всех сапожников данного округа, «мастеров, подмастерьев и учеников, мы заключаем в тюрьму неявившихся, а явившихся мы партиями размещаем в общественных зданиях и распределяем между ними работу. Им запрещается делать что-либо для частных лиц, отныне сапожники во Франции будут работать только для нас и каждый из них, под угрозой штрафа, должен будет доставлять нам столько-то пар сапог в декаду.
Но гражданское управление не менее важно военного, так же необходимо обеспечить продовольствием народ, как и защищать его. Вот почему мы подвергаем «реквизиции всех тех, которые содействуют выработке, транспорту и сбыту продуктов и товаров первой необходимости», а именно топлива и съестных припасов, дровосеков, возчиков, сплавщиков леса, мельников, жнецов, молотильщиков, вязчиков, косарей, пахарей и всякого рода «сельских учителей». Они наши рабочие, мы заставляем их передвигаться и работать под угрозой тюремного заключения и штрафа. Нет более лентяев, в особенности, когда дело идет о жатве, мы выводим на поля целое население коммуны или кантона, включая «праздных мужчин и женщин», волею неволею они будут собирать хлеб на наших глазах, со своих и с чужих полей и будут без разбора складывать снопы в общественные амбары.
Но ведь все связано и держится одной работой, начиная от первоначального и кончая финальным созданием, начиная от крупного предпринимателя и кончая незначительным мелочным торговцем. Когда наложили руку на первое звено цепи, остается только наложить ее и на последнее. И в этом случае опять-таки оказывается пригодной реквизиция, мы применяем ее ко всякому труду. Каждый обязан продолжать трудиться, фабрикант производить, купец торговать, даже себе в убыток, так как, если он терпит убыток, то в прибылях остается публика, и добрый гражданин должен предпочитать общественную выгоду своей частной прибыли.
Ведь какое бы у него ни было занятие, он — служащий государства, а оно может не только предписывать ему род занятий, но и выбирать таковой для него, оно не обязано советоваться с ним по этому вопросу, а он не праве отказываться. Вот почему мы назначаем на места людей или удерживаем их, даже вопреки их желанию. Как они ни отказываются и ни уклоняются, они останутся или станут генералами, судьями, мэрами, национальными агентами, муниципальными советниками, благотворительными или административными комиссарами. Тем хуже для них, если место обременительно или опасно, если у них нет необходимого свободного времени, если они не чувствуют в себе надлежащих способностей, если чин или место кажется им преддверием к тюрьме или гильотине. Когда они заявят, что данное место для них обуза, барщина, мы ответим, что они обязаны отбывать барщину в пользу государства.
Таковы отныне условия существования всех французов и всех француженок. Мы заставляем матерей водить своих дочерей на заседания народных обществ. Мы заставляем женщин участвовать и маршировать на республиканских празднествах, мы выбираем самых красивых из них, для того чтобы одеть их древними богинями и возить их всенародно на колеснице, мы иногда указываем на богатых женщин, чтобы женить на них патриотов. Нет оснований, чтобы брак, самое важное из служений, не подлежал, подобно другим, реквизиции.
Поэтому мы вторгаемся в семьи, отбираем ребенка, даем ему гражданское воспитание. Мы педагоги, филантропы, теологи, моралисты. Мы силою навязываем нашу религию и наш культ, нашу мораль и наши нравы. Мы регламентируем частную жизнь и совесть человека, мы распоряжаемся его мыслями, мы исследуем и наказываем его тайные наклонности, мы облагаем штрафом, заключаем в тюрьму и гильотинируем не только наших недоброжелателей, но и «безразличных умеренных и эгоистов». Так Сен-Жюст говорил; «Вы должны наказывать каждого, кто к Республике пассивен и ничего не делает для неё». Мы диктуем каждой, отдельной личности, кроме видимых его действий, еще и мысли и интимные чувства, мы предписываем ей как верования, так и наклонности и мы пересоздаем, согласно предвзятому плану, его ум, его совесть и его сердце.
В этой операции нет ничего произвольного, так как идеальный образец начертан заранее. Если государство всемогуще, то оно может «возродить людей» и теория, предоставляющая ему его права, назначает ему и объект.
В чем заключается это возрождение человека? Взгляните на какое-нибудь домашнее животное, на собаку или на лошадь. Его бьют, плохо кормят и на тысячу изнуренных и эксплуатируемых животных приходится разве только одно, которое чувствует себя вольно и умрет от ожирения. У всех, у жирных или у худых, душа еще более испорчена, чем тело. Суеверное почтение заставляет их сгибаться под тяжестью бремени или же заставляет их ползать перед, господами. Если они, подлые, ленивые, обжорливые, обессиленные, приобрели жалкие таланты рабства, то приобрели и немощи, потребности и пороки. Кора глупых привычек и развращенных наклонностей, что-то искусственное и наносное покрыло их первоначальную натуру.
А с другой стороны, лучшая часть их первоначального существа не могла развиться. Разъединенные между собою они не восприняли чувства общности, они не умеют, подобно своим братьям Саванн, помогать друг другу и подчинять интересы отдельного существа интересам стадным. Каждый из них тянет в свою сторону, никто не заботится об остальных, все — эгоисты, социальные инстинкты заглушены.
Таков современный человек, это искаженное существо, которое нужно воссоздать, недоконченное создание, которое нужно вполне завершить. Таким образом нам предстоит двойная задача: нам нужно разрушить, нам нужно создать, мы сначала обнажим естественного человека, чтобы затем создать человека социального.
Замысел этот грандиозен, и мы чувствуем его грандиозность.
«Нужно, говорит Бийо-Варенн, в некотором роде воссоздать народ, который хотят вернуть к свободе, — так как нужно уничтожить старинные предрассудки, изменить старинные привычки, усовершенствовать развращенные наклонности, ограничить излишние потребности, искоренить вкоренившиеся пороки». Но замысел этот грандиозен, так как дело идет о том, «чтобы выполнить требования природы, осуществить судьбы человечества, сдержать обещания философии».
«Мы хотим, говорить Робеспьер, заменить эгоизм — нравственностью; честь — честностью; обычаи — принципами; приличия — обязанностями, тиранию моды — царством разума, презрение к несчастью — презрением к пороку; дерзость — грубостью; тщеславие — величием души; любовь к деньгам — любовью к славе; вежливых людей — честными; интриги — заслугами; благородство ума — гениальностью; пресыщенность — сладострастием, прелестью счастья; мелочность великих людей — величием; легкомысленный и несчастный народ — народом великодушным, мощным, счастливым; то есть все пороки и все отрицательные стороны монархии — всеми добродетелями и всеми чудесами республики».
Мы это сделаем, сделаем все это, во чтобы то ни стало. Современное поколение не имеет значения, мы работаем для будущих поколений. «Человек, принужденный изолироваться от мира и самого себя, бросает свой якорь в будущее и прижимает к своему сердцу невинное потомство настоящих бедствий». Он приносит в жертву своему делу свою жизнь и жизнь ближнего. «В тот день, когда я подучу убеждение, пишет Сен-Жюст, что невозможно дать французскому народу нравы мягкие, энергичные, чувствительные, безжалостные к тирании и несправедливости, я себя заколю». «Что я сделал на Юге, говорит Будо, я сделаю на Севере, я их сделаю патриотами; или они умрут, или я умру». «Мы сделаем из Франции кладбище, говорит Карье, но возродим ее согласно нашему желанию».
Тщетно люди слепые или с извращенными сердцами пытались бы протестовать, потому что они слепы и чувства у них извращенные. Тщетно отдельная личность пыталась бы указывать на индивидуальные права, их у неё больше нет. Общественным договором, являющимся обязательным и единственно действительным, он отказался от всего своего существа. Так как он не оставил себе ничего, «он не имеет права требовать себе что-либо». Без сомнения, некоторые будут еще восставать, потому что наносная привычка заглушает еще оригинальный инстинкт. Если отпустить на волю лошадь, вертящую мельничный жернов, она станет крутиться по-прежнему, если отпустить на волю привязанную на веревке собаку фокусника, она будет снова становиться на задние лапы. Для того, чтобы привести их в естественное положение, нужно будет основательно встряхнуть их. Точно также нужно будет встряхнуть и человека, чтобы привести его в нормальное состояние. Но в этом отношении мы его не принижаем, а возвеличиваем, по выражению Руссо, «мы заставляем его быть свободным», мы оказываем ему величайшее благодеяние, которое вообще можно оказать человеческому созданию, мы возвращаем его природе и ведем его к справедливости. Вот почему, если он теперь, будучи предупрежден, будет упорствовать в своем сопротивлении, он становится преступником, достойным всякого наказания (Декрет 20 апреля 1794 года. — «Конвент объявляет, что, опираясь на добродетели французского народа, он даст победу демократической республике и накажет без всякого сострадания его врагов»), так как он является мятежником и клятвопреступником, врагом человечества и изменником социальному договору.
Так Жанбон-де-Сент-Андре говорит 25 сентября 1793 года в Конвенте: «Говорят, что наша власть неограниченна, нас обвиняют в том, что мы деспоты. Деспоты! Мы! Да, действительно, если свобода будет торжествовать благодаря этому деспотизму, то он является политическим возбуждением». Робеспьер говорит в своем докладе: «Говорили, что террор пружина деспотического правления. Но, разве ваше правление деспотическое? Да, подобно тому, как меч, сияющий в руках героев свободы, походит на меч, которым вооружены сателлиты тираний… Правительство Революции — деспотизм свободы против тираний».
Начнем теперь с того, что вообразим себе естественного человека. Конечно, теперь его почти невозможно узнать. Он совершенно не походит на искусственное существо, которое мы находим вместо него, на существо, изуродованное незапамятным режимом принуждения и обмана, крепко сдавленное своей наследственной броней суеверий и повинностей, ослепленное своей религией и приниженное путем обмана, эксплуатируемое своим правительством и дрессированное благодаря физическому воздействию. Оно находится на привязи, им всегда пользуются вопреки смыслу и природе, какова бы ни была его клетка, высока или низка, каково бы ни было его корыто, пусто или полно. Оно подобно изнуренной лошади, вертящей с завязанными глазами мельничный жернов или дрессированной собаке, разодетой в рваную мишуру и показывающей публике свои трюки. Но уничтожьте мысленно лохмотья, путы, стойло социальной конюшни и вы увидите перед собой нового человека, первобытного человека, цельного и здорового умом, душою и телом.
В этом состоянии он свободен от предрассудков, он не был опутан ложью, он не иудей, не протестант, не католик. Если он попытается понять совокупность мира и принцип вещей, он не даст обмануть себя мнимым откровением, он послушается только своего разума. Может быть, иногда он станет атеистом, но почти всегда он будет деистом. В таком состоянии он не впутан ни в какую иерархию, он не дворянин и не разночинец, не рабочий и не хозяин, не собственник и не пролетарий, не подчиненный и не начальник. Все равны, ни один от другого не зависит, и если они согласятся образовать союз, то их здравый разум подскажет им первое условие — сохранение первоначального равенства.
Вот человек, каким его создала природа, каким его сделала история и каким его должна пересоздать Революция. Нельзя слишком сильно ударять по обеим повязкам, которыми он крепко стянут, по позитивной религии, сдавливающей его ум и по социальному неравенству, стесняющему и калечащему его волю; так как каждым наносимым ударом разрывают шнур, обматывающий повязку, а это в свою очередь возвращает движение парализованным членам.
Последуем за успехами освободительной операции.
В борьбе с институтом духовенства Учредительное Собрание, бывшее по обыкновению робким, сумело принять только полумеры. Оно только прорубило кору, оно не решилось нанести топором удар в толщу ствола. Конфискация имений духовенства, роспуск религиозных орденов, уничтожение авторитета папы, вот к чему свелась его работа, — оно задумало учредить новую церковь и превратить священников в принявших присягу государственных чиновников, как будто католицизм, даже административный, мог перестал быть католицизмом! Оно не только уничтожило старинную лабораторию лжи, но рядом с ней открыло другую, так что теперь вместо одной их оказалось две. С официальной этикеткой или без неё оно функционирует во всех коммунах Франции и как в прежнее время безнаказанно раздаст публике свою стряпню. Вот именно этого то мы и не можем допустить.
Правда, принужденные соблюдать внешние приличия на словах мы, снова объявим свободу культов. Но в действительности и на практике мы уничтожим лабораторию и воспрепятствуем продаже снадобья. Не будет более во Франции католического культа, не будет ни одного крещения, ни одной исповеди, ни одного брака, ни одного соборования, ни одной обедни, никто не будет открыто говорить или слушать проповедь, никто не будет открыто причащать или причащаться. Это будут делать тайком, имея в перспективе эшафот или тюрьму.
Поэтому мы будем действовать по порядку. По отношению к церкви, объявляющей себя ортодоксальной, затруднений быть не может: её члены отказались дать присягу и поэтому стоят вне закона. Ведь отказываясь от договора сам себя исключаешь из общества. А они потеряли свое звание граждан, они превратились в простых иностранцев, находящихся под надзором полиции. Но так как они сеют вокруг себя неприязнь и неповиновение, то они являются даже не иностранцами, а мятежниками, скрытыми врагами, создателями рассеянной по Франции тайной Вандеи. Нам вовсе не нужно преследовать их как шарлатанов, достаточно покарать их как мятежников. В качестве таковых мы уже изгнали из Франции отказавшихся от присяги духовных лиц, около сорока тысяч священников, и мы высылаем всех не переехавших за границу к определенному сроку. Мы разрешаем пребывание на французской территории только шестидесятилетним старикам и немощным и то еще в качестве заключенных. Им грозит смертная казнь, если они сами не явятся в тюрьму главного города округа или департамента, смертная казнь угрожает вернувшимся изгнанникам, смертная казнь грозит укрывателям священников.
В виду этого, за неимением правоверного духовенства не будет более правоверного культа, самая опасная из обеих лабораторий суеверия закроется. Для того, чтобы вернее остановить сбыт ядовитого товара, мы наказываем, одинаково как тех, которые его продают, так и тех, которые его приобретают, и мы преследуем не только пастырей, но и фанатиков духовного стада. Ведь во всяком случае, если они и не зачинщики мятежа духовенства, то несомненно являются пособниками и соучастниками его. Благодаря схизме они нам заранее известны и во всякой коммуне существует полный их список. Мы называем фанатиками всех тех, которые не признают давшего присягу священника, буржуа, которые считают его человеком, не имеющим ничего общего с церковью; монахинь, которые ему не исповедуются; крестьян, которые не идут в церковь, раз он там совершает богослужение; старух, не целующих его дискос; родителей, не желающих, чтобы он крестил их новорожденного. Все эти люди и те, которые их посещают, их близкие, родственники, друзья, гости, посетители, кто бы они не были, мужчины или женщины, в душе мятежники, и поэтому люди подозрительные. Мы лишаем их принадлежащих им избирательных прав, мы отнимаем от них пенсии, мы облагаем их специальными податями, мы запрещаем им выезжать из места их постоянного жительства, мы заключаем их тысячами в тюрьму, мы их гильотинируем сотнями. Мало по малу оставшиеся в живых падут духом и откажутся от исповедания культа, исповедовать который невозможно.
Остаются равнодушные, стадная толпа, придерживающаяся своих церковных обрядов. Она возьмет их там, где найдет, и так как они совершенно одинаковы в разрешенной и в непокорной церквах, то вместо того, чтобы идти к не подчинившемуся, она пойдет к священнику подчинившемуся. Но она пойдет без всякого рвения, без доверия, часто даже с недоверием, спрашивая себя, имеют ли какое-нибудь значение эти обряды, совершаемые отлученным от церкви священником. Подобная церковь прочности не имеет и нам придется нанести ей только один удар, чтобы низвергнуть ее. Мы изо всех сил будем стараться дискредитировать конституционных священников. Мы запретим им носить духовную одежду, мы декретом заставим их благословлять браки их сотоварищей-отступников, мы пустим в ход террор и тюрьмы, чтобы заставить их самих вступать в брак. Мы их не оставим в покое до тех пор, пока они не вернутся к частной жизни, пока большинство из них не откажется от занимаемых ими мест.
Лишенное, благодаря этим добровольным или вынужденным отступничествам своих руководителей, католическое стадо без всякого усилия даст себя вывести из овчарни; и мы уничтожим прежнюю ограду, для того чтобы оно не чувствовало никакого влечения вернуться туда. В коммунах, где мы являемся хозяевами, мы подговорим местных якобинцев требовать от нас уничтожения религиозного культа, и мы насильно уничтожим его в других коммунах через посредство наших уполномоченных депутатов. Мы закроем церкви, мы снесем колокольни, мы расплавим колокола, мы пошлем священные сосуды в Монетный двор, мы разобьем изображения святых, мы оскверним реликвии, мы запретим религиозное погребение, мы предпишем отдых в десятый день декады и работу в воскресенье.
Исключений не допустим: раз всякая позитивная религия есть коренное заблуждение, мы безусловно упраздним какой бы то ни было культ. Мы потребуем от протестантских пасторов публичного отречения, мы запретим иудеям выполнять свои обряды, мы сделаем «аутодафе всех книг и законов культа Моисея». Но среди различных приспособлений фиглярничества, католицизм — самое худшее, самое враждебное природе, благодаря безбрачию духовенства, самое противное разуму, благодаря нелепости своих догматов, самое враждебное демократическим учреждениям, потому что в католицизме власть делегируется сверху вниз, самое защищенное от гражданской власти, так как глава его находится вне Франции.
Поэтому его то и нужно упорно преследовать; даже и после Термидора мы продолжим преследования против него, вплоть до консульства мы будем ссылать и расстреливать священников, мы возобновим против фанатиков законы Террора, «мы стесним их движения, мы замучаем их терпение, мы будем их беспокоить днем, мы будем нарушать их ночной покой, мы не дадим им ни минуты передышки». Мы обяжем население ввести декадный календарь, мы будем преследовать его нашей пропагандой вплоть до семейного очага, мы изменим базарные дни; чтобы ни один из верующих, не мог купить рыбы в постные дни.
Ничто нас так не озабочивает как эта война с католицизмом, ни один пункт нашей программы не будет выполнен с такою настойчивостью и с таким упорством. Ведь дело в данном вопросе идет об истине; мы её хранители, поборники, орудия и никогда еще слуги истины не применяли с такой обстоятельностью и последовательностью силу для искоренения ошибки.
На ряду с суеверием необходимо уничтожить другое чудовище, и Учредительное Собрание производит нападение и с этой стороны. Но и тут, за отсутствием смелости или логики, оно остановилось после двух или трех слабых ударов. Запрещение гербов, дворянских титулов и ношения фамилий по поместьям, которыми владели дворяне, уничтожение без всякого возмещения арендной платы, которую помещик взимал в качестве прежнего крепостного помещика, разрешение выкупать остальные феодальные права, ограничение королевской власти — вот все, что оно сделала для установления естественного равенства.
Это не много, с узурпаторами и тиранами нужно иначе обходиться, так как их привилегии сами по себе являются посягательством на права человека. Поэтому мы свергли с престола короля и отрубили ему голову; мы уничтожили без всякого возмещения все неуплаченные феодальные долги, включая подати, которые взимались дворянами в качестве земельных собственников и лиц, сдающих землю в аренду. Мы предали их самих и их имущество на полный произвол местных жакерий, мы принудили их эмигрировать, мы заключаем их в тюрьмы, если они остаются во Франции, мы их гильотинируем, если они возвращаются. Так как они воспитаны в привычках, вкоренившихся в них благодаря их преобладанию в стране и так как они убеждены, что они совершенно другой породы, чем обыкновенные люди, то их расовые предрассудки неискоренимы; они неспособны войти в общество людей равных; мы должны раздавить их или повергнуть в прах. Они, впрочем, виновны уже по тому одному, что они жили, что они главенствовали, управляли без всякого права и вопреки всем правам притесняли человека. Так как они извлекали пользу из своего положения, то вполне справедливо, чтобы теперь они были за это наказаны.
Они будут теперь пользоваться привилегиями в обратном смысле, с ними будут обращаться как обращались в их управление с темными личностями, их с семействами будут арестовывать полиция, высылать, бросать целыми массами в тюрьмы, массами казнить, по меньшей мере изгонять из Парижа, из портов и крепостей, их будут заставлять ежедневно являться в муниципальное управление, лишать политических прав, лишать возможности выполнять общественные обязанности, их будут исключать «из народных обществ, наблюдательных комитетов, общинных и секционных собраний». Заметьте, что мы еще снисходительны; ведь мы должны были бы их сравнять с каторжниками, раз они обеспечены и заставить их работать на больших дорогах. В своем докладе от 8 вентоза II года Сен-Жюст говорит: «Правосудие приговаривает врагов народа и находящихся между нами сторонников тирании к вечному рабству».
Но этого недостаточно, так как кроме родовой аристократии существует еще и другая, которой не коснулось Учредительное Собрание, а именно денежная аристократия.
Из всех зависимостей зависимость бедняков от богачей — самая тяжелая. Богач, вопреки равенству, не только потребляет более, чем ему приходится, соответственно его участью в общем труде, и притом потребляет — не производя; но он, вопреки свободе, может по своему желанию установлять вознаграждение за труд, и вопреки гуманности, он устанавливает его в насколько возможно низшем размере. Между ним и нуждающимися заключаются только несправедливые контракты. Так как он единственный владелец земли, капитала и всех необходимых для жизни вещей, он налагает свои условия, которые другие, лишенные преимуществ, обязаны принять под страхом голодной смерти. Он эксплуатирует по своему желанию самые неотложные потребности и пользуется своей монополией, чтобы оставить бедняков в бедности.
«Вот почему, пишет Сен-Жюст, богатство — гнусность, оно заключается в том, что кормишь меньше естественных или приемных детей, чем имеешь тысяч ливров дохода».
«Не нужно, говорит Робеспьер, чтобы самый богатый француз имел более 3 тысяч ливров ренты».
Обладание чем-либо сверх самого необходимого является незаконным; мы имеем право брать избыток там, где он имеется, не только теперь, потому что мы нуждаемся в нем для государства и бедняков, но и во всякое время, потому что излишек во всякое время предоставляет преимущество обладателю его в договорах, влияние на размеры вознаграждения за труд, дает ему возможность совершенно произвольно устанавливать цены на пищевые продукты, одним словом, дает ему преимущества худшие, чем преимущества по рождению. Таким образом мы являемся противниками не только дворян, но богатых или состоятельных буржуа, собственников и капиталистов, мы до основания разрушим их скрытый феодализм.
Во-первых, одним только действием новых учреждений мы препятствуем рантье взимать, по обыкновению, лучшую часть плодов труда и, таким образом, трутни не будут более каждый год уничтожать мед пчел. Чтобы достигнуть этого результата нужно только пустить в обращение ассигнации и установить принудительный курс. Благодаря обесценению кредитных билетов, у ничем не занятого собственника или капиталиста тают доходы, он получает только номинальные ценности. Первого января его жилец вносит ему фактически половину трехмесячной платы за занимаемую им квартиру вместо всей платы, первого марта фермер уплачивает ему аренду мешком зерна. Результат получается такой, как будто мы пересоставили заново все договоры и уменьшили на половину, на три четверти или более, процент по взятым в долг суммам, наемную плату за помещения, арендную плату за землю.
Во то время, как доходы рантье уменьшаются, капитал его исчезает, и мы содействуем этому всеми силами. Если он владеет обязательствами прежних гражданских или религиозных учреждений, провинций с земским представительством, конгрегаций, институтов, больниц; мы отбираем от него его специальный залог, мы конвертируем его бумаги в государственную ренту, мы насильно присоединяем его частное состояние к государственному, мы влечем его к общему банкротству, к которому мы ведем всех кредиторов республики.
Впрочем, для раззорения его мы обладаем более прямыми и более скорыми средствами. Если он эмигрировал, а эмигрантов целые сотни тысяч, мы конфискуем его имущество, если он гильотинирован или сослан, а гильотинированных и сосланных целые десятки тысяч, мы конфискуем его имущество; если он «признан врагом революции», а «все богачи от души желают контрреволюции», мы налагаем секвестр на его имущества, мы пользуемся им до мира и сделаемся его собственником после войны. Во всех случаях в выгоде остается государство. Разве только мы иногда окажем временную помощь его семье, которая не имеет даже права претендовать на то, чтобы их содержали.
Нет лучшего средства для уничтожения богатств. Что касается тех богатств, которые мы не можем сокрушить одним ударом, то мы их уничтожаем частями и против них у нас есть два оружия.
С одной стороны, в принципе мы объявляем прогрессивный налог и на этом основании устанавливаем принудительный заем: мы в доходе отделяем необходимое от излишка. Мы ограничиваем необходимое тысячью франками на каждого человека, затем смотря по размерам излишка, мы берем четверть его, треть, половину, а свыше 9 тысяч франков — все остальное; таким образом, кроме незначительного пищевого запаса, самая богатая семья может иметь не более 4,5 тысячи франков ренты.
С другой стороны, революционными налогами мы наносим глубокие удары капиталам; наши комитеты и провинциальные проконсулы облагают произвольно податью в триста, пятьсот и даже до двенадцати тысяч франков какого-нибудь банкира, купца или буржуа, какую-нибудь вдову и требуют взноса суммы в течении недели. Тем хуже, если у оштрафованного лица нет денег, или если ему негде их занять, мы объявляем его находящимся под подозрением, мы сажаем его в тюрьму, имущество его секвеструется и пользуется им вместо него государство.
Во всяком случае, если оно даже уплатило требуемые деньги мы заставляем его вручить нам все имеющиеся у него денежные суммы золотом и серебром, давая иногда за них ассигнации, а иногда и ничего не давая. Драгоценные металлы подлежат реквизиции, каждый должен выдать все имеющееся у него серебро. И пусть никто и не смеет прятать своего имущества. Посуда, бриллианты, золото, серебро монетой или слитками, всякие драгоценности, «найденные зарытыми в землю или спрятанными в подвалах, замурованными в стенах, чердачных помещениях, полах, очагах или дымовых трубах и других потайных местах», становятся собственностью Республики; и доносчик получает премию ассигнациями в размере одной двадцатой части найденного.
Так как мы вместе с наличными деньгами и драгоценными металлами забираем белье, постели, одежду, съестные припасы, вино и прочее, можно представить себе вид дома, который мы посетили, в особенности, если мы там прожили некоторое время. Движимое имущество погибло точно также как погибло недвижимое.
А теперь, когда оба они уничтожены, нужно воспрепятствовать тому, чтобы они могли снова образоваться. С этой целью мы в принципе уничтожаем право завещания, мы во всяком наследстве предписываем равный, вынужденный дележ оставленного имущества, мы предоставляем право наследовать и незаконным детям, на совершенно одинаковых основаниях с законными детьми, мы допускаем предъявление претензий на наследство до бесконечности, «для умножения числа наследников и раздробления наследств», мы запрещаем предоставлять, чтобы то ни было лицам, получающим более тысячи квинталов хлеба в год. [2] Мы устанавливаем усыновление, «чудный институт» и притом чисто республиканский по своему существу, «так как он влечет за собой без кризиса разделение крупных состояний». Еще в законодательном собрании один депутат говорил, что «равенство прав может поддерживаться только беспрерывной тенденцией к уравнению состоянию». Мы позаботились об этом в настоящее время, позаботимся, чтобы так обстояло дело и в будущем. Не остается ничего от громадных наростов, высасывавших сок из человеческого растения, мы их срубили несколькими сильными ударами.
Этим восстановлением естественного человека мы подготовили появление человека общественного. Теперь нужно образовать гражданина, а это возможно только при уравнении условий. В хорошо устроенном обществе «не нужно ни богатых, ни бедных». Мы уже уничтожили богатство, которое развращает, нам остается уничтожить бедность, которая унижает. Под тиранией обстоятельств, столь же тяжелой, как тирания людей, человек падает ниже самого себя. Никогда не сделаешь гражданина из несчастного, обреченного быть слугой, наемным рабочим или нищим, думать только о себе и о своем ежедневном существовании, тщетно искать работы, напрягать свои силы двенадцать часов в день за чисто машинальным трудом, жить как вьючное животное и умереть в больнице. Нужно, чтобы он имел свой хлеб, свой кров и все необходимые для жизни предметы, чтобы он работал не свыше меры, без мучительного беспокойства и принуждения, «чтобы он жил независимым, чтобы он уважал себя, чтобы он имел опрятную жену, здоровых и сильных детей».
Общество должно гарантировать ему достаток, безопасность, уверенность, что он не будет, в случае немощности, голодать и что он не оставит, в случае смерти, свою семью без гроша.
«Недостаточно еще, говорит Барер, выпустить кровь из богатой промышленности, уничтожить крупные состояния, необходимо еще чтобы исчезло с территории республики рабство нищеты». «Несчастные — властители земли, говорит Сен-Жюст, они имеют право говорить в качестве властителей с правительствами, которые ими пренебрегают, они имеют право на национальную благотворительность. В только что организующейся демократии все должно быть направлено к тому, чтобы поднять каждого гражданина над минимумом потребностей, посредством работы, если он работоспособен, посредством воспитания, когда он еще ребенок, посредством помощи, если он неработоспособен или стар».
И никогда момент не был более благоприятен. Богатая государственными имуществами Республика имеет в своем распоряжении, для улучшения участи мало состоятельных граждан, миллиарды, на которые рассчитывали богачи для контрреволюции… Намеревавшиеся убить свободу обогатили ее… Имуществом врагов Революции будут вознаграждены все бедняки… Пусть бедняк берет его со спокойной совестью: это не милостыня а «возмещение убытков», которое мы ему оказываем, мы щадим его гордость заботясь о его благосостоянии и облегчаем его жизнь, не унижая его. «Мы предоставляем благотворительные работы монархиям, этот наглый и низкий способ оказывать помощь приличествует только рабам и господам, мы заменяем его величественным способом — национальными работами, устроенными на всей территории Республики».
С другой стороны, мы составляем в каждой коммуне «список граждан, не владеющих никакой собственностью» и «список не проданных национальных имений». Мы делим эти имения на мелкие участки, распределяем их между работоспособными бедняками, мы отдаем как бы в аренду кусок земли всякому главе семейству, владеющему по крайней мере одним арпантом. [3] «Таким образом, мы прикрепляем к земле и к родине всех граждан мы возвращаем земле праздные и сильные руки и затерянные или расслабленные в мастерских и городах семьи».
Дли земледельцев и старых или немощных ремесленников для бедных матерей, жен и вдов ремесленников, или земледельцев мы заводим в каждом департаменте «книгу национальной благотворительности». Мы вписываем туда на каждую тысячу жителей четырех земледельцев, двух ремесленников, пять жен, матерей или вдов; каждый из записанных будет получать пенсию от государства, подобно искалеченному солдату: инвалиды труда достойны такого же уважения, как и инвалиды войны.
Кроме этих привилегированных бедняков мы ставим на ноги и помогаем всему классу бедняков, не только 1,3 миллиона неимущих, имеющимся во Франции, но и всем тем, которые, не имея почти никаких сбережений, живут изо дня в день, трудом своих рук. Мы объявили, что государственная казна, путем введения налога на крупные состояния, «доставит каждой коммуне или секции необходимые средства для того, чтобы соразмерить цену хлеба с размерами вознаграждения за рабочий труд». Наши представители в провинции обязывают богачей «помещать у себя, кормить и одевать всех слабосильных стариков, бедняков, сирот своих соответственных кантонов». Декретом о реквизициях и установлением максимума цен, мы делаем доступными для бедняков все предметы первой необходимости. Мы платим им 40 су в день за присутствие на секционных заседаниях и 3 франка в день если они являются членами наблюдательных комитетов. Мы набираем среди них революционную армию, мы выбираем среди них бесчисленных охранителей секвестров и, таким образом, санкюлоты сотнями тысяч занимают общественные должности.
Наконец, бедняки исторгнуты из бедности, каждый из них может теперь иметь свой участок, свое жалованье, или свою пенсию. «В хорошо устроенной республике всякий должен иметь какую-либо собственность». Отныне между частными лицами разница в благосостоянии будет очень незначительна, от максимума до минимума будет одна только ступень и во всех домах можно будет найти почти одно и тоже хозяйство, хозяйство скромное и простое, хозяйство сельского хозяина, зажиточного фермера, ремесленника-хозяина, Руссо в Монморенси, савойярдского викария, хозяйство Дюплэ; столяра, у которого живет Робеспьер. Прислуги как общественного класса более не существует. «Человека, который работает и того, который пользуется этой работой могут связывать только узы услуг и благодарности». — «Тот, кто работает на гражданина принадлежит к его семье и ест за одним с ним столом».
Этим изменением низкого общественного положения мы придаем достоинство человеку и из пролетария, слуги, чернорабочего мы начинаем выделять гражданина.
Два главных препятствия мешают развитию гражданской доблести и первое из них — эгоизм. Тогда как гражданин предпочитает общество себе самому, эгоист ставит на первое место себя, а затем общество, он думает только о своем собственном интересе, он не обращает внимания на общественные нужды, он не видит высших прав, которые занимают первое место и оттесняют его побочное право; он предполагает, что собственность его принадлежит ему без всякого ограничения и условия. Он забывает, что если ему и позволено пользоваться, то, во всяком случае, не во вред другому. Так поступают в настоящее время, даже в среднем и низшем классе, владельцы предметов первой необходимости. Чем более увеличивается потребность, тем более они повышают цены, хуже того, они прекращают продажу, в надежде, что впоследствии они продадут еще дороже свои продукты или товары. Этим самым они наживаются на нуждах ближнего, они усиливают общую бедность, они становятся общественными врагами. В настоящее время врагами общества являются почти все земледельцы, промышленники и коммерсанты, крупные, как и мелкие, фермеры, арендаторы, огородники, всякого рода сельские хозяева и также ремесленники — хозяева, лавочники, в особенности, виноторговцы, булочники и мясники.
«Все торговцы — контрреволюционеры и могут продать свою родину за несколько су барыша». Мы не допустим этого законного грабительства. Так как «сельское хозяйство ничего не сделало для свободы и только старалось увеличить свои барыши», мы учредим за ним надзор и, если понадобится, возьмем его в заведывание государства. Так как «торговля стала каким-то скупым тираном», так как «она сама себя парализовала и с контрреволюционной досады пренебрегла производством, обработкой и сбытом разных продуктов», мы рассмотрим расчеты её варварской арифметики, мы очистим ее от аристократического и подтачивающего ее зародыша». Мы считаем скупку «преступлением достойным смертной казни», мы называем скупщиком «того, который не пускает в обращение товары или продукты первой необходимости и держит их под замком, не обращая их ежедневно и публично в продажу». Смертная казнь угрожает ему, если он в течении недели не сделал заявления или если сделал ложное заявление. Смерть грозит всякому, хранящему у себя хлеба, более чем ему нужно для его существования. Смерть земледельцу, не доставляющему каждую неделю на рынок свой хлеб. Смерть торговцу, не объявляющему публично об имеющемся у него в складе товаре или не держащему настежь дверей своей лавки. Смерть промышленнику, не производящему ежедневной обработки материалов.
Что касается цены, то мы насильно вмешиваемся в отношения между продавцом и покупателем. Мы устанавливаем высшую цену для всех предметов, служащих каким бы то ни было образом для питания, отопления, снабжения одеждой и обувью людей мы заключаем в тюрьму всякого предложившего или взявшего большую цену. Какое нам дело, что по этой цене торговец или промышленник не окупит своих расходов. Если после установления максимальной цены он закрывает свою фабрику или прекращает свою торговлю, мы объявляем его под подозрением, мы заставим его взяться снова за работу и принудим терпеть убытки.
Вот каким образом можно отрезать когти хищным зверям, крупным и мелким. Но когти отрастают и, может быть, вместо того чтобы их отрезать, лучше было бы их совсем вырвать. Некоторые из нас уже думали об этом, можно было бы применять ко всем предметам преимущественное право покупки, можно было бы устроить в каждом департаменте национальные магазины, в которые земледельцы, землевладельцы и владельцы фабрик были бы обязаны сдавать по умеренной цене излишек их производства всякого рода товаров, причем деньги они получали бы немедленно. Нация распределяла бы те же самые товары крупным торговцам, оставляя за собой барыш в 6%, прибыль оптового торговца была бы определена в 8%, а мелочного в 12%. Таким образом земледельцы, промышленники и купцы сделались бы все приказчиками государства, причем жалованьем их являлась бы премия или скидка; не имея более возможности много зарабатывать, они не имели бы поползновения зарабатывать слишком много, они перестали бы быть жадными и скоро перестали бы быть эгоистами.
В сущности, раз эгоизм является главным пороком, и индивидуальная собственность поощряет его, отчего бы не уничтожить индивидуальную собственность? Наши крайние логики, с Бабефом во главе доходят в своих выводах до этого; и Сен-Жюст, по-видимому, того же мнения. Дело идет не о том, чтобы объявить аграрный закон, нация предоставила бы себе всю землю и не разделила бы между отдельными лицами землю, а отдала бы им известные участки в аренду. В конце концов установился бы такой порядок, что государство единственный земельный собственник, единственный капиталист, единственный фабрикант, единственный коммерсант, имея у себя на жаловании и на службе всех французов, давало бы каждому работу соответственную его способностям и раздавало бы каждому его долю соответственно его потребностям.
Эти разные неоконченные проекты еще носятся в далеком тумане, но их общая цель является уже в ярком свете. Все, что направлено к тому, чтобы концентрировать человеческие страсти в низком личном «я» должно быть отвергнуто или подавлено; нужно уничтожить частные интересы, лишить отдельную личность мотивов и средств к изолированию, уничтожить предрассудки и тщеславие, благодаря которым она делает себя центром в ущерб истинному центру, одним словом, оторвать её от самого себя, чтобы привязать её всю к государству.
Вот почему, кроме узкого эгоизма, при котором отдельная личность ставит себя на первое место перед обществом, мы преследуем более широкий эгоизм, при котором личность предпочитает обществу группу, к которой она принадлежит. Ни под каким предлогом она не может совсем отделиться, ни под каким видом ей нельзя позволить создать себе маленькую родину в большой, так как она лишает большую всей любви, которую она питает к маленькой. Нет ничего хуже федерализма политического, гражданского, религиозного, домашнего, мы боремся с ним, под каким бы видом он ни существовал. В этом вопросе Учредительное Собрание расчистило нам путь, так как оно распустило главные исторические или естественные группы, благодаря которым люди отделялись от массы и образовывали отдельные кружки, провинции, духовенство, дворянство, парламенты, религиозные ордена и цеховые корпорации. Мы доканчиваем предпринятое им дело, мы разрушаем церкви, мы уничтожаем литературные или научные общества, образовательные или благотворительные учреждения и даже финансовые общества.
Мы изгоняем всякий «местный дух», департаментский или коммунальный, мы считаем «отвратительным и противным всем принципам, что между муниципалитетами одни богаты, а другие бедны, что один, например, владеет громадным унаследованным имуществом, а другой имеет только долги». Мы предоставляем это имущество нации и на нее же возлагаем эти долги. Мы отбираем хлеб у богатых коммун и департаментов для того, чтобы прокормить бедные коммуны и департаменты. Мы в каждом округе на счет государства строим мосты, проводим дороги и каналы. «Мы широко централизуем труд французского народа». Мы не желаем более местных интересов, воспоминаний, наречий и патриотизма. Между отдельными личностями должны существовать только узы, связывающие их с социальным телом, все остальные узы мы разрываем. Мы не допускаем существования особого агломерата, мы стараемся насколько хватает сил уничтожать самый крепкий из них — семью.
С этой целью мы приравниваем брак к обыкновенным договорам, мы делаем его хрупким и ненадежным институтом, как можно более подобным свободному и временному союзу полов. Он может быть расторгнут по желанию обеих сторон и даже одной из них после месяца испытания. Если супруги фактически прекратили сожительство в течение шести месяцев, им без всякой отсрочки объявляется развод, и разведенные супруги могут снова вступить в брак. С другой стороны, мы уничтожаем власть мужа, так как супруги равны, каждый из них имеет одинаковые права на общее имущество и на имущество другого супруга. Мы лишаем мужа права управления имуществом и делаем его общим правом обоих супругов. Мы уничтожаем родительскую власть. «Устанавливать свои права насилием, это значит обманывать природу. Надзор и защита — вот все права родителей». Отец более не заботится о воспитании своих детей эту заботу берет на себя государство. Отец уже не является хозяином своего имущества, в случае получения дара или наследства он имеет право на крайне незначительную долю, так как мы предписываем равный и принудительный дележ.
В довершение всего, мы проповедуем усыновление, мы предоставляем детям свободной любви те же права, как и законным детям. Одним словом, мы разбиваем замкнутый круг, исключительную группу, аристократический организм, созданный под именем семьи эгоизмом и гордостью.
Этот пункт якобинской программы, имел, подобно другим, свой практический результат. «В Париже, в течение двадцати семи месяцев, следовавших за обнародованием сентябрьского закона 1792 года суды постановили 5.994 развода и в VI году число разводов превысило число браков». «Число брошенных детей во Франции, не превышавшее в 1790 году 23 тысяч в настоящее время (X год) более 63 тысяч» «В департаменте Ло и Гаронны, пишет префект Пиейр, насчитывают более 1.500 брошенных детей. Число подкидышей увеличилось до крайней степени во время Революции, благодаря слишком легкому допущению матерей-девушек и брошенных детей в приюты; благодаря временным посещениям военными своих очагов, благодаря потрясению всех принципов религии и морали».
«Поверите ли вы, сударыня, говорил один Нимский садовник, («Рассказ о трех годах пребывания во Франции с 1802 по 1805 годы») в известный период Революции мы никогда не смели бранить наших детей за совершенные ими проступки. Те, которые сами называли себя патриотами, считали за основной принцип свободы, что детей никогда не нужно наказывать. Благодаря этому они были так не дисциплинированны, что очень часто, когда один из родителей осмеливался бранить своего ребенка, тот советовал ему не соваться в чужие дела и добавлял: «Мы свободны, мы равны, наши отец и мать — Республика. Что мне за дело, что ты недоволен. Ты можешь убираться куда хочешь… Дети еще и теперь очень дерзки и потребуется много лет, чтобы их исправить».
Мы должны направлять ум и душу человека и для этого окружим его нашими учениями. Ему нужны общие идеи с ежедневными обрядами, ему нужна теория, которая объясняла бы ему происхождение и природу существ, которая указывала бы его место и его роль в этом мире, которая внушала бы ему его обязанности, которая регулировала бы его жизнь, которая установила бы ему дни работы и дни отдыха, которая укрепилась бы в нем празднованиями в память известных событий, обрядами, катехизисом и календарем. До сих пор властью, которой поручена была забота об этом, являлась Религия, истолковываемая Церковью, которая была всегда к её услугам; теперь её место займет Разум, толковать который и прислуживать которому будет государство.
Многие из наших сторонников, ученики энциклопедистов, считают Разум божеством и воздают ему поклонение, но они олицетворяют отвлеченность, их импровизированная богиня является только аллегорической тенью, никто из них не видит в ней разумную мировую причину, в глубине души они отрицают эту высшую причину, и их мнимая религия является явным или скрытым безбожием.
Мы отвергаем атеизм не только как нечто ложное, но еще и главным образом как нечто растворяющее и вредное. Мы стремимся к действительной, ободряющей и укрепляющей религии, а таковой является религия естественная, столь же общественная, сколь истинная. «Без неё, как сказал Жан-Жак Руссо, невозможно быть хорошим гражданином… Существование Божества, будущая жизнь, святость общественного договора и законов» — вот все её догматы. «Нельзя никого принудить веровать в них, но всякий осмеливающийся заявить, что он в них не верует, идет против французского народа, человеческого рода и природы». Поэтому мы объявляем, что «французский народ признает существование Верховного Существа и бессмертие душ».
Необходимо утвердить эту всецело философскую религию в сердцах людей. Мы вводим ее в гражданское управление, мы отбираем календарь от церкви, мы освобождаем его от всех христианских изображений, мы с провозглашением Республики определяем начало новой эры, мы разделяем год по метрической системе, мы даем названия месяцам согласно чередованию времен года, «мы заменяем везде бредни невежества реальностями разума и священнический престиж истинами природы», заменяем неделю декадой, воскресенье — декади, духовные празднества светскими. Каждым празднованием десятого дня декады, пышным и искусно подобранным торжеством, мы стараемся внедрить в народный разум одну из высоких истин нашего верования. Мы прославляем Природу, Истину, Правосудие, Свободу, Равенство, Народ, Несчастие, Человеческий род, Республику, Потомство, Славу, Любовь к родине, Героизм и другие Добродетели. Мы, кроме того, празднуем великие дни Революции, взятие Бастилии, свержение короля, смерть тирана, изгнание жирондистов. Мы тоже имеем свои годовщины, своих святых, своих мучеников, свои реликвии, реликвии Шалье и Марата (Сердце Марата, помещенное на алтаре в клубе Кордельеров, было предметом поклонения), свои процессии, свои богослужения, свой ритуал, обширное приспособление осязательных декораций, которыми проявляется и пропагандируется догмат. Но наш догмат, вместо того чтобы унести людей на воображаемое небо, приводит их к живой родине. Как нашими церемониями, так и нашим догматом мы проповедуем гражданскую доблесть.
Если необходимо проповедовать ее взрослым, тем более необходимо внушать ее детям, так как дети более поддаются влиянию чем взрослые. Мы можем вполне распоряжаться этими гибкими душами и благодаря национальному воспитанию «мы захватываем в свои руки рождающееся поколение». Это крайне необходимо и вполне законно. «Родина, говорит Робеспьер, имеет право воспитывать своих детей, она не может предоставить дело воспитания ни семейной гордости, ни предрассудкам отдельных личностей, вечным спутникам аристократии и домашнего федерализма, оказывающему отрицательное влияние на души, благодаря тому что он их изолирует. Мы хотим, чтобы воспитание было общим и одинаковым для всех французов, и мы придаем ему отпечаток величия, аналогичный природе нашего управления и величию судеб нашей Республики. Необходимо формировать теперь не господ, а граждан».
Мы заставляем учителей и учительниц представлять удостоверение об их гражданской доблести, то есть об их якобинстве. Мы закрываем их школы, если они преподают «учения или принципы противные революционной морали», то есть согласные с христианской моралью. Дети научатся читать по Декларации Прав и Конституции 1793 года. Для их употребления будут приготовлены республиканские руководства или катехизисы. «Им будут рассказывать о чертах добродетели, наиболее делающих честь свободным людям и в частности о чертах французской Революции, наиболее способных возвысить душу и сделать их достойными равенства и свободы». Перед ними будут восхвалять или оправдывать 14 июля, 10 августа, 2 сентября, 21 января, 31 мая. Их будут водить на заседания муниципалитетов, судов и «в особенности народных обществ; в этих чистых источниках они будут черпать познание своих прав, своих обязанностей, законов, республиканской морали» и при своем вступлении в свет они будут пропитаны всеми этими принципами.
Кроме их политических убеждений мы образовываем их практические привычки. Мы в увеличенном масштабе применяем план воспитания, начертанный Жан-Жаком Руссо. Нам больше не нужно образованных хлыщей; в армии «мускусник дохнет при первом же походе». Нам нужны молодые люди, способные переносить лишения и усталость, закаленные подобно Эмилю, «благодаря тяжелому ремеслу» и телесным упражнениям.
По этой части воспитания у нас есть только проекты, но согласованность намеченных общих черт достаточно ясно указывает на смысл и значение нашего принципа. «Все дети, без всякого различия и исключения говорит Ле-Пелетье де-Сен-Фаржо в своем плане воспитания, мальчики от пяти до двенадцати лет, девочки от пяти до одиннадцати лет воспитываются совместно на средства Республики, все, под покровом святого закона равенства, будут получать одну и ту же одежду, одну и ту же пищу, одно и тоже воспитание, один и тот же уход» в закрытых учебных заведениях, по одному в кантоне, причем в каждом из них будет от четырех до шести сот учеников. Ученики будут подчиняться ежедневно и во всякое время одинаковым правилам… у них будет жесткая постель, пища у них будет здоровая, но скудная, одежда удобная, но грубая». Прислуги не будет, дети должны сами услуживать друг другу и, кроме того, должны услуживать старикам и больным, помещающимся с ними или подле них. «День будет проводится таким образом, что ручной труд будет главным занятием, все остальное будет иметь второстепенное значение». Девочки будут учиться прясть, шить, стирать белье, мальчики будут мостовыми рабочими, пастухами, землепашцами, рабочими; и те и другие будут работать или в школьных мастерских, или в полях и соседних фабриках.
Сен-Жюст выражается еще более определенно и точно. «Мальчики воспитываются от пяти до шестнадцати лет для родины. Они носят одежду из холста во все времена года. Они спят на плетенках и притом не более восьми часов. Их кормят совместно и питаются они только кореньями, фруктами, зеленью, молочными продуктами, хлебом и водой. Они не едят мяса до шестнадцатилетнего возраста… С десяти до шестнадцати лет они получают военное и земледельческое воспитание. их разделяют на роты в шестьдесят человек, шесть рот составляют батальон, дети одного округа составляют легион. Они каждый год собираются в главном городе, располагаются лагерем и производят все пехотные упражнения в специально устроенных для этого аренах, они учатся также кавалерийским упражнениям и всем военным эволюциям. их распределяют между землепашцами в жатвенное время». С шестнадцати лет «они поступают в учение к земледельцу, ремесленнику или фабриканту, который становится их действительным «учителем» и у которого они обязаны оставаться до двадцати одного года, «под угрозой быть лишенными прав гражданина на всю свою жизнь… Все дети должны одеваться совершенно одинаково до шестнадцати лет, с шестнадцати лет до двадцати одного года они должны носить костюм рабочего, с двадцати одного года до двадцати шести лет костюм солдата, если они не должностные лица».
Уже на блестящем примере мы делаем очевидными последствия нашей теории. Мы основываем Марсовую школу. Мы выбираем в каждом округе шесть молодых людей от шестнадцати до семнадцати с половиною лет «между детьми санкюлотов», мы их вызываем в Париж, для того чтобы они там «получили, благодаря революционному воспитанию, все познания и восприняли все нравы республиканского солдата. Они получат склонность к братству, к дисциплине, к простоте, к добрым нравам, к любви к отчизне и к ненависти к королям». Мы помещаем эти три или четыре тысячи молодых людей в палатки, мы кормим их черным хлебом, салом и разбавленной уксусом водой, мы приучаем их к обращению с оружием, мы заставляем их маршировать в национальные торжества, мы возбуждаем их патриотическими речами.
Предположите, что все французы вышли из подобной школы; привычки, воспринятые юношей, останутся и у взрослого, и в каждом взрослом человеке найдут простоту, энергию, патриотизм спартанца или римлянина.
Уже под влиянием наших декретов гражданская доблесть проникает в наши нравы и ясные признаки предвещают со всех сторон общественное возрождение. «Французский народ, говорит Робеспьер, как будто опередил двумя тысячелетиями остальной человеческий род, пожалуй даже можно было бы принять французский народ за совершенно особую породу. В Европе землепашец, ремесленник — животное, дрессированное для удовольствия дворянина, во Франции дворяне стараются превратиться в землепашцев и ремесленников и не могут даже добиться этой чести».
Последовательно все стороны текущей жизни принимают демократический оттенок. Запрещается заключенным в тюрьме богатым покупать себе сладости или заботиться о своих особых удобствах, они получают то же довольствие, что и неимущие заключенные и едят с нами вместе из одного котла. Булочникам приказано производить только один сорт хлеба, полубелый хлеб, называемый «хлебом равенства» и чтобы получить свою порцию каждый становится в очередь и перед булочными образуется громадный хвост. В праздничные дни каждый гражданин должен вынести на улицу свои запасы и обедать вместе со своими соседями. В десятый день декады все поют вместе и танцуют в храме Верховного Существа. Декретами Конвента и постановлениями депутатов женщины обязуются носить кокарды; общественный дух и пример других обязывают мужчин носить одежду санкюлотов, даже встречаются некоторые «мускусники» с усами, длинными волосами, красным колпаком, в карманьёлке, в деревянных башмаках или простых сапогах.
Друг другу больше не говорят сударь или сударыня, гражданин и гражданка — единственно разрешенные обращения и притом все говорят друг другу «ты». Грубая фамильярность заменяет монархическую вежливость, все обращаются друг с другом как с равными и товарищами. Существует только один тон, один стиль, один язык; революционные формулы составляют канву как речей, так и книг и кажется, что люди только и умеют мыслить нашими мыслями и говорить нашими фразами. Изменены даже названии месяцев и дней, названия местностей и памятников, имена и фамилии: Сен-Дени превратился в Франсиаду; Пьер Гаспар в Анаксогора; Антуан-Луи изменяется на Брута; депутат Леруа меняет фамилию на Лалуа, присяжный Леруа превращается в Десятое Августа. [4]
Путем такого изменения внешнего мы достигнем изменения внутреннего и внешней гражданской доблестью мы подготовим внутреннюю доблесть. Обе они обязательны, но вторая еще более первой, так как она составляет «основной принцип, существенную пружину, поддерживающую и приводящую в движение демократическое и народное правительство». Невозможно применять естественный договор, раз все не соблюдают точно первого условия; полного отчуждения себя самого обществу. Нужно поэтому чтобы каждый отдавался всецело, не только телом, но и душей и посвящал себя благу общества, заключается в возрождении человека, как мы его определили. Поэтому истинный гражданин тот, который идет вместе с нами. Как у него, так и у нас отвлеченные истины философии властвуют над совестью и управляют волею. Он исходит из наших догм и до конца выполняет их; он извлекает последствия, которые мы извлекаем, он одобряет все наши действия, он повторяет наш символ, он соблюдает нашу дисциплину, он — верующий и посещающий церковь якобинец, правоверный якобинец, вне всякого подозрения в ереси или схизме. Никогда он не склоняется ни влево к преувеличению, ни вправо к снисходительности, не торопясь и немедля, он идет по узкой, крутой, прямолинейной тропинке, которую мы ему указали. Это тропинка рассудка. Так как существует только один разум, то имеется только один путь. Пусть никто не сворачивает в сторону с пути, ведь с обеих сторон пропасть. Последуем за нашими проводниками, людьми принципа, чистыми, в особенности за Кутоном, Сен-Жюстом, Робеспьером; они избранники, они все вылиты по настоящему образцу и по этому единственному и твердо установленному образцу мы должны пересоздать всех французов.
Глава II. Устаревшее представление о государстве
Аналогия этой идеи с античной идеей. Различие между античным и современным мирами. Перемена обстоятельств. Изменения в душах. Совесть и её христианское происхождение. Честь и его феодальное происхождение. Человек сегодня не хочет всецело отречься от личных интересов. Мотивы этого. Характер выборов и качества депутата. Происхождение и природа современного государства. Его функции, права и границы. Оно имеет свойство нарушать права. Прецеденты и мотивы, на которые оно опирается. Прямой общий интерес. Он заключается в отсутствии принуждения. Две причины в пользу свободы. Индивидуальный характер человека в общем. Современный человек — существо сложное. Общий косвенный интерес. Он заключается в самом экономичном и самом продуктивном употреблении самопроизвольных сил. Разница между добровольным и принудительным трудом. Источники человеческой деятельности. При каких условиях они бьют, работают и производят. Мотивы для оставления их в руках их собственников. Размеры частного владения. Частные люди могут их расширять по своему желанию. Земли государства составляют часть, от которой они отказываются. Обязательные функции государства. Факультативные функции государства. Изготовление общественных орудий. Применение того же принципа. Каким образом образуются во всякой области полезные труженики. Необходимое и достаточное условие — уважение к самозарождающимся источникам. Государство обязано с уважением относиться к ним. Они иссякают, когда оно их захватывает. Конец патриотизму и остальным великодушным проявлениям воли. Истощение всех производительных способностей. Разрушительное действие якобинской системы. Сравнение этого деспотизма с другими. Филипп II и Людовик XIV, Кромвель и Фридрих ΙΙ. Петр Великий и Султаны. Размеры масс, которые они поднимают и сил, которыми они располагают. Несоразмерность между массами, которые хотят поднять якобинцы и силами, которыми они располагают. Безрассудство их предприятия. Они пользуются только физической силой и принуждены злоупотреблять ею. Характер их управления и вожаков.
Логическое построение ограниченного человеческого типа, усилие чтобы подладить к нему живые существа, вмешательство общественной власти во все отрасли частной жизни, давление, производимое на труд, обмен и собственность, на семью и воспитание, на религию, нравы и чувства, принесение в жертву частных лиц в пользу общества, всемогущество государства — такова якобинская концепция. Нет более ретроградной концепции, так как она направлена к тому, чтобы вернуть современного человека к общественной форме, которую он пережил уже восемнадцать столетий тому назад.
Во время исторического периода, предшествовавшего нашему периоду и, в особенности, в древних греческих или римских городах, в Риме и Спарте, которые якобинцы берут за образец, человеческое общество было устроено на подобие войска или монастыря. Как в монастыре, так и в войске царит единая, всепоглощающая мысль: солдат хочет одержать победу. Вот почему они отказываются от своих других желаний и подчиняются вполне, монах — правилам, а солдат — дисциплине. Подобно этому, в античном мире преобладали две заботы. Во-первых, город имел своих богов основателей и покровителей, поэтому он воздавал им постоянное и предусмотренное до мелочей поклонение. Малейший пропущенный обряд мог их оскорбить и в таком случае они отступались от города, и он мог погибнуть. Во-вторых, война никогда не прекращалась и право войны было ужасно. Если город был захвачен неприятелем, каждый житель мог ожидать, что его убьют, искалечат, продадут с торга, что он будет свидетелем того, как детей его и жену продадут давшему наибольшую цену. Одним словом, когда представляешь себе город под состоящем из храмов Акрополем, окруженный укреплениями, среди мстительных и грозных соседей, находишь, что он очень похож на институт кавалеров ордена Св. Иоанна, живущих на Родосской или Мальтийской скале; он является религиозным и военным братством в крепости и вокруг храма.
В подобных условиях нет места для свободы, общественные верования слишком настоятельны, общественные опасности слишком значительны. Под их давлением личность отказывается от своих прав в пользу общества; оно захватывает всего человека, потому что нуждается для своего существования во всем человеке. Отныне никто не может развиваться отдельно и для самого себя, никто не может действовать и думать вне определенных рамок. Если не логикой, то, по крайней мере, традицией предначертан тип, каждая жизнь и каждая доля жизни должна согласоваться с этим типом, иначе общественному благу грозит опасность. Так, ослабление физического воспитания ослабляет армию, прохожий, отказывающийся совершить обычное излияние в честь изображений богов, навлекает на город небесный гнев. Поэтому, чтобы уничтожить всякие отклонения, государство, абсолютный властелин, пользуется неограниченной юрисдикцией; в отдельном человеке нет ничего независимого, нет никакого уголка, защищенного от могущества общественных властей, они распоряжаются его имуществом, его детьми, его личностью, его мнениями, его совестью. Если в дни голосования он является властелином, то в остальные дни года он подданный и притом даже в своей семейной жизни. Для этого Рим имел двух цензоров, один из архонтов Афин был инквизитором. Сократ был приговорен к смерти, «так как он не верил в богов, в которых верил город».
В сущности, не только в Греции и в Риме, но и в Египте, в Китае, в Индии, в Персии, в Иудее, в Мексике, в Перу, во всех цивилизациях первого роста, принцип человеческих обществ есть тот же, что принцип животных обществ: человек принадлежит обществу, подобно тому как пчела принадлежит своему улью, муравей своему муравейнику; он является только органом в организме. Под различными формами и при различных применениях одерживает верх властный социализм.
Совершенно наоборот обстоит дело в современном мире: что некогда было правилом, теперь стало исключением и античная система существует только в таких временных сообществах, как армия или в таких частичных сообществах, как монастырь. Последовательно индивид освободился и из столетия в столетие он расширил область своих владений, так как обе цепи, привязывавшие его к обществу, оборвались или стали более свободными.
Прежде всего, общественные власти перестали играть роль жандарма, оберегающего культ. Благодаря христианству гражданское общество и религиозное общество стали двумя отдельными областями и сам Христос разделил обе юрисдикции: «Воздавайте Кесарю Кесарево, а Богу Божие». С другой стороны, благодаря возникновению протестанства, великая христианская церковь разделилась на многие секты, которые, не имея возможности уничтожить друг друга, принуждены были жить совместно, так что государство, если и предпочитало одну какую-нибудь секту, вынуждено было допускать и другие. Наконец, благодаря развитию протестанства, философии и наук, спекулятивные верования умножились, сегодня их почти столько же, сколько мыслящих умов, и так как число этих последних увеличивается с каждым днем, то многочисленнее становятся с каждым днем и убеждения. Из этого следует, что если государство сделало бы обязательным одно какое-нибудь убеждение, оно возмутило бы против него бесчисленное количество других, а это заставляет его, если оно благоразумно, сначала оставаться нейтральным, а затем признать, что оно не имеет права вмешательства.
Затем надо принять во внимание, что войны стали реже, не так ужасны, потому что у людей нет столько причин для войн, как раньше и нет тех прежних причин, чтобы вести их с прежней беспощадностью. Прежде война была главным источником богатства, победами приобретали рабов, подданных, данников, их эксплуатировали, их принудительным трудом пользовались как хотели. Теперь нет ничего подобного, больше не думают о том, чтобы захватывать человеческие скот, нашли что между всеми скотами он самый неудобный, самый не продуктивный и самый опасный. Свободным трудом и машинами скорее и вернее достигают благосостояния; великой задачей является теперь не захват, а производство и обмен. С каждым днем человек все более стремительно подвигается вперед на гражданских поприщах и с каждым днем все менее допускает, чтобы ему преграждали туда доступ; если он еще соглашается быть солдатом, то это не для нападения, а для защиты. Между тем благодаря усложнению приспособлений; война, требующая ныне большего искусства, стала дороже обходиться. Государство более не может, не рискуя раззориться, зачислить в солдаты всех годных для этого людей, не поставить слишком много препон свободной промышленности, которая благодаря налогам доставляет ему деньги для расходов. Если оно только хоть немного предусмотрительно оно охраняет свои гражданские интересы даже в своем военном деле.
Таким образом из двух сетей, которыми государство опутывало всю человеческую жизнь, одни порвались, а другие ослабли. Нет более основания предоставлять обществу всемогущество, индивиду более не нужно отчуждать себя целиком, он может, без всяких затруднений, предоставить себе лично известную долю и, если теперь вы его заставите подписать общественный договор, будьте уверены, что он позаботится о себе и о своих интересах.
В действительности не только различны внешние обстоятельства, но изменилась сущность души и в современном человеке развилось чувство, противное античному договору.
Конечно, в чрезвычайных обстоятельствах и в случае грубой необходимости, я иногда могу дать на некоторое время свою подпись на чистом листе бумаги. Но никогда, если я понимаю точный смысл выражений, я добровольно не подпишусь под окончательным отречением от своих прав. Это было бы против совести и против чести; а обе эти вещи не отчуждаются. Мою честь и мою совесть я не должен выпускать из своих рук, я единственный их хранитель, я их не отдам даже моему отцу. Здесь имеется два новых слова, выражающих две мысли, не знакомые древним. И та и другая имеют глубокий смысл и бесконечное значение. Благодаря им, подобно глазку на виноградной ветке, отделяющемуся от ветки и пускающему в земле совершенно отдельный корень, индивид отделился от первобытного общества, клана, семьи, касты или города, в котором он жил, смешавшись с другими. Он перестал быть органом и придатком. Он стал личностью.
Первая из этих идей христианского происхождения, вторая — феодального и обе они, приложенные одна к другой, определяют громадное расстояние, отделяющее античную душу от современной души.
Очутившись один, перед лицом Бога, христианин почувствовал, что в нем, подобно воску, тают все узы, которые связывали его жизнь с жизнью его группы. Ведь он перед лицом судьбы, и этот непогрешимый Судья видит души такими, какими они на самом деле. Он видит их не в общей массе, а каждую совершенно отдельно от другой. Перед Ним никто не солидарен с другим, каждый отвечает только за себя, его судят только по его действиям. Но эти действия имеют бесконечные результаты, так как сама душа, получившая искупление ценою крови Божества, имеет бесконечную цену. Поэтому, смотря по тому воспользуется она или нет божественной жертвой, награда её или муки будут бесконечны. На страшном суде перед ней открывается вечность мучений или блаженства. Перед этим несоразмерным интересом исчезают все остальные интересы. Отныне вся забота души направлена к тому, чтобы она была найдена справедливой, но не людьми, а Богом и каждый день в ней начинается трагический диалог, в котором судья допрашивает, а грешник отвечает.
Благодаря этому диалогу, продолжавшемуся восемнадцать столетий и продолжающемуся еще и теперь, совесть усовершенствовалась, и человек познал абсолютную справедливость. Пребывает ли она во всемогущем властелине или существует сама по себе, подобно математическим истинам, это нисколько не умаляет ни её святости, ни её авторитета. Она приказывает повелительным тоном, а то, что она приказывает должно быть исполнено во чтобы то ни стало: существуют безусловные обязанности, выполнять которые строго обязан всякий человек. Никакое обязательство не освобождает его от этой обязанности. Если он не выполняет его, потому что принял противные обязательства, он так же виновен. Более того, он виновен уже в одном том, что обязался, одно это уже преступление. Таким образом, вина его представляется двойной, вот почему чем более деликатна совесть, тем больше чувствует она отвращение к дурному и заранее отвергает всякий договор, который мог бы ее побудить к дурному поступку и не признает за людьми право возбуждать в ней укоры.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
