
Ипполит Тэн, «Происхождение современной Франции»
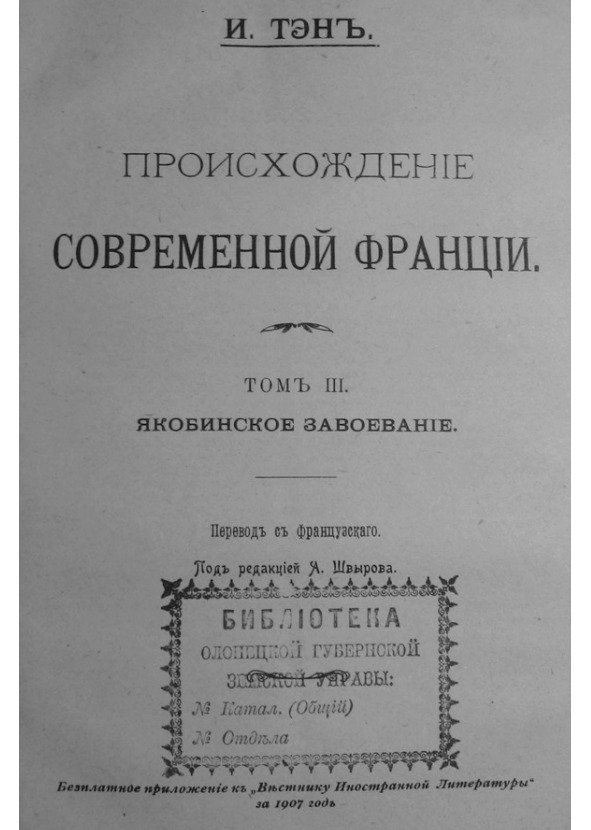
Том 3. Якобинское завоевание
Книга первая. Якобинцы
Глава I. Образование нового политического органа
Принцип революционной партии. Его применение. Нарождение якобинцев. Основы их духа, рассматриваемые по отношению всего человечества. Во всяком обществе встречаются и дают себя чувствовать гордость и эгоизм. Как они обуздываются в хорошо устроенных обществах. Как они развиваются при новом режиме. Влияние, оказываемое средой на воображение и честолюбие. Утопические стремления, распущенность слова, извращение понятий. Свободные места, развитие алчности, развращенность сердца. Психология якобинца. Его духовный облик. Преобладание формул и отсутствие дел. Нарушение умственного равновесия. Признаки этого нарушения в революционной литературе. Язык и состояние ума якобинца. Почему такое настроение вредно. В чем заключается его сила. Вызываемые им иллюзии. Что обещала теория. Как она льстила уязвленному самолюбию. Преобладающая страсть якобинца. Признаки этой страсти в его литературе и его поведении. С его точки зрения он один добродетелен, а его противники негодяи, из чего следует, что он должен избавиться от них. Завершение формирования характера. Потеря здравого смысла и извращение нравственного чувства.
В таком разлагающемся обществе, где народные страсти являются единственной реальной силой, власть захватывает обыкновенно та партия, которая, льстя им, подчиняет их своей воле. Поэтому наряду с законным правительством, которое не в силах было ни умерить их, ни удовлетворить образуется незаконное правительство, поощряющее их, возбуждающее и руководящее ими. По мере того, как первое разлагается и слабеет, второе, крепнет и организуется, пока, став наконец в свою очередь законным, занимает место первого.
Сначала, чтобы найти оправдание для всех чрезмерных притязаний и волнений народа, выдвинули на первый план теорию и не на скоро придуманную, поверхностную и не устойчивую, но глубоко проникшую в общественную мысль, вскормленную упорным трудом предшествовавшей ей философии, представлявшую из себя нечто вроде живучего и крепкого корня, из которого выросло новое конституционное дерево: это принцип народовластия. Понятый буквально, он обозначает, что правительство представляет из себя лишь доверенное лицо, простого слугу. «Мы его учредили и как до, так и после учреждения его, остаемся его повелителями». Между нами и им «никакого договора», на неопределенное или, по крайней мере, продолжительное время, который не мог бы быть уничтожен по взаимному соглашению или вследствие измены одной из сторон. «Каково бы оно ни было, и чтобы оно не делало, мы ничуть не зависим от него, а оно всецело зависит от нас; мы всегда свободны изменить, ограничить, отнять, когда нам вздумается, власть, хранителями которой мы его сделали. В качестве первоначальной и неоспоримой собственности забота об общественном благе принадлежит нам и только нам, а если мы передаем в их руки, то следуем примеру королей, временно облекающих властью министра; последний всегда готов злоупотреблять ею и наш долг наблюдать за ним, предостерегать, останавливать, обуздывать, а в случае нужды прогнать. В особенности мы должны опасаться хитрости и приемов, при посредстве которых оно под предлогом общественного спокойствия, пожелает связать нам руки. Основной закон, которого не могут уничтожить никакие изданные им законы, запрещает ему посягать на наше верховенство, а оно посягает на него, когда пытается стеснить, ослабить или помешать проявление его. Правительство, даже конституционное, превышает власть, когда оно обращается с народом как с развенчанным королем. Когда оно подчиняет его законам, не утвержденным им самим, когда оно разрешает ему действовать лишь через своих уполномоченных, надо чтобы он мог самостоятельно и непосредственно действовать, собираться, обсуждать общественные дела, рассматривать, контролировать, порицать действия своих избранников, влиять на них своими указаниями, исправлять их промахи своим здравым смыслом, уравновешивать их безволие своей энергией, вместе с ними держать руку на руле, порою устранять их от него, решительно выбрасывать их за борт и спасать корабль, направляемый ими на подводные камни.
И действительно такова доктрина народной партии, которую 14 июля 1789 года и 5 и 6 октября она применила на практике, а Лустало, Камилл Демулен, Фрерон, Дантон, Марат, Петион, Робеспьер не переставали провозглашать в клубах, на столбцах газет и в Собрании. По их мнению, все власти как местные, так и, центральные всегда являлись узурпаторами. Что мы выиграем от свержения деспотизма, если взамен его создадим новый. Мы не подчиняемся больше «аристократии наших уполномоченных» В Париже уже «собрание граждан ничего не значит, а муниципалитет составляет все». Он посягает на наши неоспоримые права, отказывая округам в праве отзывать по желанию своих избранников, являющихся их представителями в Ратуше, издавая постановления не санкционированные избирателями, препятствуя гражданам собираться, где им вздумается и рассеивая собрания, устраиваемые на чистом воздухе в Пале-Рояле: «солдатчина там вытесняет патриотизм» и мэр Байльи, облекающийся в ливрею, присваивающий себе жалованье в 110 тысяч ливров, раздающий капитанские чины, обязывающий разносчиков иметь бляхи, а газеты выходить за подписью, является не только тираном, но лихоимцем, вором, преступником, нарушающим народные права.
Еще большие злоупотребления властью позволяет себе Национальное Собрание: присягать Конституции, как оно это делает, навязывать нам, свое творение, не считаясь с нашими верховными правами, не обращая внимания на наши точные предписания, это значит не признавать нашего верховенства, это значит «издеваться над величием нации», подменять волю народа волею тысячи двухсот человек: «наши представители не оказали нам должного уважения». Это уже не в первый раз, да конечно и не в последний. Они неоднократно превысили свои полномочия; они обезоруживают, лишают голоса и свободы действий своего законного повелителя, они именем народа издают декреты против народа. Таков их военный закон, изданный, «чтобы подавить возмущение граждан», т.е. отнять у нас единственное средство, которым мы располагаем против заговорщиков, воров и изменников. Таков декрет, воспрещающий все коллективные петиции и воззвания. «Бессмысленный декрет и неприменимый», являющийся самым страшным посягательством на права нации. Таков прежде всего избирательный закон, требующий от избирателей небольшой ценз, а от кандидатов в народные представители бо́льший ценз, закон «освящающий аристократию богатства». Бедняки, исключенные декретом, должны отказаться признать его, заставить властей занести себя в списки и без стеснения вотировать, ибо естественный закон выше писанного и миллионы граждан несправедливо лишенные голоса совершили бы лишь «справедливое возмездие», если бы выходя из залы заседания, взяли за горло вождей самозванного большинства и сказали им: «Вы вычеркнули нас из общества, потому что вы были сильнее нас в зале; мы же в свою очередь вычеркиваем вас из числа живых, так как мы сильнее всех на улице. Вы нас убили граждански, а мы вас убиваем физически».
Таким образом, с этой точки зрения, всякий мятеж становится законным. Робеспьер с трибуны оправдывает жакерию, отказывается называть разбойниками поджигателей замков, признает законными восстания в Суассоне, Нанси. Авиньоне и Колониях. По поводу двух повешенных в Дуэ, Демулен замечает, что это было дело рук народа, соединившегося с войском. «Поэтому я утверждаю, не боясь ошибиться, они узаконили мятеж»; они были виновны и потому — прекрасно сделали, повесив, их.
Но вожди революционных партий не только оправдывают убийства, они подстрекают к ним. Демулен «в качестве главного прокурора Лантерны, выражает желание, чтобы во всех восьмидесяти трех департаментах ежемесячно производилось хотя бы одно вздергивание на фонарь», а Марат в своей газете непрерывно бьет тревогу: «Когда общественное благо в опасности, дело народа отнять власть из рук, которым он сам вручил ее… Арестуйте австриячку и её шурина… Захватите всех министров и их чиновников, заключите их в кандалы, наблюдайте за главой муниципалитета и помощниками мэра, не выпускайте из рук генерала, задержите генеральный штаб… Наследник престола не имеет права обедать, когда вы голодаете. Собирайтесь в полки, предстаньте пред Национальным Собранием и требуйте, чтобы оно немедленно назначило вам из национальных сумм приличное содержание. Требуйте, чтобы государственные налоги употреблялись на пользу бедных государства. Если вам в этом откажут, собирайтесь в армии, делите между собою земли и богатства злодеев, которые закапывают свое золото, чтобы голодом принудить вас снова подпасть под их иго… Теперь уж пришла пора снять с плеч головы министров и их сподвижников, Лафайета, всех злодеев генерального штаба, всех начальников анти-патриотических батальонов; Байльи, всех контрреволюционных муниципальных чиновников, всех изменников из Национального Собрания».
Правда среди мало-мальски развитых людей Марат пользуется репутацией сумасшедшего, ненормального человека. Однако таково последнее слово теории, в политическом здании над властями уполномоченными, утвержденными и законными, она утверждает анонимную власть, бессмысленную и жестокую, произвол которой неограничен, главенство неоспоримо, а вмешательство смертоносно, — это народ, подозрительный и жестокий султан, который назначив своих визирей, держит наготове руки, чтобы управлять ими и отточенную саблю, чтобы снести им головы.
Что эту теорию мог создать в своем кабинете глубокомысленный политик — это вполне понятно, бумага все стерпит, а абстрактные люди, бессмысленные идолы, философические марионетки, как те, которые он изобретает, годятся для всяких комбинаций. Что ее воспринимает и проповедует в своем погребке, полубезумный фанатик — это также легко объяснимо; он находится во власти фантомов, он живет вне реального мира, наконец ведь среди постоянно подымающейся демократии, это он является неизменным доносчиком, зачинщиком всех бунтов, подстрекателем всех убийств и под именем «друга народа», становится властителем жизни, настоящим повелителем. Что обреченный податями, несчастный, изголодавшийся, поучаемый ораторами и софистами народ единогласно принял и стал применять на практике эту теорию, это еще тоже понятно: под влиянием чрезмерных страданий пользуются всяким оружием, а для угнетаемого то ученье истинно, которое помогает ему избавиться от угнетения. Но что политики, законодатели, государственные мужи, наконец министры и главы правительства стали последователями этой теории, что они все более подчинялись ей, по мере того как она становилась более разрушительной, что они в продолжение трех лет изо дня в день, видя как под её ударами рушился общественный порядок не могли понять, что это она была орудием такого страшного разрушения, что при свете горького опыта, они вместо того, чтобы признать пагубность её, превозносили её благодеяния, что многие из них, целая партия, почти все Собрание, почитали ее как догмат и до конца применяли с непреклонностью и энтузиазмом глубокого убеждения; что попав, благодаря ей, в узкий проход, постепенно все более суживающийся, они неизменно шли все вперед, по пути уничтожая друг друга, что дойдя до конца, они в воображаемом храме своей мнимой свободы очутились на бойне; что в кругу этой народной резни они по очереди бывали то мясниками, то убойным скотом; что на своих правилах всеобщей, абсолютной свободы они воздвигли достойный Дагомеи деспотизм, судилище напоминающее инквизицию, человеческие гекатомбы, равные приносившимся в древней Мексике; что посреди своих тюрем и своих эшафотов они ни на минуту не переставали верить в свою справедливость, свою гуманность и свою добродетель и в своем падении считали себя мучениками; это положительно странно, — такое заблуждение ума и такая чрезмерная гордость никогда не встречаются и для порождения их потребовалось небывалое стечение обстоятельств, какое случается только однажды.
Однако как чрезмерное честолюбие, так и догматические рассуждения не редкость среди людей. Эти два корня якобинского ума встречаются везде, скрытые и вечные. Но обыкновенно они обуздываются хорошо устроенным обществом. Они везде стараются сорвать почать исторических наслоении, придавливающих их всей своей тяжестью. И теперь, как и в старину в студенческих мансардах и меблированных комнатах богемы, в уединенных кабинетах врачей без практики и адвокатов без клиентов встречаются Бриссоны, Дантоны, Мараты, Робеспьеры и Сен-Жюсты в зародыше, но вследствие недостатка воздуха и места на солнце они не могут развиваться. Когда двадцатилетний юноша вступает в свет, то, что он встречает поражает его ум и его гордость. Во-первых, каково бы ни было общество, в которое он вступает, оно ошеломляет чистый разум, ибо оно не построено законодателем-философом согласно ясному принципу, а создано целым рядом поколений, устраивавших его, сообразуясь со своими многочисленными и изменчивыми потребностями. Это создание не логики, а истории; и молодой мыслитель пожимает плечами, глядя на это старое зданье, кладка камней которого произвольна, архитектура беспорядочна, а заплаты на котором так заметны. Во-вторых, как бы не были не совершенны все эти учреждения, законы и нравы, все же они уже существовали до него, не он призвал их; другие его предшественники избрали их и заключили его в определенные нравственные, политические и социальные рамки. Хоть они и не нравятся, он должен, как упряжная лошадь, идти между двумя оглоблями в надетых шорах. И наконец, какова бы ни была организация она всегда по своему существу иерархична, и ему выпадает роль подчиненного, все равно солдата ли, капрала или сержанта.
Даже при самом либеральном образе правления и там, где высшие должности доступны каждому, на пять или шесть человек управляющих и командующих другими приходится сто тысяч таких, которыми командуют и управляют и пусть сколько угодно твердят всем новобранцам, что в их сумке спрятана, маршальский жезл Франции, девятьсот девяносто девять раз на тысячу, они перерыв свои сумки сразу убеждаются, что, никакого жезла там нет. Поэтому вполне понятно, что у него является искушение освободиться от железной дисциплины, которая должна отныне сковать ого. Понятно также, что, презрев градации, он усваивает теорию, подчиняющую его произволу товарищей и наделяющую его властью над собственным начальством. Тем более, что нет более простой и легче усваиваемой доктрины как эта, это единственная, которую он при всей своей неопытности в состоянии понять и сразу начать применять. Вот почему большинство молодых людей, в особенности, из начинающих свою карьеру по выходе из школы более или менее якобинцы, это «болезнь юношеского возраста».
В хорошо устроенном обществе болезнь эта протекает легко и быстро излечивается. Там общественные учреждения прочны и хорошо охраняются, недовольные очень быстро убеждаются, что они слишком слабы, чтобы поколебать их и что, сражаясь с их защитниками, они рискуют потерпеть поражение. Затем они, наворчавшись вдоволь, в свое время, впоследствии тем или иным путем вступают в строй и бывают довольны или, по крайней мере, примиряются. В конце концов они из подражания, в силу привычки или по расчету начинают находить нормальным, существующий порядок вещей, который охраняя общественные интересы, в тоже время защищает и их частные. В большинстве случаев лет через десять молодой человек достигает известного чина и постепенно подвигается вперед в своем учреждении, которое он уж не собирается разрушать на глазах у городового, которого он теперь тоже не проклинает больше. Он начинает даже находить полезными и городового, и учреждение, в котором служит и глядя на то, как тысячи индивидуумов, толкаясь стремятся взобраться повыше по социальной лестнице, он приходит к заключению, что самым худшим бедствием было бы отсутствие рогаток и охранителей.
Но тут и источенные червями рогатки лопнули все сразу, а прекраснодушные, бездарные, испуганные блюстители дали всем полную свободу действий. Тотчас же в распавшемся обществе воцарились неурядица и полная шума и крика суматоха; все без толку толкались и возбужденно поздравляя друг друга с приобретенной свободой, громко требовали новых рогаток, лишь бы только они были такие же хрупкие, как и прежние и новых блюстителей порядка, если возможно таких же слабых, безоружных и инертных как старые. Так и сделали, а естественным последствием этого явилось то, что люди, прежде занимавшие первые места, теперь отодвинулись на последние; в общей сумятице и неурядице, воцарившейся везде и именуемой полным благоустройством, многие были умерщвлены, а деревянные башмаки и грубые сапоги продолжали топтать красные каблуки и изящные туфельки. Теперь догматический ум и безграничное честолюбие могут составить карьеру, ибо нет большие прежних учреждений, препятствующих им, ни физической силы, обуздывающей их. Напротив, своими теоретическими декларациями и практическим применением их новая Конституция приглашает их занять почетное место. Ибо, с одной стороны, она считает себя основанной на чистом разуме и выступает с целым рядом отвлеченных принципов, из которых якобы строго вытекают все её подлинные предписания, другими словами, она подчиняет все законы — болтовне говорунов, давая им возможность перетолковывать их и нарушать по своему усмотрению. С другой стороны, на деле, она вручает власть выборным людям, а клубам разрешается контролировать действия правительства, это значит давать простор самомнению честолюбцев, которые пробираются вперед, считая себя одаренными необыкновенными способностями и порицают своих правителей из желания занять их место. Всякий режим представляет из себя среду, оказывающую влияние на рост человеческих растений, способствует развитию одних и заглушая другие. Этот именно оказался наиболее благоприятным для зарождения и произрастания политиков из кафе, клубных болтунов, уличных ораторов, явных мятежников, диктаторов комитетов, словом, революционеров и тиранов. В этой знойной тепличной атмосфере химеры и самомнение принимают чудовищные размеры и в течении нескольких месяцев пылкие умы превращаются в пламенные страсти.
Проследим какое действие оказывает эта невероятно высокая и нездоровая температура на воображение и честолюбие. Старое здание разрушено, а новое еще не воздвигнуто; нужно перестроить общество снизу до верху; все благомыслящие люди призваны к работе, а так как, чтобы начертать план, достаточно применить любой простой принцип, то первый встречный в состоянии выполнить это. С тех пор на собраниях секций, в клубах, на столбцах газет, в брошюрах, в смелых и пылких головах кишат политические грезы. «Нет ни одного приказчика, ни негоцианта, созданных чтением Элоизы, ни одного школьного учителя, переведшего хотя бы десять страниц из Тита Ливия, ни одного артиста просмотревшего Роллена, ни одного остроумного литератора ставшего публицистом, заучив наизусть логогрифы Социального Контракта, которые не учреждали бы Конституции… Так как нет ничего легче как совершенствовать воображаемое, то все пылкие умы стали увлекаться и работать в этой идеальной области. Все начинается любопытством, а кончается энтузиазмом. Чернь прибегает к этой пробе, как скупец к обещающим ему золото опытом магии, и в этом пагубном ослеплении каждый надеется сразу получить то, что нигде не встречается, даже при наиболее либеральных правительствах, а именно: идеальное совершенство общественных форм, всеобщее равенство и братство, возможность приобрести все, чего мы до сих пор были лишены и наполнить свою жизнь удовольствиями и наслаждениями». Одним из последних и притом не малым является вера во все это; строят воздушные замки; при помощи восьми-десяти хорошо построенных фраз, взятых из этих катехизисов в шесть су, в громадном количестве расходящимся по деревням и городским предместьям, всякий провинциальный прокурор, сборщик податей у заставы, контролер контр марок или сержант из солдатской артели превращается в законодателя и философа; он судит Малуэта, Мирабо, министров, короля, собрание, церковь, иностранные кабинеты, Францию и Европу. Затем он по поводу высоких материй, которые ему прежде казались совершенно недоступными, делает запросы, пишет адреса, он болтает, его одобряют, он в восторге, что ему удается так хорошо рассуждать и выражаться таким высоким слогом. Теперь разглагольствование о вопросах, которых не понимаешь, стало приносить пользу и славу. «В одном парижском квартале в течение одного дня говорят больше, чем на всех политических собраниях в Швейцарии, в продолжение целого года — говорит один очевидец. «Англичанин будет шесть месяцев изучать то, что мы решаем в четверть часа» и повсюду в городских ратушах, в народных обществах, на партийных собраниях, в кабачках, на общественных прогулках, на перекрестках тщеславие воздвигает трибуны для словоизлияний. «Надо изучить неподдающуюся учету деятельность подобной машины у болтливого народа, у которого мания быть чем-нибудь преобладает над всеми остальными страстями, у которого тщеславие принимает столько различных форм, сколько сверкает звезд на небосводе, у которого для приобретения почестей достаточно самому провозглашать себя достойным их, у которого общество подразделяется на посредственностей и их поклонников, возносящих их под небеса, у которого так мало людей, довольных своим положением, у которого угловой лавочник больше гордится своими временными эполетами, чем великий Кондэ гордился своим маршальским жезлом, у которого постоянно вспыхивают беспричинные волнения, у которого все от полотера до драматурга, от академика до безобидного существа строчащего статейки в вечернем листке, от остроумного царедворца до его лакея-философа — все разыгрывают роль Монтескьё, с серьезностью ребенка, считающего себя ученым, как только ему удалось выучиться читать: у которого любовь к диспутам, спорам и софизмам убила осмысленные разговоры; у которого говорят, чтобы учить других, забывая что надо хоть иногда помолчать, чтобы в свою очередь научиться чему-либо; у которого, блестящий успех нескольких сумасшедших, перевернул вверх дном все сумасбродные мозги; у которого, придумав пару глупостей после прочтения книги, которую не поняли, тотчас же наделяют себя принципами; у которого плуты проповедают нравственность; падшие женщины патриотизм; а самые безнравственные люди толкуют о человеческом достоинстве; у которого рассчитанный слуга вельможи воображает себя Брутом».
Он, действительно, является Брутом в своих собственных глазах, а при случае он им станет на самом деле, в особенности, по отношении своего последнего господина, для этого ведь достаточно одного удара копья. В ожидании пока ему придется приступить к выполнению своей роли, он произносит слова из неё и воспламеняется своими тирадами; вместо здравого смысла он обладает теперь лишь трескучими фразами революционного жаргона и уменьем витиевато говорить, доводя до конца дело утопии, он облегчает свой мозг от последнего балласта.
Но новый режим не только извратил понятия, он вместе, с тем развратил чувства. «Из Версальского дворца и приемных царедворцев власть непосредственно без всяких переходов перешла в руки пролетариев и их льстецов». Весь состав прежнего правительства внезапно был удален и также внезапно, посредством всеобщего голосования, было учреждено новое правительство; при распределении мест предпочтение отдавалось не старшинству, способностям и опытности, а самомнению, проискам и умению обратить на себя внимание. Не только все законные права были уравнены, но все естественные подразделения классов были уничтожены, общественную лестницу опрокинули и перевернули вверх ногами, а первым актом обещанных преобразований «явилось превращение адвокатов в чиновников магистратуры; обыкновенных буржуа в государственных мужей; бывших разночинцев в благородных граждан солдат в офицеров; офицеров в генералов; священников в епископов; викариев в настоятелей; монахов в викариев; ажиотеров в финансистов; самоучек в администраторов; журналистов в публицистов; риторов в законодателей и бедняков в богачей. — При виде этого разыгрались алчные аппетиты. Изобилие свободных мест и ожидаемых вакансий возбудило жажду власти, подстегнуло честолюбие и зажгло надежды в умах самых бездарных людей. Дикое и грубое самомнение подавило у всех невежд и глупцов сознание собственного ничтожества. Они вообразили себя одаренными всесторонними способностями, ибо закон ничего не требовал от должностных лиц кроме способностей. Для честолюбивых людей открылись широкий перспективы: солдаты только и думали о том, чтобы стать офицерами, офицеры мечтали о генеральских чинах, подчиненные о местах начальников, вчерашний адвокат грезил о пурпуре, священник об епископском сане, самый легкомысленный писака надеялся сесть на скамью законодателей. Места и должности, освобождавшиеся, благодаря внезапному повышению разных выскочек, в свою очередь открыли широкие перспективы низшим классам. И так, благодаря изменению внешних условий, произошел переворот в душах. «Таким образом Франция превратилась в игорный стол, за которым при помощи болтовни, наглости и пылкости ума, каждый честолюбец мог бросать свои кости. При виде выдвигающегося из ничтожества общественного деятеля у каждого чистильщика сапог зарождается в душе стремление к соревнованию».
Ему достаточно лишь протолкаться вперед и пустить в ход локти, чтобы взять свой билет в этой «грандиозной лотереи народных богатств, повышений без права на них, успехов без таланта, величия без добродетели, щедро расточаемых народом должностей». Сюда стекаются все политические шарлатаны, а в первом ряду находятся те, которые искренне верят в чудодейственные свойства своих целительных средств и ищут власти, лишь затем, чтобы иметь возможность предложить обществу свой рецепт. В виду того, что они являются спасителями все места должны принадлежать им, а, в особенности, самые высокие. Они их добиваются, в случае нужды они возьмут их штурмом, чтобы сохранить их за собой, они пустят в ход силу и волей или неволей навяжут человечеству свою панацею.
Таковы наши якобинцы, они вырастают из общественного расклада, точно грибы из перебродившей почвы. Изучим теперь их внутренний строй, который у них существует вроде того, как некогда существовал у пуритан — достаточно прозондировать до глубины их ученье, чтобы проникнуть в их странную психологию с нарушенным умственным равновесием и извращенными чувствами.
Когда государственный муж, не совсем недостойный этого почетного званья, встречает на своем пути отвлеченную идею, например: принцип народовластия, то, приступая к осуществлению его, он прежде всего старается представить себе каков он будет применённый к жизни. Поэтому он, руководствуясь своими личными воспоминаниями и теми сведениями, какие ему удалось получить, представляет себе известную деревню, известное местечко, известный город в средней полосе, на юге, на севере, в центре страны, для которых ему надо издавать законы. Затем он, по мере возможности, представляет себе жителей, подчиняющихся этим законам, т.е. вотирующих, идущих на караул, платящих подати, ведущих свои дела. Судя по этим 10–12 группам, рассмотренным им в виде пробы, он по аналогии выводит заключение и для остальных — для всей страны. Само собою разумеется, что такое вычисление не легко, оно требует редкого таланта наблюдательности и тонкого чутья, ибо приходится делать точное вычисление с недостаточно понятными и не точно обозначенными величинами. И если какой-либо политик достигает желанного результата, то этим он всегда обязан исключительному дару предвиденья, который является плодом многолетнего опыта, соединенного с гением. Но все же, введя в жизнь свою реформу, он продолжает продвигаться ощупью; он почти всегда лишь пробует; он применяет новый закон лишь постепенно, частично и временно; он стремится предварительно испытать действие его; он всегда готов исправить, отменить или отложить свое нововведение, смотря по тому — благоприятны или неблагоприятны будут результаты испытанья. В его даже недюжинном уме представление о наклонностях и стремлениях управляемых им масс складывается лишь после тщательного исследования.
Но не таков якобинец. Его принцип — это геометрическая аксиома в политике, заключающая в самой себе доказательства своей непогрешимости, ибо подобно аксиомам элементарной геометрии, принцип этот состоит из сочетания нескольких простых мыслей и его очевидность сразу импонирует уму, привыкшему к логическому мышлению. Человек в широком значении этого слова, человеческие права, общественный договор, свобода, равенство, разум, природа, народ, тираны, вот понятия, заполняющие ум нового адепта этого учения, ясны ли они и понятны, или же наоборот представляют из себя набор туманных и трескучих фраз, это не важно. Как только он соединил их в нечто целое, они стали для него аксиомой, которую он тотчас же начинает при каждом удобном случае применять на практике, часто впадая в крайности. Реальные люди — он не обращает на них вниманья, он их не видит, да ему и не надо их видеть; с закрытыми глазами он прикладывает свою мерку к человеческой массе, которой он пытается придать желаемую форму; никогда ему не приходить в голову вообразить себе эту многочисленную, волнующуюся, сложную массу крестьян, ремесленников, мещан, священников, знатных современников, за их плугом, в их каморках, в их канцеляриях, в их ризницах, в их дворцах, с их закоренелыми верованиями, с их установившимися взглядами и наклонностями, с их насущными нуждами. Но все это не проникает в его мозг и не укладывается там, ибо все его извилины загромождены отвлеченным принципом, который расположился там и заполнил собою все место. Если текущий опыт при посредстве ушей и глаз насильно вводит туда какую-либо докучливую истину, то какой бы кричащей ее кровавой не была она, ей не пустить там корней, ибо он тотчас же старается избавиться от неё, уничтожить, задушить ее как клеветницу, отрицающую непогрешимость завладевшей им идеи. Безусловно такой склад ума ненормален, из двух сил, которые должны бы действовать согласно и вместе; одна атрофирована и гипертрофирована, недостает противовеса фактов, для уравновешения тяжести формул. Перегруженный, с одной стороны, и пустой с другой он изливается по наклонной стороне, такова неизлечимая болезнь якобинского ума.
В самом деле просмотрите подлинные памятники его мысли: журнал des Amis de la Constitution, газеты Люстало, Демулена, Бриссота, Кондорсэ, Фрерона и Марата, статейки и речи Робеспьера и Сен-Жюста, прения законодательного собрания и конвента, речи, рапорты и протоколы Жирондистов и Монтаньяров или для краткости сорок томов компилятивных выписок Бюше и Ру. Никогда еще так много не говорили, что бы так мало сказать, трескучая напыщенность затемняли истину своим однообразием и надутостью. Вот характерное доказательство этого — если бы историк стал искать среди этой нагроможденной кучи фраз точных указаний, он не нашел бы ничего, достойного быть отмеченным; прочитав целые километры бумаги ему лишь изредка удавалось бы натолкнуться на какой-либо незначительный факт, поучительную подробность или интересный документ, вызывающий перед его глазами чей-либо индивидуальный облик, знакомящий его с чувствами селянина или дворянина, ярко рисующий внутренность ратуши или казармы, описывающий муниципальный совет или восстание. Что бы разобраться в пятнадцати-двадцати типах и событиях, характеризующих данную историческую эпоху, нам приходилось и впредь надо будет искать их в другом месте, в переписке местных административных властей, в протоколах уголовных судов, в конфиденциальных донесениях полиции, в описаниях иностранцев, которые благодаря совершенно иному воспитанию проходят мимо слов к фактам и видят Францию по другую сторону Общественного Договора. Вся эта живая Франция, грандиозная трагедия разыгрываемая 26 миллионами лиц на сцене в 26 тысяч квадратных лье ускользает от якобинца; в его описаниях, точно также как и в его голове нет ничего кроме бессодержательных общих мест, вроде цитированных выше; они там развертываются по игре идеологии, иногда сплошной полосой, если писатель мыслитель по профессии как например Кондорсэ, но чаще всего оборванными и плохо связанными нитями, слабыми неплотными петлями, если оратор скороспелый политик или новичок в философии, какими являются большинство депутатов и клубных болтунов. Это смесь схоластики недоразвившихся педантов с напыщенностью бесноватых. Весь его лексикон состоит из сотни слов, а все его идеи сводятся к одной индивидуализации личности. Собрание равных, во всем похожих друг на друга, независимых человеческих единиц, заключивших между собою договор, вот их представление об обществе. Трудно представить себе более упрощенный взгляд на социальные отношения, но, чтобы дойти до этого нужно свести к нулю человеческую личность. Никогда еще до сих пор не оскудевали так политические умы и притом по собственной вине, ибо они из желания опроститься, систематически освобождаются от лишнего груза. В этом отношении они подчиняются духи времени, следуя по стопам Жан-Жака Руссо. Их умственный кругозор ограничен «Классической меркой», а эта мерка уже достаточно узкая у последних философов, в их руках еще более сузилась, затвердела и скорчилась до последней степени. В этом отношении Кондорсэ у Жирондистов и Робеспьер у Монтаньяров, оба чистые догматики и простые логики, являются лучшими представителями этого типа, достигшего высокой степени развития и являющегося олицетворением никогда не встречавшейся раньше скудости.
Разумеется когда является необходимость ввести какой-нибудь постоянный закон, т.е. приспособить общественную машину к характерам, нравам, жизненным условиям, такого склада ум является самым бесполезным и вредным, ибо он по своему строению близорук, притом помещенные между его глазами и внешним миром кодексы его аксиом, — заслоняет перед ним горизонт, поэтому он ничего не видит и не различает за чертой своей партии и своего клуба, а в этом узком кругу он помещает бездушных идолов своей утопии. Но когда дело касается взятия приступом власти или введения диктатуры, то его механическая прямолинейность не только не вредит ему, по напротив бывает полезна. Его не останавливает и не смущает, как государственного мужа, необходимость знакомиться с положением вещей, считаться с предыдущим опытом, просматривать статистику, высчитывать и предугадывать вперед в двадцати различных случаях ближайшие и отдаленные последствии своей реформы при столкновении её с интересами, привычками и страстями разных классов. Все это в глазах якобинца является устарелым и не нужным; он сразу решает какое правительство законно и какие законы полезны.
Строит ли он что или разрушает, он действует всегда по свойственной ему прямолинейностью, быстро и энергично; потому что если для установления что нужно двадцати шести миллионам живых французов необходимы долгие размышления и соображения, то для решения что нужно абстрактным теоретическим людям, достаточно одного поверхностного взгляда на дело. Теория подогнала всех под один шаблон, оставляя личности лишь элементарную волю, согласно такому толкованию, философский автомат желает свободы, равенства, народовластия, сохранения прав человека, соблюдения общественного договора, этого достаточно, отныне воля народа известна, она известна вперед, так что можно действовать, не спрашивая мнения граждан, можно не прислушиваться к их голосу. Во всяком случае их одобрение, несомненно, а если неожиданно они в нем откажут, то это будет доказательством их невежества, злобы или непонимания собственных интересов, а в таком случае не стоить считаться с их мнением и из предосторожности, чтобы не услыхать от них нежелательного ответа лучше всего подсказать им желаемый. На этот счет якобинец может быть спокоен, потому что люди, правами которых он распоряжается, не живые французы из плоти и крови, какие встречаются в селениях и на улицах больших городов, а люди в общем значении этого слова, такие какими они выходят из рук природы или просвещенные, чистым разумом, Он ничуть не стесняется с первыми: они ослеплены предрассудками, а их мнение одна болтовня. Но зато по отношению вторых совсем наоборот, якобинец питает глубокое почтение к неясным образам своей фантазии, к фантомам своего полного противоречий ума, и всегда готов подчиниться их воле, которую он сам им продиктует. С его точки зрения они реальнее живых людей, и он считается лишь с их мнением. Так что в худшем случае на него обрушится мимолетное негодование и отвращение слепого поколения, но за то его ждет в будущем благодарность всего человечества, возрожденного его усилиями потомства; людей, ставших благодаря ему тем, чем они должны бы всегда быть. Вот почему он далек от мысли считать себя самозванцем и тираном, а мнит себя спасителям отечества, естественным посланником истинного народа, уполномоченным исполнителем всенародной воли; он уверенно будет шествовать вперед окруженный свитой этого воображаемого народа; миллионы метафизических воль, созданных им по образу и подобию собственной, поддержат его своим единогласным одобрением, а он, прислушиваясь к внутреннему эху собственного голоса, будет воображать, что слышит доносящийся извне гул всеобщего одобрения.
Если какая-либо доктрина соблазняет людей, то это происходит не столько вследствие представляемых ею софизмом, сколько в силу расточаемых обещаний; она сильнее влияет на чувства, чем на рассудок; ибо если порою сердце становится рабом ума, то ум много чаще бывает рабом сердца. Нам обыкновенно нравится какая-либо система не потому что мы ее считаем правильной, но наоборот мы ее считаем правильной потому что она нам нравится, и у всякого политического ли или религиозного фанатизма каково бы ни было теологическое или философское русло, по которому он течет, первоисточником является жгучая потребность, затаенная страсть, совокупность глубоких и могучих желаний, которым эта теория дает выход. В душе каждого якобинца, точно также как и пуританина есть этот источник. У пуританина он образуется из угрызений встревоженной совести, которая рисует себе идеальную справедливость, становится не в меру суровой и умножает требования, якобы предъявляемые к ней Богом; если ее заставляют пренебрегать ими она возмущается, а стремясь заставить других подчиниться им, она бывает деспотически требовательна. Но все же её главное внутреннее побуждение: обуздание собственных страстей и потому доктрина пуритан носит скорее нравственный, чем политический оттенок. Совсем наоборот у якобинца, первое его побуждение не нравственного, а политического свойства, он преувеличивает не свои обязанности, а свои права, и его доктрина вместо того, чтобы стать тернием, пробуждающим своими уколами совесть, превращается в фимиам воскуриваемый его самолюбию.
Как бы ни было велико и ненасытно человеческое честолюбие, на этот раз оно было насыщено, ибо еще никогда до этих пор не предлагалось ему такой обильной пищи. Не ищите в программе партии тех ограниченных прав, которые может потребовать во имя своего человеческого достоинства гордый человек, т.е. полных гражданских прав с целым рядом политических свобод поддерживающих их и охраняющих, неприкосновенность имущества и личности, авторитетности закона, независимости судов, равенства всех граждан перед законом и налогами, уничтожения всех привилегий и произвола, избрания депутатов и распоряжения общественными суммами, словом всех тех драгоценных гарантий, которые превращают каждого гражданина в неприкосновенного властелина в своей ограниченной области, защищают его личность и собственность от притеснений общественного и частного грабежа, придают ему спокойствие и уверенность по отношению его конкурентов и противников и внушают ему доверие и уважение к его уполномоченным и государственному устройству. Малюэты, Мунье, Малледю Паны, сторонники английской конституции и парламентской монархии могут довольствоваться таким скромным даром, но теория не придает ему никакой цены, и в случае нужды готова растоптать его, как жалкую труху. Она обещает не независимость и неприкосновенность частной жизни, не право подачи голоса каждые два года, не просто лишь влияние, ограниченный и косвенный контроль общественных дел; нет, она обещает политическое господство, — другими словами, полную и неограниченную власть над Францией и французами. Все это не подлежит никакому сомнению, ибо, по словам Руссо, Общественный Договор требует, чтобы каждый общинник всецело отдавал себя со всеми своими правами общине, каждый обязан целиком отдать себя ей таким, каков он в данный момент, себя и все свои силы, ибо все принадлежащее ему составляет часть её. Таким образом, государство, являясь полноправным властелином не только всех имуществ, но также всех тел и душ, может на законном основании навязывать своим членам какие ему вздумается идеалы, мнения, симпатия, воспитания и религию.
Поэтому каждый человек на основании того, что он человек, по праву является членом этой деспотической власти. Следовательно, каковы бы ни были мое поведение, моя неопытность, мое невежество и ничтожество той роли, в которой я до сих пор прозябал, я получаю неограниченную власть над имуществом, жизнью и совестью двадцати шести миллионов французов и в свой доле я царь и папа! Но я им мог быть даже в большей степени, чем полагается на мою долю, если признаю целиком всю доктрину. Ибо королевское достоинство, которым она меня наделяет, она дарит лишь тем, кто также, как и я принимают весь Общественный договор без изъятия; те же, которые осмеливаются не признать, хотя бы одну какую-либо статью, лишаются своих прав, ибо нельзя пользоваться выгодами договора, отвергая его условия. Более того, установленный по естественному праву, он является обязательным для всех; не признающие его и не подчиняющиеся ему становятся злодеями, преступниками и врагами народа.
Прежде встречались преступления, именуемые оскорблением королевского величества, а теперь появились оскорбления народного величества, которое совершается, если оспаривают у народа делом, словом или помышлением хотя бы крупинку той более, чем королевской власти, которой он наделен. Так что догмат, провозглашающий народовластие, в сущности, порождает диктатуру немногих, а остальных осуждает на страдания и унижения. Кто не принадлежит к партии, находится вне закона. Это мы, пять или шесть тысяч парижских якобинцев, являемся законным монархом, непогрешимым первосвященником, и горе упрямым и нерадивым чиновникам, частным лицам, духовенству, дворянству, купечеству, богачам, всем равнодушным, которые своим сопротивлением или неполным послушанием, набросят тень сомнения на наши неоспоримые права!
Постепенно все эти заключения одно за другим начинают выясняться и очевидно, что каков бы ни был выводящий их логический аппарат никогда обыкновенному человеку, не отуманенному чрезмерной гордостью, не признать их безусловно. Ему надо быть очень высокого о себе мнения, что бы претендовать на иную форму участья в управлении страной, как подача голоса, чтобы вести общественные дела, столь же безцеремонно, как и свои собственные; чтобы присваивать себе и своим единомышленникам роль руководителя, цензора и повелителя своего правительства; чтобы возомнить, что при своем посредственном образовании и недалеком уме, со своими обрывками латыни и начитанностью, вынесенной из кабинетов для чтенья, со своими сведениями почерпнутыми в кафе и газетах, со своим опытом из клуба и муниципального совета, он может решать сложные и неясные вопросы, к которым люди, обладающие бо́льшим умом и бо́льшею опытностью подходят осторожно и неуверенно. Сначала это самомнение обнаруживается в нем лишь в зародыше и при обыкновенных условиях, не получая соответствующей пищи, оно осталось бы в состоянии застарелой плесени или же захиревшего недоноска. Но сердце не знает какие странные семена носит оно в себе и часто из слабых и невинных на вид зернышек, попавших в благоприятные условия, вырастают ядовитые наросты и гигантские растения. Всякий якобинец кто бы он ни был, адвокат прокурор, хирург, журналист, священник, артист или ученый третьего или четвертого разряда, — похож на пастуха, нашедшего в углу своей хижины документы, дающие ему право на престол. Какой контраст между его жалким существованием и тем значением, которым его наделяет теория! С какой любовью воспринимает он догмат, так высоко возносящий его в собственных глазах! Он усердно читает и перечитывает Декларацию Прав Человека, Конституцию, все официальные бумаги, дарующие ему эти почетные преимущества; набивает себе этим голову и сразу принимает высокомерный тон, приличествующий его новому высокому званию. Нет ничего надменнее и наглее этого тона. Прежде всего этот тон начинает проскальзывать в клубных речах и петициях учредительного собрания. Люстало, Фрерон, Дантон, Марат, Робеспьер, Сен-Жюст всегда говорят авторитетным тоном; это типичный тон партий, превратившийся в её жаргон, на котором говорят все её приспешники. Вежливость и терпимость, все, что носит хотя бы слабый оттенок внимания и уважения к другим, исключено из их речей, точно также как и из их поступков; узурпаторская и деспотическая гордыня создала язык по своему подобию и не только первые актеры, но и простые статисты стали щеголять на эстрадах громкими словами.
Все они в своих собственных глазах спасители, римляне герои, великие люди. «Я был во главе иностранцев — пишет Анахарсис Клоотц — на трибунах дворца, в качестве посла всего человеческого рода, и министры тиранов неуверенно и с завистью поглядывали на меня». При открытии клуба в Труа один школьный учитель советовал женщинам «внушать своим детям, как только они начнут лепетать, что они рождены свободными, равными по правам первым властелинам вселенной». Надо прочесть путешествие Петиона в королевском Берлине на возвратном пути из Варенна, чтобы иметь понятие какие размеры могут принять тщеславие педанта и глупая напыщенность нахала. Барбарду, Бюзо, Петион, Ролан и м-м Ролан не только в своих мемуарах, но даже в своих эпитафиях неизменно наделяют себя патентами на добродетель и если им верить, то все они герои Плутарха. Зарождаясь у Жирондистов и передаваясь Монтаньярам, самообожание возрастает с каждым днем. Двадцати четырехлетний Сен-Жюст, не имея никакого общественного положения сгорает от непомерного честолюбия. «Мне кажется — говорит Марат, что я исчерпал уж всевозможные сочетания человеческих мыслей в вопросах морали, политики и философии». С начала и до конца Революции Робеспьер остается в глазах Робеспьера единственным, единым безупречным, непогрешимым и недосягаемым, — никогда еще человек не держал так близко перед своим лицом кадильницы, наполненной фимиамом собственных похвал. Дойдя до таких размеров, гордыня может испить до дна теорию, как бы отвратителен не был её осадок и как бы пагубно не оказалось её влияние на тех, кто, не взирая на тошнотворность, упивается её ядом. Ибо раз он — сама добродетель, то преступно оказывать ему сопротивление. Согласно его толкованию, теории подразделяет французов на две категории: с одной стороны, аристократы, фанатики, эгоисты, развязные люди, словом, дурные граждане; с другой стороны, патриоты, философы, добродетельные люди, другими словами — члены партии. Благодаря такому разграничению, весь необъятный нравственный и социальный мир, разбираемый ею, сводится к одной готовой, вполне ясной и определенный антитезе. Теперь становится вполне ясным, каким должно быть правление: нужно только подчинить злых добрым или, еще проще, уничтожить злых, для достижения этой цели надо в широких размерах прибегать к конфискациям, арестам, к изгнаниям, потоплениям и гильотине. Но отношению изменников все дозволено и похвально: якобинец освятил свои убийства и теперь он убивает из человеколюбия. Так окончательно обрисовывается этот характер, схожий с характером богослова, из которого может выработаться инквизитор. Он складывается из ряда резких контрастов, это логически мыслящий сумасшедший, нравственное чудовище, воображающее, что действует согласно требованиям совести. Подчиняясь тирании своего догмата и своей гордости, он приобрел два недостатка: один — ума, а другой — сердца; он потерял здравый смысл и извратил нравственное чувство. Отдавшись всецело рассматриванию своих отвлеченных формул, он перестал замечать живых людей, а углубившись в самообожание, стал видеть в своих противниках и даже в своих соперниках злодеев, заслуживающих казни. Раз вступив на этот путь, он катится по наклонной плоскости и ничто не в силах удержать его, ибо, рассматривая все явления на изнанку, он извратил в самом себе все драгоценные понятия, указывающие нам путь к истине и справедливости. Ни единый луч света не достигает глаз, считающих свою слепоту ясновидением, ни один упрек не зарождается в душе, оправдывающей свое варварство патриотизмом и считающей свои преступления честно исполненным долгом.
Глава II. Образование партии
Её приверженцы. Они редко встречаются среди высших классов и среди серой народной массы. Они многочисленны среди мелкой буржуазии и верхнего слоя простонародья. Положение и воспитание членов партии. Возникновение кружков после 14 июля 1789 года. Почему они захирели. Убежище здравомыслящих и деловых людей. Число, не принимавших участии в выборах. Зарождение и распространение якобинских обществ. Их влияние на своих приверженцев. Их образ действии и их произвол. Как они понимают свободу печати. Их политическая роль. Их центральная точка соприкосновения. Происхождение и состав парижского общества. Оно присоединяет к себе провинциальные общества. Его вожди. Фанатики. Интриганы. Их цель. Их средства. Малочисленность якобинцев. Источники их могущества. Они организуют лигу. Они искренне верят в свою миссию. Они не испытывают угрызений совести. В партии первенство принадлежит группе, людей всецело подчиняющейся всем условиям.
Такие характеры встречаются во всех классах общества и нет ни условий, ни общественного положения, которые бы предохраняли от бессмысленной утопии и безумного честолюбия, поэтому среди якобинцев мы видим Барраса и Шатонеф-Рандона, двух аристократов, принадлежащих к одним из стариннейших во Франции родам; Кондорсэ — маркиза, математика, философа и члена двух известнейших академий; Гобеля, епископа из Лидды и викария базельского епископа; Геро-де-Сешенеля, протеже королевы и генерального адвоката парижского парламента; Ле-Пелетье де-Сен-Фаржо, первоприсутствующего и одного из богатейших землевладельцев Франции; Карла Гессенского, фельдмаршала, принадлежащего по рождению к царствующему дому; наконец принца крови, четвертое лицо в государстве, герцога Орлеанского. Но за исключением этих немногих перебежчиков, ни родовая аристократия, ни высшая бюрократия, ни крупная буржуазия, ни богатые землевладельцы, ни крупные промышленники, негоцианты и администраторы, ни вообще люди, принимающие или имеющие право принимать участие в управлении общественными делами, не пополняют рядов партии: они слишком дорожат старым зданием, даже пошатнувшимся, чтобы желать окончательного разрушения его, и как бы незначителен не был их политический опыт, они все же достаточно знают, чтобы понять, что нельзя построить обитаемый дом по начертанному на бумаге и основанному на чисто ребяческой теореме плану. С другой стороны, в низших классах, среди темной сельской народной массы теория эта, лишь превратившись в легенду, могла бы найти слушателей. Для всех арендаторов и мелких землевладельцев, прикрепленных к своей земле, для всех крестьян и сельских работников, мысли которых, огрубев от физического труда, не переступают деревенского горизонта и полны лишь заботой о насущном хлебе, отвлеченные доктрины являются совершенно непонятными. Если бы кто вздумал излагать им догматы нового катехизиса, то они их также мало поняли бы, как и догматы старого; у них отсутствует духовный орган, воспринимающий отвлеченные идеи. Сведите их в клуб, они там будут спать и чтобы разбудить их понадобилось бы объявить возрождение феодальных прав и десятины, но и в таком случае вы ничего не добились бы от них, кроме кулачной расправы, жакерии, а потом, когда захотели бы отнять у них или обложить налогом их хлеб, они оказались бы такими же неуступчивыми при республике, как и при короле.
Теория вербует своих адептов в других местах, среди мелкой буржуазии и в верхнем слое народа, но из этих двух нарастающих одна на другую и продолжающих друг друга групп, надо исключить людей, которые, пустив корни в своей профессии или в своем ремесле, не имеют ни времени, ни желания заниматься общественными делами, затем всех тех, кто, заняв хорошие места на иерархической лестнице не желают потерять их; почти всех людей хорошо устроившихся, степенных, женатых, зрелых и рассудительных, которых жизненный опыт научил относиться недоверчиво к себе и к разным теориям. Обыкновенно самонадеянность очень умеренно проявляется у средних людей, а умозрительные идеи оказывают на большинство из них очень слабое, поверхностное и непрочное влияние. К тому же в этой части общества, в течение веков, находившийся в зависимости ум, — в силу наследственности буржуазен, т.е. привержен к порядку, дисциплинирован, уравновешен и даже робок.
Остается меньшинство, очень незначительное меньшинство, подвижное и стремящееся к прогрессу: с одной стороны, люди, плохо пристроившиеся к своему ремеслу или своей профессии и занимающие в них второстепенное или подчиненное положение; люди, только что начавшие свою карьеру и находящиеся пока на нижних ступенях; кандидаты совершенно еще не успевшие устроиться; с другой стороны, все люди не уравновешенные, все выброшенные за борт общим переворотом: в церкви — закрытием монастырей и ересью; в судах, администрации, финансах, армии, в разных общественных и частных учреждениях — всевозможными перемещениями, нововведениями, применением новшеств, перемещением клиентов и патронов. Таким образом значительное число людей, которые при обыкновенных условиях спокойно и добросовестно занимались бы своим делом, превратились в непосед и политических авантюристов.
На первом плане стоят люди, которые, получив классическое образование, легко могут усваивать отвлеченные принципы и выводить из них заключения, но, не обладая соответствующей подготовкой, замкнутые в тесном кругу местных нужд, не способны ясно представить себе громадное, сложное общество и условия, в которых оно живет; все их дарования выражаются в умении составить речь, журнальную статью, брошюру, отчет; и все это в более или менее выспренном и догматическом стиле; некоторые же из них, более талантливые, бывают в своем роде очень красноречивы, но и только. В их рядах встречаются адвокаты, нотариусы, судебные пристава, отставные деревенские судьи и провинциальные прокуроры, которые занимают у них первые места и составляют две трети членов Законодательного Собрания и Конвента: хирурги и врачи из маленьких городков, как Бо, Левассер и Бодо; второстепенные и третьестепенные литераторы, как Барер, Луве, Гарат, Манюэль и Ронсен; профессора учебных заведений, как Луше и Ром; учителя, как Леонард и Бурдон; журналисты, как Бриссо, Демулен и Фрерон; комедианты, как Колло д’Эрбуа; артисты, как Сержан; священники оратории, как Фуше; лишенные сана иереи, как Лебон, Шасль, Леканаль и Грегуар; только что сошедшие со школьной скамьи студенты, как Сен-Жюст, Монэ де-Страсбург, Руссэлен де-Сент-Альбень и Жюльен де-ла-Дром, словом плохо возделанные и плохо засеянные умы, на которые достаточно упасть зерну теории, чтобы заглушить все добрые семена, и пышно разрослись, подобно крапиве. Присоедините к ним всех шарлатанов и авантюристов мысли, людей с взбалмошенными головами, фанатиков и мечтателей всех оттенков, начиная с Фоше и Клоотца и кончая Шальи и Маратом, наконец всю эту толпу выбитых из колеи бедняков и болтунов, которые волочат по улицам больших городов свои бессодержательные идеи и обманутые надежды.
На втором плане стоят люди, скудность образования которых делает их неспособными понимать отвлеченные принципы и выводить из них заключения, но у которых, зато, сильно развитый инстинкт пополняет недочеты элементарно грубых рассуждений. Их алчность, их зависть и их порочность ждали для себя от этой теории обильной пищи; и якобинское учение им было особенно дорого, потому что в его тумане, их воображение рисовало несметные сокровища. Они могут, не засыпая, выслушивать длинные клубные речи, могут во время аплодировать ораторам, могут вызвать движение в общественном саду и кричать с трибуны, могут составить протокол ареста и дневной приказ по национальной гвардии, могут усердно работать легкими, руками и саблями, но этим и ограничиваются их способности. К этой группе принадлежат приказчики, вроде Гебера и Анрио; писцы, как например, Венсен и Шометт; мясники, как Лежандр; почтмейстеры, как Друэ; столяры, как Дюплей; школьные учителя, вроде Бюшо, который был произведен на пост министра и многие другие в том же роде, почти полуграмотные, имеющие лишь слабое представление об орфографии, но обладающие даром слова, помощники учителей, унтер-офицеры, бывшие странствующие монахи, разносчики, трактирщики, мелочные торговцы, рыночные носильщики, городские ремесленники, начиная с Гоншона, оратора из Сен-Антуанского предместья и кончая Симоном башмачником из Тампля и Тришаром, присяжным революционного судилища, а также разные подмастерья, бакалейщики, портные, сапожники, продавцы вин, парикмахеры, артельщики, мастеровые и вообще люди, которые непосредственно примут участье в сентябрьских зверствах.
Прибавьте к этому весь грязный хвост народных волнений и народной диктатуры, хищных зверей вроде Журдана из Авиньона и американца Фурнье; женщин, которые, как Теруань, Роза, Лякомб и вязальщицы из Конвенции забыли свой пол; амнистированных разбойников и весь этот сброд, которому отсутствие полиции развязало руки; всех бродяг, не признающих никакой дисциплины; всех лентяев и тунеядцев, сохраняющих среди цивилизованной жизни атавистические дикие инстинкты и ратующих за власть народа, чтобы дать простор своим страстям к распутству, лени и жестокости.
Таким образом составляется эта партии, вербуя своих членов во всех слоях общества, но преимущественно подбирая их пригоршнями в тех двух группах, где догматизм и тщеславие являются обыденным явлением. Там образование приводит человека до порога или до центра общих идей, он чувствует себя стесненным в замкнутом кругу своей профессии или своего ремесла и стремится выбраться из него. Но его образование поверхностно или слишком элементарно, поэтому, перейдя черту своего тесного круга, он уже оказывается не на своем месте. Он замечает и распознает политические идеи, вот почему он считает себя способным, но он их воспринимает только в виде готовых формул, он может различить их лишь сквозь густой туман, вот почему он неспособный, а совокупность всех этих положительных и отрицательных качеств создает из него якобинца.
Естественно, что так настроенные люди должны сойтись, сговориться и соединиться, ибо они исповедуют один догмат, а именно принцип народовластия и преследуют одну цель — завоевание политического могущества. Общность цели делает их партией, а общность догмата — сектой, и их лига тем теснее сливается, что они одновременно являются сектой и партией.
Сначала их общество терялось среди массы других обществ. После взятия Бастилии со всех сторон стали возникать политические общества; надо же было заменить лишенное власти и ослабевшее правительство, позаботиться о безотлагательных общественных нуждах, вооружиться против разбойников, запастись зерном, оградить себя от всех посягательств со стороны двора. Во всех городских ратушах заседали комитеты; волонтеры образовали милицию, тысячи местных, почти независимых властей освободились от влияния центральной, почти упраздненной власти. В течение шести месяцев все занимались общественными делами, и каждый гражданин нес на своих плечах свою долю бремени управления государством. Это бремя всегда тяжело, но еще тяжелее становится оно в дни анархии, таково мнение большинства, но, однако, не все разделяют его. Впоследствии между людьми, обремененными этой обязанностью, образовался раскол и разделил их на две группы: одну громадную, инертную, разложившуюся, а другую маленькую, тесно сплоченную, деятельную, которые пошли по разным все более и более расходящимся дорогам.
С одной стороны, находились обыденные люди, трудящиеся и здравомыслящие, одаренные известной долей совести и не страдающие излишком самолюбия. Если они забрали в свои руки власть, то только потому, что она валялась на земле, выброшенная на улицу, но они пользовались ею лишь временно, так как сразу сообразили, да скоро и на деле убедились, что этот труд им не под силу, что это работа специальная, требующая соответственной подготовки и опытности. Нельзя так сразу стать законодателем или администратором, точно также как невозможно вдруг сделаться врачом или хирургом. Если бы непредвиденный случай принудил меня к этому, то я скрепя сердце поневоле взялся бы за дело, но я делал бы лишь самое необходимое и то только потому, чтобы не допустить больных собственноручно калечить себя; я боялся бы убить их неумелой операцией и с удовольствием вернулся бы к себе, как только они нашли бы кого на мое место. Затем я охотно подал бы свой голос наравне с другими за своего заместителя и из всех кандидатов я, по мере разумения, избрал бы того, кто казался бы мне самым добросовестным и сведущим. Но раз он будет избран и утвержден, я не стану претендовать на роль руководителя его: он у себя, в своем кабинете, и я не имею права ежеминутно врываться туда и требовать его к ответу точно малолетнего или поднадзорного. Не мое дело диктовать ему его предписания, так как очевидно он знает больше моего, во всяком случае, желая, чтобы у него была твердая рука, не следует постоянно угрожать ему, а что бы он сохранил ясность мыслей, не надо беспокоить его. Но пусть также не беспокоят и меня, у меня своя контора и свои бумаги или же своя лавочка и свои покупатели. Каждому свое, у всякого есть свое дело, а кто одновременно со своим делом берется за чужое, то обыкновенно портит и то, и другое.
Так думает к началу 1790 года большинство здравомыслящих людей, все те, чей мозг не отуманен манией честолюбия и доктринерства; тем более, что после шестимесячной практики они прекрасно знают каким опасностям, каким разочарованиям и каким неприятностям подвергается тот, кто берется управлять голодным и возбужденным народом. Тут как раз в декабре 1789 года был утвержден муниципальный закон и тотчас же во всей Франции были избраны мэры и чиновники муниципалитета, а в следующие месяцы начальники департаментов и округов. Наконец междуцарствие кончено, явились законные, облеченные народным доверием власти, обязанности которых строго определены, честные здравомыслящие люди спешат передать власть в руки тем, кому она теперь принадлежит по праву и, разумеется, они далеки от мысли требовать ее обратно. Их временные общества распадаются, как ненужные больше и если они основывают какое-либо новое, то исключительно с целью поддерживать установившийся порядок. Поэтому они основывают союз и в продолжение последующих шести месяцев обмениваются клятвами и обещаниями.
Закончив с этим, они после 14 июля 1790 года возвращаются к частной жизни, и я позволю себе утверждать, что отныне честолюбие большинства французов было удовлетворено, ибо они, продолжая повторять слова Руссо против общественной иерархии, в глубине души желали лишь уничтожения административных репрессий и свободного доступа ко всем высшим должностям. А они добились не только этого, но еще множества других вещей, а именно: титула державного властелина, уступчивости со стороны общественных властей, почета от всех говорящих речи и умеющих держать в руке перо, более того настоящего владычества, права избирать местные и центральные власти. Им было предоставлено право не только избирать депутатов, но и других должностных лиц всех степеней и разрядов: начальников палат, округов и департаментов, офицеров национальной гвардии, судей гражданских и уголовных судов, епископов и настоятелей церквей; даже больше того, чтобы сильнее подчинить избираемых избирателям они по закону избираются лишь на очень короткий срок, таким образом, избирательная машина почти каждые четыре месяца приводится в движенье и призывает властелина к применению его власти.
Это уж слишком и вскоре сам властелин пришел к заключению, что ему дают больше, чем ему надо, невозможно так часто вотировать, такая масса преимуществ становится каторгой, с первых же месяцев 1790 года большинство отказалось от права голосования и число отсутствующих получилось колоссальное. В Шартре в мае 1790 года на 1.551 правоспособных граждан 1.447 не явились на предвыборные собрания. В Безансоне при выборах мэра и муниципальных чиновников из 3.200 внесенных в списки избирателей отсутствовало 2.141 в январе 1790 года и 2.906 в следующем затем ноябре. В Гренобле в августе и ноябре того же года из 2.500 избирателей отсутствовало 2 тысячи. В Лиможе из приблизительно, такого же числа внесенных в список граждан вотировало всего 150 человек. В Париже в августе 1790 года из 81.200 избирателей не подают своего голоса 67.200, а спустя 3 месяца число отсутствующих достигает 71.408. Таким образом на одного голосующего избирателя приходится 4; 6; 8; 10 даже 16 воздерживающихся от голосования. Тоже явление наблюдалось при выборе депутатов. На предварительные собрания в Париже в 1791 году из 81.200 занесенных в списки не явилось 74 тысячи человек. В Дубсе на каждых четыре правоспособных гражданина не явилось три. В одном из кантонов Кот-Д’Ора к концу выборов возле избирательных урн осталось не больше 8 человек, а вторичные выборы отличались такой же малочисленностью. В Париже из 946 избранных выборщиков не более 200 подают свои голоса, в Руане из 700 только 160, а в последний день выборов всего 60. Одним словом «во всех департаментах, говорит с трибуны один оратор из пяти выборщиков второго разряда, едва лишь один исполняет свое назначение». Таким образом большинство устранилось от общественных дел и вследствие инертности, непредусмотрительности и усталости, из отвращения к сопровождающей выборы суете, из равнодушия к политике, из антипатии к имеющимся на лицо кандидатам, они уклоняются от возлагаемой на них конституцией обязанности. Поступая так, они, конечно, далеки были от мысли желать иного образа правления, потому что создание всякой новой лиги потребовало бы от них слишком много усидчивого и упорного труда. Естественно, что люди, которым некогда четыре раза в год опустить в урны свои бюллетени, не станут трижды в неделю посещать клубные собрания. Не желая вмешиваться в управление страною, они слагают с себя все свои обязанности, и раз они отказались от своего права избирать правительство, то конечно не станут пытаться руководить им.
Но не так поступают честолюбцы и догматики, придающие серьезное значение своему королевскому титулу: они не только голосуют на выборах, но еще стремятся сохранить за собой власть, которую они передают своим уполномоченным. С их точки зрения каждое должностное лицо их создание и подсудно им, ибо по закону верховенство народа никому не может быть передано народом, а на деле упоение властью так пришлось им по вкусу, что они теперь не в силах отказаться от неё. В продолжение шести месяцев, предшествовавших правильным выборам, они успели сговориться, сойтись и узнать друг друга, они стали устраивать тайные собрания и по мере того, как другие общества распадались и исчезали, как налет плесени на общественном организме, их жизненный союз укреплялся на освободившейся почве. Один из них был основан в Марсели в конце 1789 года, а в течении первых шести месяцев 1790 года почти у всех больших городов появились свои союзы: в Эксе в феврале, в Монпелье в марте, в Ниме в апреле, в Лионе в мае, в Бордо в июне. Но особенно они распространились после праздника федерации. После того как все местные группы слились в одну общую, сектанты тоже сплотились и основали свою лигу. В Руане 14 июля 1790 года два хирурга, тюремный капеллан, вдова-еврейка и несколько женщин или детей из их семейств основывают отдельное общество, они чистые и не желают, чтобы их смешивали с толпой. Их патриотизм высшего качества и они по-своему понимают общественный договор, если они присягают конституции, то обязательно с сохранением прав человека, они рассчитывают не только сохранить завоевания реформы, но и продолжать начатую революцию. Во время федерации они навербовали и обучили своих единомышленников. Эти последние разбрелись из столицы и больших городов, по местечкам, деревням и селам и повезли с собою инструкции и указания; им объяснили значение клубов, устройство их и повсеместно стали основываться общества по одному и тому же плану с тем же названием и тою же целью. Спустя месяц их было уже 60, через 3 месяца 122, в марте 1791 года 229, в августе 1791 года около 400. Не тут внезапно численность их возросла до невероятных размеров, так как два одновременных толчка разбросали их семена во все стороны. С одной стороны, в конце июля 1791 года все умеренные люди, друзья, порядка поддерживавшие до сих пор клубы, все конституционалисты и фельянтинцы [1] выступают из них и предоставляют их увлеченьям и грубости крайних, там политика опускается до тона казарм и кабаков, так что с тех пор, где только есть кабак и или казарма может быть основано политическое общество.
С другой стороны, как раз в тоже время были созваны избиратели для выбора нового Национального Собрания и назначения новых местных властей, таким образом, явилась перспектива новой добычи, и повсеместно стали возникать общества для захвата её. В течение двух месяцев было основано 600 новых; к концу сентября 1791 года их уж насчитывали 1.000; в июне 1792 года — 1.200, т.е. столько, сколько было всех городов и местечек. После низвержения престола, под влиянием паники, вызванной прусским нашествием и среди анархии равной анархии 1789 года, их набралось точно также как в июле 1789 столько же, сколько было общин, 26 тысяч — говорит Редерер — по одному в каждой деревне, где только имеется пять-шесть горячих голов и хоть один грамотный, могущий написать прошение.
«Нужно, писал в ноябре 1790 года один очень распространенный журнал, чтобы у каждой улицы, у каждой деревушки был свой клуб. Пусть каждый честный ремесленник собирает у себя соседей и пусть он при свете лампы, содержимой на собранные в складчину деньги, читает им декреты Национального Собрания, разнообразя свое чтение собственными замечаниями и рассуждениями соседей, а под конец собрания, чтобы несколько развеселить возбужденную чтением листка Марата аудиторию, пусть он заставит их повторить патриотические клятвы отца-Дюшена». Этому совету последовали и на собраниях стали читать вслух высылаемые из Парижа брошюры и катехизисы «Деревенскую Газету» (la gazette villageoise), Газету Монтаньяров (le journal de la Montagne), газету Дюшена (le Père Duchesne), Парижские Революции (les Révolutions de Paris), Журнал (le Journal) Лаклоса; стали распевать революционные песни. Если среди них встречался красноречивый оратор, бывший священник оратории, юрист или же школьный учитель, то он забрасывал слушателей потоком трескучих фраз, говорил о греках и римлянах, возвещал возрождение человеческого рода; один обращаясь к женщинам выражал желание «чтобы декларация нрав человека стала главным украшением их жилищ, и чтобы в случае войны доблестные патриотки, как новые вакханки шли во главе армии с распущенными волосами и тирсами в руках». — Рукоплещут, кричат, от урагана тирад разогреваются головы, а от соприкосновения друг с другом воспламеняются, еле тлеющие уголья, которые неминуемо потухли бы разбросанные отдельно, и ярко разгораются, когда их кладут все вместе. Между тем убеждения крепнут, нет ничего более действительного для укрепления их как партийное устройство. В политике, точно также как и в религии, если вера порождает церковь, то церковь в свою очередь поддерживает веру; в клубах, точно также как и в обителях, уверенность каждого отдельного лица в своей правоте поддерживается единодушием всех остальных и все слова и поступки их являются подтверждением его убеждений, тем более, что никем не оспариваемый догмат наконец становится неоспоримым, а якобинец вращается в тесном и тщательно замкнутом кругу, куда не может проникнуть ни одна противоречивая идея. Сотни дне лиц кажутся ему публикой, их мнение тяготеет над ним без всякого противовеса, и помимо их убеждений, которые в тоже время являются и его убеждениями, все остальные кажутся ему бессмысленными и даже преступными. Кроме того, при такой постановке дела, когда ему беспрестанно приходится слышать полные лести проповеди, он приходит к заключению, что он просвещенный, добродетельный патриот и это мнение не допускает никаких сомнений, так как раньше чем принять его в партию, проверяли искренность его любви к родине, в чем ему выдали печатное удостоверение, с которым он никогда не расстается. Он член избранного общества, а это избранное общество взяв монополию на патриотизм, везде возвышает голос, держится отдельно, отличается от остальных граждан своими речами и поведением. С первых же своих собраний клуб в Понтарлье воспрещает своим членам употребление общепринятых форм вежливости. «Надо при встречах с знакомыми, приветствуя их, воздерживаться от обнажения головы; надо при разговоре тщательно избегать слов «имею честь» и т. п. А главное надо проникнуться полным сознанием своего достоинства. «Разве знаменитая Парижская трибуна не приводит в трепет всех клеветников и изменников? А один вид её не повергает ли во прах всех врагов революции?» В провинции происходит тоже, что и в Париже и едва лишь основанные клубы сразу начинают обучать и организовать чернь. Во многих больших городах — в Париже, Лионе, Эксе, Бордо существует два соединенных клуба; один более или менее приличный, парламентский, состоящий большею частью из членов разных административных учреждений, которые преимущественно занимаются теоретическими рассуждениями на тему об общественном благе; второй деятельный, посвященный практической работе, в котором трактирные ораторы и рыночные краснобаи поучают рабочих, огородников и мелких мещан. Второй как бы является дополнением первого и поставляет ему людей для устройства восстания. «Мы вращаемся среди народа, пишет один из этих второстепенных клубов, — мы ему читаем декреты, мы предохраняем его от преследований и происков со стороны аристократии. Мы выслеживаем и пронюхиваем, все их замыслы и заговоры. Мы принимаем и наделяем советами всех тех, кто приходит к нам с жалобами; мы поддерживаем, их, требования, когда они справедливы; наконец, в известных случаях мы берем на себя заботу о деталях». Благодаря этим грубым, но обладающим, здоровенными легкими и кулаками помощникам, партия начинает приобретать влияние, захватив силу, она пользуется ею и отказывая своим, противникам, во всех правах, она предоставляет, себе все привилегии.
Рассмотрим образ её действий по одному примеру и в ограниченной области, а именно её отношение к свободе слова. В декабре месяце 1790 года некий инженер по имени Этьен, которого Марат и Фрерон в своих газетах обличали и называли полицейским шпионом, добивается наложения ареста на оба номера и подает жалобу на издателя, требуя публичного опровержения или же 25 тысяч франков в качестве возмещения убытков и проторей. Это возмутило обоих журналистов: по их мнению, они непогрешимы и неприкосновенны. «Очень важно пишет Марат, чтобы всякое сделанное на газетных столбцах обличение оставалось ненаказанным, и журналист обязан был давать отчет лишь обществу в том, что он делает или находит нужным сделать во имя общественного блага». «Вот почему, говорит Лангедок, Этьен — изменник». «Господин Лангедок, я вам советую замолчать… Обещаю вам обязательно повесить вас, если только это будет в моей власти». Однако Этьен настаивает и после первого решения предъявляет свой иск. Тут Марат и Фрерон начинают метать громы и молнии. «Мэтр Торильон, говорит Фрерон комиссару, — вы заслуживаете примерной кары на глазах у всего народа; надо чтобы этот позорный приговор был отменен». «Граждане! — пишет Марат — отправляйтесь толпою к Ратуше, не потерпите ни одного солдата в зале заседания». В день суда из небывалого снисхождения в залу ввели всего лишь двух гренадер, но и это было слишком много; толпа якобинцев орала: «Долой гвардию! Мы здесь повелители!» И два гренадера удалились. «Зато, торжествующе говорит Фрерон, — в зале находилось шестьдесят защитников Бастилии с неустрашимым Сантером во главе, готовых каждую минуту помешать ходу дела». И они на самом деле мешали ему, начали они с истца. Как только Этьен показался на пороге залы суда, на него набросились, хорошенько помяли ему бока и так отделали всего, что он вынужден был бежать в кордегардию. Он весь был покрыт плевками, «делались попытки обрезать ему уши», а его друзья получили «сотни пинков ногами». Кончилось тем, что он удалился и дело отложили.
Несколько раз оно снова назначалось к слушанию, и теперь все усилия были направлены к тому, чтобы заставить судей прекратить его. Некто Мандар, автор брошюры «О верховной власти народа» во время заседания поднимается с места и заявляет председательствующему на суде мэру Парижа, Байльи, что он обязан отказаться от ведения этого дела. Байльи уступает, прикрывая по обыкновению свою слабость благовидным предлогом. «Хотя, говорит он — судья может быть устранен от участья в деле только сторонами, но для меня достаточно услыхать мнение одного гражданина, чтобы подчиниться ему, потому я оставляю свое место». Что же касается остальных судей, которых продолжали осыпать угрозами и оскорбления, то они в конце концов тоже уступили и посредством софизма, очень характерного для этой эпохи, они в насилии, которому подвергался преследуемый, нашли оправдание своему отказу вершить правосудие. Этьен заявил, что он не может ни лично явиться в суд, ни прислать своего защитника, ибо для них это сопряжено с риском быть убитыми; на основании этого суд объявил, что Этьен, «не являясь в суд ни лично, ни через защитника, оказывает неповиновение суду и посему присуждается к уплате судебных издержек». Оба журналиста тотчас же начинают петь победный гимн, а их статьи, распространяемые по всей Франции, оповещают бессилие правосудия привести в исполнение свой приговор; отныне якобинец может безнаказанно клеветать, оскорблять, поносить через печать, кого ему вздумается, он недосягаем для суда, он выше закона.
Посмотрим теперь какую свободу предоставляют они своим противникам. За две недели до этого случая, известный писатель, еженедельно разбиравший на страницах лучшего журнала того времени текущие вопросы, не задевая при этом личностей, человек независимый, честный и безукоризненный во всех отношениях, красноречивый, рассудительный, мужественный защитник истинной свободы и общественного порядка, Маллэ дю-Пан, увидал входящую к нему в кабинет депутацию из Пале-Рояля. Их было двенадцать или пятнадцать человек, все они были хорошо одеты, держались они вежливо и в их обращении не проглядывало враждебности, но по всему было видно, что они считали свое вторжение вполне законным, а по их речам можно было судить до чего ходячий политический догматизм может извратить мозги. «Один из них — рассказывает Маллэ дю-Пан — обращаясь ко мне, заявил, что они явились в качестве депутатов патриотического общества из Пале-Рояля, чтобы убедить меня переменить убеждения и отказаться от нападок на конституцию, не то они вынуждены будут употребить по отношению меня насилие. «Я не признаю, отвечал я, другой власти, кроме власти закона и правосудия. Закон является единственным вашим и моим господином, а всякое посягательство на свободу слова и печати есть нарушение конституции». «Конституция — это всеобщая воля, отвечал тот, который раньше заговорил, закон — это власть сильнейшего. Вы находитесь во власти более сильного и должны подчиниться ей. Мы вам объявляем волю нации, а это закон!» ОН им объяснил, что он относится отрицательно к старому режиму, но зато является сторонником королевской власти. «О! — отвечали они в один голос — нам было бы очень неприятно лишиться короля. Мы любим короля и будем отстаивать его власть. Но мы вам запрещаем выступать против господствующего мнения и свободы, определенной национальным собранием». Очевидно, ему, родившемуся в Швейцарии и прожившему двадцать лет в свободной республике, лучше известно все касающееся этого предмета, но они с этим не считаются, говорят сразу по пяти-шести человек, порою не понимая произносимых слов, противореча друг другу в частностях, но проявляя резкое единодушие в стремлении заставить его замолчать. «Вы не должны противиться народной воле, не подчиняясь ей, вы проповедуете гражданскую войну, оскорбляете декреты и раздражаете. нацию». Понятно, что для них нация это они сами, во всяком случае они являются её представителями, они по собственному назначению занимают места магистратских чиновников, цензоров, полицейских чиновников; и провинившийся пред ними журналист должен считать себя счастливым, если по отношению к нему применяют одни лишь увещания. Еще за три дня до этого его предупреждали, что по соседству собралась кучка людей «угрожавшая поступить с его домом также как поступили с домом де-Кастри», где все было разгромлено и выброшено за окно. В другой раз по поводу неограниченного или удерживающего veto четыре сумасшедших ворвались к нему на квартиру, и угрожая пистолетами, заявили, что он заплатит им жизнью, если осмелится писать в благоприятном для Мунье смысле. Таким образом с первых же дней революции; с того момента как нация приобрела драгоценное право свободно писать и думать тирания партии поспешила отнять его у граждан, крича каждому желавшему сохранить свободу совести: трепещи, умирай или думай, как я!
С тех пор партия, чтобы заставить замолчать не нравящиеся ей голоса, прибегает к обыскам, арестам, насилиям и наконец даже убийствам: на долю одного Маллэ-дю-Пана в июне 1792 года выпало «три декрета о заключении в тюрьму, сто пятнадцать обвинений, два опечатания, четыре гражданских нападения в его собственной квартире, конфискация всех его владений во Франции»; он провел четыре года, «не зная, вечером ложась в постель, проснется ли он живым и свободным на следующее утро». Если он позже избег гильотины или фонарного столба, то только благодаря изгнанию, а другой журналист Сюло был убит на улице десятого августа. Вот как партия понимает свободу печати, из этого примера легко вывести заключение, как она относится и к другим свободам. Она не признает закона, если он её стесняет или покровительствует её противникам, вот почему нет такого излишества, которого бы она не позволила себе и нет такого права, в котором она не отказала, бы другим.
Ничто, не ограждено от произвола клубов. «Таковой в Марсели заставил выйти в отставку всех муниципальных чиновников, он требовал к себе муниципалитет, он не признавал департамента, он оскорблял гражданских властей. Члены Орлеанского клуба учредили надзор над верховным национальным судом и сами в нем заседали. Члены Каенского клуба нанесли оскорбления магистратским чиновникам, похитили и сожгли дело, начатое против лиц, разбивших статую Людовика XIV. А члены клуба в Альби силою взяли из регистратуры бумаги, относящиеся к делу одного убийцы, и сожгли их». Клуб в Кутенсе запрещает депутатам своего округа «критиковать что-либо в народных законах». Лионский же клуб задерживает артиллерийский транспорт на том основании, что люди занимающие в данный момент министерские посты не пользуются народным доверием. Таким образом клубы везде царствуют или, по крайней мере, стремится царствовать. С одной стороны, на выборах он проводит или устраняет кандидатов и вотирует почти сам, в крайнем же случае заставляет вотировать по своему указанию: в результате, он проводит кого хочет и если не по праву, то во всяком случае, на деле пользуется всеми привилегиями политической аристократии; с другой стороны, он исполняет функции полицейских комитетов, составляет и распространяет именные списки всех неблагонадежных, подозрительных или равнодушных: выдает дворян, сыновья которых эмигрировали; священников, не принесших присяги и продолжающих жить в своих приходах; монахинь, «поведение которых неконституционно»; он подстрекает местных властей, руководит и управляет ими; он сам является дополнительной, высшей, неограниченной властью. Такое положение вещей естественно вызывало изумление у здравомыслящих людей, и во многих местах они заявляли протесты. «Подобное учреждение — говорится в одной петиции — восстановляет граждан друг против друга. В этих клубах совещаются и делают доносы на разных лиц, держа все это в строжайшей тайне… Оклеветанный там честный гражданин становится жертвой насилия с их стороны и его убивают исподтишка, не давая ему возможности защищаться. Это настоящее инквизиционное судилище; это очаг всех возмутительных статей; это школа заговоров и интриг. Если гражданам приходилось краснеть из-за недостойных выборов, последние всегда были делом рук подобных обществ… Составленный из пылких людей и поджигателей, стремящихся управлять государством, повсюду клубы пытаются овладеть умами простолюдинов, противодействовать чиновникам, встать между ними и народом, захватить законодательную власть и стать колоссом деспотизма».
Тщетные сетования: Национальное Собрание, опасаясь утратить собственную власть, дарит народные общества своим покровительством и своей снисходительностью. «Нужно, говорил один из партийных журналов, чтобы народ организовался, составляя небольшие кружки». И постепенно в течении двух лет Франция покрылась сетью этих кружков, теперь не было ни одной деревушки, где бы не процветала всесильная олигархия этих организованных и властных банд. Но чтобы этим рассеянным бандам превратиться в сплоченную армию следовало найти центр соприкосновения и генеральный штаб. Этот центр существовал уже давным-давно, главный штаб тоже был готов: один и другой находились в Париже, в обществе «Друзей Конституции».
В сущности, во Франции не было более авторитетного, ни более старинного общества; зародившееся еще до революции оно существовало с 30 апреля 1789 года. Едва лишь прибыв в Версаль кемперские, геннебонские и понтивийские депутаты, привыкшие в Бретани еще со времени съезда депутатов общественных собраний, предварительно сговариваться в вопросах голосования, тотчас же наняли сообща зал и вместе с Мунье, секретарем депутатов из Дофинэ и депутатами многих других провинций основали общество, которому суждено было долго просуществовать. До 6 октября оно состояло исключительно из народных представителей, но когда его перевели в Париж, в улицу Сент-Онора, в библиотеку монастыря якобинцев, в его состав вошли многие известные и значительные личности, на первом плане среди них стоит Кондорсэ, затем идут Лагарп, М.-Ж. Шенье, Шамфор, Давид, Тальма, писатели и артисты, а вскоре оно уж насчитывало до тысячи членов.
Общество производило хорошее впечатление и казалось очень серьезным: в состав его входило двести-триста человек депутатов, а статуты его были составлены в таком духе, что могли привлечь в число членов лишь избранных людей. Попасть в него можно было лишь по рекомендации десяти членов и по избрании посредством закрытой баллотировки. На заседания общества пускали лишь по именным билетам, и однажды одним из двух распорядителей, контролирующих в дверях входные билеты, был молодой герцог Шартрский.
У общества была своя канцелярия, свои председатель. Его дебаты отличались парламентской серьезностью и согласно его статутам, разбираемые им вопросы, были те же, разработкой которых занималось Национальное Собрание, а в нижней зале, в другие часы просвещали рабочих, разъясняли им смысл Конституции.
На первый взгляд кажется, что это общество создано, чтобы руководить общественным мнением, но если присмотреться ближе, то получается несколько иное впечатление, однако, департаменты на расстоянии не могут основательно изучить его, и по укоренившейся привычке, привитой централизацией, берут его за образец на том только основании, что оно находится в столице. Заимствуют его правила, его статуты и его дух, и оно становится обществом-матерью, а все остальные общества её приемными дочерями. И на самом деле оно печатает их списки в главе своего журнала, оно публикует их доносы, оно поддерживает их требования: с тех пор в самых захолустных деревеньках, каждый якобинец чувствует себя осененным покровительством не только местного клуба, членом которого он состоит, но и всей обширной ассоциации, многочисленные отпрыски которой захватили всю территорию и поддерживают своим могуществом самых ничтожных из своих последователей. Зато каждый вновь присоединившийся клуб беспрекословно повинуется всем приказаниям, идущим из Парижа, и непрерывная переписка, завязывающаяся между центром и окраинами, поддерживает установившееся между ними соглашение. Все это представляет гигантский политический механизм; машину, приводимую в движение дружными усилиями тысячи рук, действующих под влиянием одних и тех же побуждений; а руль, придающий всему этому движенью определенное направление, находится на улице Сент-Оноре в руках нескольких вожаков.
Нет более могучей машины как эта и нигде не сыскать лучше составленной для выработки искусственных и крайних мнений, для придания им вида непосредственной народной воли; для подчинения безгласного большинства крикливому меньшинству, для захвата в свои руки власти. «Мы придерживаемся очень незамысловатой тактики, говорит Грегуар. — Было решено, например, чтобы внести свое предложение на одном из заседаний Национального Собрания. Он вполне был уверен, что лишь незначительное меньшинство наградит его аплодисментами, а большинство будет шикать. Но это ничуть не смущает его. Он потребовал и получил согласие на передачу своего предложения на рассмотрение комитета, в котором, противники надеялись, сразу покончить с этим вопросом. Парижские якобинцы занялись этим делом. При посредстве циркуляров и газетных статей они ознакомили с положением вещей провинцию, в трех или четырехстах подчиненных им обществах был рассмотрен этот вопрос, и через три недели в Национальное Собрание дождем посыпались адреса, требуя утверждения декрета, проект которого оно отвергло и который теперь приняло большинством голосов, потому что якобы дебаты по этому поводу дали возможность созреть общественному мнению. Другими словами надо, чтобы Национальное Собрание подчинялось, а если оно не сочтет этого сделать добровольно, то нужно вынудить его к этому силой, а для последнего все средства хороши, таково мнение всех руководителе клубов, фанатиков и интриганов.
Во главе первых стоит Дюпор бывший советник Парламента, который еще в 1788 году понял какую пользу можно извлечь из народных волнений; первые революционные собрания происходили у него; он предлагал «поглубже вспахать землю», и его планы углубления в землю плуга таковы, что даже Сейес, человек крайне радикального направления, назвал их «вертепной политикой». Тот же Дюпор основал 28 июля 1789 году сыскной комитет, и под его руководством все добровольные доносчики и шпионы учредили полицейский надзор, нижняя зала якобинского клуба, где ежедневно по утрам просвещали рабочих, поставляли ему новобранцев, а его два помощника, братья Цемент, свободно подыскивали преданных делу лиц. «Ежедневно по утрам десять преданных человек приходят за приказаниями, а затею, каждый из десяти, в свою очередь, передает эти распоряжения другим десяти лицам, принадлежащим к различным парижским батальонам. Таким образом все батальоны и все отделения одновременно получают предложение произвести бунт, одновременно узнают об обвинении возводимым на конституционное правительство, на мэра города Парижа, на председателя департамента, на главного начальника гвардии», и всё это под покровом тайны: все покрыто непроницаемым мраком; сами руководители называют это дело «Шабатом» и на ряду с людьми экзальтированными вербуют в свои ряды бандитов. «Распускают слух, что тогда-то произойдут большие беспорядки, будут совершены убийства, крупный грабежи, этому предшествуют устные распоряжения, отдаваемые второстепенными начальниками верным, испытанным людям и вследствие этого собираются разбойники из-за тридцати и сорока лье в окружности.
Однажды, чтобы вызвать волнения «шесть человек, предварительно сговорившись образовали небольшую группу, в центре которой один из них говорил пылкую, зажигательную речь; собралось еще шестьдесят человек; потом шесть первых подстрекателей стали переходить с места на место, чтобы образовывать новые группы, придать их внешнему возбуждению вид народного волнения». — В другой раз «сорок фанатиков с мощными легкими и четыреста или пятьсот наемных людей» разбрелись по Тюйльерийскому саду, испуская «дикие крики» и подошли к окнам национальною Собрания, «требуя убийств». Ваши экзекуторы — говорил один из депутатов — командированные вами прекратить шум, слыхали неоднократно повторяемые угрозы принести вам головы, осужденных толпою на смерть… В тот же день вечером, в Пале-Рояле я слыхал как один из второстепенных предводителей этих мятежников хвастал, что он заставил ваших экзекуторов принести вам этот ответ, и он добавил еще, что пришла пора всем добрым гражданам последовать этому совету. — У этих агитаторов существует один лишь пароль: «Верны ли вы?» и один ответь: «верный человек».
Им платят по двенадцати франков в день и когда случается работа они за ту же плату на месте вербуют новых людей. «Из неоднократных показаний, данных офицером национальной гвардии в мэрии видно, что честным людям тоже предлагали плату в двенадцать франков, если они присоединят свои крики к раздававшимся вокруг них, а некоторым так даже насильно втискивали в руки деньги».
Деньги на все это черпали в кассе герцога Орлеанского и черпали так основательно, что из 114 миллионов состояния после его смерти осталось 74 миллиона долгов; принадлежа к партии, он берет на себя часть расходов и в качестве первого богача фракции, расходует со щедростью, соответствующей его богатству. Он не был вождем в буквальным смысле этого слова, для этого он слишком был мягок и изнежен, но его «маленький совет», а, в особенности, его личный секретарь Лакло имели на него большие виды; они хотели сделать его наместником страны, а затем регентом или даже королем, чтобы царствовать его именем и «делить выгоды». А в ожидании этого они эксплуатировали его слабохарактерность, в особенности, Лакло, своего рода Макиавелли, человек на все способный умный, развращенный, уже давно пристрастившийся к чудовищным комбинациям: никто с таким холодным любопытством не следил за непередаваемыми амальгамами, получающимися от сочетания человеческой злобы с развратом: в политике точно также как и в романе, он отдает предпочтение «опасным связям». Прежде он в качестве любителя имел влияние на женщин и бандитов высшего света, а теперь в качестве практика руководил уличными женщинами и бандитами. 5 октября 1789 года его видели, «в коричневом костюме» среди первой партии женщин, отправившихся в Версаль, и ясно видна его рука «в деле Ревельона, в сожжении застав, в сожжении дворцов», во всеобщей панике, поднявшей всю Францию против воображаемых бандитов. — «Все эти операции, говорил Малуэ, оплачивались герцогом Орлеанским, который действовал в своих интересах, а якобинцы в своих». Теперь их союз стал открытым: 21 ноября 1790 года Лакло стал секретарем общества и вместе с тем получил должность заведующего корреспонденцией, официального директора журнала и тайного и действительного руководителя всех предприятий. Честолюбцы и демагоги наемные агенты и убежденные революционеры, каждая из этих групп работает для себя, но обе они работают, стремясь по одному и тому же пути к общей цели — завоеванию власти какими бы то ни было средствами.
На первый взгляд их успех кажется сомнительным; так как они являются меньшинством. В ноябре 1791 года в Безансоне на три тысячи избирателей приходится пятьсот или шестьсот революционеров, а в ноябре 1792 года на пять или шесть тысяч избирателей снова тоже незначительное число революционеров. В Париже в ноябре 1791 года на более чем 801 тысячу, занесенных в списки, их было 6.700; в октябре 1792 года на 160 тысяч, занесенных в списки, их было менее 14 тысяч. В 1792 году, в Труа, на семь тысяч избирателей, а в Страсбурге — на восемь тысяч избирателей, их приходилось всего четыреста или пятьсот человек. Вообще на все избирательное население революционеров приходится не более одной десятой части, а если исключить жирондистов и полу-умеренных, то это число еще уменьшится вдвое. В конце 1792 года в Безансоне на 25–30 тысяч жителей приходилось не более трехсот чистокровных якобинцев, а в Париже на 700 тысяч жителей их насчитывали всего 5 тысяч, однако, и в столице, где они более пылки и многочисленны, даже в исключительные минуты, когда они платили бродягам и нанимали разбойников, число их никогда не превышало десяти тысяч. Даже в таком большом городе, как Тулуза, посланный туда представитель народа встретил всего четыреста человек сторонников. Предположим, что их наберется человек пятьдесят в каждом маленьком городке, от пятнадцати до двадцати в каждом местечке, пять-шесть в каждой деревушке так и то в среднем на пятнадцать избирателей и национальных гвардейцев придется всего лишь один якобинец, и во всей Франции все взятые вместе якобинцы не превысят трехсот тысяч. Этого недостаточно, чтобы поработить шесть-семь миллионов образованных людей и распространить на страну, населенную двадцатью шестью миллионами жителей, более неограниченный деспотизм, чем применяемый азиатскими владыками. Но сила не измеряется численностью: они являются бандой среди толпы, а готовая на все банда врезывается в дезорганизованную, инертную толпу, как кусок железа в рыхлую кучу щебня.
Это потому, что всякая нация может защищать себя от внутреннего узурпаторства точно также, как от внешних нападений только при посредстве своего правительства. Оно является одним из самых необходимых орудий для общественного дела: но как только оно отсутствует или же слабеет, занятое чем-нибудь другим большинство, всегда равнодушное и нерешительное, перестает быть живым организмом и превращается в прах. Из двух образов правления, которые могли сплотить вокруг себя нацию, один с 14 июля 1789 года лежал на земле низвергнутый в прах и продолжал разлагаться. Тогда как его фантом, который вновь возвращался, был отвратительнее его самого, ибо тащил за собою не только старую свиту бессмысленных злоупотреблений и непосильных налогов, но еще крикливую ораву воздаяний и мщений; с 1790 года он появляется на границе более самовластный, чем когда либо, готовящийся к войне и угрожающий вторжением жадных иностранцев и взбешенных эмигрантов. Другое же правительство, созданное Учредительным Собранием, так неумело составлено, что большинство не видит от него никакой пользы; оно не по руке ему; еще никогда до сих пор не бывало такого тяжелого и вместе с тем бессильного политического орудия. Чтобы быть приподнятым, оно требует невероятных усилий, приблизительно двух дней в неделю усиленной, работы для каждого гражданина. Приподнятое с таким усилием и то только на половину, оно плохо исполняет работу, для которой оно предназначено, как например: сбор податей, уличное спокойствие, продовольственное дело, защита свободы совести, жизни и имущества. Своими действиями оно само себя разрушает и вызывает к жизни другое правительство, не законное, но действительное, которое вытесняет его и занимает его место.
В большом централизованном государстве обыкновенно кто станет во главе, тот управляет всем государственным организмом; находясь постоянно в подчинении, французы привыкли, чтобы ими руководили, и невольно провинциалы обращают взоры к столице, а во дни переворотов заранее спешат на проезжую дорогу, чтобы от курьера поскорее узнать, какое правительство посылает им судьба. В какие бы руки не попало это центральное правление, большинство всегда признает его и подчиняется ему. Ибо прежде всего, большинство разрозненных групп, желающих его ниспровержения, не смеют вступить с ним в борьбу: оно им кажется слишком сильным; в силу укоренившейся рутины, они воображают, что за ним стоит вся великая, отдаленная Франция, которая по его приказанию раздавит их всей своей численностью. Во-вторых, если бы какие-либо отдельные группы и попытались свергнуть повое правительство, борьба с ним была бы не под силу, потому что оно оказалось бы слишком сильным по сравнению с ними. И на самом деле они еще не организованы, а оно сразу сорганизовано благодаря завещанному ему павшим правительством послушному персоналу. Монархия или республика, чиновник все равно каждое утро идет в свою канцелярию для выполнения возложенных на него обязанностей. Монархия или республика, жандарм все равно каждый день совершает свой обход для задержания лиц, которых ему приказано арестовать. Лишь бы только приказание получалось свыше и иерархическим путем, оно исполняется и с одного конца территории в другой исправно, работает сложная, снабженная сотнею тысяч колес машина, управляемая рукой, захватившей центральную рукоятку. Достаточно решительно, сильно и ловко нажать эту рукоятку, чтобы привести в движение весь механизм, а уж в уверенности, силе и ловкости у якобинцев не было недостатка.
Прежде всего якобинец полон веры, а во все времена вера «двигала горами». Возьмите для примера одного из обыкновенных, средних рядовых партии, какого-нибудь прокурора, второстепенного адвоката, лавочника, мастерового и постарайтесь представить себе какое поразительное впечатление должна произвести эта доктрина на его столь мало подготовленный, ограниченный, ничтожный в сравнении с её необъятностью мозг. Он свыкся с рутиной и узким кругозоров своей профессии, а тут вдруг ему пришлось погрузиться в область строгой философии, теории природы и человека, теории всеобщей истории, заключений относительно настоящего, прошлого и будущего человеческого рода, в область аксиом абсолютного права и совершенной и полной истины. Все эти новые понятия проникли в его мозг в виде кратких, строго определенных формул, например: «Религия — суеверие; монархия — узурпаторство; все священники — обманщики; все аристократы — вампиры; все короли — тираны и чудовища». Подобные мысли, наполняя ограниченный ум, точно огромный поток, вливающийся в узкое русло, производят в нем страшный переворот, ибо в данном случае не он управляет ими, а они порабощают его. Человек вне себя, ибо нельзя безнаказанно из обыкновенного буржуа или простого рабочего сразу превратиться в апостола и освободителя человеческого рода. Ибо ведь он мечтает спасти не только свое отечество, по все человечество. За несколько дней до 10 августа Ролан «со слезами на глазах» говорил: «Если свобода умрет во Франции, она навсегда потеряна для всего мира, все надежды философов будут обмануты и самый жестокий деспотизм придавит своим гнетом землю». Проведя на первом заседании конвента декрет об уничтожении королевской власти, Грегуар чуть не обезумел от счастья при мысли, каким неизмеримым благодеянием одарил он все человечество. «Признаюсь, говорил он, что от избытка радости я на несколько дней лишился сна и аппетита. «Мы станем народом богов» — восклицал однажды на трибуне один якобинец.
Такие мечты доводят до безумия или, по крайней мере, до болезни. «Люди в течение двадцати четырех часов были охвачены горячечным бредом, говорит один из товарищей Сен-Жюста, а у меня он длился целых двенадцать лет, а впоследствии, став старше и анализируя его многие отказывались понять его». Другой рассказывает, что у него «во время кризисов, преграда, отделявшая рассудок от безумия, была не толще волоска». «Когда Сен-Жюст и я, говорит Бодо, поджигали виссенбургские батареи, все превозносили нас за это, а между тем мы не заслуживали этих похвал, потому что были уверены, что ядра не причинят нам ни малейшего вреда».
В этом экзальтированном состоянии для человека не существует более никаких преград: он возносится неизмеримо высоко или же падает неизмеримо низко в сравнении со своим обычным «я», он расточает свою и чужую кровь, становясь героем в военной жизни и жестоким тираном в гражданской: он непобедим как в одной, так и в другой, ибо его опьянение во сто крат увеличило его силы, и все прохожие при встрече с ним пугливо будут уступать дорогу выпущенному на свободу безумцу, точно разъяренному быку.
Если они добровольно не очистят ему дорогу, то будут опрокинуты и смяты, ибо он не только разъярен, но вместе с тем привык не разбирать средств. Во всякой политической борьбе встречаются недозволенные средства, во всяком случае такие, которые большинство раз оно честно и благоразумию, отказывается употреблять. Оно воздерживается от насилий над законом, ибо, совершенное над одним законом, оно влечет за собою насилия над остальными. Оно против ниспровержения существующей власти, ибо всякое междуцарствие равносильно возврату к дикому состоянию. Оно против возбуждения народных волнений, ибо они ведут к подчинению общественной власти неразумию диких страстей. Оно против такого правительства, которое представляет из себя машину для конфискаций и убийств, ибо, по его мнению, естественной обязанностью всякого правительства является защита имущества и жизней. Вот почему по отношению якобинцев, разрешающих себе все это, оно изображает безоружного человека, вступающего в борьбу с хорошо вооруженным.
Якобинцы из принципа отрицают закон, ибо единственным законом для них является произвол черни. Они без стеснения оказывают противодействие правительству, ибо для них правительство — простой чиновник, назначенный народом, которого последний во всякое время может прогнать. Всякое восстание для них желательно, ибо посредством восстаний народ присваивает себе верховную власть. Диктатура также им приятна, ибо она укрепляет неограниченные народные права. Притом они, по примеру казуистов, придерживаются того мнения, что цель оправдывает средства. «Пусть лучше погибнут все колонии, чем хотя бы один принцип», говорил один из них учредительному собранию. «В тот день, когда я приду к заключению — пишет Сен-Жюст, что нельзя привить французам мягкие, стойкие, чувствительные нравы, непреклонность по отношению деспотизма и несправедливости, я вонжу себе в грудь кинжал». А покамест он продолжал гильотинировать других. «Лучше превратить всю Францию в кладбище, говорил Карьер, чем отказаться от мысли видеть ее возрожденной по нашему плану». Чтобы завладеть рулем, они готовы потопить судно. Уж с самого начала они напустили на общество уличные бунты и жакерию деревень, проституток и разбойников, пресмыкающихся и хищных зверей. Во все время борьбы они эксплуатируют самые низкие и пагубные страсти: ослепление, легковерие и ярость толпы, обезумевшей от голода, страха перед разбойниками и опасения заговоров и иноземного вторжения. Наконец, достигнув власти при помощи переворота, они стараются сохранить ее за собою, посредством террора и казней.
Переходящее всякие границы и ничем не сдерживаемое своеволие, непоколебимая вера в свои права и полное презрение чужих прав, энергия фанатика и тактика злодея, вот средства, дающие меньшинству перевес над большинством. Это настолько верно, что даже в партии победа всегда остается на стороне менее численной группы, если только она обладает искренней верой и неразборчива в средствах. Четыре раза с 1789 года по 1794 политические игроки садились за игорный стол, на котором разыгрывалась верховная власть и четыре раза к ряду беспартийные, фельянтинцы, жирондисты, дантонисты, большинство проигрывали партию. Это происходило от того, что все четыре раза они придерживались обыкновенных правил игры, во всяком случае, опасались нарушить какое-либо общепринятое правило, пренебречь уроками житейской мудрости, поступить в разрез с буквой закона, правилами гуманности и чувством сострадания.
Но меньшинство решило заранее во что бы то ни стало выигрывать, по его мнению, это его право, и, если правила игры мешают ему, тем хуже для правил. В решительную минуту оно приставляет к лбу противника пистолет и опрокидывая стол, захватывает выигрыш.
Книга вторая. Первый этап завоевания
Глава I. Достижение якобинцами власти
Выборы 1791 года. Процентное отношение завоеванных ими мест. Их осадные орудия. Средства, употребляемые для устранения большинства избирателей и кандидатов умеренных. Частые выборы. Обязательность присяги. Неприятности и опасности, сопряженные с исполнением общественных обязанностей. Конституциалисты, исключенные из законодательного собрания. Отнятие свободы собраний у друзей порядка. Насилия над их клубами в Париже и в провинции. Все консервативные общества запрещены законом. Насилия при выборах 1790 года. Выборы в 1791 году. Впечатление, произведенное бегством короля. Мортан во время избирательного периода. Отступление запуганных умеренных. Народные волнения в Бургундии, Лионском департаменте, в Провансе и больших городах. Поведение якобинцев во время выборов. Примеры в Эксе, Даксе и Монпелье. Безнаказанность смутьянов. Именные доносы. Воздействии на крестьян. Основная тактика якобинцев.
В июне 1791 года и в течение следующих пяти месяцев призывались все правоспособные граждане для избрания своих выборных представителей, а известно, что по закону этим правом пользовались граждане разных степеней и положений: прежде всего 40 тысяч избирателей второго разряда и 745 депутатов; затем половина администраторов восьмидесяти трех департаментов, половина администраторов пятисот сорока четырех округов, половина администраторов 41 тысячи общин, кроме того, в каждом муниципалитете мэр и главный прокурор, во всяком департаменте председатель уголовного суда и представитель обвинительной власти; во всей Франции офицеры национальной гвардии; словом, почти весь персонал уполномоченных и агентов законной власти. Был возбужден вопрос о возобновлении гарнизона общественной цитадели, уже во второй и чуть ли даже не третий раз с 1789 года. Всякий раз якобинцы проскальзывали на места маленькими отрядами, на этот раз они врываются целой толпой. В Парнасе мэром избран Петион. Мануэль — главным прокурором, Дантон — его помощником, а Робеспьера назначают главным обвинителем по уголовным делам. На первой же неделе 136 новых депутатов было занесено в списки клуба. В собрании партия насчитывала до 250 членов. Если просмотреть все посты крепости, то станет очевидным, что треть их, а может быть и больше занимаю осаждающие. В продолжении двух лет, руководимые верным инстинктом, они вели осаду, а теперь получилось небывалое зрелище. Нация, законным путем покоренная толпою мятежников.
Прежде всего, они позаботились очистить себе место и посредством насильно вырванных у учредительного собрания декретов устранили от выборов большинство большинства. С одной стороны, под предлогом упрочения народной власти выборы были так часты и так многочисленны, что требовали от каждого правоспособного гражданина шестой части его времени; непомерное требование для трудящихся людей, которые занимаются каким-либо делом или ремеслом, а такова вся масса населения, во всяком случае полезная и здоровая часть его. Таким образом, как мы уже видели, она уклоняется от голосования и предоставляет место праздным людям и фанатикам. С другой стороны, по уставу конституции, все избиратели должны были приносить гражданскую присягу, включая туда и церковную, так что, если кто приносил первую, уклоняясь от второй, его голосование считалось недействительным; в ноябре в Дубсе муниципальные выборы тридцати трех общин были кассированы на этом основании. Таким образом не только 40 тысяч не согласившихся присягать духовных лиц, но и большое число ревностных католиков лишились права голоса, а их было множество в Артуа, Дубсе, Юре, в Верхне-рейнской и Нижне-рейнской провинциях, в обоих Севрах, в Вандее, в Нижней-Луаре, в Морбигане, в Финистере и Кот-дю-Норде, в Лозере и Ардеше, не говоря уже о южных департаментах. Таким образом при помощи закона, который они сделали неприменимым, якобинцы заранее оградили себя от благоразумных голосований, а их насчитывались миллионы, а посредством проникнутого нетерпимостью закона, они освободились заранее от голосования ревностных католиков, а таковых во Франции было несколько сот тысяч. Благодаря такому двойному исключению, они на избирательном поприще встретили лишь очень небольшое число избирателей.
Остается действовать против этих немногих и лучшим средством оказалось лишение их прав на кандидатуру. И тут отчасти оказала пользу обязательная присяга: в Лозере все должностные лица предпочли выйти в отставку, чем давать присягу; вот люди, которые на будущих выборах не могут выставлять своей кандидатуры, ибо немыслимо добиваться добровольно оставленного места, и вообще для изъятия кандидатуры какой-либо партии достаточно вооружить ее против властей. Действуя согласно такому принципу, якобинцы добивались желаемой цели, устраивая бесчисленные бунты, руководимые ими против короля, офицеров и чиновников, против дворян и духовенства, против торговцев хлебом и землевладельцев, против общественных властей всех родов и происхождений. Везде власти вынуждены были терпеть или извинять убийства, грабежи и поджоги, а в лучшем случае, возмущение и неповиновение. В течение двух лет каждый мэр, прибегая к военному закону, рисковал быть повешенным; каждый командир не был уверен в своих людях, отправляясь охранять сбор податей; всякий судья подвергался оскорблениям и угрозам, если осуждал грабителей, опустошавших государственные леса. Постоянно должностные лица вместо того, чтобы охранять правосудие, должны были нарушать его или же позволять другим нарушать; если же они пробовали протестовать, то якобинцы, прибегая к насилию, подчиняли их законную власть своей незаконной диктатуре, и тем приходилось уступать, становясь их игрушкой или же их сообщниками. Такая роль невыносима для людей, обладающих сердцем и чуткою совестью. Вот почему в 1790 и 1791 годах почти все значительные и уважаемые люди, которые в 1789 году заседали в городских ратушах или командовали национальной гвардией, все провинциальные дворяне и кавалеры ордена святого Людовика, бывшие члены парламента, высшая буржуазия, крупные землевладельцы возвращаются к частной жизни и отказываются от общественных должностей, на которых дольше невозможно оставаться. Вместо того, чтобы предлагать себя на выборах, они от них устранялись, и партия сторонников порядка, не желая назначать должностных лиц, не выдвигала из своей среды кандидатов.
Из излишней предосторожности лишили законных прав всех естественных вождей и преградили доступ к высшим должностям, например: депутатов, министров, всем людям достойным занять их, обладающим хотя бы той небольшой долей политического смысла, которой французы могли запастись за последние два года. В июне месяце 1791 года после удаления непримиримых правых, в собрании осталось еще около 700 членов, которые будучи сторонниками конституции, все же желали восстановить порядок и если бы были снова избраны, то дали бы стране контингент благоразумных законодателей. Для всех их, за исключением незначительной группы революционеров, жизненный опыт не прошел даром и в последнее время их деятельности, два события первостепенной важности: бегство короля и бунт на Марсовом поле указали им на все недостатки существующего механизма. Продержав в своих руках в продолжении трех месяцев орудие исполнительной власти, они убедились, что оно сломано, что все рушится, а сами они порабощены фанатиками и чернью. Тогда они делают попытки затормозить машину; многие из них мечтают о возврате к прежнему. Они отделяются от якобинцев; из трех или четырехсот депутатов, занесенных в списки клуба на улице Сент-Оноре, остается всего семь человек, [2] остальные основывают отдельный оппозиционный клуб у фельянтинцев, и во главе их находятся первые основатели: Дюпор, братья Ламет, Барнав, все созидатели конституции, отцы нового порядка. Последним декретом учредительного собрания они строго осуждают самозванную деятельность народных обществ и запрещают им не только вмешательство в административные или политические дела, но и все коллективные петиции и депутации. Вот для друзей порядка готовые кандидаты и к тому же кандидаты, имеющие шансы на успех, ибо в продолжении двух лет и даже более, все они занимали в своих округах видные, ответственные и влиятельные места, всех их поддерживала в глазах их избирателей популярность созданной ими конституции и они могли бы смело рассчитывать на получение большинства голосов. Но якобинцы предвидели опасность: с помощью двора, который никогда не пропускал случая все погубить и даже погубить самого себя, они воспользовались озлоблением правых и усталостью учредительного собрания; вследствие усталости и отвращения, под влиянием увлечения и заблуждения, в порыве необдуманного бескорыстия оно постановило, что ни один из его членов не может быть, избран на будущих выборах, и, таким образом, заранее устранило весь состав честных людей.
Если не взирая на такие неблагоприятные условия, последние все же пытались бороться, то их останавливали, едва лишь они успевали сделать первый шаг. Чтобы успешно вести избирательную борьбу необходимо предварительно собираться, совещаться. условливаться, а принадлежавшее им по закону право составлять общества, на деле было отнято у них их противниками. Прежде всего якобинцы ошикали и «забросали разной дрянью» членов правой стороны, собиравшихся в французском салоне, на улице Рояль и в силу существующего правила, полиция, установив «что это общество возбуждает беспорядки, является предлогом для уличных сборищ и может быть поддержано лишь при помощи насильственных мер» приказала членам его разойтись. В августе месяце 1790 года образовалось другое общество, составленное из самых либеральных и рассудительных людей. Во главе его стояли Малуэт и граф де-Клермон-Тоннерр; они назвали себя «Друзьями монархической конституции» и стремились восстановить общественный порядок на началах приобретенных реформ. С их стороны не было упущено ни одной формальности, в Париже их было уже 800 человек, подписные деньги так и сыпались в их кассу; со всех сторон провинция подкрепляет их союзниками и, что хуже всего, благодаря раздаче хлеба по пониженным ценам, они были на пути к слиянию с народом. Таким образом получился центр убеждений и влияний, аналогичный якобинскому центру, а с этим никак не могли примириться якобинцы.
Клермон-Тоннер нанял по контракту летний вокзал, тогда к владельцу его явился некий капитан национальной гвардии и предупредил его, что если он отдаст в наем залу, то патриоты из Пале-Рояля явятся в полном составе закрыть ее. Тот, опасаясь порчи вещей, нарушил условие, а муниципалитет, в свою очередь, из опасения волнении отменил заседания общества. Но общество энергично отстаивает и свои права, и так как текст закона на этот счет очень ясен, то оно в конце концов добивается официального подтверждения своих прав. Тут все якобинские ораторы и журналы обрушились на своих будущих соперников, которые могли бы оспаривать у них власть. 23 января 1791 года Барнав в национальном собрании под дымкой метафоры, скрывавшей воззвание к убийству, обвинял членов нового клуба в том, что они «кормят народ отравленным хлебом». Четыре дня спустя дом графа Клермон-Тоннера был окружен толпою вооруженных людей, вышедший оттуда Малуэт был почти насильно вытащен из своей кареты и встречен всеобщим криком: «Вот подлец, предающий народ!» — Наконец учредители клуба, прождавшие в угоду муниципалитету два месяца, нанимают другую залу на улице Петит-Экюри и 28 марта открывают свои заседания. «Явившись туда — пишет один из них — мы застали целое сборище пьяниц, уличных крикунов, женщин в лохмотьях, подстрекающих солдат и главное этих ужасных горлопанов, вооруженных здоровенными сучковатыми дубинками в два фута длиною, которыми легко можно было размозжить голову». Все это было заранее подготовлено, сперва их было не более трех или четырехсот, минут через десять набралось пятьсот или шестьсот человек, а еще через четверть часа число достигало четырех тысяч: все это были люди, набранные где попало, словом обыкновенный персонал всех бунтов. «Обитатели этого квартала уверяли, что никогда до этого дня не видали никого из этих лиц». Сперва глупые плоские шуточки, брань, затем тумаки, удары палками и саблями: члены собрания, «условившиеся прийти невооруженными» рассеяны, многие повалены на пол, избиты, а человек двенадцать или пятнадцать из них ранены. Чтобы оправдать свое нападение, толпа показывает белые кокарды, будто бы найденные в их карманах: мэр Байльи является лишь по окончании свалки, и во имя охраны общественного спокойствия муниципальные власти окончательно закрывают клуб монархистов-конституционалистов.
Благодаря этим нападениям организованных партий и попустительству властей, другие схожие с этим клубы были также уничтожены. Их было много, и они были рассеяны по большим городам: «Друзья мира», «Друзья отечества». «Друзья короля, мира и религии», «Защитники религии, личности и имущества. Обыкновенно в состав их входили офицеры, чиновники, самые развитые и воспитанные люди, словом, избранное городское общество. Они были основаны некогда для обмена мыслей в целях саморазвития, а теперь, в силу изменившихся условий, вопросы литературы уступили в них место политическим вопросам. По поводу всех этих провинциальных обществ на улице Сент-Оноре был отдан категорический приказ: «Это очаги заговоров: надо следить за ними неусыпно и при появлении малейшего огонька, тотчас же бросаться тушить их». И благодаря этому, то в Кагоре, отряд национальной гвардии, возвращаясь с экспедиции, предпринятой против соседних дворян, желая достойным образом завершить свое дело, захватывает клуб, «выбрасывает через окно мебель и разрушает дом», то в Перпиньяне возмущенная чернь окружает клуб, пляшет вокруг него фарандолу и восклицает: «На фонарь!» Дом был разграблен, а восемьдесят членов избитые и изувеченные толпою, в видах их безопасности были уведены в крепость; то в Эксе якобинцы явились в клуб своих противников, затеяли ссору, на основании чего муниципалитет отдал приказание заколотить двери осажденного клуба и арестовать всех его членов. Всегда их наказывают за насилия, учиняемые над ними другими, одно их существование вменяется им в вину, в Гренобле их рассеивают, не дав им собраться. В сущности, им ставят в упрек «отсутствие патриотизма»; они могут иметь дурные намерения: во всяком случае они разделяют город на два лагеря и этого довольно, чтобы признать их виновность. В Гавре по распоряжению департамента все их общества, признанные «очагами злонамеренности», закрываются. В Бордо, муниципалитет на основании распространившихся тревожных слухов, «что возвращаются духовенство и привилегированное сословие», распорядился закрыть все общества, за исключением якобинских. Таким образом, «при существовании строя, основанного на началах самой широкой свободы, при наличности знаменитой Декларации прав человека, узаконивающей все не воспрещенное законом» и кладущей равенство в основу французской конституции, все, кроме якобинцев, исключались из общего права. Проникнутое нетерпимостью общество, возвело себя на степень осененной благодатью церкви и произнесло приговор над всеми обществами, не получившими от него «крещения правоверности, гражданского вдохновения и дара слова». Право собраний и пропаганды оно присвоило одному себе. Во всех городах государства было строго воспрещено всем рассудительным и умеренным людям организовать избирательные комитеты, иметь свою трибуну, кассу, подписчиков и последователей; класть на весы общественного мнения свои имена и свою солидарность; привлекать к своему прочному центру рассеянную массу благоразумных людей, стремящихся выбраться из революции, не возвращаясь к старому порядку. Пускай они шепчутся при закрытых дверях, это еще можно допустить, но горе им, если они вздумают выйти из своего уединенного убежища, чтобы столковаться, собрать голоса или же поддерживать чью-либо кандидатуру. Вплоть до дня выборов, они на ряду со своими сплоченными, деятельными и шумными противниками, должны оставаться разрозненными, инертными и немыми.
Но, по крайней мере, в день выборов будет ли им предоставлена свобода голосования? Они в этом не уверены, и пример прошлого года заставляет их сильно в этом сомневаться. В апреле месяце 1790 года, в Буа-д’Эзи в Бургундии приехал из Парижа г. Буа-д’Эзи, чтобы участвовать в выборах; его встретили угрозами, открыто заявляя ему, что дворяне и священники не имеют права голосовать, а некоторые говорили ему в глаза, что для устранения его от выборов, следовало бы повесить его. По соседству в Сен-Коломбе был изгнан из избирательного собрания и убит, после длившихся три часа мучений, де-Вито. Почти тоже происходило и в Семгоре: два дворянина были убиты палками и камнями, третий еле спасся, а священнику было нанесено ножом шесть смертельных ран. Это должно было служить предостережением духовенству и дворянам, для них благоразумнее всего отказаться от вотирования; тот же совет смело можно дать хлеботорговцам, землевладельцам и вообще всем подозрительным личностям. Ибо в этот день народ полностью пользуется своими верховными правами и пылкие головы воображают, что им все дозволено, а посему заблаговременно устраняют нежелательных кандидатов и вотирующих не по их указаниям избирателей. В Вильнев-Сен-Жорже, находящемся вблизи Парижа, окружные избиратели хотели было назначить судьей одного адвоката, человека энергичного и строгого, но чернь не пожелала иметь судью, который стал бы наказывать грабителей, и толпа в сорок или пятьдесят человек бродяг собралась под окнами, оглашая воздух криками: «Мы не желаем, чтобы он был избран!» Напрасно настоятель церкви из Кросн, председательствовавший на избирательном Собрании, объяснил им, что присутствующие избиратели являются представителями девяносто общин, т.е. почти ста тысяч населения и что «сорок человек не должны иметь перевеса над ста тысячами». Крики возобновились, и избиратели вынуждены были отказаться от своего кандидата. В По патриоты силою освобождают из заточения одного из своих вождей, разносят по городу список осужденных ими на смерть, нападают на поверщика при баллотировке, осыпая его сперва кулачными, а затем сабельными ударами; осужденные скрываются и «на следующий день никто не явился в избирательное собрание».
Еще того хуже в 1791 году. В июне месяце, как раз, когда открывались предварительные собрания, король бежал в Варенн, революция казалось погибла, на горизонте появились два грозных призрака гражданской и внешней войны, национальная гвардия везде бралась за оружие, повсюду воцарилась паника, которой и поспешили воспользоваться якобинцы. Теперь не до того было, чтобы оспаривать у них голоса; теперь опасно было выдвигаться вперед; среди происходивших повсюду шумных сборищ, легко было сделаться жертвой народной расправы. Роялисты, конституционалисты, консерваторы и умеренные всех оттенков, друзья порядка и закона предпочитают прятаться по своим домам, довольные, если им в этом не препятствуют, но вооруженная чернь и там не оставляет их в покое, постоянно производя набеги на их жилища.
Рассмотрим их положение в течение всего избирательного периода в одном из самых спокойных округов и по этому уголку Франции будем судить обо всех остальных. В Мартанье, маленьком городке, населенном шестью тысячами жителей, до самой поездки в Варенн, царствовало миролюбивое настроение, продолжавшееся с 1789 года. Среди сорока или пятидесяти дворянских семей было много очень либеральных людей. Там точно также, как и в других местах, философское воспитание XVIII века воскресило у дворян, духовенства и буржуазии былую инициативу провинции, и высшие классы охотно занимали бесплатные общественные должности, которые они лишь одни могли успешно исполнять. Председатель округа, мэр, чиновники муниципалитета всегда избирались из среды духовенства, и дворянства; три старших офицера национальной гвардии были кавалеры ордена Святого Людовика, а остальные должности были заняты главными представителями буржуазии. Таким образом, на основании свободного избрания власть была предоставлена высшим слоям общества и новый порядок опирался на законную иерархию положения, воспитания и способностей.
Но основанный шесть месяцев тому назад «дюжиной экзальтированных и пылких голов клуб, под председательством и руководством бывшего повара сэра Ратье», стал возмущать чернь и окрестные деревни. Как только получилось известие о бегстве короля, якобинцы тотчас же «громогласно заявили, что священники и дворяне снабдили его деньгами на дорогу и на устройство контрреволюции». Одно семейство пожертвовало такую-то сумму, другое — такую; все это неоспоримо, ибо они дают точные цифры и притом всегда «соответствующие средствам каждого семейства». Тогда «все главные клубисты, соединившись с худшей частью национальной гвардии», рассыпались небольшими кучками по улицам города; они врывались в жилища всех подозрительных дворян и горожан; отнимали найденное там оружие: «ружья, пистолеты, шпаги, охотничьи ножи, трости с кинжалами»; они рылись повсюду; они заставляли открывать или взламывали письменные столы и шкапы, отыскивая там боевые припасы; обыск распространяется даже на «дамские туалетные принадлежности», из предосторожности «они разламывали палочки губной помады в надежде найти там спрятанные пули и уносили туалетную пудру под предлогом, что это выкрашенный и замаскированный порох». Затем шайки не рассеиваясь разбрелись по окрестностям, по деревням и столь же поспешно стали производить обыски в замках, так что «в один и тот же день все честные граждане, все крупные собственники, все обладатели недвижимости, остались обезоруженными и отданными на произвол первейших разбойников». Обезоружены все те, кого считали аристократами, а аристократами считали тех, кто не одобрял свершавшихся безумий или не посещал клубов и принимал у себя не присягавшее духовенство», а прежде всего «офицеров-дворян национальной гвардии, начиная с командира и кончая генеральным штабом в полном составе». Эти последние без сопротивления отдавали свои шпаги, с долготерпением и патриотизмом повсеместно встречавшимися тогда в их среде, «они добровольно оставались на своих постах, чтобы не расстроить организованную силу армии, так как надеются, что этому недоразумению наступит вскоре конец», а пока ограничиваются жалобой в совет департамента. Но требования совета департамента возвратить оружие остались тщетными, так как клубисты заявили, что не возвратят его, пока король не подпишет конституцию, а пока они не скрывают, что «при первом пушечном выстреле на границе они перережут всех дворян и не присягавших священников поголовно», король присягнул конституции, совет департамента возобновил свое требование относительно возврата оружия, но они не обратили на это ни малейшего внимания. Даже напротив того, солдаты национальной гвардии подкатывают пушки к замкам безоружных дворян и сами располагаются там, выкрикивая всевозможные угрозы и ругательства. Жены дворян не могут выйти на улицу, потому что их начинают преследовать уличные мальчишки, дерзко распевая им в лицо «Ça ira» и вставляя их имя в заключительный припев, сулят им повешение на фонаре. «Никто из них не решается пригласить к себе на ужин дюжину друзей, чтобы не подать повода к волнениям».
Благодаря этому, все бывшие начальники национальной гвардии вынуждены были выйти в отставку, а якобинцы воспользовались удобным случаем. Вопреки закону, они возобновили весь персонал офицеров, а так как мирные граждане не решались принимать участья в выборах, то новый штаб «был составлен из свирепых людей, навербованных преимущественно в низших классах населения». С этой строго подобранной милицией, клуб изгоняет монахинь и не присягавших священников, устраивает набеги на окрестности и доходит до того, что распускает кажущиеся ему подозрительными муниципалитеты. Такие насилия, производимые в городе и деревнях, делали их необитаемыми, вынудив всех землевладельцев и образованных людей искать убежища в Париже. После первого обезоружения туда переселилось семь или восемь семейств: после угроз перерезать всех за ними последовало туда еще двенадцать или пятнадцать семей, а после возобновившихся преследований туда устремились толпами монахини, не присягавшие священники, остальные дворяне и множество мещан, «даже не особенно богатых». Там, по крайней мере, можно затеряться в толпе; можно, живя под вымышленным именем, спастись от произвола плебса, можно вести скромную жизнь простого смертного. В провинции их лишают даже гражданских прав, — куда уж тут добиваться политических? «На предварительных собраниях все честные граждане были устранены при помощи угроз и насилий… Поле сражения осталось за людьми платящими 45 су податей, половина которых была внесена в списки бедняков». — Вот каковы были предрешенные заранее выборы, какой-либо бывший повар одобрял или отвергал кандидатов и на деле, когда главный город департамента отмечал своих депутатов, то оказывалось, что все избиратели были точно также, как и он, якобинцы.
Вот под каким гнетом приходилось вотировать во Франции в течение лета и осени 1791 года. Повсюду обыски, обезоружения, ежедневная опасность вынуждали дворян и духовенство, помещиков и образованных людей, покидая прежнее местожительство, искать убежища в больших городах, эмигрировать или, по крайней мере, стушевываться, всецело уходить в частную жизнь, отказываться от всякой пропаганды, кандидатуры и голосования. Было бы безумием с их стороны показываться в тех местах, где преследования перешли в жакерию: в Бургундии и Монском департаменте, где замки были разграблены, где старые дворяне были замучены до смерти, где г. Гюйльен был зарезан и растерзан на части; в Марселе, где все вожди умеренных партий были в тюрьме, где целого полка швейцарцев в полном вооружении едва было достаточно для приведения в исполнение судебного приговора, где всякого неблагоразумного, осмеливающегося противиться воле якобинцев, заставляли молчать, угрожая закопать его живым в землю; в Тулоне, где якобинцы расстреливали умеренных и войско, где капитана корабля де-Бокэр убили выстрелом из револьвера в спину, где клуб, поддерживаемый нищими матросами, портовыми рабочими и разными «иностранцами без определенных занятий» по праву победы, присвоил себе диктатуру; в Бресте, в Тюлле, в Кагоре, где в тоже самое время избивали на улицах дворян и офицеров. Вполне понятно, что при таких обстоятельствах честные люди избегали выборов словно разбойничьего вертепа. Впрочем, если бы им вздумалось там показаться, с ними сумели бы разделаться. В Эксе заявили заседателю, на которого была возложена обязанность прочесть имена избирателей «что чтение поименного списка может быть доверено лишь чистым устам и что он как аристократ и фанатик не имеет права ни говорить речи, ни вотировать», после чего его без церемонии вытолкали вон. Это лучший способ превратить меньшинство в большинство; однако, есть еще более действительный. В Даксе фельянтинцы, отделившись от якобинцев под именем «Друзей Французской Конституции», потребовали исключения из национальной гвардии «всех иностранцев, не имеющих ни собственности, ни общественного положения», неполноправных граждан, проникших туда противозаконно, узурпирующих право голоса и «ежедневно оскорбляющих мирных жителей». Вследствие этого в день выборов, в церкви, где происходило предварительное собрание два фельянтинца: Лоред, бывший контролер сборов, и Брюнаш-стекольщик, предложили вывести забравшегося туда лакея. Тут на них набросились якобинцы: Лорета бросили на кропильницу и ранили в голову; он пытался вырваться его схватили за волосы, повалили на землю и ранили штыком в руку, затем арестовали; Брюнаш был тоже арестован. Через неделю на вторичное собрание явились одни якобинцы, понятно «все они были избраны» и образовали новый муниципалитет, который не смотря на распоряжения департаментского совета, отказался, выпустит на свободу узников и даже перевел их в тюрьму.
В Монпелье таже история происходить несколько позже, но зато принимает более широкие размеры. Голоса были уж собраны, избирательные урны закрыты и опечатаны, большинство склонялось в сторону умеренных. Тогда клуб якобинцев и общество окованных дубин, называющее себя исполнительной властью, насильно врываются в зал собрания, сжигают урну, стреляют из ружей и убивают двух людей. Чтобы восстановить спокойствие, муниципалитет распорядился отправить по роте национальной гвардии к домам их капитанов; и понятно, что умеренные повиновались, но буйные не пожелали повиноваться. Толпою в две тысячи человек приблизительно они устремляются на улицы, врываются в дома, убивают трех человек на улице и в жилищах и заставляют властей отложить выборные собрания. Сверх того, они требуют обезоружения «аристократов» и не дождавшись исполнения своего требования, убивают прогуливавшегося с своей матерью мастерового, отрубают ему голову, торжественно несут ее по городу и вешают перед его домом. Тогда власти покоряются и издают декрет об обезоружении, а победители в полном составе выходят на улицу и устраивают торжественное шествие, для развлечения или же из предосторожности они мимоходом стреляют в окна подозрительных домов и на удачу убивают еще мужчину и женщину. В течение трех следующих дней шестьсот семейств покидают город, а власти пишут, что все обстоит благополучно, что спокойствие восстановлено. «Теперь, говорят они, выборы проходят при соблюдении полнейшей тишины, потому что все злонамеренные люди устранились от них добровольно, а большинство из них даже выселилось из города». Создали пустоту вокруг избирательных урн и называют это единодушием голосов.
Подобные экзекуции производят очень сильное впечатление и нет надобности часто прибегать к ним; достаточно нескольких, если только они удачны и остаются безнаказанными, а таковыми, собственно, они и бывали. Отныне якобинцы могут ограничиваться одними угрозами, никто не решается более сопротивляться им, так как знают во что обходится открытое сопротивление и, чтобы избегнуть оскорблении и опасностей, не посещают избирательных собраний, предпочитая вперед признать себя побежденными. Но кроме насилий не обладают ли они и другими столь же неотразимыми аргументами? В Париже Марат в трех последовательных номерах печатает имена всех «злодеев и негодяев», которые при посредстве происков стараются попасть в избиратели и он перечисляет имена не дворян и священников, но обыкновенных буржуа, адвокатов, архитекторов, врачей, ювелиров, бумажных торговцев, наборщиков, обойщиков и других ремесленников, снабжая при этом каждое имя обозначением профессии, адресом и одним из следующих наименовании: «Тартюф, бесчестный и безнравственный человек, банкрот, полицейский шпион, лихоимец, плут», не считая других, которые неудобно повторить. Заметьте, что такие обвинительные списки легко могут стать проскрипционными и что по всем городам и селениям Франции местные клубы печатают и распространяют такие же листки и теперь судите равна ли борьба между якобинцами и их противниками.
Что же касается сельских избирателей у них имеются для них веские убеждения, в особенности, в разоренных или угрожаемых жакерией кантонах, например, в Коррезе, где «волнения и разгромы охватили весь департамент и где только и говорят о том, чтобы перевешать всех экзекуторов, осмеливающих составлять какие-либо акты». Во все время выборов клуб не прекращал своей деятельности «и продолжал приглашать избирателей на свои заседания», Каждый раз «там заводилась речь о снесении арендной платы и бесплатном пользовании прудами, а великие ораторы приходили к заключению, что платить вовсе не следует». Состоявшее из сельских жителей большинство избирателей, оказалось очень чувствительным к такому рода красноречию: все его кандидаты должны были высказаться против арендной платы и из среды исповедующих этот взгляд были избраны депутаты и общественный обвинитель, другими словами, якобинцы, чтобы быть избранными обещали алчным арендаторам доходы и собственность помещиков. Уже в тех средствах при помощи которых они в 1791 году захватили треть мест, виден зародыш средств, которыми они в 1792 году воспользуются, чтобы овладеть всеми местами, а это первая избирательная компания знакомит нас не только с их правилами и политикой, но также с поведением, образованием, умом и характером людей, которым они доверяют нейтральную и местную власть.
Глава II. Состав законодательного собрания
Общественное положение депутатов. Их неопытность, их неспособность, их предрассудки. Степень их развития и культурности. Впечатление, производимое их заседаниями. Сцены и торжества в клубе. Соучастие зрителей. Партии. Правая сторона. Центр. Левая сторона. Взгляды и чувства жирондистов. Их союзники из крайней левой. Их образ действий. Распадение клуба фельянтинцев. Воздействие судов на учредительное собрание. Сборища вне стен его. Парламентские приемы. Злоупотребление крайностью. Вотирование принципов. Поименная перекличка. Робость центра. Воздержание оппозиции. Решительный перевес большинства.
Если это правда, что представителями нации должны быть её лучшие люди, то Франция во время революции имела очень странных представителей. С каждым новым собранием заметно понижался уровень, а между учредительным собранием и законодательным лежит целая пропасть. Настоящие актеры удалились со сцены, как только поняли свои роли, более того они добровольно исключили сами себя из театра, а их места заняли подставные актеры. «В предыдущем собрании, пишет шведский посланник, были выдающиеся таланты, Крупные состояния, громкие имена, все это вместе взятое импонировало народу, хотя он и относится враждебно ко всякому личному отличию. Настоящее же собрание представляет из себя не более как совет адвокатов всех французских городов и деревень».
Действительно на 745 депутатов приходилось «400 адвокатов, большею частью вышедших из последних рядов приказного сословия», десятка два конституционных священников, «столько же малоизвестных поэтов и литераторов, все это преимущественно народ необеспеченный», громадное большинство было в возрасте не свыше тридцати лет, шестьдесят человек были моложе двадцати шести лет и «все они были воспитаны на клубах и народных собраниях». И ни одного дворянина или прелата старого режима, ни одного землевладельца, ни одного значительного чиновника, ни одного известного человека, ни одного опытного дипломата, финансиста, администратора или военного. Там было всего три офицера в генеральских чинах, из которых один всего три месяца тому назад был произведен в генералы, а два остальных были совершенно неизвестные личности.
Начальником дипломатического корпуса был у них Бриссо, странствующий журналист; исколесив Англию и Северо-Американские Соединенные Штаты, он считает себя сведущим в делах обоих полушарий; он, в сущности, принадлежит к числу ловких и самоуверенных болтунов, которые из глубины своих мансард управляют кабинетами и пересоздают Европу: им кажется, что такие вещи также легко делать как составлять в уме фразы; однажды, чтобы вовлечь англичан в французский союз Бриссо предложил отдать им два охранных пункта: Дюнкирхен и Калэ, а в другой раз он пожелал «предпринять поход в Испанию» и в тоже время отправить флот для покорения Мексики.
В комитете финансов первое место занимает Камбон, негоциант из Монпелье, хороший счетчик, который в будущем до последних размеров упростит отчеты и создаст великую долговую книгу, т.е. всеобщее банкротство, к которому он постепенно ведет дело, вовлекая собрание в разорительную и страшную войну, долженствующую продлиться двадцать три года, по его словам, «денег наберется больше, чем надо». А на деле весь запас ассигнаций израсходовал, податей никто не платят, только и держатся вновь выпускаемыми бумагами, ассигнация падают до 40%, дефицит на 1792 год равняется 400 миллионам, но революционный финансист рассчитывает на конфискации, которые он применяет во Франции и которые собирается ввести в Бельгии, вот и весь его план, систематическое воровство совершаемое в больших размерах, внутри государства и за границей.
Среди законодателей и творцов конституции на первом плане стоит Кондорсэ, холодный фанатик, систематический нивелировщик, убежденный, что математические формулы применимы к социальным наукам, вскормленный отвлеченностями, ослепленный своими теориями, это один из самых химерических, ложно направленных умов. Никогда еще до сих пор не встречался человек, который при такой начитанности, так мало знал бы людей, и никогда сторонник научной точности не извращал так смысла фактов. Он за два дня до 20 июня среди самого грубого брожения восторгался «спокойствием» и благоразумием толпы. «При виде того благоразумия, с каким народ отдает себе отчет в происходящих событиях, можно подумать, что он ежедневно посвящает несколько часов изучению анализа». Он же через два дня после 20 июня превозносил красный колпак, которым увенчали Людовика XVI. «Эта корона стоит всякой другой, и Марк Аврелий не отказался бы от неё».
Таковы были понятия и практический смысл вожаков: по ним можно судить и о всем стаде: оно состояло из новичков, прибывших из провинции с готовым запасом газетных принципов и предрассудков. Удаленные от центра и не имевшие возможности следить за общественными делами и их взаимодействием они на два года отстали от своих товарищей из учредительного собрания.
«Большинство — пишет Малуэт — не высказываясь против монархии, были враждебно настроены по отношению двора, аристократии, духовенства, мечтали о заговорах и воображали, что нет другой тактики для самозащиты, как нападение. Были между ними таланты, но без опытности, последней у них было даже меньше, чем у нас. Наши депутаты патриоты, по большей части, сознавали свои ошибки, эти же никогда и всегда были готовы повторить их». Кроме того, у них были уж сложившиеся политические воззрения, ибо почти все они были креатурами нового режима. Среди них находилось 264 управляющих департаментами, 109 управляющих округами, 125 мировых судей и общественных обвинителей, 68 мэров и муниципальных чиновников, кроме того, двадцать офицеров национальной гвардии, конституционные епископы и священники, всего 556 выборных должностных лиц, которые в течение двадцати месяцев исполняли свои обязанности под руководством своих избирателей; мы видели каким образом и при каких условиях делали они это, с какой любезностью и уступчивостью, с какой почтительностью относились они к шумной толпе, какую кротость проявляли во время мятежей и каким потоком сентиментальных фраз и общих мест засыпали общественное мнение Избранные депутатами, благодаря поддержке или снисходительности клубов, они привезли с собою в Париж их политику и их риторику, благодаря этому получалось сборище ограниченных, исковерканных, взбалмошных, напыщенных и слабых умов; на каждом заседании десятка два говорильных мельниц начинали попусту вертеться, и первое в государстве учреждение превращалось в фабрику глупостей, школу экстравагантностей и арену краснобайства.
Возможно ли, чтобы серьезные люди до конца выслушивали такой нелепый вздор? «Я земледелец, говорил один из депутатов, и я осмеливаюсь теперь восхвалять старинное благородство моей сохи. Несколько волов были настоящими и неподкупными деревенскими нотариусами, выдавшими моим добрым предкам удостоверение в её достоинстве, а её подлинность лучше запечатлелась в земле, чем на хрупком пергаменте и останется там, недоступная никаким революционным переворотам».
Допустимо ли, чтобы докладчик закона, осуждающего сорок тысяч священников на изгнание или заточение, в виде аргументов приводил такую высокопарную чепуху как нижеследующая: «Я видел в деревнях светочи Гименея, бросающие окрест тусклый и мрачный свет и часто превращающиеся в факелы фурий; я видел омерзительный скелет предрассудка, помещающийся на брачном ложе и разделяющий супругов, останавливая естественные и могучие стремления. О, Рим, доволен ли ты? Или ты подобно Сатурну требуешь ежедневно новых жертв? Прочь, творцы раздора; почва свободы устала носить вас. Не желаете ли вы подышать воздухом Авентинского холма? Корабль отечества уже готов к отплытию, я слышу на берегу нетерпеливые крики матросов, ветер свободы раздует паруса, и вы, как Телемак, отправитесь по морям отыскивать вашего отца, но вам нечего опасаться сицилийских подводных камней, ни соблазнов Эвхариды». Претенциозные кривляния, риторические метафоры, брань беснующегося — вот воцарившийся здесь тон. Даже речи лучших ораторов страдают тем же недостатком, во всех них замечается чрезмерное возбуждение мозга, пристрастие к громким словам, ходульность и неумение видеть вещи в их настоящем виде и называть их собственными именами. Даже талантливые люди, как Изнар, Гаде и Вервье, становятся рабами трескучей и пустой фразы точно ненагруженная барка, уносимая против воли слишком большим парусом. Их воспламеняют воспоминания, воспринятого на школьной скамье, и современный мир им виден лишь сквозь дымку древнеримской жизни. Франсэ из Нанта негодует на папу, «что он держит в рабстве потомков Катона и Сцеволы» — Изнар предлагает последовать примеру римского сената, затеявшего для усмирения внутренних смут внешнюю войну; и действительно между древним Римом и Францией 1792 года сходство было поразительное. Ру требует, чтобы император удовлетворил их требования до 1 марта. «В подобном случае римский народ определил бы день отсрочки, так почему французскому народу не поступить точно также?» Вокруг колеблющихся мелких германских княжеств следует очертить «круг Попилия». Когда ощущался недостаток в деньгах на устройство лагерей вокруг Парижа и больших городов, Ла-Сурс предложил продать национальные леса и очень был удивлен, встретив противодействие. «Солдаты Цезаря, говорил он, считая священным один старый Гальский лес, не решались коснуться его топором, так неужто же мы станем проявлять такое же суеверное уважение к нашим лесам».
Прибавьте ко всем этим вынесенным из школы премудростям философский осадок, которым великий и популярный софист того времени наполнил умы. Ларивьер читает с трибуны страницу из «Общественного Договора», в которой Руссо заявляет, что властелин всегда в праве изгнать членов «антиобщественной религии и карать смертью тех, кто, признав публично догматы гражданской религии, стал бы вести себя, точно не веря в них». После чего другой болтливый попугай, Филасье, воскликнул: «Я предлагаю обсудить предложение Жан-Жака-Руссо и требую, чтобы его поставили на баллотировку». Точно также предлагают разрешить молодым девушкам ранние браки без согласия их родителей, ссылаясь на «Новую Элоизу», «что девушка тринадцати-четырнадцати лет мечтает о естественном союзе, испытывает борьбу между страстью и долгом, и если выходить из неё победительницей, то становится мученицей; что трудно противостоять природе и случается, что молодые особы предпочитают муки стыда, вызванные падением, — страданиям восьмилетней борьбы». Вводят развод, чтобы сохранить в супружестве то счастливое спокойствие, которое придает чувствам силу и крепость. «Отныне брак станет не тяжелой цепью, а приятной уплатой гражданами родине своего долга… Развод — бог покровитель Гименея». Двусмысленности и мифологические дымки на фоне классического педантизма, отрывочные и туманные сведения среднего образования, отсутствие точных и серьезных познаний, пустые и бессодержательные банальности краснобая, заполняющего длинные тирады своих речей поговорками, взятыми из революционного словаря, словом, поверхностная культура и переливание из пустого в порожнее, вот вульгарный и опасный материал, из которого созидается интеллекта, новых законодателей.
По всему этому можно судить об их заседаниях «более нелепых, а главное более страстных, чем заседания Учредительного Собрания», но сохраняющих некоторые черты последних, только в несколько более грубом виде. Аргументации их слабее, брань резче, а догматизм невоздержаннее. Резкость в них переродилась в дерзость, предрассудки в фанатизм, а близорукость в слепоту. Беспорядок на них доходить до сумятицы, а шум превращается в сущее столпотворение. Представьте себе, рассказывает очевидец и постоянный посетитель собраний: «Школьный зал, где сотни учеников ссорятся и ежеминутно готовы схватить друг друга за волосы. Их более, чем небрежная одежда, их резкие движения, их непосредственные переходы от крика к шиканью… представляют такое странное зрелище, которого нельзя передать словами». Там есть все на лицо, чтобы придать зале заседаний видь клуба, самого низкого сорта. Там заранее вырабатываются приемы будущей революционной инквизиции; выслушиваются шутовские обвинения: производятся полицейские допросы; разбираются сплетни привратников и пересуды служанок; там посвящают целое ночное заседание, чтобы послушать признания пьяницы. Заносят в протокол, не выражая при этом ни малейшего неодобрения, прошение некоего Боре, жителя Пон-Сюр-Ион, который в собственноручно подписанном письме предлагает сто франков и свою руку для лишения жизни тирана. Всякий скандал или дикую выходку частных лиц, прибегающих к покровительству общественной власти, они встречают криками «браво», громкими аплодисментами и поздравлениями председателя. Благодарят и усаживают на скамью Собрания Анахарсиса Клоотца, «сумасшедшего Маскариля», который призывал к всемирной войне и разносил карты Европы, заранее разделенной на департаменты, начиная с Савойи, Бельгии, Голландии «и так далее, вплоть до самого Ледовитого Оксана». Осыпают похвалами и усаживают вместе с его женою на скамьи Собрания викарного священника из Сент-Маргерит, представившего свою «новую семью» и метавшего громы и молнии против безбрачия духовенства. Разрешают толпам мужчин и женщин проходить через залу, громко выкрикивая политические лозунги. Допускают у перил разные бесстыдные, ребяческие и мятежные сцены. Сегодня, например, являются «парижские гражданки», изъявляя желание заняться военными упражнениями под начальством «бывших французских гвардейцев», на следующий день приходят дети, «с трогательною наивностью» выражая свой патриотизм и высказывая сожаление, «что их слабые ножки не позволяют им идти или вернее мчаться на встречу тиранам»; затем в залу входят каторжники из Шатовье, сопровождаемые ревущей толпой; в другой раз является тысяча парижских артиллеристов с барабанным боем; а то постоянно сменяют друг друга разные провинциальные депутации, делегаты от предместий и клубов, оглушая всех своими дикими декламациями, своими повелительными предостережениями, своими требованиями и угрозами.
Под этот оглушительный шум на трибунах не смолкает обычный говор, на каждом заседании народные представители должны выслушивать брань и укоры зрителей, галерка судит публику, находящуюся внизу, вмешивается в прения, заставляет смолкать ораторов, осыпает оскорблениями председателя, приказывает докладчику сойти с трибуны. И она не один раз и не посредством сдержанного ропота, а двадцать, тридцать чуть ли не пятьдесят раз в час прерывает заседание, наполняя зал шумом, криком, топаньем, осыпая депутатов личными оскорблениями. После сотни тщетных увещаний, после бесчисленных призывов к порядку, «встреченных шиканьем», после тысячи предписаний, «сделанных, переделанных, возобновляемых, напоминаемых» словно затем, чтобы лучше подчеркнуть бессилие закона, властей и самого Собрания, вмешательство зрителей лишь возрастает. В течении десяти месяцев раздавались крики: «Долой гражданский список! Долой министров! Долой дворовых собак! Молчать рабы!». 26 июля даже Бриссо покажется расходившейся толпе слишком сдержанным, и ему швырнут в лицо две сливы. «Три или четыре сотни личностей без имени, занятий и средств к существованию… превратились в помощников, посредников, повелителей законодательного собрания» и их платная ярость отнимала у Собрания жалкие остатки имеющегося у него здравого смысла.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
