
Бесплатный фрагмент - Происхождение современной Франции
Том 2
Ипполит Тэн, «Происхождение современной Франции», том 2. Анархия
Предисловие
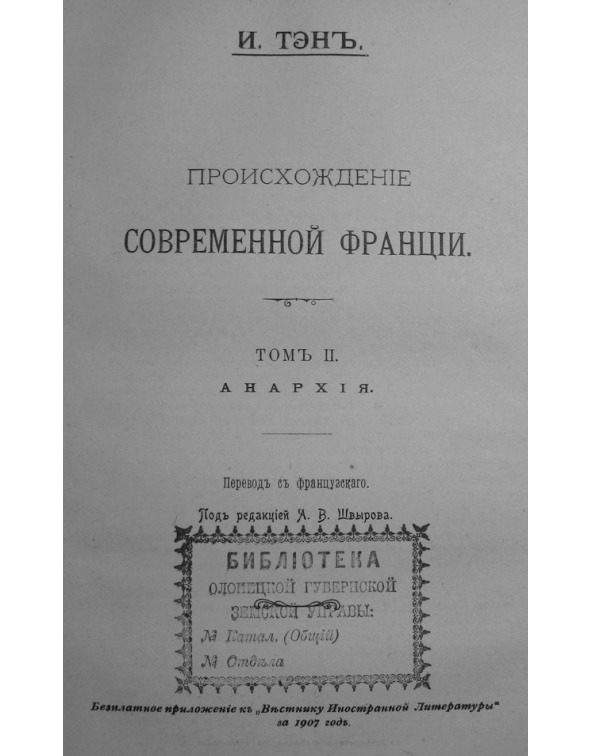
Эта вторая часть Происхождения Современной Франции будет состоять из двух томов. Народные мятежи и законы, издаваемые учредительным собранием, приводят к окончательному уничтожению всякого правительства во Франции, — таково содержание этого тома.
На почве одного из крайних учении образуется партия; она захватывает власть и применяет ее, согласно своему учению, — таков будет предмет следующего тома.
Необходим был бы еще третий том, посвященный критическому рассмотрению источников, но мне не хватает места: я укажу лишь на правило, которое я соблюдал. Наиболее достоверным свидетельством является всегда показание свидетеля-очевидца, в особенности, когда этот очевидец человек достойный уважения, внимательный и умственно развитой, когда он записывает свое показание немедленно же на месте происшествия и под диктовку самих событий, когда ясно, что его единственною целью является сохранение или доставление сведения, когда его свидетельство не политическое произведение, задуманное для поддержания какой-либо партии или риторическое упражнение, подготовленное для публики, но судебное показание, секретное донесение, конфиденциальное сообщение, частное письмо или заметка, сделанная для памяти.
Чем ближе подходит документ к этому типу, тем больше он заслуживает доверия и тем доброкачественнее он, как материал. Я много нашел таких доброкачественных документов в национальном архиве, главным образом в рукописной переписке министров, интендантов, делегатов, лиц судебного ведомства и других чиновников, военных начальствующих лиц, армейских и жандармских офицеров, комиссаров собрания и королевских комиссаров, департаментских окружных и муниципальных властей, частных лиц, обращавшихся к королю, к национальному собранию и к министрам. Среди них люди всех сословий, всех положений, всех степеней образования и всех партий. Их сотни и тысячи, рассеянных по всей территории. Пишут они каждый особо, отдельно от других, не сговариваясь и даже не зная друг друга. Никто не поставлен так хорошо, как они для собирания и передачи точных сведений. Никто из них по стремится к литературному успеху; они даже и не воображают, что когда-либо их произведения могут попасть в печать. Они пишут, не откладывая, под непосредственным впечатлением местных событий. Это все показания первоклассные, из первых рук, с помощью которых надо проверять все остальные.
Для большей верности я, насколько возможно чаще, списывал их собственные слова. Таким образом, читатель, поставленный лицом к лицу с подлинным текстом, может сам обсудить этот текст и составить себе собственное мнение: ему будут представлены те же самые документы, как и мне, и он, если захочет, может вывести из них иное заключение, чем вывел я. Что же касается намеков, если он найдет их, это будет значить, что он сам вложил их туда, а если он будет применять свои выводы к чему-либо, то под собственною ответственностью. По моему мнению, у прошлого свои собственный облик и портрет, мною написанный, изображает лишь прежнюю Францию. Я рисовал его, не озабочиваясь нашими современными спорами, я писал, как будто предметом моим были революции во Флоренции или в Афинах. Это история и ничего больше, и, говоря без утайки, я слишком высоко ставил свое ремесло историка, чтобы рядом с ним, в тайне заниматься другим.
Декабрь 1877.
Книга первая. Самозародившаяся анархия
Глава I. Начало анархии
Первая причина, голодовки. Плохой урожай. Зима 1788/89 годов. Дороговизна хлеба и его плохое качество. В провинции. В Париже. Вторая причина, надежда. Раздвоение и ослабление административной власти. Расследования местных собраний. Народ начинает сознавать свое положение. Созыв Генеральных Штатов. Надежда родилась, совпадение первых собраний с первыми беспорядками. Провинция в первую половину 1789 года. Последствия голода. Вмешательство бродяг и разбойников. Последствия политических новшеств. Первая жакерия в Провансе. Слабость, репрессии или отсутствие её.
Ночью с 14 на 15 июля 1789 года герцог Ларошфуко-Лианкур приказал разбудить Людовика XVI, чтобы объявить ему о взятии Бастилии. «Что же это, бунт?» спросил король. — «Государь, ответил герцог, это революция». Событие было еще серьезнее. Не только власть выпала из рук короля, но она не попала и в руки Собрания; власть очутилась на земле, в руках у разнузданного народа, у буйной и чрезмерно возбужденной толпы, у сборищ, хватавших ее, как брошенное на улице оружие. В действительности, правительства уже больше не было; разваливалось целиком искусственное здание человеческого общества; все возвращалось к состоянию первобытной природы. Это была не революция, это было распадение (dissolution).
Две причины возбуждают и поддерживают всеобщий мятеж. Первая, это голодовка, непрекращающаяся в течении десяти лет; разрастаясь от насилий ею же самою вызванных, она доведет до безумия народные страсти и революцию заставит идти неверными, колеблющимися шагами.
Как полноводная река течет в уровень с берегами, достаточно малейшей прибыли воды, чтобы река разлилась. Такова в XVIII столетии народная нужда. Человек из простонародья, с трудом перебивающийся при дешевом хлебе, ощущает приближение смерти, когда хлеб дорожает. Под впечатлением этого ужаса возмущается животный инстинкт и всеобщее повиновение, обеспечивающее всеобщий мир, ставится в зависимость от каждого градуса увеличения или уменьшения суши или сырости, холода и тепла. В 1788 году, очень засушливом, урожай был плох, а вдобавок, накануне жатвы выпал страшный град в Парижском районе, от Нормандии до Шампаньи, опустошил шестьдесят лье самой плодородной земли и причинил убытков на 100 миллионов. Наступила зима, оказавшаяся самою жестокой за все время с 1709 году; Сена замерзла от Парижа до Гавра и термометр показывал 18,75° холода. [1] В Провансе погибла третья часть оливковых деревьев, а сохранившиеся так сильно пострадали, что их считали неспособными приносить плоды в течение двух лет. Подобное же несчастие случилось в Лангедоке, в Виварэ и в Севеннах; погибли целые каштановые рощи, погибли пшеничные посевы и горные пастбища; в долине разлив Роны продолжался два месяца. С весны 1789 года голод был уже повсюду и с каждым месяцем он рос, как прибывающая вода. Напрасно приказывало правительство фермерам, землевладельцам и купцам возить хлеб на рынки, напрасно удваивало оно ввозную премию, изобретало разные средства помочь делу, отягощало себя расходами, тратило 40 миллионов на поставку зерна для Франции. Напрасно частные лица, принцы, вельможи, епископы, монастыри, духовные общины усиленно раздавали милостыню, причем архиепископ Парижский задолжал 40 тысяч ливров, один богач роздал 4 тысячи ливров на другой день после града, один Бернардинский монастырь шесть недель кормил 1200 бедняков. [2] Их было слишком много; такой великой нужде не могли помочь ни общественная предусмотрительность, ни частная благотворительность.
В Нормандии, где последний торговый договор разорил фабрики полотен и сорок тысяч рабочих остались без работы, во многих приходах нищенствует четвертая часть населения. Здесь — «почти все обыватели, не исключая арендаторов и земледельцев, питаются ячменным хлебом и не пьют ничего кроме воды», там — «много несчастных едят овсяной хлеб, и другие питаются разведенными водой отрубями, от чего уже умерло много детей». «Прежде всего, пишет руанский парламент, необходимо удовлетворить нужду умирающего народа… Государь, большая часть ваших подданных не в силах платить за хлеб установившуюся цену и какой хлеб дают тем, которые его покупают!» — Артур Юнг, путешествующий в это время по Франции, слышит одни лишь толки о дороговизне хлеба и народном обеднении. В Труа хлеб продается по 4 су за фунт, то есть по 8 су, по теперешней ценности денег, безработные ремесленники переполняют благотворительные мастерские, где зарабатывают всего по 12 су в день. — В Лотарингии, по свидетельству всех очевидцев, «народ доведен почти до голодной смерти». В Париже, число бедняков почти утроилось; их тридцать тысяч в Сен-Антуанском предместье. В окрестностях Парижа зерна нет или оно плохого качества. В начале июля, в Монтеро рынок пустует. «Булочники не могли бы печь хлеба», если бы полицейские власти не повысили цену до пяти су за фунт; рожь и ячмень, которые удалось управляющему провинцией доставить, оказались самого плохого качества, подгнившими и могут вызвать опасные болезни, однако большая часть неимущих потребителей тяжелой нуждой вынуждена питаться этим испорченным зерном». В Вильнев-ле-Руа, как сообщает мэр, «рожь двух последних присылов так черна и щупла, что ее нельзя пускать в дело без примеси пшеницы». В Санси у ржи «такой затхлый вкус», что покупатели бросают в лицо суб-делегату поставленный им отвратительный хлеб. В Шеврезе ячмень пророс и скверно пахнет; «несчастные», говорить один из служащих, «должны очень страдать от голода, чтобы брать его». Чтобы печь из него хлеб, приходится по несколько раз очищать его». И тем не менее, этот хлеб, какой он ни есть, становится предметом бешеных вожделений: «его приходится раздавать не иначе, как через узкие окошки (guichets)» и, все-таки, лица, получившие свою порцию «часто подвергаются нападеньям и их грабят другие, более сильные». В Нанжиле судебным определеньем «каждому отдельному лицу воспрещено покупать на одном и том же рынке более двух мер». Словом, припасов так мало, что не знают, чем кормить солдат; министр двумя предписаниями, отправленными одно вслед за другим, приказывает скосить двадцать тысяч ржи до начала уборки. [3] И в мирное время Париж похож на голодающий город, в котором обитателям после долгой осады, пища раздается рационами; в декабре 1870 году голод был не больше и припасы были не хуже, чем в июле 1789 года.
«Чем больше приближались к 14 июля, сообщает очевидец, [4] тем больше возрастала голодовка. У каждой булочной теснилась толпа, которой чрезвычайно скупо раздавали хлеб… Большей частью это был хлеб черноватый, землистый, горьковатый; он вызывал воспаления горла и боли в желудке. В Военной Школе и в других складах я видел муку отвратительного качества; я видел груды муки желтого цвета, скверно пахнувшей, образовавшей такую твердую массу, что части её приходилось отрубать топором. Мне лично надоели затруднения при добывании этого несчастного хлеба, а тот, который подавали в столовых, вызывал у меня отвращение, и я совершенно от казался от питания хлебом. Но по вечерам я отправлялся в кафе Caveau, где по счастью, мне предупредительно оставляли по два маленьких хлебца, которые называются flûtes (флейты). Целую неделю я никакого другого хлеба не ел». — Но это средство доступно только богатым, что же касается бедняков, то для получения собачьего хлеба, они должны были ожидать очереди по десять часов. У булочных ожидающие очереди дерутся, «вырывают друг у друга куски». Никто больше не работает, «мастерские опустели». Иногда, прождав целый день, ремесленник возвращается домой с пустыми руками, если же он и приносит четырехфунтовый хлеб, то он обходится ему в 3 франка 12 су, из которых 12 су, это — цена хлеба, а 3 франка — стоимость потерянного дня. В длинном хвосте, извивающемся у дверей булочной, в головах у ничем не занятых людей бродят черные мысли: если нынче ночью у булочников не будет муки, чтобы печь хлеб, мы завтра останемся без еды! Это ужасная мысль и, чтобы бороться с ней правительству, нужна вся его сила, так как только сила и сила вооруженная, находящаяся на месте, видимая, грозная может поддержать порядок во время голода. При Людовике XIV и Людовике XV еще больше голодали и нуждались, но быстро усмиряемые бунты вызывали лишь частные и преходящие беспорядки. Одних бунтовщиков вешали, других посылали на галеры и, убедившись в своем бессилии, крестьяне и рабочие тотчас же возвращались, — кто в свою мастерскую, кто — к своей сохе. Когда стена слишком высока, никто и не подумает лезть на нее. — Но, вот, стена дает трещину и все её защитники — духовенство, дворянство, третье сословие, ученые, политики, и даже само правительство проделывают в ней широкую брешь. В первые обездоленные усматривают выход, бросаются в него, сначала отдельными кучками, потом всей массой и возмущение становится всеобщим, как прежде всеобщим было подчинение.
Дело в том, что через эту брешь, как луч света, проникает надежда, доходя понемногу до глубоких подземелий. Целые полвека она росла и её лучи, освещавшие сначала высшие классы в красивых покоях бельэтажа, потом буржуазию в первом этаже и на антресолях, проникли уже два года тому назад в подвалы, где работает народ и даже в глубокие подземелья и в темные закоулки, где скрываются от судебных преследований люди, стоящие вне закона, бродяги и преступники, отвратительные и кишащие грязью подонки.
К первым двум провинциальным собраниям, учреждённым Неккером в 1778 и 1779 годах, Ломени де Бриенн в 1787 году только что добавил еще девятнадцать; каждому из них подчинены собрания окружные, а тем, в свою очередь, собрания приходские и весь административный механизм переделан. Новые собрания распределяют подати и наблюдают за их поступлением, решают вопросы о всех общественных работах и заведуют ими, разрешают в качестве последней инстанции большую часть спорных дел. Интендант, суб-делегат, выборный утрачивают, таким образом, три четверти своего значения. Повсюду между этими двумя властями, с точно разграниченными областями, происходят столкновения; приказание становится нерешительным и повиновение ослабляется. Подданный не ощущает уже больше у себя на теле подавляющую тяжесть единой руки, которая, при невозможности какого-либо вмешательства или сопротивления, пригибала его, подталкивала и заставляла идти.
И в то же время, в каждом приходском, окружном и даже провинциальном собрании, рядом с вельможами и епископами сидят люди из простонародья, земледельцы и часто простые фермеры. Они слышат и запоминают огромные цифры податей, которые уплачиваются почти исключительно ими одними, цифры подушной подати, добавочной к подушной, поголовно, подорожной и, разумеется, по возвращении домой они беседуют об этом со своими соседями.
Все эти цифры появляются в печати; по воскресеньям после обедни и по вечерам в местном трактире деревенский прокурор толкует о них со своими клиентами, ремесленниками и крестьянами. И такие совещания не только разрешаются, их еще поощряют свыше. С первых же дней 1788 года провинциальные собрания синдикам и обывателям приходов предлагают производить местные расследования; желательно узнать их нужды, какая часть дохода идет на уплату каждого налога, сколько платит и что терпит земледелец, сколько в приходе привилегированных лиц, какое у них состояние, живут ли они в пределах прихода, на какую сумму изъяты они от уплаты налогов, и в ответах, редактирующий их, называет каждого привилегированного поименно, критикует его образ жизни, указывает его богатства, вычисляет убытки, причиняемые деревне его правом на изъятие от уплаты налогов, бранить податную систему и чиновников. Уходя с этих собраний, крестьянин подолгу обдумывает все, что он слышал. Он видит свои беды по каждую в отдельности, как представлялись они ему до тех пор, а все сразу, вместе с громадою бед, от которых страдают все другие крестьяне. Кроме того, он начинает разбираться в причинах своей нужды. Король добр, но в таком случае почему же его чиновники берут с нас деньги? Такой-то и такой-то, каноники и бары — не злые люди, но почему же заставляют они нас платить за себя? Представьте себе рабочую лошадь, которой внезапный проблеск разума показал бы весь лошадиный род, противопоставленным роду человеческому, и попытайтесь вообразить те новые мысли, которые пришли бы ей в голову во-первых, о кучерах и форейторах, взнуздывающих и секущих ее кнутом, а затем, о приветливых путешественниках и чувствительных дамах, жалеющих ее, но добавляющих к тяжести экипажа тяжесть своих вещей и свою собственную.
Подобным же образом, у крестьянина, сквозь смутные мечтания, медленно, мало-помалу пробивается новое представление, представление об угнетаемой массе, частицу которой составляет, и он сам, об огромном стаде, рассеянном повсюду, зашедшем далеко за пределы видимого горизонта и повсюду же оскорбляемом, обдираемом, вынужденном голодать. В конце 1788 года, в донесениях командующих войсками начинаешь различать повсеместные глухие раскаты грядущего гнева. Как будто изменяется характер людей, они становятся недоверчивыми и непослушными. И как раз, в это-то время, правительство, выпуская вожжи из рук, призывает их к управлению самими собой. В ноябре 1787 года король объявил, что он созовет Генеральные Штаты.
5 июля 1788 года он требует докладов по этому предмету от всех учреждений и лиц, считаемых компетентными. 8 августа назначается срок созыва. 5 октября он созывает нотаблей, чтобы обсудить с ними этот вопрос. 27 декабря он дарует третьему сословию право двойного представительства, потому что «задача третьего сословия сопряжена с благородными побуждениями и что за него всегда будет стоять общественное мнение». В тот же день он вводит в состав избирательных собраний большинство священников, потому что «эти добрые и полезные пастыри постоянно и непосредственно заняты благотворительною помощью народной бедноте», откуда следует, что они «близко знают народные нужды и беды». 24 января 1789 года он устанавливает порядок рассылки и форму повесток о созыве, а начиная с 7 февраля, одна за другой отправляются эти повестки о созыве на места. Через неделю все приходские собрания начинают составление списка своих ходатайств и раздражаются подробностями и перечислением всех нужд, которые им приходится письменно излагать. Все эти призывы и все эти акты — это удары, отзывающиеся на народном воображении. «Его величество, гласит регламент, пожелал, чтобы во всех концах его королевства и в самых малоизвестных поселениях каждый был бы уверен, что его желания и жалобы дойдут до короля». Итак, все это правда, все это верно, их приглашают, говорить, их призывают, с ними советуются, им хотят помочь; отныне их бедствия уменьшатся, начнутся лучшие времена. Больше они ничего не знают. Несколько месяцев спустя Артуру Юнгу крестьянка только и могла ответить, что «ей говорили, будто кто-кто из богачей хотел что-то сделать для её блага», но кто эти богачи, что и как они хотят сделать она не знала, это было слишком сложно, слишком недоступно её застывшему мозгу. Одна мысль там господствует: надежда на внезапной облегчение, уверенность в своем праве на это и решение всеми средствами оказать ему содействие, а отсюда — напряженное ожидание, подготовляющийся порыв, напряжение воли, ожидающей лишь случая, чтобы развернуться и начать действовать подобию неотразимой стреле, по направлению к неизвестной цели, которая сразу обнаружится. И эту цель внезапно указывает голод: необходимо, чтобы был хлеб на рынке, необходимо, чтобы арендаторы и землевладельцы его привозили; нельзя позволять скупщикам, правительству или частным лицам, все равно, переправлять его в другие места; необходимо, чтобы он был дешев, чтобы его продавали по таксе, чтобы булочник отпускал его по два су за фунт; необходимо, чтобы зерно, мука, вино, соль и предметы первой необходимости не облагались пошлиной; необходимо, чтобы не было никаких налогов, ни барщинных, ни церковных, ни королевских и муниципальных. И под влиянием этой идеи повсеместно, в марте, апреле, мае начинается бунт. Современники «не знают, что и думать о таком несчастий, они не могут понять откуда взялось это бесчисленное множество злодеев, которые без видимых руководителей, как будто сговорившись, предаются повсюду одним и тем же эксцессам, как раз в ту минуту, когда должны начаться заседания Генеральных Штатов». В том-то и дело, что при прежнем режиме пожар пылал при закрытых дверях; внезапно отворились двери, воздух проник внутрь и тотчас же пламя вырвалось наружу.
Сначала это только отдельные перемежающиеся вспышки пламени; их заглушают или они гаснут сами; но тотчас же, в том же месте или рядом эти вспышки возобновляются и их повторение, также как их многочисленность, указывают на огромное количество, массу и степень нагревания воспламеняющейся материи, готовой ко взрыву. За четыре месяца, предшествующие взятию Бастилии, можно насчитать более трехсот вспышек бунта во Франции. Ежемесячно, еженедельно повторяются они в Пуату, в Бретани, в Турени, в Орлеане, в Нормандии, в Иль-де Франсе, в Пикардии, в Шампаньи, в Эльзасе, в Бургони, в Нивернэ, в Оверне, в Лангедоке, в Провансе. 28 мая руанский парламент объявляет о случаях разграбления зерна, о «жестоких, кровавых стычках, в которых с обеих сторон погибло много людей», во всей провинции, в Кане, Сен-Ло, Мортене, Гранвилле, Эвре, Бернэ, Понт-Одемфре, Эльбефе, Лувье и в других местах, — 29 апреля, барон де-Безанваль, командующий войсками в центральных провинциях, сообщает: «Я повторяю г. Неккеру описание ужасного положения Турени и Орлеана; в каждом донесении из обеих этих провинций сообщаются подробности трех или четырех бунтов, с большим трудом, подавляемых войсками и полицией». И во всем королевстве картина одна и та же.
Обыкновенно, что совершенно естественно, во главе идут женщины; в Монлери они ножницами разрезали мешки. Еженедельно, в базарный день, узнавая, что краюшка хлеба поднялась в цене на три, на четыре, на семь су, они кричат и возмущаются: по этой цене, при незначительной заработной плате и когда не хватает работы, как им кормить семью?
Вокруг мешков с мукой и у дверей булочных собирается толпа, сначала кричат и обмениваются бранью, затем начинают наседать, собственника или продавца толкают, валят с ног, лавка наполняется народом, товар расхватывают по рукам, каждый хватает, что может и, заплатив или не заплатив, скорее бежит, унося добычу. Иногда все это устраивается по предварительному соглашению. В Брей на Сене 1 мая, обыватели соседних деревень, вооружившись ножами, палками и камнями, собрались в числе четырех тысяч и заставили земледельцев и фермеров, привезших зерно, продавать его по 3 ливра за буассо (около меры), вместо 4 ливров 10 су и грозили повторить это в следующий базарный день; фермеры больше не приедут, рынок будет пуст; необходимы солдаты, иначе обитатели Брея будут разграблены. В Баньоле, в Лангедоке, 1 и 2 апреля, крестьяне с палками, собравшись по барабанному призыву, «ходят толпой по городу, грозя предать все мечу и огню, если им не дадут хлеба и денег»: они отбирают зерно у частных лиц, делят его между собой, назначая самые дешевые цены и «обещая уплатить при следующем урожае»; они заставляют консулов установить цену на хлеб по 2 су за фунт и увеличить на 4 су поденную заработную плату. — Чаще всего действуют именно таким образом; не народ слушается властей, а власти повинуются народу. Консулы, советники, мэры, прокуроры, синдики, муниципальные чиновники приходят в замешательство и впадают в бессилие при яростных криках толпы; они чувствуют, что их толпа затопчет ногами или выкинет из окон. Другие, более стойкие, понимают, что бунтующая толпа безумна и не решаются проливать кровь; они уступают на этот раз в надежде, что к следующему базарному дню у них будет больше солдат и будут приняты более действительные меры предосторожности. В Амьене, «после достаточно серьезного народного возмущения», они решают забрать зерно у яковитов (монашеский орден) и продать его народу по цене на треть ниже действительной стоимости, причем место продажи окружают войсками. В Нанте, где в городскую ратушу врывается толпа, их заставляют понизить цену на хлеб на 1 су на фунт. В Ангулеме, чтобы избежать необходимости прибегнуть к оружию, они просят графа Артуа отказаться на два месяца от своего права обложения муки и устанавливают таксу на хлеб, обязуясь покрыть убытки булочников. В Селите с ними обращаются так скверно, что они уступают во всем; толпа разграбила их дома и повелевает; они при звук, труб объявляют, что все требования будут удовлетворены. В иных случаях толпа обходится без содействия властей и распоряжается сама. Если зерна нет на рынке, то отправляются его искать туда, где оно хранится, к землевладельцам и фермерам, не решающимся его везти из опасения грабежа; в монастыри к монахам, обязанным по королевскому указу хранить в амбарах годовой урожай; в склады, где правительство хранит свое зерно; к обозам, которые интендант отправляет в голодающие города.
Всяк за себя, — тем хуже для соседа. Обыватели Фужера избивают и изгоняют обывателей Эрнэ, явившихся к ним на рынок за покупками: такие же насилия производятся в Витрэ над обывателями Мэна. В Сен-Леонаре население задерживает зерно, отправляемое в Лимож, в Босте — зерно для Орильяка, в Сан-Дидье — зерно, отправляемое в Мулэн, в Турню — зерно для Макона. Конвой, назначаемый для сопровождения транспортов с хлебом, оказывается бесполезным, группы женщин и мужчин, вооруженных топорами и ружьями, устраивают засады в придорожных лесах и останавливают возы; приходится рубить их саблями, чтобы прокладывать себе дорогу. Напрасно уговаривают их, усовещают, обращаются к ним с добрым словом, напрасно предлагают продать им зерно за деньги, они отказываются уступить и кричат, что «транспорт не пойдет». Они заупрямились, их решимость та же самая, что у быка, ставшего поперек дороги и готовящегося боднуть вас. Зерно принадлежит им, потому что оно из их округа; всякий, увозящий или хранящий его — вор, этой мысли у них из головы не выбьешь. В Шантенэ, близь Манса, они не позволяют мельнику увезти только что купленное им зерно на мельницу; в Мондрагоне, в Лангедоке, они побивают камнями торговца, отправляющего в другое место свой последний товар; в Тьере рабочие толпой ходят по деревням, отбирая зерно; землевладельца, у которого находят запас его, едва не убивают, они пьют вино в погребах и не завертывают кранов у бочек, давая вину вытекать. В Невере, где четыре дня булочники не пекли хлеба на продажу, толпа взламывает амбары у частных лиц, у торговцев и у монастырей. «Испуганные торговцы отдают зерно по любой цене, большую часть его просто растаскивают бесплатно в присутствии сторожей» и во время этих буйных обысков много домов оказываются разграбленными. В это время горе всем, причастным к охране зерна, к покупке, торговле им и к переработке его.
Народному воображенью необходимы живые люди, на которых оно могло бы возложить вину во всех своих несчастьях и ответственность за них; для него все эти люди — стяжатели и враги общества. Около Анжэ разгромлен монастырь Бенедиктинцев, порублены его заповедные леса. В Амьене народ собирался громить, а может быть и сжечь, дома двух торговцев, построивших усовершенствованные мельницы — войска сдержали толпу, и она ограничилась лишь тем, что побила стекла в окнах, но и другие шайки разгромили и ограбили трех или четырех обывателей, заподозренных ими в стяжании. В Нанте народ послал некоего Жеспина обыскать дом, в котором он не нашел запаса зерна; поднялись крики: это укрыватель, соучастник! Толпа на него набросилась, его избили, изранили, едва не убили. Во Франции нет уже безопасности ни для имущества, ни для личности. Основное право, право на пищу, на питанье нарушается в тысячах мест, всюду оно в опасности, висит на ниточке. Всюду молят о помощи управители и суб-делегаты, заявляя о бессилии полиции и требуя войск. Против общественной власти ополчились не одни только негодующие, голодные слепцы, но и злодеи, побуждаемые дурными инстинктами, завистью и алчностью, пользующиеся всяким беспорядком; политическое движение освободили их от узды.
Мы уже знаем, как были многочисленны контрабандисты, фальшивые монетчики, браконьеры, бродяги, нищие, преступники, побывавшие уже в тюрьме, и насколько увеличилось их число за один голодный год. Все это готовые рекруты для каждого возмущения, и во время мятежа, и рядом с ним каждый из них набивает себе карманы. В округе Ко (Caux) и в окрестностях Руана, в Роншероне, Кевревиле, Преа, Сен-Жаке и других соседних местечках вооруженные разбойники вламываются в дома, преимущественно в дома священников, и тащат оттуда все, что им нравится. К югу от Шартра, триста или четыреста дровосеков из Беллемского леса, рубят топорами всех сопротивляющихся и заставляют отдавать хлеб по назначенной ими цене. В окрестностях Этампа пятнадцать разбойников забираются по ночам на фермы и грозя поджогом, заставляют фермеров откупаться. В Камбрези они грабят аббатства Висель, Верже и Гильманс, замок маркиза де Беслар, именье г. д’Иази, две фермы, воз с хлебом на Сен-Квентенской дороге и, кроме того, семь ферм в Пикардии. «Очаг этого возмущения находится в нескольких соседних деревнях на границе Пикардии и Камбрези, привыкших к контрабанде и к распущенности, связанной с этой профессией». Крестьяне дают себя увлечь разбойникам; человек легко скользит по наклонной плоскости воровства; полу честные люди, помимо своей воли замешавшиеся в мятеже, соблазняются безнаказанностью и добычей и охотно идут вторично на то же дело.
На самом деле их побуждает вовсе не крайняя нужда. Это «корыстная спекуляция, новый род контрабанды». Вывший карабинер, с саблей в руке, лесник и «человек восемь довольно состоятельных становятся во главе толпы, из 400 или 500 человек, отправляются ежедневно по соседним деревням и насильно заставляют тех, у кого есть пшеница, отдавать ее по 24 ливра» и, даже по 18 ливров за мешок. Некоторые из участников шайки, заявляя, что у них нет денег, уносят свою часть, не платя за нее. Остальные, уплатив сколько им нравится, перепродают свою часть с прибылью, взимая до 45 ливров за мешок, — операция очень выгодная, в которой корысть берет себе в пайщики нищету. Во время урожая следующего года соблазн повторяется; «Они грозили прийти жать наш хлеб, увести наш скот и собирались продавать мясо этого скота в деревнях по 2 су за фунт». Во всяком серьезном мятеже участвуют подобные вредоносные элементы, бездомники, преступники, разыскиваемые судами, дикие, отчаянные бродяги, сбегавшиеся, как волки, когда почуют добычу. Они-то и служат исполнителями и руководителями частной и народной мести. Близ Узеса двадцать пять замаскированных, с ружьями и палками, врываются к нотариусу, стреляют в него из пистолета, бьют его палками, грабят его дом и жгут его книги вместе с бумагами и документами графа де Рувр, которые у него хранились; семерых из этих людей арестуют, но народ вступается за них, бросается на полицейских и освобождает арестованных. Разбойников узнают по их действиям, по стремлению разрушать ради разрушения, по странному акценту, по дикому облику, по рваным отрепьям.
Из Парижа они являются в Руан и четыре дня хозяйничают в городе. Они взламывают лавки, берут выкуп с монастырей и семинарий; врываются в дом генерал-прокурора, издавшего приказ об их аресте, и громят мебель, зеркала, хотят разрушить дом до основания и выходят из него нагруженные добычей; затем они громят фабрики в городе и предместьях, ломают и сжигают машины.
Оки теперь стали вождями, так как при всяком сборище во главе становятся самые смелые и наименее совестливые; они-то и подают сигнал к погромам. Их пример заразителен: толпа двинулась, чтобы добыть хлеб, и кончает убийствами и поджогами; разнузданная дикость своими безграничными насилиями дополняет ограниченное возмущение нищеты.
Каков бы он ни был, этот мятеж, с ним можно было бы справиться, несмотря на голод и разбойников, если бы не одно обстоятельство, делающее его непобедимым: он уверен, что его разрешили те самые лица, которые борются с ним. Местами раздаются слова и совершаются действия с отпечатком страшной наивности; за пределами мрачного настоящего они открывают еще более грозное будущее. Уже 9 января 1789 года, в толпе, ворвавшейся в Нантскую ратушу и осаждавшей булочные, к кликам: «да здравствует свобода», примешиваются клики: «да здравствует король». Через несколько месяцев, в окрестностях Плафшеля, крестьяне отказываются платить десятинную подать под тем предлогом, что наказом их сенешальства требуется отмена этой подати; в Эльзасе, начиная с марта, «во многих местах» засвидетельствованы такие же отказы от уплаты десятинных; многие общины не хотят платить никаких налогов до тех нор пока их депутаты в Генеральных Штатах не установят точной цифры народного обложения. — В Изере общинами составляются, печатаются и публикуются постановления, прекращающие уплату сборов в пользу владельцев поместий и владельцы не решаются жаловаться суду на нарушение их прав. В Лионе народ уверен, что сбор всяких податей должен прекратиться; 29 июня, получив известие о соединении трех сословий, пораженный иллюминацией и проявлениями общей радости, он думает, что настали счастливые времена и воображает, что мясо будет продаваться по 4 су, также как и вино. Кабатчики распускают слух, что городские ввозные пошлины будут отменены, что король в ознаменование соединения сословий отменил уже их на три дня в Париже, и что тоже самое должно быть сделано и в Лионе. Толпа направляется к заставам, к воротам Сен-Клэр и Перрам, на Гильонверский мост, поджигает и разрушает конторы сборщиков городских пошлин, уничтожает счетные книги, громит квартиры сборщиков, грабит кассы и растаскивает вино из складов. Одновременно, по окрестностям распространяется слух о свободном привозе в город и следующие дни прибывает такое множество крестьянских возов с вином, что несмотря на восстановление стражи у застав, приходится 7 июля возобновлять операции городских сборщиков.
Тоже самое происходит в южных провинциях, где главнейшие сборы взимаются с съестных припасов; там уплата этих сборов прекращается тоже именем центральной власти. В Арле «народ, в своем ослеплении, уверил себя, что он теперь — все, и может все делать, в виду будто бы выраженного королем желания уравнять сословия»: так по-своему и на своем языке он толкует представление двойного представительства третьему сословию. Следствием этого являются угрозы разгрома города, если цена на припасы не будет понижена и пошлины на вино, рыбу и мясо не будут отменены. Кроме того, народ хочет назначать «консулов из своей среды» и епископ-владелец города, — мэр и старейшины, против которых возбуждают являющуюся толпами в город окрестных крестьян вынуждены, при звуке труб, возвестить, что все народные ходатайства удовлетворены. Три дня спустя они требуют сокращения на половину сбора за помол, вызывают на улицу собственника мельниц — епископа. Он болен, падает в обморок на улице и его усаживают на тумбу, где и заставляют тут же немедленно подписать акт отречения; вследствие этого арендная плата за его мельницу с 1.500 ливров понижается до 7.500.
В Лиму, под предлогом розысков зерен они врываются к контролеру и податным откупщикам, уносят с собой их книги, бросают эти книги в воду вместе с мебелью чиновников. В Провансе еще хуже, так как там в силу ужасной несправедливости и по невероятной непредусмотрительности источником всех городских доходов служит обложение муки; вследствие этого дороговизну хлеба приписывают налогам, фискальные агенты становятся врагами народа, а голодные бунты превращаются в мятеж против государства.
Там тоже политические новости являются той искрой, которая поджигает пороховой склад; повсюду народное восстание начинается в самый день созыва избирательного собрания: за пятнадцать дней в провинции вспыхивают от сорока до пятидесяти мятежей. Народное воображение, как воображение ребенка направилось прямо к цели: реформы объявлены, значить они уже наступили, а для большей верности их немедленно же осуществляют. Нас хотят облегчить, давайте же сами облегчать себя. «Это не изолированный мятеж, как обыкновенно, доносит командующий войсками, здесь все действуют сообща и по одному и тому же принципу. Все умы охвачены одним и тем же заблуждением. Народу внушено будто король хочет, чтобы все были равные, чтобы не было больше ни господ, ни епископов, никаких рангов, никаких помещичьих сборов и десятинных податей. Эти заблуждающиеся люди уверены, что они в праве так действовать и исполняют волю короля». Громкие слова произвели свое действие; им сказали, что Генеральные Штаты, переродят королевство, отсюда они вывели, что срок их созыва и должен быть сроком совершенного и полнейшего изменения всех условий жизни и распределений богатств. Вследствие этого восстание против дворянства и духовенства становится общим и сильно обостряется. Во многих местах заявляют, что это своего рода война, объявленная собственникам и собственности. В городах также как и в деревнях, народ продолжает заявлять, что он ничего не хочет платить, ни налогов, ни сборов, ни долгов.
Разумеется, первый удар направлен против налога на муку. В Эксе, в Марселе, в Тулоне, и более чем в сорока городах и местечках сразу его отменяют; в Опсе и Лионе от здания городских весов остаются лишь четыре стены: в Марселе разгромлены дома откупщика боен, в Бриньоне — дом управляющего кожевенною монополией. Решено очистить страну от чиновников монополии. Но это лишь начало: необходимо, чтобы подешевели хлеб и другие припасы, и это должно быть сделано немедленно. В Арле матросская корпорация под председательством консула де-Барраса только что выбрала своих представителей; перед закрытием заседания они требуют, чтобы Баррас понизил цену на съестные припасы и после его отказа открывают окно, говоря: «он в наших руках, выбросим его на улицу, другие там подберут». Остается одно согласиться. Издается соответственное постановление, которое при звуке труб объявляют на улицах и при объявлении таксы на каждый род припасов, народ кричит: да здравствует король и де-Баррас! Пришлось подчиниться грубой силе, но затруднения очень велики, так как за отменой налога на муку, города лишились доходов, а с другой стороны, обязавши булочников и мясников на понижение таксы, Тулон, например, должает по 2.600 ливров ежедневно.
Во время этого беспорядка, несчастие быть человеком, заподозренным в более или менее отдаленном содействии народной нужде. В Тулоне требуют голов мэра, установившего таксы, и архивариуса, хранившего платежные списки. Их топчут ногами и дома их разгромлены. В Маконе Систеронский епископ приехал в семинарию, его заподозрили в покровительстве стяжателю народного добра. Когда он садился в экипаж, толпа ему свистала, грозила его забросать грязью и камнями. Консулы и суб-делегат, прибежавшие его выручать, избиты и прогнаны. Несколько безумцев у него же на глазах роят для него могилу Только благодаря защите пяти или шести порядочных людей, ему удается сесть в экипаж, но у него несколько ран, нанесенных камнями, — одна из них в голову и спасается он только благодаря тому, что его лошади, напуганные градом камней, закусывают удила и несут вдоль по улице. К крестьянам и рабочим примешивается много иностранцев — итальянцев-разбойников и их действия, и речи возвещают начало грабежа. Наиболее, возбужденные говорят епископу: мы бедны, вы богаты; мы хотим взять ваше богатство себе. В других местах мятежники берут выкуп со всех состоятельных людей В Бриньоле 13 домов разгромлены снизу до верху и 30 домов на половину. В Опсе, защищавшийся де-Манферра, разрезан на мелкие куски. В Сейне уличная толпа под предводительством крестьянина собирается по барабанному призыву: женщины приносят гроб к дому одного из состоятельнейших обывателей, советуют ему готовиться к смерти и сообщают, что его похоронят с почетом. Он спасается бегством, его дом громят, громят полицейское здание, а на следующий день предводитель шайки заставляет главнейших обывателей давать ему деньги на уплату крестьянам, оставлявшим свою работу и «посвятившим целый день общественным делам». — В Пенье президента 80-ти летнего старика осаждает в его замке шайка в полтораста рабочих и крестьян; они привели с собой консула и нотариуса и заставляют президента подписать обязательство об отказе от всех своих сеньоральных прав и преимуществ. — В Санье толпа разрушает мельницы де Форбен-Янсона, громит дом его управляющего, грабит замок, снимает с него крышу, разрушает часовню, престол, решетки и гербы, врывается в погреба, разбивают бочки и уносит все, что можно унести. Вещи таскают в течение двух дней, маркиз несет убыток в двести тысяч экю. В Рие дворец епископа окружают кучами хвороста и грозят его сжечь: с епископа берут выкуп в 50 тысяч ливров и требуют, чтоб он сжег свой архив. Словом, мятеж имеет характер социальный, так как его жертвой становятся богатые и начальствующие при существовавшем общественном строе.
Как они действуют, можно подумать, что им знакомо учение «Общественного Договора». С судьями они обращаются как со своими слугами, сами издают законы, распоряжаются в качестве исполнителей и грубо, деспотично, без рассуждения устанавливают, то, что считают согласным с естественным правом.
В Пенье они требуют второго избирательного собрания и права голоса для себя. В Сен-Максимине они сами избирают новых консулов и судей. В Солье они заставляют заместителя судьи подать в отставку. В Бурже они превращают консулов и судей в городских курьеров и заявляют, что они сами господа и сами будут творит суд и расправу. И начинают судить по-своему, прибегая к грабежам, насилиям. У такого-то есть пшеница; он должен поделиться с тем, у кого её нет. У такого-то есть деньги; пусть он отдает их тому, у кого не на что купить хлеба. В силу этого принципа в Бурже они налагают на Урсулинок штраф в 1.800 ливров, отбирают 50 возов хлеба у епископа, 18 возов у бедного ремесленника. 40 — у другого, заставляют каноников и помещиков выдать своим арендаторам расписки в получении арендной платы. Затем, направляясь из дома в дом, они, с палками в руках, заставляют одних платить деньги, других отказываться от следуемых им получений, «такого-то отказаться от уголовного преследования, другого — от полученного им разрешения, третьего вынуждают вернуть судебные издержки, взысканные им несколько лет тому назад, отца разрешить женитьбу сыну». Все былые обиды приходят им на память, а известно как памятливы крестьяне. Став господами, они вспоминают все, что раньше терпели, они требуют возвращения всего с них полученного. У управляющего де-Моклисяна они отбирают все деньги в возмещение, за полученные им в течение пятнадцати лет сборы в качестве нотариуса. Бывший Бриньольский консул в 1775 году взыскал от 1.500 до 1.800 франков штрафами в пользу бедных; у него отбирают эти деньги из его личных средств. Но если вредными признаются консулы и судейские, то еще вреднее всякие документы на право собственности, платежные списки и другие бумаги, которые они пишут. Все старые бумажонки надо жечь, и жгут не одни только книги сборщиков податей, но, как в Уере, например, все архивы городской и нотариальный. Из документов хороши только новые, те, что приносят им выгоду.
В Бриньоле принудили владельцев мельниц составить купчую, по которой они уступали свои мельницы общине за 5 тысяч франков в год, уплачиваемых в течение десяти лет, без процентов, что их разорило. При виде подписанного, документа, крестьяне громкими криками выражали свою радость, и они преисполнились такого доверия к этому листу гербовой бумаги, что сейчас же отправились служить благодарственный молебен. Это грозные симптомы, указывающие на существование тайных стремлении твердой воли, на будущие действия возникающей новой власти. Если она восторжествует, то начнет с уничтожения старых бумаг, документов, контрактов, обязательств, уважение к которым внушается силой; пустив в ход ту же силу, она заставит подписать новые документы в свою пользу и писцы будут её депутатами, её администраторами, которых она будет держать под вечной угрозой своего грубого кулака.
Все это не беспокоит высшие сферы; находят даже, что бунт имеет свою хорошую сторону, так как заставляет города отменять несправедливые налоги; [5] смотрят снисходительно на то, как молодые люди, служащие в новой Марсельской гвардии, отправляются в Обань «требовать от властей и королевского адвоката освобождения заключенных». Снисходят и к неповиновению города Марселя, который отказался допустить следователей, специально командированных для производства следствия. Еще лучше, несмотря на возражения парламента, в Эксе объявляется общая амнистия; «исключают лишь некоторых главарей, которым, однако, дают свободно покинуть королевство». Кротость короля и военных начальников восхитит, по их мнению, народ, ибо это дитятко, которое грешит лишь по ошибке, надо верить его раскаянию, и как только он возвращается к порядку, принимать с отеческою любовью.
Истина же в том, что это дитя — слепой колосс, ожесточенный страданием, поэтому он и ломает все то, к чему прикасается, не только в провинции, где местный механизм после временного расстройства может быть исправлен, но и в центре он ломает главную пружину, которая дает движение всему остальному и от поломки которой останавливается вся машина.
Глава II. Париж до 14 июля
Рекруты для мятежных шаек из окрестностей. Вступление бродяг. Число неимущих. Возбуждение печати и общественного мнения. Народ принимает участие. Дело Ревельона. Пале-Рояль. Сборища уличные захватывают политическую власть. Давление на собрание. Измена солдатам. Дни 13 и 14 июля. Убийства Фуллона в Бертье. Париж в руках народа.
Действительно, конвульсивные потрясения сильнее всего в центре. Все здесь на лицо, чтобы усилить мятеж, нет недостатка ни в подстрекательствах, чтобы вызвать его, ни в многочисленных шайках, чтобы его устроить. Все окрестности Парижа ставят ему добровольных рекрутов. Нигде нет столько нищих голодных и возмущенных. Повсюду происходят грабежи, грабят зерно в Орлеане, Кане, Рамбулье, Жуи, в Пон-Сен Максансе, в Брей-на-Сене, Сансе и Нанжи. В Медоне пшеницы так мало, что приказывают всем, кто ее покупает, покупать в то же время равное количество ячменя. В Вирофлэ тридцать женщин, с мужчинами в арьергарде, останавливают на большой дороге возы, которые, как они предполагают, нагружены зерном. В Монтлэри семь бригад полицейской стражи рассеяны при помощи камней и палок. Громадная толпа, в восемь тысяч человек, мужчин и женщин с мешками в руках, набрасывается на зерно, привезенное на продажу, заставляют выдать за двадцать четыре франка рожь, стоящую сорок франков, грабят половину этой ржи и уносят ее, ничего не заплатив. Полиция упала духом, пишет уполномоченный, «решимость народа поразительна; я напуган тем, что слышал и видел».
С 13 июля 1788 года, когда прошел град, отчаяние овладело крестьянами: не смотря на всю добрую волю помещика, помочь им было невозможно. Никаких мастерских для работ не имеется сеньоры и буржуа, оставшиеся без доходов, не могут давать работу. Поэтому «голодный народ готов рисковать жизнью из-за пропитания». Смело, открыто он берет припасы там, где они имеются. В Гонфлан-Сэнт-Онорин, Эраньи, Невиле и Шевиньере, в Сержи, Понтуазе, Иль-Адаме, Прель и Бомоне, мужчины, женщины и дети, весь приход, шатаются по полям, ставят тенета, разрушают норы. Разнесся слух, что правительство, узнав о вреде, причиняемом зайцами и кроликами земледельцам, разрешило уничтожать их… И действительно зайцы уничтожали около пятой доли урожая. Сначала арестовывают девять человек из этих новых браконьеров, но потом их отпустили «в виду обстоятельств», и после этого в течение двух месяцев на землях принца де Конти и посланника Мереи д’Аржанто происходит настоящее избиение всякой дичи; за неимением хлеба, питаются дичью. По естественному увлечению нарушение права собственности переходит в нападение на самую собственность.
Около Сен-Дени, вырубается лес, принадлежащий аббатству, «окрестные фермеры увозят оттуда громадные возы дров и бревен, впрягая по четыре, по пяти лошадей». Обитатели Виль-Паризис, Трамблэ, Вергалана и Вильпинты открыто продают лесные материалы и грозят сторожам убийством. 15 июня, убыток оценивается уже свыше 60 тысяч ливров. Никто не обращал внимание, на то, что помещик был благодетелем вроде г. Таларю, который в предстоящем году кормил бедняков в своем поместье в Исси. Крестьяне разрушают плотину его водяной мельницы; парламент обязал их восстановить ее, но они заявили, что не только не послушаются, но, если г. Таларю восстановит плотину, они явятся в числе трехсот человек с оружием и разрушат ее вновь.
Для наиболее скомпрометированных Париж является самым близким убежищем, самые бедные и отчаянные начинают буквально кочевать. Вокруг столицы образуются шайки бродяг, как в странах, где человеческое общество не существует еще или уже перестало существовать. В первых числах мая около Вильжюива, около пяти или шести сотен бродяг собираются разгромить Бисетр и приближаются к Сен-Клу. Они являются издалека за тридцать сорок, шестьдесят лье, из Шампаньи и Лотарингии, из всей полосы, пострадавшей от градобитья. Все это носится вокруг Парижа и втягивается в него как в сточную канаву. Туда попадают несчастные вместе с злодеями, одни в поисках работы, другие за подаянием, третьи потому, что у них нет крова и на всех одинаково действуют нездоровые подстрекательства голода и уличных слухов. В последние дни апреля чиновники у застав отмечают появление «устрашающего числа плохо одетых людей с ужасными лицами». В первых числах мая замечают, что вид толпы изменился. Откуда-то появилось много чужого народа из разных местностей, большею частью оборванцев с большими палками. Один вид их дает представление о том, чего надо ожидать. Но и без этого притока сточная яма была уже полна до краев.
Подумайте о необыкновенно быстром росте Парижа, множестве рабочих, привлеченных разрушением старых улиц и новыми постройками, о всех ремесленниках, которых, застой в промышленности, повышение городских ввозных пошлин на съестные припасы, жестокая зима и дороговизна хлеба, довела до нищеты. Вспомните что в 1789 году насчитывалось «двести тысяч человек, не могущих доказать, что у них имеется собственность стоимостью пятьдесят экю», что с незапамятных времен они воюют с полицией, что в 1789 году имеется в столице 120 тысяч бедняков, что для того, чтобы дать им работы, пришлось устроить национальные мастерские, «что около двенадцати тысяч их держат на бесполезной работе колония Монмартрского предместья за плату по двадцати су в день, что набережные и порты переполнены ими, что городская ратуша осаждается ими, что они, собираясь вокруг здания судебной палаты, оскорбляют бездеятельный, безоружный суд», что каждый день они раздражаются у дверей булочных, где у них нет уверенности, что после долгого ожидания они получат хлеб. Вы уже заранее можете себе представить с какой яростью набросятся они на преграду, которая будет им указана.
Около двух лет уже им указывают эту преграду. Это — министерство, это — двор, это — правительство, это — старый режим. Кто протестует против этой преграды во имя народа, тот может быть уверен, что за ним последуют дальше даже, чем он захочет вести. Как только в каком-нибудь большом городе парламент отказывается регистрировать указы о податях, к его услугам всегда готов мятеж. 7 июля 1788 года, в Гренобле солдат забрасывают черепицами, и военная сила уступает. В Ренне, чтобы покорить взбунтовавшийся город, потребовалась сначала целая армия, а затем постоянное пребывание четырех полков пехоты и двух полков кавалерии под начальством маршала Франции. [6]
В следующем, году, когда парламент становится на сторону привилегированных, вновь разыгрывается мятеж, но на этот раз уже против парламента. В феврале 1789, в Безансоне и Эксе судей преследуют на улицах, осуждают в здании судебных установлений и принуждают скрываться и бежать. Если таково настроение в главных провинциальных городах, то каково же оно должно быть в столице? Для начала, в августе 1788 года, после увольнения Бриэння и Ламуаньона, толпа, собравшаяся на площади Дофина, учиняет самосуд, сжигает изображения обоих министров, разгоняет полицию и сопротивляется войскам. Целое столетие не было такого кровавого мятежа.
Два дня спустя, вновь вспыхивает бунт. Толпа направляется поджигать дома обоих министров и дом заведующего полицией Дюбуа. Очевидно, в невежественную и грубую массу проник бродильный фермент и новые идеи производят свое действие. Давно уже они незаметно проникали из одного слоя в другой и захватив аристократию всю образованную часть третьего сословия судебных деятелей школы, всю молодежь, они мало-помалу проникли в тот класс, который живет трудом своих рук. Вельможи, за туалетом осмеивали христианство и говорили о правах человека при своих лакеях, парикмахерах, поставщиках и при всей дворне. Ученые, адвокаты, прокуроры более резким тоном проповедовали те же теории в ресторанах, кофейных, на гуляньях и во всех публичных местах. Говорили при народе, как будто его там не было и от всего этого красноречия, изливаемого без всякой осторожности, брызги которого долетали до мозга рабочего, трактирщика, комиссионера, торговки и солдата.
Вот почему достаточно было одного года чтоб их глухое недовольство превратилось в страстную ненависть. Начиная с 5 июля 1787 года, когда король собирает Генеральные Штаты и спрашивает у каждого его мнения совершенно меняется настроение печати и устного слова. Спокойные беседы и рассуждения на общие темы превращаются в проповеди ради достижения практического воздействия, в внезапный призыв к приближающемуся выступлению, громкий и резкий, как звук трубы. Один за другим прорываются революционные памфлеты: «Что такое третье сословие» Сиеса, «Доклад французскому народу» Ижерутти, «Рассуждение об интересах третьего сословия» — Рабо-Сэнт Этиена. «Моя петиция» Тарже, Права Генеральных Штатов д’Антрага, немного позже: «Свободная Франция» Камилла Демулена и другие сотнями и тысячами повторяемые и развиваемые в избирательных собраниях, куда новые граждане являются ораторствовать и возбуждаться.
Всеобщий, повсеместный и ежедневно повторяющийся крик гулким эхом отдается в казармах, пригородах, рынках, мастерских и мансардах. В феврале 1789, Неккер признается, «что послушания нет нигде и даже на войска нельзя положиться». В мае рыночные торговки, затем торговки фруктами являются к избирателям, предлагая им поддерживать интересы народа и поют куплеты в честь третьего сословия. В июне памфлеты у всех в руках. Лакеи у дверей богатых домов и те зачитываются ими. В июле, когда король подписывает какой-то приказ, патриот-лакей обеспокоенный этим, читает его, заглядывая чрез плечо короля. Не надо делать себе иллюзий; не одна буржуазия восстает против законных властей и господствующего режима; весь народ это делает, — все ремесленники, лавочники, прислуга, рабочие всех разрядов и степеней и те, что стоят ниже народа: чернь, бродяги праздношатающиеся, нищие, вся масса, согбенная заботой о хлебе насущном, нигде не подымавшая глаз, чтобы всмотреться в социальный строй, последнюю нижайшую основу, которую она составляет, неся на себе всю его тяжесть.
Внезапно, эта основа делает движение, и вся нагроможденная на ней постройка колеблется. Это — движение раздраженного нуждою, подозрительного животного. Уколола ли его снизу чья-то подкупленная, скрывающаяся под покровом тайны рука. [7] Современники уверяли в этом и это вполне возможно. Но и шума, производимого вокруг страдающего животного, было бы достаточно, чтобы напугать его и объяснить его движение. 21 апреля начались избирательные собрания в Париже, они происходили в каждом квартале; собираются отдельно: духовенство, дворянство и третье сословие. Ежедневно в продолжении месяца по улицам проходят ряды избирателей, избиратели первого разряда, продолжают собираться и после избрания выборщиков: надо же народу наблюдать за своими уполномоченными и поддерживать свои права; хотя он и передоверил пользование ими своим избранникам, но собственность на них сохранил за собой и готов вмешаться, как только это ему заблагорассудится. Эта аргументация быстро завоевывает общее сочувствие и захватив собрания третьего сословия, сейчас же затем овладевает третьим сословием на улице. Ничего нет естественнее стремления руководить своими руководителями. При первом недовольстве, налагают руку на непокорных и ведут их под своей командой. В субботу 25 апреля [8] распространяется слух, что избиратель Ревельон, фабрикант обой в улице Сен-Анпцак, — «нехорошо говорил» в избирательном собрании Сент-Маргерит. — Говорить нехорошо, значит плохо отзываться о народе.
Что сказал Ревельон? Никто не знает, но общественное воображение с его ужасною способностью к вымыслу и свойственной ему определенностью само вырабатывает или принимает на веру убийственную фразу: — «Он сказал, что женатый рабочий с детьми может прожить на пятнадцать су в день». Это изменник, надо бежать к нему, надо сжечь его дом и убить его! Заметьте, что слух неверен, что Ревельон платит младшему из своих рабочих двадцать пять су в день, что он дает работу триста пятидесяти рабочим, что прошлой зимой, во время остановки работ, он не рассчитал ни одного рабочего и все время платил им тоже самое жалование, что он сам бывший рабочий, получивший медаль за свои открытия, что он добродетельный, почтенный, всеми уважаемый человек. — Но это ничего не значит; шайки бродяг, «чужих», только что, проникнувших через заставы, не вникают в дело так внимательно, а мастеровые, извозчики, башмачники, каменщики, котельные мастера, пильщики и продавцы статуэток, которых вызывают из их квартир, тоже ничего о нем не знают. Когда раздражение скопляется, то оно вызывается наружу случайно.
Как раз в это же время духовенство Парижа заявило, что оно отказывается от своих податных привилегии и народ, принимая своих друзей за врагов, приплетает в своих ругательствах духовенство к Ревельону. Весь воскресный день, благодаря досугу, брожение растет и в понедельник 27 апреля, день также посвященный пьянству и праздности, шайки начинают собираться на улицах. Очевидцы встречают одну из них на улице Сен-Северин «вооруженную дубинами»; она так многочисленна, что вся улица запружена и движение по ней прекращается. Со всех сторон затворяют ворота и магазины с криком: «Вот он мятеж», мятежники выкрикивают ругательства и проклятия по адресу духовенства, и увидав аббата, называют его «проклятым попом». — Другая шайка носит манекен Ревельона, украшенный лентой св. Михаила, производит суд над этим манекеном, сжигает его на Гревской площади и угрожает дому Ревельона; встреченная и не допущенная стражей, она вламывается в дом его друга и разбивает, и сжигает всю его обстановку. Только к полуночи удается разогнать толпу, и все думают, что с бунтом покончили. Но на следующий день он возобновляется с новой силой; так как кроме обычного подстрекательства — нужды [9] и распущенности является новое в виде борьбы за идею; им кажется, что они сражаются «за третье сословие». За такое дело все должны восстать и помогать друг другу. — «Мы погибнем, говорил один из них, если не будем поддерживать друг друга». Сильные этим убеждением они до трех раз подымаются в предместье Сен-Марсо за подмогой и на ходу, подняв палки, они насильно вербуют в свои ряды всех встречных. Другие у ворот св. Антония, останавливают публику, возвращающуюся со скачек, и спрашивают ее за кого она стоит: За аристократию или за третье сословие? Женщин заставляли выходить из экипажей и тем временем, толпа все увеличивается около дома Ревельона; тридцать человек стражи не могут отразить ее. Она проникает в дом и громит все: мебель, провизию, белье, книги, экипажи, до птичника включительно. На дворе все собирается в зажженные в трех местах костры. Пятьсот луидоров, деньги и серебряные вещи уносятся мятежниками. Многие проникают в подвалы, напиваются ликерами и винами, пьют даже лак из бутылок. Многие теряют сознание и тут же умирают в конвульсиях.
Против этого сброда, высылают полицию пешую и конную, сто кавалеристов, французскую гвардию и затем швейцарскую гвардию. Черепицы и кирпичи осыпают солдат, которые стреляют, построившись в четыре шеренги. Несколько часов, опьяненные вином и злобой, мятежники отчаянно защищаются. Более двух сот убитых, около трех сот раненых, но одолевают их лишь с помощью артиллерии. Почти всю ночь группы мятежников бродят по улицам.
В восемь часов вечера, на улице Виаль-дю Тампль, парижская гвардия еще стреляет, чтобы защитить ворота, в которые ломятся бунтовщики. В половине двенадцатого, они взламывают двое ворот на улице Сэнтонж и на улице Бретань, одни у колбасника, другие у булочника. Даже в этом последнем взрыве утихающего мятежа ясно различаешь элементы, вызвавшие мятеж и которые вызовут революцию. Есть голодные; на улице Бретань, толпа громит булочника и раздает хлеб женщинам, стоящим на углу улицы Сэнтонж. Есть бандиты: посреди ночи шпионы, забившись в ров видят кучку разбойников, собравшуюся за заставой Трона; их предводитель возбуждает их возобновить мятеж. На следующий день, на больших дорогах, бродяги говорят друг другу: Нам нечего делать в Париже, предосторожности везде приняты, пойдем в Лион. Есть наконец патриоты: в вечер мятежа, между мостами Шанж и Марии, босяки — носильщики гробов в одних рубашках, вымазанные сажей — с полною сознательностью громко просят милостыни и протягивая шляпу, говорят прохожим: «Сжальтесь над бедным третьим сословием». Голодные, разбойники и патриоты составляют одно целое и отныне нищета, порок и общественное мнение соединяются, чтобы составить всегда готовую на мятеж группу, которая по знаку агитаторов бросится туда, куда они ее направят.
Но агитаторы уже не прекращают своих собраний. Пале-Рояль, это клуб на открытом воздухе, где весь день и почти всю ночь, они настраивают и возбуждают друг друга, и толкают народ на буйство. За эту ограду в силу привилегий дома Орлеанов, полиция не смеет войти там слово свободно, и пользующиеся этой свободой как бы нарочно подобраны, чтобы злоупотреблять ею.
Это самая подходящая публика для такого места.
Сделавшись центром распутства, азартных игр, праздности и раздачи брошюр, Пале-Рояль привлекает к себе все беспринципное население большего города, которое, не имея ни своего дела, ни домашнего очага, живет только ради удовлетворения любопытства или ради удовольствия всех этих завсегдатаев кофеен и игорных домов разных авантюристов и забулдыг, затерявшихся или сверхштатных детищ литературы, искусства и адвокатуры, разных подьячих, студентов, праздношатающихся, заезжих иностранцев и обывателей меблированных комнат. А таких, как говорят, в Париже сорок тысяч! Они заполняют собою и сад, и галереи Пале-Рояля; среди них едва ли попадется хотя бы один член того класса, который известен под названием шести корпораций. Тогдашнее торговое и промышленное сословие делилось на 6 корпораций: 1) торговцы галантереей, 2) бакалейщики, 3) шапочники и шляпошники, 4) меховщики, 5) ювелиры и золотобойщики и 6) виноторговцы, 7) настоящий, основательный буржуа, которому занятие делами и заботы о семье придают серьезность и вес. Здесь нет места для трудолюбивых рабочих пчел; это сборище политических и литературных трутней. Они слетаются сюда со всех четырех концов Парижа, и их беспорядочный жужжащий рой усеивает землю, подобно разлетевшемуся улью. «В течение целого дня — пишет Артур Юнг [10] — в Пале-Рояле перебывает по меньшей мере десять тысяч человек»; толкотня такая, что яблоко, брошенное с балкона на эту движущуюся мостовую из голов, не долетело бы до земли. Можно себе представить состояние всех этих умов! Из всех лишенных балласта голов Франции это самые пустые, надутые разными спекулятивными идеями, самые сумасбродные и возбужденные. Среди этой смеси импровизированных политиков никто не знает того, кто говорит, никто не сознает себя ответственным за то, что говорит. Здесь совсем как в театре — незнакомый среди таких же незнакомцев, всякий ищет только сильных ощущений. Насыщенная страстями атмосфера заражает его: им овладевает вихрь громких слов, вымышленных известий, неистового шума и всевозможных эксцентричностей, в которых один старается перещеголять другого. В воздухе стоить гул от криков, слез, аплодисментов и топота, точь в точь, как на представлении какой-либо раздирательной драмы. Некоторые до того надсаживаются и разгорячаются, что умирают тут же на месте от внутреннего жара и истощения. Как ни привычен Артур Юнг к такому гомону политической свободы, однако, и он ошеломлен всем происходящим. По его словам, [11] «волнение умов превышает всякое представление… Мы воображаем себе, что книжные магазины Дебретта и Стокдейма в Лондоне запружены публикою; но это сущие пустяки в сравнении с книжными магазинами Десенна и некоторыми другими, где от дверей до прилавка можно пробраться лишь с великим трудом… Ведь что ни час, то новая брошюра. Сегодня их выпущено тринадцать вчера — шестнадцать, а за прошлую неделю — девяносто две. Девятнадцать человек из двадцати трактуют о свободе. А под свободою подразумевается: отмена привилегий, в том числе и монарших; применение «Общественного договора»; Республика или, еще того лучше, всеобщее уравнение; беспрерывная анархия и даже народное восстание — жакерия. Один из обычных ораторов Камилл Демулен, говорит о ней в таких выражениях: «Раз животное попало в западню, его следует убить… Никогда еще такая богатая добыча не давалась победителям. Сорок тысяч дворцов, отелей, замков, две пятых имущества всей Франции будут призом за храбрость. Те, кто считает себя завоевателями, будут покорены в свою очередь. Нация будет очищена». Вот заранее изложенная программа террора.
Все это не только читалось, но и декламировалось, выкрикивалось, обращалось в практические предложения. Перед кофейнями «обладатели громких голосов сменяются один за другим каждый вечер». [12] «Они вскакивают на стулья или на столы и читают кричащие памфлеты на злобу дня… Трудно себе представит, с какою жадностью ловится каждое их слово. Всякое смелое и особенно резкое выражение против правительства приветствуется громом аплодисментов… Три дня тому назад вокруг сада, среди дня, по крайней мере, двадцать раз прошелся какой-то мужчина с четырехлетним ребенком на плечах: мальчуган, с необыкновенно умненьким личиком, все время выкрикивал: „Декрет французского народа. Госпожа Полиньяк, высылается за сто миль от Парижа. Канде тоже, Конти тоже, д’Артуа тоже, королева…“ Нет я не могу повторить этих слов». Деревянный павильон посреди Пале-Рояля вечно битком набит народом, особенно молодежью, рассуждающею по-парламентски. Вечером президент приглашает присутствующих прийти подписать предложения, сделанные в течение дня, подлинники которых выставлены в кафе Фой. [13]
Они по пальцам высчитывают врагов отечества; «среди таковых на первом месте оба королевских высочества (брат короля и граф д’Артуа), трое светлейших (принц де Конде герцог Бурбонский и принц де Конти), фаворитка (г-жа Полиньяк), де Водрейдь, де ла Тремуаль, дю Шатле, де Билльедейль, де Барантин, де ла Галезьер, Видо де ла Тур, Бертье, Фуллон и даже Ленге». Громко требуют виселицу на Новом мосту для аббата Мори. Какой-то оратор предлагает «сжечь дом д'Эспремениля, его жену, детей, все движимое имущество, наконец, его самого; и это предложение проходит единодушно». Возражений не допускается; когда кто-то из присутствующих выразил ужас по поводу этих смертных приговоров, «его моментально схватили за шиворот, поставили на колени, потребовали от него публичного покаяния с лобызанием земли, затем подвергли экзекуции, потом окунули в бассейн и в заключение отдали в распоряжение толпы, которая стала катать его по грязи». На другой день за такой же проступок, какое-то духовное лицо мяли ногами и швыряли, как мяч из рук в руки. Несколько дней спустя, именно, 22 июня, происходили еще две подобные экзекуции. Властная толпа отправляет все функции верховной власти: она и законодатель, и судья, и палач. — Кумиры её священны; если кто-либо дерзнет отказать им в уважении, виновного судят как за оскорбление величества и карают тотчас же. В первую неделю июня одного аббата, дурно отозвавшегося о Неккере, подвергли сечению, женщину, осмелившуюся выругаться перед бюстом Неккера, отдали в распоряжение рыночных торговок, которые подняли ей юбку и высекли до крови. Военным в форме объявлена война. «Как только показывается гусар — пишет Демулен — раздаются крики: Вот полишинель! и каменотесы побивают его каменьями, вчера вечером два гусарских офицера, де Сомбрейль и де Полиньяк пришли в Пале-Рояль… В них тотчас же полетели стулья, и они наверно были бы убиты, если бы во время не успели убежать». Третьего дня «схватили полицейского шпиона, выкупали его в бассейне, затравили как зверя на охоте, замучили под палочными ударами и каменьями, вырвали глаз и в заключение, несмотря на мольбы о пощаде, снова бросили в бассейн. Пытка эта продолжалась с 12 до 5 с половиной часов, причем палачей было по меньшей мере тысяч десять». — Рассудите каково должно быть влияние подобного очага в такое время. На ряду с легальною властью создалась новая власть — уличная, действует площадное-законодательство, никому неизвестное, безответственное, необузданное, порожденное трактирными теориями, горячечными бреднями, балаганными подстрекательствами. И министрами, хранителями закона сделались те самые лица, которые собственными руками разрушали все в Сент-Антуанском предместье.
Это — диктатура разношерстной толпы. Её образ действий насилие, что вполне соответствует её природе: все что оказывает ей сопротивление, побивается ею.
Ежедневно на улицах и у дверей Собрания, версальская чернь оскорбляет тех, кого называют аристократами. [14]
В понедельник. 22 июня, «д’Эспремениль едва не убит: аббат Мори спасается от смерти только благодаря энергии одного кюре, который схватывает его в охапку и бросает в карету архиепископа Арльского». 23-го архиепископ Парижский и министр юстиции так изруганы, опозорены, оплеваны и оскорблены, что можно сгореть от стыда и негодования».
Кругом стоял такой гвалт, что Папоре, секретарь короля, сопровождавший министра, умер от разрыва сердца. 24-го епископ Бовейский едва не убит брошенным ему в голову камнем. 25-го архиепископ Парижский спасается только благодаря быстроте своих лошадей; толпа преследует его, забрасывая каменьями; дом его осажден, окна перебиты и, несмотря на вмешательство французской гвардии, опасность так велика, что он вынужден обещать, что присоединится к депутатам третьего сословия. Вот каким образом грубая власть черни содействует слиянию сословий; она столь же властно тяготеет над своими собственными представителями, как и над противниками. «Хотя вход в нашу залу и был воспрещен, — говорит Байльи, — но в ней всегда собиралось более шести сот зрителей» это придаточное собрание, зачастую подчинявшее главное собрание своей воле, держится не так, как бы подобало; почтительно и безмолвно, но шумно, суетливо, бестолково; здесь постоянно перебивают депутатов, поднимают руки при баллотировках, нарушают дебаты аплодисментами или свистками. Они отмечают и записывают имена оппонентов. Списки эти передаются носильщикам портшезов, стоящим у входа в зал и, через них, народу, ожидающему выхода депутатов; [15] с этой минуты лица, занесенные в списки, становятся общественными врагами. Затем списки отправляются в печать, а вечером в Пале-Росане по ним составляется реестр смертных казней. Под таким-то грубым натиском проходят многие декреты, между прочим, и декрет о Национальном Собрании, — и захватывается верховная власть. Накануне Малуэ предложил предварительно проверить на какой стороне большинство; но в туже минуту более трех сот голосов кричать «нет!» и толпа окружает его: «С галереи сбегает какой-то человек, набрасывается на Малуэ и, потрясая его за шиворот, орет: «Замолчи, скверный гражданин!» Прибежала, караул и освободил Малуэ; «но по залу пронесся террор, на несогласных посыпались угрозы, и на другой день нас осталось всего 90 человек». Тотчас же был составлен список их имен. Некоторые из депутатов города Парижа отправились вечером к Байльи один из них «очень честный человек и хороший патриот» предупредил Байльи, что его намерены поджечь; жена его только что разрешилась от бремени, и малейшая тревога в доме могла бы убить больную. Подобные аргументы действовали решающим образом. Действительно три дня спустя, на присяге в манеже для игры в мяч (Jeu de Paume) один только депутат, именно, Мартен д’От, осмеливается написать под своим именем; «не согласен». Обруганные многими из своих товарищей, «тотчас же выданный народу, толпившемуся у входа в зал, он спасается через потайную дверь, во избежание быть разорванным в клочья»: после этого он в течение нескольких дней не дерзал показываться на заседаниях. [16]
Благодаря такому вмешательству галереи, радикальное меньшинство, всего каких-нибудь тридцать членов, [17] руководит большинством и не позволяет ему освободиться. Когда, 28 мая. Малуэ просил тайного заседания для обсуждения соглашения, предложенного королем, галереи освистали его, а один из депутатов, Буш, сказал ему следующие слишком недвусмысленные слова: «Знайте, милостивый государь, что мы здесь совещаемся перед нашими повелителями и что мы обязаны отдавать им отчет в наших мнениях». Такова доктрина Социального договора, и по робости, из страха перед двором и привилегированными, по своему оптимизму и доверию к человеку, наконец, из чувства долга перед своими прежними убеждениями или просто по привычке, новые депутаты — провинциальные теоретики, не умеют и не решаются избавиться от тирании господствующего догмата. Отныне он издает законы и Учредительное Собрание, Законодательное Собрание, Конвент, одним словом, все собрания будут исполнять их до конца. Признано, что публика галерей представляет собою народ с таким же правом, как депутаты и даже с большим. А публика эта та же самая, что и в Пале-Рояле, то есть: заезжие иностранцы, праздношатающиеся, охотники до новостей, парижские репортеры, завсегдатаи кофеен и клубов, одним словом, всякие сумасброды из класса буржуазии, точно так же как толпа, угрожающая у дверей и швыряющая камни, состоит из сумасбродов, вышедших из черни. Таким образом, по непроизвольному подбору, партия, присвоившая себе власть, состоит исключительно из буйных голов и жестоких рук. Без всякого предварительного соглашения сам собою устроился союз этих опасных сумасбродов с еще более опасными скотами, идущими наперекор легальным властям, и все разрушающими на своем пути.
Когда какой-нибудь главнокомандующий на совете с генеральным штабом обсуждает план кампании, общий интерес не допускает нарушения дисциплины, ни одно постороннее лицо, ни один солдат или денщик не смеет нарушить какою-либо неуместною выходкой равновесие, которое военачальник обязаны сохранять со всею предосторожностью и полным спокойствием. Таково было настоятельное требование правительства; [18] но оно не привело ни к чему и правительству оставалось только действовать силою против постоянного возмущения черни. Впрочем, и сила постепенно ускользает из его рук, так как разрастающееся возмущение, как зараза, от народа передается войскам. 23 июня [19] два отряда французской гвардии отказались исполнять свои обязанности. Лишенные отпуска из казарм, 27-го числа нарушают приказ и с тех пор «каждый вечер их можно видеть в Пале-Рояле, расхаживающими в две колонны». Место им хорошо известно; это обычное rendez-vous проституток, у которых они состоят в любовниках или в сутенерах. [20] «Все патриоты льнут к ним; кто угощает мороженым, кто вином; их развращают на глазах у офицеров». Имейте в виду, что их полковник, дю Шатле, давно уже ненавистен им за то, что он утомлял их усиленным ученьем, допекал их унтер офицеров, упразднил школы, где воспитывались дети музыкантов, наказывал их палочными ударами, придирался ко всякой малости, к пище и содержанию. Полк этот потерян для дисциплины: у них образовалось тайное общество, и солдаты обязались ничего не предпринимать против Национального Собрания. Таким образом образовался союз между ними и Пале-Роялем. 30 июня одиннадцать из их вожаков, отведенные в Аббатство, (тюрьма для привилегированных, учрежденная при Сен-Жерменском Аббатстве) представляют письменное прошение о помощи: один молодой человек взлезает на стул перед кафе Фой и громко читает прошение. В ту же минуту шайка отправляется в поход, взламывает железными ломами решетку, торжественно выводит арестантов и устраивает им в саду праздник, предварительно оцепив сад солдатами, чтобы их снова не забрали.
Когда такое бесчинство остается безнаказанным, никакой порядок невозможен. Действительно, 14 июля утром, из шести батальонов пять отложились. Что касается до других корпусов, то и там не лучше, так как соблазны те же самые. «Вчера — пишет Демулен — артиллерия последовала примеру французской гвардии, осилила караул и вторглась в Пале-Рояль, чтобы примкнуть к патриотам. Простонародье прицепляется к военным и с криками: „Идем! Да здравствует третье сословие“! увлекает их в кабачок, где все вместе пьют за здоровье коммуны. Драгуны говорят офицеру, ведущему их в Версаль: „Теперь мы повинуемся вам, но когда придем в Версаль“ вы там скажите министрам, что если нас поведут против наших же сограждан, то первый выстрел будет в вас». Когда двадцать человек солдат привели в дом Инвалидов и заставили их спять курки и шомполы с хранящихся там ружей, которые народ покушался забрать, то они за шесть часов управились всего с двадцатью ружьями: очевидно им желательно было оставить оружие в целости в пользу черни, когда та явится грабить склад. Одним словом, большая часть армии изменила. Как бы ни был хорош начальник, но достаточно того, что он начальник, чтобы его считали за врага. Губернатор де Сомбрейль, которого эти люди ни в чем не могут упрекнуть, не сегодня-завтра увидим, как его канониры направят орудие против его дома и, пожалуй, собственными руками повесят его на решетке. Таким образом военная сила, употребляемая для подавления бунта, служит лишь к тому, чтобы пополнять собою ряды бунтовщиков. Хуже того, выставка оружия, которою рассчитывали сдерживать толпу, вызывает возбуждение, завершающееся бунтом.
Роковой момент наступил: это не то, что одно правительство падает, чтобы уступить место другому, а прямо-таки правительство перестает существовать, предоставляя господство деспотизму толпы, которую гонят, очертя голову, вперед, раздутый энтузиазм, легковерие, нищета и страх. [21] Подобно прирученному слону, в котором вдруг заговорили дикие инстинкты, народ одним жестом сбрасывает на землю своего обычного вожака и если позволяет другим взобраться на его шею, то разве только для виду, теперь ему не нужно вожака; он идет куда глаза глядят, лишенный разума и повинующийся только своим чувствам, инстинктам и желаниям. Очевидно, заботливая рука хотела только предупредить опасные скачки в сторону: король воспретил всякое насилие; офицеры запрещают солдатам стрелять, [22] но раздраженное дикое животное принимает все предосторожности для своих дальнейших преступных шагов; в будущем он намерено руководиться своею волею, а для начала оно давит своих сторожей.
12 июля, около полудня, [23] при получении известия об отставке и высылке Неккера, в Пале-Рояле поднимается неистовый крик. Камилл Демулен взбирается на стол и возвещает толпе, что двор замышляет устроить патриотическую Варфоломеевскую ночь. Его обнимают, берут от него предложенную зеленую кокарду, делают распоряжение о том, чтобы вое танцевальные залы, все театра были закрыты в знак траура, отправляются к Курциусу за бюстами герцога Орлеанского и Неккера и проходят с ними торжественною процессией по городу. Тем временем драгуны принца лотарингского Ламбеска, выстроенные на площади Людовика XV, встречают при входе в Тюльери баррикаду из стульев и их забрасывают, целым дождем каменьев и бутылок. На бульваре, перед отелем Монморанси, французская, гвардия, вырвавшись из казарм, стреляет по оставшемуся верным отряду Королевского Германского полка. [24] Со всех сторон раздаются удары набата; оружейные магазины разграблены; городская ратуша занята народом. Встретившиеся там человек 15–16 добровольных избирателей порешают созвать уезды и вооружить их. Объявился новый властелин: уличная, вооруженная толпа. На поверхность не замедлили всплыть подонки общества. В ночь с 12 на 13 июля «все заставы, начиная с Сент-Антуанского предместья до Сент-Оноре, и, кроме того, на Сен-Марсельском и Сен-Жакском предместье захвачены и сожжены». Акциза (octroi) более не существует; город остается без дохода, как раз в такое время, когда расходы усилились. Но что за дело до этого черни, заботящейся прежде всего о том, чтобы вино было дешево; разбойники, вооруженные кольями и дубинами, носятся по городу целыми легионами, грабя имущество тех, кого считают противниками общественного блага“. Они ходят из дома в дом, горланя: Оружия и хлеба! В продолжение всей этой ужасной ночи буржуазия сидела, запершись у себя дома, дрожа за себя и за своих близких. На другой день, 13-го, столица, по-видимому, окончательно отдана во власть черни и разбойникам. Шайка басурманов вырубает топором ворота Лазаристского миссионерского дома, разрушает библиотеку, шкафы, картины, окна, физический кабинет, бросается в погреба, опустошает бочки и напивается до мертва: сутки спустя там нашли тридцать мертвых тел, мужчин и женщин, из которых одна была на девятом месяце беременности. Улица перед домом [25] загромождена обломками и всякою домашнею утварью разбойники, кто с куском чего-либо съестного, кто с жбаном в руках, „заставляют всякого прохожего пить, поминутно подливая вина. По скату, вино стекает в канаву; воздух, насыщенный винными парами, ударяет в голову; это какой-то карнавал. Тем временем из монастыря выносят хлеб в зерне и муку, что по уставу, лазаристы обязаны были всегда иметь про запас в складе; кули отправляются на сорока двух подводах на рынок.
Другое войско отправляется в крепость освобождать содержавшихся там неоплатных должников; третье пробирается в арсенал грабить оружие и ценные военные доспехи. Шайки черни толпятся у дома Брешейля и у Бурбонского дворца с целью опустошить их и тем наказать их владельцев. Орда преследует Крона, одного из либеральнейших и уважаемых парижан, но который, к сожалению, имел несчастие служить в полиции, ему удается спастись от разъяренной толпы, но дом его разграблен дочиста. — В ночь с 13 на 14 чернь грабит булочные и винные погреба. «Целое полчище оборванцев, вооруженных ружьями, вилами и кольями, заставляют открывать им двери домов, давать им пить, есть, деньги и оружие». До этого времени никто еще никогда не видывал на улицах таких бродяг, «почти догола раздетых, с ужасными физиономиями, вооруженных как дикари». Многие из них какие-то чужеземцы, явившиеся неведомо откуда. [26] Говорят, что таких оборванцев набралось до 50 тысяч, и они держали в своих руках главные посты.
«В течение этих двух суток, говорит Байльи, Париж чуть было не весь был разграблен; он спасен от разбойников только благодаря национальной гвардии». Среди бела дня на бойких улицах «твари выдергивали серьги из ушей гражданок и снимали с лих башмаки», тут же нагло потешаясь над своими жертвами. — По счастью, сорганизовалась милиция, в которую не замедлили записаться первые обыватели, дворяне. Набралось 48 тысяч человек; из них составилось несколько батальонов и рот. Буржуа покупал у бродяг ружья за три ливра, а шпаги, сабли и пистолеты за 12 су.
Наконец на площади повесили несколько негодяев, массу других обезоружили, и восстание начинает принимать чисто политический характер. Но какова бы ни была его идея, все-таки она безумна, потому что это восстание народное. Даже панегирист его Дюсо признается, что порою ему казалось, что он присутствует при полном разложении общества. Нет ни главы, ни управления.
На первый взгляд, казалось, как будто избиратели, изображающие собою представителей Парижа, руководят толпою, в сущности, же толпа командует ими. Чтобы спасти городскую ратушу, один из них, именно Легран, не нашел ничего лучшего, как выкатить шесть бочек пороха и заявить завладевшим ею, что он прикажет сейчас все взорвать на воздух. Избранный ими командир, де ла Салль, в какие-нибудь четверть часа получает двадцать штыков в грудь и весь комитет не раз подвергается риску быть перерезанным.
Вообразите себя в палате, где они ведут переговоры и расточают мольбы, «толпу в полторы тысячи человек теснимую несколькими сотнями тысяч других пытающихся войти», при этом деревянные ступени трещат, скамейки опрокидываются, балясы, огораживающие столы, сдвинуты до самого президентского кресла, а кругом такой гвалт, как будто наступил день страшного суда: там раздирающие душу крики, тут песни, хохот, шиканье, «люди совсем обезумели и большая часть их не знает ни где они, ни чего хотят». Каждый округ сам собою представляет небольшой центр; Пале-Рояль же главное средоточие всего и всех. Разные предложения, представления, обвинения переходят из рук в руки вместе с человеческим потоком, который закруживается или несется вперед, повинуясь только капризам русла. Волна устремляется то туда, то сюда; вся стратегия состоит в том, чтобы теснить и быть тесниму. Если они куда-либо попадают, то лишь потому, что их туда загоняют. В дом Инвалидов они протискиваются только благодаря поблажке солдат.
В Бастилии они обстреливали стены, высотою в сорок футов и толщиною в тридцать, [27] с десяти часов утра до пяти вечера, и только по случайности одна из пуль попала в инвалида на башне. С ними обращаются как с детьми, которым стараются сделать как можно меньше вреда: по первому же требованию, губернатор приказывает убрать пушки из амбразур и заставляет гарнизон поклясться, что он не станет стрелять, если на него не будут нападать; первую депутацию он приглашает завтракать; посланному из городской ратуши он дает разрешение посетить все помещения крепости; несколько залпов подряд он выдерживает, не отвечая тем же и допускает сожжение первого моста, не сделав ни одного выстрела. [28] Он решается наконец стрелять только в последней крайности, при защите второго моста, и то известив предварительно нападающих, что он открывает огонь. Одним словом, долготерпение его и кротость беспредельны, вполне соответствующие гуманности того века. Народ же совсем обезумел от всего происходящего, от запаха пороха и от шума выстрелов, он только и знает, что отбиваться камнями; его средства спасения вполне соответствуют его тактике. Какой-то пивовар думает сжечь эту каменную глыбу (Бастилию), поливая её лавандовым и гвоздичным маслом, смешанным с фосфором. Некий молодой плотник, питающий слабость к археологии, предлагает построить катапульт древний — стреломет. Кто-то кричит, что захватили губернаторскую дочь и намереваются сжечь ее, чтобы заставить отца сдаться. Другие поджигают переднее строение здания, набитое соломою, и тем загораживают проход. «Бастилия была взята не приступом — говорил один из сражавшихся, — она сдалась еще до атаки, заручившись обещанием, что никому не будет сделано никакого зла. У гарнизона, обладавшего всеми средствами защиты, просто не хватало мужества стрелять по живым телам; с другой стороны, он была, сильно напуган видом этой огромной толпы. Осаждающих было всего восемьсот-девятьсот человек; это были разные рабочие и лавочники из ближайших мест, портные, каретники, бакалейщики, виноторговцы, смешавшиеся с национальною гвардией; но площадь Бастилии и все прилегающие улицы были переполнены любопытными, которые сбежались смотреть на зрелище. Среди них, говорит один очевидец, [29] масса нарядных женщин с веселыми, оживленными лицами, «оставившие свои экипажи в некотором расстоянии». С высоты парапетов ста двадцати человекам крепостного гарнизона казалось, что на них идет весь Париж. Они сами спустили подъемные мосты, по которым вступил неприятель. Все окончательно потеряли голову, как осажденные, так и наступающие, эти последние еще более, потому что победа опьянила их.
Едва вступив в крепость, они пошли все разрушать, и последние ряды стреляли в первые наугад: «каждый стрелял, не обращая внимания куда и в кого попадали заряды». Неожиданная власть делать, что угодно и распоряжаться человеческою жизнью — вино слишком сильное для человеческой природы; при наступающем головокружении, человек все видит в красном и неистовство его переходит в дикое зверство. Сущность народного восстания в том и заключается, что, вырвавшись из руководившей ими власти, страсти разнуздываются и геройство смешивается с убийством. Эли, вошедший первым, Шолла, Гюллен, храбрецы первых рядов, солдаты французской гвардии, знакомые с законами войны, те стараются сдержать данное слово; но толпа, наседающая на них сзади, не знает кого бить, и бьет наугад. Она щадит швейцарцев, стрелявших в нее, потому что, по синим балахонам, принимает их за арестантов; а, вместе с тем, с остервенением набрасывается на инвалидов, открывших ей ворота. Тому человеку, который помешал губернатору взорвать крепость, отсекают саблею кисть руки, затем протыкают его насквозь двумя ударами шпаги и вешают, а руку его, ту самую, что спасла целый квартал Парижа, как трофей, носят по городу. За долгие часы обстреливания крепости в толпе проснулся инстинкт убийства: жажда крови, не поборимым стремлением, охватила даже тех, кто до этого стоял далеко в стороне. Малейший крик увлекает их: для этого достаточно возгласа «караул!» Стоит посмотреть, что один бьет, как и другие начинают делать то же самое. «У кого не было при себя оружия — говорит один офицер [30] — тот бросал в меня каменья; женщины скрежетали зубами и грозили мне кулаками. Позади меня уже были убиты двое из моих солдат… Наконец, под общею угрозою быть повешенным, я добрался до городской ратуши, от которой находился в расстоянии ста шагов, тогда ко мне поднесли насаженную на копье человеческую голову, советуя полюбоваться ею, так как это голова Лонея (губернатора)». Несчастный, выходя, получил удар шпаги в правое плечо; когда он проходил по улице Сент-Антуан, «ему рвали волосы и наносили удары». Под аркой Сен-Жан он был «опасно ранен». Вокруг него спорили; кто говорил «надо ему перерезать шею», другие хотели «повесить его», наконец, третьи предпочитали «привязать к хвосту лошади». В полном отчаянии, желая избавиться от мук, несчастный возопил: «пусть убьют меня!» и, отбиваясь, толкнул ногою в нижнюю часть живота одного из державших его. В ту же минуту его подхватывают на штыки, волочат до канавы, топчут труп ногами, с криками: «это чудовище предало нас! нация требует его головы, чтобы показать ее народу!» и человеку, получившему пинок ногою, предоставляют привилегию собственноручно отсечь у трупа голову. Этот последний, какой-то вахлак, оказавшийся поваром без места, и «пришедший в Бастилию просто, чтобы поглазеть на происходящее „рассудил, что если, по общему мнению, дело это такое патриотическое, то за отсечение головы чудовищу, его могут еще наградить медалью“. И, взяв поданную саблю, он ударяет ею по голой шее; но сабля оказалась тупою; тогда он вынимает из кармана маленький ножик с черной рукояткой и „в качестве повара, умеющего расправляться с мясом“, благополучно заканчивает операцию. Затем, вздев голову на виду, он, в сопровождении более двухсот вооруженных лиц, „не считая черни“ отправляется в поход. На улице Сент-Оноре к голове привязывают две надписи, чтобы все звали, кому она принадлежала. Процессию охватывает веселое настроение. Пройдясь по Пале-Роялю, она приходит к Новому мосту: перед статуей Генриха IV голову троекратно нагибают, приговаривая: „кланяйся своему господину“!» И в палаче сказывается шалун-мальчишка!
Между тем в Пале-Рояле другие «шалуны, управляющие человеческими жизнями» с таким же легкомыслием, как и своими словами, составили в ночь с 13 на 14 список приговоренных к смертной казни и распространяют экземпляры его по городу. Они озаботились доставить по экземпляру каждому из лиц, поименованных в списке, а именно: графу д'Артуа, маршалу де Брольи, принцу де Ламбеск, барону де Безанваль, Бретейлю, Фуллону, Бертье, Мори, д’Эспременилю, Лефевру, д’Амекуру и еще другим. Обещана награда тем, кто принесет их головы в кафе Каво. Вот находка для разнузданной толпы! Теперь достаточно какой-нибудь шайки встретить кого-либо из поименованных; несчастный может быть уверен, что дальше следующего фонаря не дойдет. Весь день 14 числа импровизированный трибунал заседал без перерыва и завершает свои постановления немедленным исполнением.
Флессель, городской голова и председатель гласных городской ратуши, проявивший нерадение, [31] объявлен изменником, и Пале-Рояль приказывает его схватить. По дороге какой-то молодой человек убивает его выстрелом из пистолета: другие набрасываются на его тело, и голова его, насаженная на копье, присоединяется к голове Лонея. Обвинения, носящие в себе смерть, разносятся по воздуху в все стороны. «Пользовались малейшим предлогом, рассказывает один избиратель, чтобы оговаривать тех, кого считали противниками революции или, что то же самое, врагами государства. Без всякой проверки, отдавался приказ схватывать таких лиц, разорять их дома, сносить их отели. Один молодой человек крикнул: „Сию минуту следовать за мной! Идем к Безанвалю!“ Все так напуганы, так подозрительны, что на улице ежеминутно приходится объявлять свое имя, занятие, местожительство и свои намерения… Нельзя ни приехать в Париж, ни выехать из него без того, чтобы не возбудить подозрения в измене». Принца де Монбарей, известного либерала, сторонника новых идей, карету которого задержали у заставы, чуть было не растерзали на куски, вместе с супругою. Одного депутата от дворянства, шедшего в Национальное Собрание, высадили из экипажа и отвели на Гревскую площадь; (место казни преступников); здесь ему показали труп Лонея и предупредили, что с ним будет поступлено таким же образом. Каждого жизнь висела на волоске; и в последующие дни, когда король удалил свои войска, отставил министров, призвал Неккера, согласный решительно на все, опасность не уменьшилась. Предоставленная революционерам и самой себе, толпа продолжала свои зверства, и муниципальные начальники, которым она вполне верила, [32] Бальи — мэр города Парижа, и Лафайет — командир национальной гвардии, вынуждены были хитрить с нею, умолять ее становиться между нею и теми несчастными, на которых она набрасывалась.
15 июля, ночью, во дворе городской ратуши задержали одну женщину, переодетую мужчиной, и так надругались над нею, что она лишилась чувств; Байльи, чтобы спасти ее, вынужден притвориться разгневанным на нее и тотчас же препроводил ее в тюрьму. С 14 по 22 июля Лафайет, рискуя собственною жизнью, спасает семнадцать человек в разных кварталах. [33] 22 июля, по доносу, которые распространяются по Парижу, подобно пыли, гонимой ветром, два выдающихся администратора, государственный советник Фуллон и его зять Бертье, арестованы — один близь Фонтенбло, а другой близи. Компьена. Фуллон, человек суровый, но умный и полезный, затратил в прошлую зиму 60 тысяч франков, организуя в своих поместьях работы для бедных. Бертье, очень деятельный и даровитый администратор, кадастрировал Иль-де-Франс, чтобы уравнять налоги, что сократило их сначала на 1/8, потом на 1/4 в слишком сильно обремененных ими местностям. Но оба провинились перед революцией тем, что хотели урегулировать план борьбы, и потому оба занесены в проскрипционный список Пале-Роялэ. А в глазах сбитого с толку, голодного, ошалевшего народа обвиненный — тот же виновный. Про Фуллона, как и про Ревельона, сложилась легенда, сочиненная самим народом и пущенная им же в оборот, в которой он чувствовал потребность излить свои страдания. [34] Легенда эта гласила: «Он говорит, что мы ничем не лучше его лошадей, и если у нас нет хлеба, то можем есть сено».
Семидесятичетырехлетнего старика привели в Париж с вязанкой сена на голове, с венком из чертополоха на шее, а рот его был набит сеном. Напрасно бюро избирателей, желая спасти старика, отдает приказание отправить его в тюрьму; толпа горланит: «осужден и будет повешен» и авторитетно называет судей. Напрасно Лафайет троекратно настаивает, потом умоляет совершить над стариком суд правый и препроводить обвиняемого в Аббатство; нахлынул новый поток толпы и какой-то «прилично одетый» господин кричит: «Какой еще суд нужен для человека, осужденного еще тридцать лет тому назад?» Фуллона подхватывают, волокут на площадь, подвязывают к фонарю; веревка два раза обрывается и два раза он падает на землю; тогда берут новую веревку, вздергивают несчастного, затем отрубают ему голову и насаживают ее на копье. [35] В это время привезли под конвоем Бертье, отправленного из Компьена муниципалитетом, который не смел его больше держать в тюрьме, ему продолжали угрожать. Вокруг него несли, объявления, испещренные позорными эпитетами. На остановках в карету ему бросали куски черствого черного хлеба, приговаривая: «На, возьми, негодяй, тот хлеб, который ты заставлял нас есть»! Перед церковью Сен-Мерри над ним разражается настоящий гром всевозможных сквернословий. «Хотя он никогда не покупал, не продавал ни зерна хлеба», его обзывают барышником. В глазах толпы, всегда желающей свалить зло на кого-либо другого, он-то самый и есть виновник голода. Приведя его в Аббатство, стража рассеялась. Озверевшая чернь толкает его к фонарю. Тогда, видя себя погибшим, Бертье выхватывает у первого попавшегося ружье и начинает отбиваться. В эту минуту один из солдат вспарывает ему живот ударом сабли, а другой вырывает сердце. Случайно, здесь находится тот самый повар, который отсек голову Лонею; ему дают нести сердце, солдат берет голову, и оба отправляются в городскую ратушу показывать трофеи Лафайету.
Оттуда они возвращаются в Пале-Рояль и присаживаются к столику в кабачке. Народ требует от них смертные останки Бертье; они выбрасывают их в окно, а сами преспокойно продолжают ужинать, в то время как по земле катается брошенное сердце вместе с букетом белой гвоздики.
Вот какое зрелище представляет этот сад, где еще год тому назад собиралась после оперы «веселая компания» разодетой публики послушать нежную скрипку Сен-Жоржа или чарующий голос Тара.
Отныне ясно, что никто не может быть спокоен за себя: ни новая милиция, ни новые власти не в силах заставить уважать законы. «Теперь никто не смел противиться народу, который восемь дней тому назад взял Бастилию» — говорит Байльи. [36] Напрасно, после двух последних убийств и возмущения Байльи и Лафайет угрожают уйти; их заставляют остаться: какова бы ни была их защита, но это единственное, что остается, и если национальная гвардия не могла предупредить всех убийств, то все же предотвратила некоторые. При таких условиях каждый живет, как может, в постоянном ожидании каких-либо новых насилий черни. «Для всякого беспристрастного человека, пишет Мануэ, террор начинается с 14 июля». 17-го перед выездом из Парижа король причащается и делает распоряжение на случай убиения. С 16 по 18 из Франции убегают двадцать лиц из высших чинов, в том числе те, за чьи головы Пале-Рояль назначил премии, а именно: граф д’Артуа, маршал де Брольи, принцы де Конде, де Конти, де Ламбеск, де Водемон, графиня де Полиньяк, герцогини де Полиньяк и Гиш. На другой день после двух убийств, Крон, Думерк, Сюро — наиболее ревностные и деятельные члены продовольственного комитета, а также все заведующие закупкой хлеба и продовольственными магазинами попрятались или разбежались. Накануне этих двух убийств, под угрозой возмущения, парижские нотариусы должны были выдать 45 тысяч франков, обещанные рабочим Сент-Антуанского предместья, и общественное казначейство, почти уже пустое, выдает ежедневно 30 тысяч ливров, чтобы понизить стоимость хлеба. Люди и имущество, малые и великие, частные лица и должностные, даже само правительство — все находится в руках народной массы. «С этого момента, говорит один депутат, [37] нет больше свободы, даже в Национальном Собрании… Франция… смолкла перед тридцатью крамольниками. Собрание становится в их руках пассивным орудием, которым они пользуются для выполнения своих проектов». Да и они не руководят, хотя на первый взгляд и кажется, что куда-то ведут народ. Огромное животное, закусившее удила, все-таки чувствует их во рту, и ляганья его становятся все злее и свирепее, потому что его не только по-прежнему продолжают жалить два вспугнувшие его жала — я говорю про потребность нововведений и про ежедневную нужду — но еще в уши ему жужжат разные политические трутни, размножившиеся тысячами; а своеволие, которым он пользуется впервые, и аплодисменты, которые перед ним расточают, еще более разгорячают его.
Восстание прославляют; ни один убийца не находится под следствием, но зато министров, обвиняемых в заговоре, Собрание отдало под суд. Победителям Бастилии расточают награды, заявляют, что они спасли Францию. Народ прославляют за его здравый смысл, великодушие, справедливость. Нового властелина боготворят; ему твердят и на улицах, и в газетах, и в Собрании, что он обладает всеми добродетелями, всеми правами, всеми полномочиями. Если он проливает кровь, то без умысла, потому что его вызывают на это, и притом даже тут им руководит безошибочный инстинкт.
Да и наконец — говорит один депутат — была ли эта кровь столь чиста? Большинство доверяют более теоретическим рассуждениям книг, чем собственным глазам: они живут упорною иллюзией, которую создали себе. Мечта их, отрешаясь от настоящего, покоится на будущем. Завтра, когда объявят конституцию, народ, сделавшись счастливым, станет благоразумным; так покоримся же буре, которая приведет нас к такой прекрасной, тихой пристани!
А пока из-за спины бездеятельного, безоружного короля и непослушного и неумеющего внушить послушание Собрания, выдвигается настоящий монарх, народ, т.е. толпа, сто, тысяча, десять тысяч индивидуумов, собравшихся случайно по зову, по тревоге, и тут же сразу сделавшихся законодателями, судьями и палачами. Сила грозная, разрушительная, смутная! Никакая рука не в состоянии остановить ее. Вместе с матерью своею, дикою, чудовищною Свободою, она воссела на пороге Революции подобно двум мильтоновским страшилищам у врат ада. «Одно из них до половины туловища имело вид прекрасной женщины, но с отвратительным чешуйчатым хвостом, толстым и огромным; это была змея, вооруженная смертоносным жалом. У пояса её извивалась целая свора вечно лающих адских собак с широко разинутыми пастями, издававшими неистовый отвратительный трезвон; но когда хотели, собаки ползком, точно боясь собственного шума, убирались в её чрево, служившее им конурою, и оттуда, никому невидимые, продолжали еще выть и лаять… Другое чудовище имело форму… но разве можно назвать формою бесформенную массу без членов, суставов и стана… или существом то, что казалось тенью?.. Оно стояло черное как ночь, суровое, как десять фурий, взятых вместе, страшное, как ад, и поводило грозным жалом… На том месте, где предполагалась голова, оно имело нечто в роде королевской короны… И страшными шагами оно надвигалось вперед».
Глава III. Анархия
Анархия от 14 июля до 6 октября 1789 года. Уничтожение правительства. Кому принадлежит действительная власть. Провинция. Уничтожение прежней власти. Недостаточность новой власти. Настроение народа. Голод. Паника. Всеобщее вооружение. Покушения на общественных деятелей и общественное имущество. В Страсбурге. В Шербурге. В Мобеже. В Руане. В Безансоне. В Труа. Податей более не платят. Расхищение лесов. Новое право охоты. Покушение на частных лиц и частные имущества. Аристократы, объявленные врагами народа. Влияние новостей из Парижа. Влияние деревенских поверенных. Отдельные случаи насилий. Общая жакерия на востоке. Война против замков, феодальных владений и собственности. Приготовления к другим жакериям.
Как бы ни было дурно правительство, есть нечто худшее, это — уничтожение правительства. Благодаря правительству человеческие воли приводятся в согласование и устраняется беспорядок. Оно в обществе играет роль мозга в живом организме. Неспособный, нерассудительный, расточительный, всепоглощающий мир, часто злоупотребляет своим положением и переутомляет или сбивает с пути тело, о котором он должен был бы заботиться, направляя его. Но даже и при всем этом, каков ни на есть, он всё же приносит больше добра, чем зла; благодаря ему тело держится прямо, движется и координирует свои поступки. Без него — нет обдуманного последовательного, полезного всему организму. В нем одном сосредоточивается общий взгляд на вещи, познание работоспособности членов, представление о внешнем мире, точная и полная осведомленность, предусмотрительность, короче — высший разум, который понимает общий интерес и комбинирует целесообразные средства. Если мозг ослабевает и не повинуется более, если он подавлен и направлен на ложный путь грубым давлением страсти, разум перестает руководить общественными делами и социальный организм отступает на несколько шагов в своем развитии. Вследствие разложения общества и изолированности индивидуумов, каждый человек впадает в свое первобытное бессилие, и вся власть переходит к временным сборищам, которые вздымаются вихрями из человеческого праха. Можно предугадать как будут импровизированные банды упражняться во власти, применение которой дается с трудом и наиболее компетентным людям. Дело идет о жизненных припасах, пользовании ими, об их ценах и распределении их, о налогах, об их процентном отношении к имуществу, об их раскладке и сборе, о частной собственности, о родах её, о её правах и пределах, об установленной правительством власти, с её преимуществами и обязанностями, о всем сложном, хрупком механизме экономической, социальной и политической машины, те колеса этого механизма, которые под рукой, каждая банда в своем округе хватает грубыми руками, крутит их или ломает, случайно, под влиянием минуты, без мысли и заботы о последствиях, даже если возвратный удар может отразиться на ней же и завтра же раздавить ее под развалинами, того, что она сегодня разрушила. Так разбившие оковы негры, тянут и толкают каждый в свою сторону, когда берутся управлять кораблем, которым они завладели. В подобном случае белые не лучше негров; банда, имеющая целью насилие, не только формируется из самых несчастных, экзальтированных людей, наиболее склонных к разрушению и своеволию, но при этом беспорядочно учиняя насилие каждый из наиболее грубых, наиболее безрассудных и развращенных, опускается еще ниже своего обычного уровня, в самые мрачные глубины, зверских безумных подонков своего существа. Действительно, для того чтобы человеку, претерпевшему или нанесшему побои, устоять от опьянения насилием и не злоупотребить своей силой как дикарю, нужна практика военной службы, привычка к опасности, хладнокровию, чувство чести, особенно же непрестанная память о строгом военном уставе, который в воображение всякого солдата внедряет представление о виселице в перспективе и уверенность в серьезной каре за каждый лишний удар. Подобной узды, извне и изнутри, не достает участнику мятежа. Он новичок в насилии. Он уж не боится закона, так как закон им же уничтожен. Начатое действие увлекает его далее, чем бы он хотел. Его гнев возбуждается опасностью и сопротивлением. К нему пристает лихорадка от соприкосновения с зараженными ею, и он идет за разбойниками, которые стали его товарищами. [38]
Прибавьте к этому вопли, пьянство, зрелище разрушения, физическое потрясение нервов, натянутых более того, что они в силах перенести, и вы поймете, как крестьянин, рабочий, буржуа, усмиренный и прирученный многолетней цивилизацией, вдруг превращается в варвара; хуже, в первобытное животное, в кривляющуюся обезьяну, кровожадную и похотливую, которая убивает с издевательством и кувыркается на развалинах того, что они разрушили. Таково правительство, которому была обречена Франция и после восемнадцатимесячного опыта, самый компетентный, основательнейший и наиболее глубокий наблюдатель Революции мог сравнить с ним только нашествие на Римскую Империю в четвертом веке: [39] «гуны, герулы, вандалы и готы не придут ни с севера, ни от Черного моря — они посреди нас».
Если в каком-нибудь здании главная балка погнулась, от неё пойдут трещины, все увеличиваясь, и второстепенные бревна обрушиваются одно за другим, теряя опору, которая их поддерживала. Подобным образом, когда рухнул авторитет короля, рухнули и все власти, которым он давал полномочия, [40] интенданты, парламенты, военные командиры, судьи, чиновники администрации, суд и полиция, наученные убийством де Лонея, тюремным заключением Безанваля, бегством маршала де-Брольи, убийством Фуллона и Бертье знают во что обходится исполнение долга, а опасаясь, что они еще не поняли, мятежники являются на место, чтобы схватить их за шиворот.
Коменданта Бургундии заключают под арест в Дижоне, ставят стражу у дверей и запрещают ему говорить с кем бы то ни было без разрешения и без свидетелей. Комендант Кана осажден в старом дворце и капитулирует. Комендант Бордо доставляет снаряжение и ружья в Шато-Тромпет. Комендант Меца, который еще держится, переносит оскорбления и выслушивает приказания черни. Комендант Бретани блуждает «бродягой» по всей провинции, в то время как в Ренне его слуг, мебель и посуду держат в залоге; как только он перешагнул в Нормандию, его хватают и к его двери ставят часового. Интендант Безансона в бегах; интендант Руана присутствует при разграблении своего дома и спасается при криках шайки, требующей его головы. В Ренне старейшина парламента остановлен, избит, посажен под арест в своей квартире, затем выслан из города, больной и под стражей. В Страсбурге «тридцать шесть домов должностных лиц отмечены для разграбления». В Безансоне президент парламента принужден освободить мятежников, арестованных за предшествовавший мятеж и публично сжечь все делопроизводство по этому процессу. В Эльзасе при первой смуте полицейские должны были бежать; муниципальные власти, судьи попрятались, лесные инспекторы спаслись, но жилища сторожей были разрушены: одного из лесников, человека шестидесяти лет, всего избитого тащили но деревне, вырывая ему волосы; от его дома остались только стены и часть крыши; вся его обстановка и пожитки были изломаны, сожжены или раскрадены, его заставили с женою подписать акт, которым он обязуется возвратить все штрафы, которые он налагал и дает расписку о не взыскании за погром, которому он подвергся. Во Франш-Конте уездные суды не смеют осуждать преступников, объезды не арестуют их более, военный комендант пишет «что преступления всякого рода множатся и что нет никакого сродства карать за них». Во всех провинциях неповиновение продолжается и провинциальная комиссия печально говорит: «Когда все власти смешаны, уничтожены, когда общественная сила ничтожна, когда все связи порваны, когда каждый индивидуум считает себя свободным от всякого рода обязательства, когда правительственная власть не смеет более проявить себя и применение её считается преступлением, какого успеха можно ожидать от наших усилий восстановить порядок? От большего разрушенного государства остается сорок тысяч человеческих куч; каждая изолированная и отделенная одна от другой: города, местечки, деревни, где муниципалитеты, выборные комитеты, импровизированные национальные охраны, пытаются устранить хотя бы грубейшие насилия». Но местные начальники еще новички: они гуманны, они робки; выбранные всеобщим голосованием, они верят в права народа; окруженные мятежниками, они понимают, что находятся в опасности. Вот почему чаще всего они повинуются толпе. «Никогда почти, пишет одна из провинциальных комиссий, [41] муниципалитет никого не обвиняет; скорее он допустит совершиться величайшему насилию, чем вынести обвинение, за которое его сограждане рано или поздно могут привлечь его к ответственности… Муниципалитеты уже не в силах отказывать… В особенности же в деревнях, мэр или синдик — земледелец, — прежде всего думает о том, чтобы не нажить себе врагов и согласен отказаться от своего поста, если он может навлечь на него неприятности…» В городах и особенно в больших поселениях, администрация почти также слаба и еще более зависит от случая: так как горючего материала здесь накопилось еще больше, и муниципальные чиновники, на своих креслах в присутствиях сидят на мине, которая в любой день может взорваться. Может быть, завтра же какое-нибудь постановление, вотированное на подгородном постоялом дворе, или зажигательная статья в газете, прибывшей из Парижа, заронит искру. — Против черни у них нет никакой защиты, кроме сентиментальных прокламаций Национального Собрания, бесполезного присутствия войск, которые не вмешиваются в события и сомнительной помощи национальной гвардии, которая является слишком поздно. И нередко у буржуа, ставших владыками, вырываются вопли ужаса под рукою уличного владыки, схватившего их за горло. В Puy-en-Velay, в городе с двадцатью тысячами жителей — уездный суд, Комитет из двадцати четырех комиссаров, 200 драгун, 800 человек буржуазной гвардии — «все парализованы все оцепенели перед натиском самой низкой черни. Кроткие меры только увеличили её неповиновение и наглость». Чернь предписывает все, что захочет, и в течение шести дней, виселица, водруженная руками черни, возвещает новым властям судьбу, которая их ожидает. «Что с нами будет говорят они, зимой, в этом нищенском крае, где не хватает хлеба? Мы станем добычей хищных зверей».
Действительно, они голодают и со времени революции их нищета все возрастает. В окрестностях Ptiy-en-Velay страшная гроза, ужасный град, проливной дождь, опустошили страну, размыли землю. На юге, урожай был посредственный, а местами неудовлетворительный.
В Труа, хлеб покупают по 4 су за фунт; в Бар-сюр-Об и окрестностях — 4,5 су. В домах трудолюбия безработный мастеровой зарабатывает 12 су в день, а гуляя по окрестностям он видел, что хлеба хороши. Что иное может он вывести из этого, как ни то, что бедствие идет от скупщиков и что если он умирает с голоду, то потому, что злодеи хотят его уморить. Благодаря таким рассуждениям, всякий кто имеет дело с съестными припасами, землевладелец, фермер, торговец, администратор считается предателем. Очевидно, против народа составлен заговор, в нем участвуют правительство, королева, духовенство, аристократия, а также власти, крупная буржуазия, богатые. В Иль-де-Франс распускают слух, что мешки с мукой бросают в Сену, а недоспевшие хлеба на полях скармливают кавалерийским лошадям. В Бретани все уверены, что хлеб вывозят и накапливают запасы его заграницей. В Турене убеждены, что такой-то крупный торговец предпочитает, чтобы зерно прорастало в амбарах, а не хочет его продавать.
В Труа кричат, что другой торговец по поручению булочников отравил свою муку квасцами и мышьяком. Представьте себе эффект, который производили подобные подозрения в страдающей массе: волна ненависти поднимается от пустого желудка ко больному мозгу. Народ повсюду ищет воображаемых врагов и кидается вперед с закрытыми глазами, на кого или на что попало не только всей тяжестью своей массы, но и всей силой своей ярости.
Народ потерял голову с первых же недель. Привыкнув к тому, чтобы им управляли, людское стадо встревожилось, почувствовав себя покинутым. Ему не достает его руководителей, которых он сам же затоптал ногами. Освободившись от наложенных ими уз, он лишился и их покровительства. Он чувствует себя одиноким в незнакомой стране, подвергнутым всяким опасностям, которых он не знает и от которых не может защититься. Теперь, когда пастухи убиты или обезоружены, и вдруг явятся волки. Но волки уже тут, я говорю о бродягах и преступниках, которые сейчас же появились из скрывавшего их мрака. Они поджигают и грабят: при каждой вспышке мятежа они — первые. С тех пор, как полиция не ловит их, они вместо того, чтобы прятаться, являются повсюду открыто. Им стоит только сговориться и соединиться в шайку: всякая собственность и каждая человеческая жизнь будет в их власти. Глухое беспокойство, неопределенный страх распространяются по городам и деревням: внезапно к концу июля паника подобно вихрю с ослепляющей и удушливой пылью пролетает сотни миль.
Возвещают о появлении разбойников; они поджигают нивы: они в шести лье, теперь уже в двух лье, это подтверждают беглецы, спасающиеся в рассыпную. 28 июля в Ангулеме, около трех часов пополудни, раздается набат, бьют тревогу, призывают к оружию, подымают пушки на стены: надо привести город в оборонительное положение против приближающихся 15 тысяч разбойников. С высоты стен с ужасом видят столбы пыли на дороге. Оказывается — это почта, проезжавшая в Бордо. После этого число разбойников уменьшается до 1.500, но удостоверено, что они опустошают деревни. В 9 часам вечера уже 20 тысяч человек стоят под ружьем и так они проводят целую ночь, прислушиваясь к каждому звуку, но ничего не слыша.
К трем часам утра новая тревога, опять набат; строятся в боевой порядок, все уверены, что разбойники сожгли Рюффек, Вернель, Ларошфуко и другие места. На другой день против разбойников, все еще отсутствующих, являются на подкрепление деревенские обыватели.
К 9 часам, говорит один очевидец, у нас в городе было 40 тысяч человек, которых мы отпустили. Если бандиты не являются, значит они прячутся: сто человек конных и очень много пеших отправляются на поиски в Браканский лес и к величайшему своему удивлению, ничего там не находят. Но страхи не проходят в течение следующих дней, постоянно дежурит стража; образуются отряды из горожан, и извещенный о происходящем, Бордо присылает курьера с предложением 20 тысяч или даже 30 тысяч человек. «Но что удивительно, прибавляет рассказчик, это то, что на протяжении десяти лье в окрестностях, в каждом приходе было подобное же волнение и приблизительно в один и тот же час». Достаточно было какой-нибудь девушки, возвращающейся вечером в деревню, встретить двоих незнакомых. Такой случай был в Оверне; вслед за ним целые приходы спасаются ночью бегством в леса, покидая свои дома, таща за собой мебель; «беглецы топтали и портили собственные нивы; беременные женщины тоже прятались в лесах, другие теряли рассудок».
Ужас придавал им крылья; два года спустя у Мон-Дора показывали г-же Кампан остроконечную скалу, на которую вскарабкалась женщина и откуда ее спустили лишь при помощи веревок. Наконец, они возвратились к себе и жизнь их, по-видимому, начала входить в колею. Но сотрясение таких масс не проходит безнаказанно и подобный переполох сам по себе является живым источником тревоги: раз все поднялись значит существует опасность, и если эта опасность не со стороны разбойников, значит она идет откуда-нибудь из другого места Артур Юнг слышит в Эльзасе и в Дижоне за столом разговор о том, что королева устроила заговор, желая заложить мину под Национальным Собранием и вырезать весь Париж; позднее, в одной деревне близ Клермона, его остановили и допрашивали, подозревая, что он в заговоре с королевой и графом д’Антраг с целью взорвать город на воздух и выслать всех жителей, которые останутся в живых, на галеры.
Против все распложающихся призраков возбужденного воображения никакое рассуждение, никакой опыт недействительны. Отныне каждая община, каждый человек добывает себе оружие, и готовится пустить его в дело. Крестьянин шарить в своей кубышке и отыскивает десять или двенадцать франков на «покупку ружья». — В самых жалких деревушках имеется народная милиция. Во всех городах — гражданская стража, отряды волонтеров образуют патрули. По требованию муниципалитетов, военные коменданты доставляют оружие, припасы, обмундировку; в случае отказа, громят арсеналы и, таким образом, добровольно или силой в точение 6 месяцев 400 тысяч ружей переходят в руки народа. [42]
Недовольные этим, они хотят пушек. После того как Брест вытребовал себе пару, каждый город Бретани делает то же самое, здесь играет роль самолюбие, а также потребность ощутить свою силу. Теперь у них нет ни в чем недостатка, чтобы быть господами положения.
Вся власть, вся сила, все средства понудительные и устрашительные в их руках, исключительно в их руках, а при бездеятельности всех законных властей, эти могущественные руки руководствуются в своих делах лишь безумными внушениями голода или подозрительностью.
Было бы слишком долго рассказывать о всех их насилиях, об остановленных обозах, разграбленном хлебе, повешенных мельниках и хлеботорговцах, обезглавленных, зарезанных, о фермерах, у которых под угрозой смерти отняли все до запасенных семян включительно, о землевладельцах, с которых брали выкуп, о разгромленных домах. Безнаказанные, терпимые, прощаемые или слабо караемые, они повторяются, и увеличиваются насилия против общественных деятелей и общественной собственности. Но обыкновению, во главе идеи всякий сброд, он и накладывает свой отпечаток на весь мятеж.
19 июля в Страсбурге, получено известие о возвращении Неккера; чернь толкует по-своему народную радость, которой она является свидетелем. Пять или шесть сот босяков, к которым вскоре присоединились мастеровые, бегут к городской думе. Судьи, собравшиеся там, едва успевают спастись бегством чрез задний ход. Солдаты с оружием в руках остаются безучастными, а многие даже подбодряют осаждающих. Окна разлетаются вдребезги под градом камней, двери взламываются железными тисками и в здание бурным потоком врывается чернь при поощрительных криках зрителей. Тотчас же из всех отверстий фасада в восемьдесят фут — «льется дождь обломков рам, ставень, обрывков бумаг, затем летят черепицы, доски, перила, брусья». Архив разбросан, все окрестные улицы засыпаны бумагами; хартии привилегий; которым со времен Людовика XIV, гарантировалась городская свобода гибнут в пламени. Забравшись в погреба, выбивают днища у бочек с дорогим вином; пролито 15 миллионов ведер и образуется озеро вина глубиной в пять футов, в котором, многие тонут. С награбленной добычей проходят перед рядами солдат, которые никого не останавливают. В течение трех дней продолжается опустошение, дома, принадлежащие судьям разгромлены «от амбаров до погребов». Когда наконец честные граждане получают оружие и восстанавливают порядок, то решают повесить одного грабителя и этим удовлетворяются; но еще лучше — чтобы удовлетворить народ, сменяют судей, понижают цену на хлеб и мясо. После такой снисходительности и таких наград неудивительно, что бунт распространяется вширь и вдали, по окрестностям; действительно, начавшись в Страсбурге он бежит по Эльзасу и в деревнях, как и в городе, руководится пьяницами и негодяями.
На востоке ли, на севере или на западе все равно, первые зачинщики везде одни и те же. В Шербурге 21 июля двое главарей мятежа «воры с большой дороги», которые увлекают за собой женщин из предместий, иностранных матросов, портовую чернь и много солдат, переодетых рабочими. Они заставляют выдать себе ключи от хлебных магазинов, громят дома трех наиболее крупных негоциантов и дом суб-делегата г. Гаранта. «Все бумаги и дела сожжены», у одного Гаранта убытки исчисляют на малый конец в 100 тысяч экю.
Везде один и тот же инстинкт разрушения, что-то в роде яростной зависти к тем, кто владеет, управляет и наслаждается жизнью. В Мобеже, 27 июля, в тот самый момент, когда только что собрались представители общины, является и непосредственно вмешивается в обсуждение дел городская мелкота. Толпа рабочих, гвоздильщиков и оружейников вваливается в здание городского присутствия и требует у мора понижения цены на хлеб. Почти тотчас же другая шайка, с угрозами смерти кидается его преследовать и выбивает окна, тогда как гарнизон, призванный к оружию, спокойно созерцает погром. Смерть мэру, всем властям, всем чиновникам. Мятежники бросаются к тюрьмам, выпускают на свободу арестантов, нападают на помещение сборщиков податей. Будки, где собираются городские пошлины разрушены; портовое управление сравнено с землей, весы и гири выкинуты в реку. Все таможенные и акцизные склады разграблены, от смотрителей насильно отобраны подписки в том, что преследование не будет возбуждено. Дома интенданта, одного из старшин, контролера откупов, находящиеся в двухстах шагах от города разгромлены, двери и окна выбиты, обстановка и белье превращены в клочья, серебро и драгоценности выкинуты в колодезь. Такой же разгром произведен у мэра в его городском доме и на даче в расстоянии одного лье. «Нет ни одного окна, ни одной двери, ни одной вещи, которые остались бы целыми»; работали на совесть, не отдыхая ни одной минуты «с 10 часов вечера до 10 часов утра следующего дня». И по ходатайству замученных честных людей, мэр, прослуживший тридцать четыре года, выходит в отставку и покидает страну.
В Руане с 24 июля рукописное объявление на стенах выражает своей орфографией и слогом умственное развитие тех, кто его составлял, подготовляет к последовавшим за тем событиями: «Нация! вам надо срубить четыре головы, голову Понкарре (первый президент), Моссьена (интендант) Годара Бельбефа (генеральный прокурор) и Дюрана (городской королевский прокурор) Без того мы погибли, если вы этого не сделаете, вас сочтут нацией без сердца». Кажется, ясно, но муниципалитет, которому парламент указывает на этот проскрипционный список, отвечает со своим заказным оптимизмом «что ни один гражданин не может считаться и не должен себя считать обреченным; что он может и должен чувствовать себя в безопасности в своем жилище, уверенный, что не найдется ни одного человека в городе, который не был бы готов прийти к нему на помощь». Это значит — объявить черни, что она вольна делать, что ой вздумается. После этого главари восстания спокойно работают в течение десяти дней; один из них Журден, фельдшер из Лизье, и как большая часть его собратий, демагог: другой Бордье, бродячий актер из Парижа, известный своим исполнением роли Арлекина, содержатель игорного дома «кутила, ночной гуляка, запутавшийся в долгах, он должен Богу и черту», — он кинулся в патриотизм и сыграл настоящую трагедию в провинции. В ночь с 3 на 4 августа начинается пятый акт о Бордье и Журденом в первых ролях, за ними чернь и несколько шаек новых волонтеров.
Поднимается вопль: «Смерть барышникам! Смерть Моссьену, нам нужна его голова!» Грабят его дом, многие напиваются и засыпают в погребе. Казначейства, городские заставы, конторы для сбора пошлин, все места, где собираются королевские подати, разнесены дотла. Огромные костры загораются на улицах и на площади Старого Рынка; туда кидают мебель, одежду, бумаги, кухонную посуду; волокут экипажи и кидают их в Сену. Только после захвата городской ратуши национальная гвардия, испугавшись последствий, решается схватить Бордье и некоторых других.
Но на другой день кричащая толпа, под предводительством Журдена разбивает тюрьму, Бордье освобожден и интендантство с его канцелярией разгромлены вторично. Когда в конце концов оба эти негодяя были схвачены и их повели на виселицу, чернь так отстаивала их, что ради её обуздания пришлось выставить против неё артиллерию.
В Безансане 13 августа, вожаками бунта являются слуга содержателя зверинца, два преступника, один из них уже участвовал в предшествовавшем бунте, и много обывателей с дурной репутацией, бражничающих по ночам с солдатами. Артиллеристы оскорбляют встречных офицеров, хватают их за шиворот, хотят бросить одного из них в реку. Другие отправляются к командиру де Ланжерону, требуют у него денег, и на его отказ — срывают свои кокарды, с криками: «что они также принадлежат к третьему сословию», другими словами, что они хозяева; в заключение они требуют головы управителя де Гомартена, громят его дом и ломают у него мебель. На другой день, простонародье и солдаты ходят по кофейным, монастырям, трактирам, требуют себе вина и припасов, затем, подогретые вином, сжигают канцелярию акцизного управления, разбивают тюрьмы, освобождают контрабандистов и дезертиров. Чтобы остановить сатурналию, придумывают большой банкет на открытом воздухе, причем национальная гвардия братается с гарнизоном; но банкет превращается в оргию, целые роты лежат под столами мертвецки пьяные; другие тащат себе четыре бочки вина, а третьи, чувствуют себя обделенными, рассыпаются по окрестностям города и грабят винные погреба в деревнях. На другой день, соблазненные вчерашней удачей, часть гарнизона и большое число рабочих возобновляют ту же экспедицию по деревням. Наконец, после четырехдневной оргии, чтобы помешать окончательному разгрому Безансона и его окрестностей, гражданская стража, соединившись с оставшимися верными долгу солдатами, возмущается против бунта, преследует мародеров и в тот же вечер вешает двоих из них. Вот что такое это вторжение зверя, выпущенного в человеческую толпу, умеющего только жрать, портить, ломать, разорять, терзать самого себя. Если подробно проследить местную историю, то можно убедиться, что в то время надо было ежедневно ожидать подобных судорожных припадков.
В Труа [43] 18 июля, в базарный день, крестьяне отказываются заплатить ввозные городские пошлины; так как эти пошлины были перед тем отменены в Париже, они не должны взиматься и в Труа.
Возбужденная этим первым беспорядком, чернь скопляется и растаскивает хлеб и оружие. На другой день в ратушу врывается толпа в семь или восемь тысяч человек, вооруженных камнями и палками. На следующий день шайка, набранная из соседних деревень, вооруженная косами, вилами, лопатами выступает под предводительством столяра, который идет с поднятой саблей; к счастью, все что было честного среди буржуазии тотчас же образовало национальную гвардию и этот первый опыт жакерии был подавлен. Но волнение не унимается и ложные слухи не перестают его возбуждать. 29 июля распущен слух, что пять тысяч разбойников вышли из Парижа и придут все громить. В деревнях гудит набат, и крестьяне выходят с оружием в руках. Смутная опасность висит у всех над головами. Этим пользуются демагоги, чтобы мутить народ и при случае возбуждать его против властей. Бесполезно доказывать народу, что власти — патриоты, что они только что с энтузиазмом принимали Неккера, что священники, монахи, каноники первые нацепили национальные кокарды, что городская и окрестная знать либеральнейшие люди Франции, что 20 июля гражданская гвардия спасла город, что все богатые дают деньги на народные работы, что мэр Гуэц, неподкупный и почтенный человек, благодетель бедных и народа. Все прежние вожди в подозрении. 8 августа толпа требует отсылки драгун, раздачи оружия волонтерам, хлеба за 2 су, освобождения заключенных. 19 августа толпа вторгается в ратушу и разбирает оружие, а сентября двести человек, под предводительством Трюэлля, президента нового комитета, взламывает соляной склад и заставляет отпускать соль за 6 су. В то же время среди подонков города складывается легенда: хлеба не хватает от того, что мэр Гуэц и прежний комендант де Сен-Жорж — скупщики: и о Гуэце, как пять недель тому назад о Фуллоне, говорят «что он хочет заставить народ» есть сено. Народный зверь глухо рычит и готов кинуться. По обыкновению, вместо того, чтобы обуздать его, с ним нежничают. «Надо, пишет старшинам депутат Труа, в настоящий момент забыть о своей власти: поступайте с народом, как с другом, будьте мягки в обращении с ним, как с равным себе, и будьте уверены, что он может вернуться к вам». Таким образом поступал Гуэц и даже более того: презирая угрозы, отказываясь заботиться о собственной безопасности и почти обрекши себя на жертву. «Я не сделал никому зла, говорил он, за что же мне могут желать зла». Единственно чем выразилась его предусмотрительность, это в обеспечении после себя помощи несчастным: он отказал в завещании 18 тысяч ливров бедным и накануне своей смерти послал 100 экю в благотворительные бюро. Но что значит самоотречение и благодеяния перед слепой и безумной яростью?
9 сентября, три воза муки были найдены плохими, народ скопляется и попит: «Долой мучных торговцев! долой машины! Долой мэра! Смерть мэру. Трюэлля на место мэра!» Гуэца при выходе из заседания, сбивают с ног, его бьют кулаками, топчут ногами, его душат за горло, тащат в зал заседаний, бьют по голове деревянными башмаками, сбрасывают вниз с высокой лестницы. Тщетно муниципальные чиновники пытаются его защищать; ему накидывают на шею веревки и начинают тащить. Какой-то священник умоляет дать спастись хоть душе его, но его отталкивают и гоже бьют. Одна женщина бросается на поваленного на землю старика, топчет его лицо ногами, и несколько раз вонзает ему в глаза ножницы. Его тащат с веревкой на шее до моста на Сене, кидают на мелком месте, и потом опять вытаскивают, снова волокут по улицам, по сточным канавам набивают ему рот сеном. [44] Между тем его дом, а также дома лейтенанта объездной команды, нотариуса Гюйо, Сен-Жоржа, разгромлены: грабеж и раззорение продолжается в течение четырех часов; у нотариуса шестьсот бутылок вина выпито или расхищено; драгоценности поделили, все остальное до железного балкона включительно разрушено или испорчено, и бунтовщики, уходя, кричат, что им надо еще 27 домов сжечь и двадцать пять голов срубить. «Ни один человек в Труа, не ложился спать в эту несчастную ночь». В последующие дни, в точение двух недель, общество кажется уничтоженным. Прибитые на стенах объявления обрекают на смерть муниципальных чиновников, каноников, многих привилегированных лиц, главных купцов и даже дам-благотворительниц: последние в ужасе отказываются от своих обязанностей: много лиц бежит в деревню; другие забаррикадировались у себя и отворяют двери лишь с саблей в руках. Только 26 сентября люди порядка соединяются, овладевают городом и арестуют преступников. Такова общественная жизнь во Франции, начиная с 14 июля: в каждом городе власти чувствуют себя в распоряжении шайки диких, иногда шайки людоедов. В Труа они только что замучили Гуэца подобно гуронам; в Кане еще того хуже: старшина Бельсунса, не менее невинный и гарантированный, данной ему народом клятвой, был разрублен на части, как Лаперуз на островах Фиджи, и одна женщина съела его сердце.
При таких обстоятельствах можно предвидеть как поступали пошлины и как могли муниципалитеты, дрожавшие при каждом народном движении, поддерживать ненавистные права казны.
К концу сентября, я нахожу список тридцати шести комитетов или муниципалитетов, которые в районе 50 лье вокруг Парижа, отказываются наблюдать за сбором пошлин. Один допускает продажу безакцизной соли, чтобы не возбудить мятежников. Другой из предосторожности разоружил чиновников податного управления. В третьем, муниципальные чиновники первые стали торговать беспошлинной солью и табаком.
В Перонне и Гаме, когда получился указ о восстановлении застав, народ разрушил все кор-де-гардии, захватил всех служащих и приказал им выбираться вон в 24 часа, под страхом смерти; после двадцати месяцев сопротивления Париж сломил Национальное Собрание и добился окончательной отмены ввозных городских пошлин. Изо всех кредиторов, иго которых всякий чувствовал на своем хребте, казна была самым давящим, теперь она делается самым слабым; вот почему её иго и сбрасывается первым и нет кредитора, которого бы так ненавидели и поносили. Особенное озлобление выражается против соляных приставов, таможенных и «погребных крыс».
Они повсюду, под страхом смерти, принуждены бежать. В Фалезе, в Нормандии, хотят разрубить на куски податного инспектора. В Бенье, в Сентоже, его дом опустошен, пожитки и бумаги сожжены. Его сыну, ребенку шести лет, приставляют нож к горлу со словами: «Ты должен погибнуть, чтобы более никого не оставалось от твоего рода». В течение четырех часов его служащие находятся под страхом быть истерзанными в куски; спасенные по мольбе господина, над головой которого размахивали косами и саблями, они отпущены лишь под условием отказаться от своей «должности». Таким же образом, в течение двух месяцев, которые следуют за взятием Бастилии, восстания против косвенных налогов разражаются сотнями, как перестрелка. Начиная с 23 июля, управитель Шампаньи извещает «что восстание общее почти во всех городах губернаторства».
На другой день управитель Алансона пишет, что в провинции «скоро королевские подати не будут уплачиваться нигде». 7 августа, Неккер докладывает Национальному Собранию, что в двух округах, Кана и Алансона, необходимость заставила понизить на половины цену на соль, что в «бесконечном множестве» мест сбор пошлин приостановлен или понижен, что контрабандная продажа соли и табаку происходит «обозами и открыто» в Пикардии, в Лотарингии, что в других местах прямые налоги не поступают, что откупщики и сборщики податей в «изнеможении», и не могут более исполнять своих обязательств. С каждым месяцем общественный доход уменьшается; в общественном организме слабое сердце едва бьется и лишенное крови, которая до него уже не поднимается, перестает питать мускулы животворной волной, которая их обновляет и поддерживает.
«Все ослаблено, — говорит Неккер, все обречено в жертву личным страстям. Где сила, чтобы подтянуть и заставит отдавать государству то, что ему следует?»
Без сомнения, духовенство, дворянство, зажиточная буржуазия, некоторые честные ремесленники и земледельцы платят и даже иногда добровольно жертвуют. Но в обществе таких людей просвещенных, зажиточных и совестливых всегда немного: главная масса, эгоистичная, невежественная, нуждающаяся, выпускает из карманов деньги лишь по принуждению. С незапамятного времени прямые налоги во Франции не поступают иначе, как при помощи солдат и конфискаций и в этом нет ничего странного, потому что они составляют половину чистого дохода. Теперь, когда во всякой деревне крестьяне вооружены и образуют банды, пусть-ка осмелится сборщик наложить запрещение. «Тотчас после декрета о равномерном обложении, пишет провинциальная комиссия Эльзаса, народ вообще отказался что-либо платить, до тех пор, пока свободные от налогов и привилегированные не будут внесены в местные списки». Во многих местах крестьяне угрозами требуют внесенных ими зачетных платежей: в других требуют, чтобы декрет имела, обратное действие, и чтобы новые плательщики заплатили за весь истекший год. «Ни один сборщик не смеет посылать принудительных экспедиций, никакая принудительная экспедиция не смеет исполнить возложенное на нее поручение». «Боятся не порядочных, честных буржуа, но всякий сброд заставляет всех себя бояться». Сопротивление и беспорядок всегда идут от «людей, которым нечего терять». Они не только сбрасывают с себя все обязательства, но еще и захватывают чужую собственность и говорят, что так как они «нация», то все, что есть у нации, принадлежит им. Леса Эльзаса опустошены, помещичьи так же, как и общинные, и опустошены ради потехи, растрачены по-детски или безумно. «Во многих местах, чтобы избавить себя от труда рубить леса, их сожгли и унесли с собой пепел». После декретов 4 августа вопреки закону, который разрешает охоту только владельцам в своих имениях, побуждение становится неодолимым. Всякий человек, могущий добыть себе ружье, отправляется за город: жатва на корню вытаптывается, заповедные места захвачены, через изгороди перелезают; сам король разбужен в Версали ружейными выстрелами в своем парке. Олени, лани, серпы, зайцы, кабаны, кролики, избиваемые тысячами, жарятся на краденых дровах и съедаются на месте. В течение двух и более месяцев идет постоянная стрельба по всей Франции; как в американской саванне, всякое живое животное принадлежит тому, кто его убьет. В Шуазеле, в Шампанье не только все зайцы и куропатки истреблены, но вся рыба из прудов повыловлена. Являются даже во двор замка стрелять по голубятне и истреблять голубей, после чего предлагают владельцу купить у них голубей и рыбу, которых у них слишком много.
Это деревенские «патриоты с окрестными контрабандистами и негодяями» предпринимают такую экспедицию, их встречаешь на первом месте во всех насилиях и не трудно предвидеть, что под их руководством за покушениями против общественных деятелей и имуществ, будут следовать покушении против частных лиц и частной собственности.
И действительно имеется уже обреченный класс и имя ему найдено, это — аристократы. Данное в начале дворянам и епископам, которые в Народном Собрании отказывались присоединиться к трем сословиям, эта убийственная кличка распространилась впоследствии на всех, кто по своему званию, служебному положению, связям, образу жизни отличается от массы. То, что должно было бы внушить уважение является предметом злорадства, и народ, страдавший от их привилегий, все же не питал к ним личной ненависти, начинает смотреть на них, как на врагов. Каждый из них в своей местности отвечает за дурные намерения, приписываемые подобным ему в Версали, и когда распускаются ложные слухи о заговоре в центре, крестьяне причисляют их к заговорщикам. Так подготовляется деревенская жакерия, и экзальтированные, которые огонь в Париже, раздувают его также пожар и в провинции. «Вы хотите знать виновников беспорядков, пишет один рассудительный человек в следственную комиссию, вы найдете среди их депутатов третьего сословья, и, в особенности, среди депутатов — прокуроры или адвокаты. Они пишут своим избирателям разжигающие письма; письма эти получаются муниципалитетами, состоящими также из прокуроров и адвокатов…»
Их читают вслух на главной площади, и копии с них рассылаются по всем деревням. В этих деревнях, кроме священника и владельца именья единственным человеком, умеющим читать, является ходатай по делам, прирожденный враг помещика, место которого он хочет занять, гордый своим красноречьем, озлобленный своей нищетой, он не преминет все очернить. Очень вероятно, что это он составляет и распространяет воззванья, в которых, от имени короля народ призывается к насилиям. В Секондиньи, в Пуату, 23 июля, лесные рабочие получили письмо «приказывающее им нападать на всех соседних дворян и беспощадно убивать тех из них, которые не согласятся отречься от своих привилегий… с обещаньем, что не только они не будут наказаны за эти преступленья, но еще и получат за них награды». Господин де Пре-де-Моннеза, корреспондент дворянских депутатов, схвачен; его вместе с сыном потащили к прокурору, чтобы заставить его дать подписку, обывателям запрещено было оказывать ему помощь, «под страхом смерти и поджога». — «Подпишите, говорили ему, или мы вырвем ваше сердце, и подожжем этот дом». В эту минуту соседний нотариус, бывший, наверное, их сообщником, появляется с бумагой в руке и говорит ему: «Милостивый государь, я прибыл из Ниора: третье сословие поступило там так же со всеми дворянами города». Единственный из дворян, отказывавшийся повиноваться, на наших глазах был разорван на клочки. — Пришлось подписать отреченье от наших привилегий и наше согласье на единое равномерное обложение, как будто дворянство не сделало уже этого раньше. Банда оповещает, что она будет точно также поступать во всех соседних замках и ужас и предшествует ей и следует за нею. «Никто не смеет писать, жалуется Де-Пре я же решаюсь на это, рискуя собственной жизнью».
Везде дворяне и прелаты считаются подозрительными: сельские комитеты вскрывают их письма; их дома обыскивали; их принуждают носить новую кокарду; быть дворянином и не носить её — значило заслуживать виселицы.
В Мамере, в Мене, де-Бовуар отказался носить кокарду и едва избежал колодок и растерзания на площади. Близ Флеша, де-Брисак задержан, и послано в Париж справиться о том, следует ли его препроводить туда или же лучше обезглавить на месте. Два депутата от дворянства, де-Монтессон и де-Вассе, приехавшие спросить у своих избирателей разрешенья присоединиться к третьему сословию опознаны близ Манса, никто не обращает внимание на их благородные стремления, на их мандат, на попытку от него освободиться, которую они как раз делают в это время; достаточно того, что в Версале они голосовали против третьего сословия, народ их преследует разбивает их кареты и грабит их сундуки. Горе дворянам, и в особенности если они принимали участие в местном управлении в противились народному буйству! Кюро, помощник мэра в Мансе, распоряжался во время голода, и, удалившись в свой замок Нуэ, говорил крестьянам, что известие о разбойниках, ложь, — что, по его мнению, не следует бить в набат, а нужно оставаться спокойным. Следовательно, он действует за одно с разбойниками, кроме того, он — стяжатель, он покупает хлеб на корню. Крестьяне увели его вместе с другим, дворянином де-Монтессоном, его зятем, в соседнюю деревню, где имелись судьи. Но дороге «их волочили по земле, перебрасывали с рук на руки, топтали ногами, им плевали в лицо, валяли их в грязи». Де-Монтессон был расстрелян, Кюро растерзан на части. Плотник отрезал им головы, а дети носили их при звуках скрипок и барабана. Тем временем местные судьи, насильно приведенные, составляют протокол о тридцати луидорах и нескольких банковых билетах, найденных в карманах у де-Кюро, при этом открытии раздаются крики торжества: вот доказательство, что он хотел скупать хлеб на корню! — Так действует народный суд, теперь, когда третье сословие считает себя всей нацией, каждое сборище считает себя в праве изрекать приговоры над жизнью и имуществом и само же приводит их в исполнение.
В провинциях центра, юга и запада подобные случаи единичны, но с востока, на протяжении полосы шириною от тридцати до пятидесяти лье, и с крайнего севера до Прованса, пожар охватил все. Эльзас, Франш-Конте, Бургон, Макон, Божоле, Оверн, Вьенуа, Дофинэ — вся страна похожи на длинную мину, которая вся одновременно взорвалась. Первый сноп пламени взвился на границе Эльзаса и Франт-Конто, в окрестностях Бельфора и Везуля, феодальной страны, где крестьянин, обремененный податями, с большим нетерпением нес свое слишком тяжелое ярмо. Инстинктивно, без его ведома в нем зрело такое убеждение: «Доброе собрание и добрый король хотят, чтобы мы были счастливы: если бы мы им в этом помогли! Говорят, что король уже освободил нас от налогов, надо самим избавиться и от оброка».
Долой дворян! они не лучше приказчиков!
16 июля разгромлен замок де-Санси, принадлежащий принцессе де-Бофремон, потом 18-го, разгромлены замки де-Люр, де-Битэн и де-Молан. 29-го на народном празднике у де-Месме, несчастный случай с фейерверком убеждает народ, что приглашение на праздник было ловушкой и что их хотели изменнически погубить.
Охваченные бешенством люди поджигают замок, и в течение следующей недели, три аббатства разрушены, одиннадцать замков разгромлены, другие разграблены. «Все архивы сломаны, реестры и поземельные росписи похищены, склады разграблены». Начавшись в этой местности, ураган мятежа распространяется на весь Эльзас, от Гунипга до Ландо. Мятежники показывают воззвания, подписанные «Людовик», где сказано, что «в продолжение известного времени им позволено самим творить расправу» и в Зюндго, ткач, нарядно одетый, повязанный голубым шарфом, выдает себя за принца, второго сына короля.
Для начала они набрасываются на евреев, этих наследственных пиявок, разоряют их дома, делят между собой их деньги, и охотятся за ними, как за дикими зверями. В одном только Базеле, говорят, видели 12 тысяч этих несчастных беглецов с их семьями. От еврея ростовщика, до христианина-собственника расстояние невелико, и оно сразу было пройдено. Ремиремон был спасен только благодаря вмешательству отряда драгун. Восемьсот человек осаждают замок Убербюн. Аббатство Небург захвачено. В Гебвиллере, 31 июля, пятьсот крестьян, принадлежащих аббатству Мюрбах, напали на дворец аббата и на дом каноников. Буфеты, сундуки, кровати, окна, зеркала, рамы, даже черепица крыши и крюки от дверей, все было уничтожено; «на чудном паркете в зале разложили костры и сожгли на них все книги и документы». Великолепная коляска аббата разломана так, что ни одно колесо не осталось целым. «Вино разлито в погребах; из бочки в 1600 мер вылита половина: серебро и белье похищены». Ясно, что общество перевернулось вверх дном, и что собственность, вместе с властью переходит в иные руки.
А вот их собственные слова. Во Франш-Копте́, жители восьми общин пришли объявить Бернардинцам Грас-Дие и Лье-Круассан: «Так как мы принадлежим к третьему сословию, то пора нам властвовать над аббатами и монахами, потом что они слишком долго властвовали над нами»; и с этими словам они унесли все документы, подтверждающие права на имущество и на аренды, которыми аббатство владело в их общине. В Го-Дофинэ, во время разгрома замка Мюра, некто Фереоль бил толстой палкой по мебели, приговаривая: «Получай это тебе, Мюра, ты долго был хозяином, теперь наша очередь» Даже бандиты, разбойничающие на большой дороге, и те думают, что защищают «идею» и отвечают на вопрос о том, кто они: «Мы стоим за третье сословие разбойников». Везде они считают себя правыми и ведут себя как победоносные войска, исполняющие приказания отсутствующего генерала. В Ремиремоне и в Люксейле они показывают эдикт, гласящий, что «разбой, грабеж и разрушение» дозволены законом. В Дофинэ главари толпы говорят, что у них есть приказ короля. В Оверне «они исполняют приказ, и у них есть доказательства, что его величество этого желает». Нигде не видно, чтобы восставшая деревня, мстила лично своему владельцу. Если народ стрелял в дворян, встречающихся на его пути, это не из чувства злобы. Он разрушает класс, не преследуя определенных личностей. Он ненавидит феодальные права, налоги, проклятые монастырские и дворянские грамоты, обязывающие его платить оброк, но не дворянина, который, если он живет тут же, обыкновенно человек гуманнный, сострадательный, и часто даже благотворитель.
В Люксейле аббат, которого с занесенным над его головой топором, принуждают подписать отречение от всех его феодальных прав на двадцать три имения, жил в этой местности в течение сорока шести лет, и всегда оказывал услуги народу. В кантоне Кремье, «где страшные погромы» все дворяне, пишут чиновники муниципалитета, были «людьми патриотичными и благодетельными». В Дофинэ дворяне, члены судейского сословия и аббаты, замки которых разрушали, первые пошли против министров, защищая дело народа и общественную свободу. В Оверне сами крестьяне «с большой неохотой соглашаются поступать так с такими добрыми господами», но так нужно. Все, что они могут сделать из благодарности за оказанные им раньше благодеяния — это не предавать огню замка госпож де Вань, который были так добры к ним; но они сожгли все документы, три раза, в разное время, они волокут на костер приказчика, что бы заставить, его выдать им документ, которого у него нет, они вытаскивают его из огня наполовину обгоревшего, и то потому только, что владелицы на коленях умоляют сжалиться над ним. Они действуют как солдаты, покорно исполняющие, приказ, оправдываемый необходимостью и, не считая себя разбойниками, поступают как разбойники.
Но такое положение еще трагичнее, потому что это война среди полного мира, война большинства, грубого и озверевшего, против избранных, воспитанных, вежливых, доверчивых, не думавших даже защищаться и лишенных какой-то ни было поддержки. Граф де Куртиврон на водах в Люксейле, гостил со своей семьей у своего дядя, аббата де Клермон-Тонер, семидесятилетнего старика, когда 10 июля, пятьдесят крестьян из Бужероля напали на судебного пристава и на сборщика, и все у них уничтожили.
Тогда местный мэр предписывает дворянам и судейским, приехавшим на воды, в двадцать четыре часа покинуть город, так как «он слышал, что собираются поджечь дома, где они остановились», и не хочет, чтобы их присутствие подвергало Люксейль такой опасности. На другой день стража, столь же любезная, как и мэр, впустила банду и позволила ей занять аббатство. Состоялось вынужденное отреченье от прав, разграбленье архива и погребов, разграбленье вещей и посуды, словом, все, как надо. Ночью г-ну де Куртиврану и его дяде удалось бежать. Ударили в набат. Началось преследование, и лишь с большим трудом им удалось укрыться в Пломбьере. Но из боязни себя скомпрометировать буржуа Пломбьера, заставляют их снова пуститься в путь: по дороге двести восставших крестьян угрожают убить их лошадей и разбить экипаж. Они почувствовали себя в безопасности только за пределами Франции, в Порентруи. По возращении де Куртирван был ранен из ружья, бандой, разорявшей аббатство Льор. При его появлении раздались крики: «смерть дворянам!» Тем временем замок де Вовилье, где скрывалась его больная жена, был весь опустошен, ее всюду искали, она спаслась, только спрятавшись на сеновале.
Они хотели оба бежать в Бургонь, но им сообщили, что в Дижоне «дворянство осаждено народом» и что в деревне угрожают им поджогом. Нигде нет спасенья, ни дома, ни в гостях, ни в дороге — в маленьких городах и местечках задерживают беглецов. В Дофине, настоятельница монастыря св. Петра в Лионе, другая монахиня, де Перротэн-де-Бельгард, маркиз де-ла-Тур-дю-Пин и кавалер де Муадье, были задержаны в Шампье вооруженной толпой, отведены в Кот-Сент-Андре, заперты в городской думе, откуда они обратились за помощью в Гренобль. И, чтобы их освободить, комитет Гренобля вынужден послать комиссаров. Единственным убежищем являются большие города, где существует еще некоторое подобие кое-какого порядка, а единственное спасение в рядах городской стражи, которая двигается из Лиона, Гренобля, Дижона, чтобы сдержать возмущение. Во всей местности, одиноко стоящие замки поглощены волной народного возмущения, и так как феодальные права часто принадлежали разночинцам, она постепенно разливается, охватывая все более широкие круги. Ненависть против собственности не имеет пределов. С аббатств и замков она переходит на «буржуазные дома». Сначала ненавидели только монахов, теперь ненавидят всех, имеющих собственность. Богатые земледельцы и священники, покинув свои приходы, спасаются в города. С беглецов берут выкуп. Во главе банд стоят воры, контрабандисты, осужденные преступники и занимаются грабежом. Их пример разжигает алчность других; в разоренных и опустевших имениях, где ничто не напоминает более о присутствии хозяина, всё, по-видимому, принадлежит каждому желающему. Так деревенский фермер забрал в замке вино, а на другой день явился за сеном. Из одного замка в Дофинэ унесено все, даже дверные петли, имущество увозили на возах. «Это война бедных против богатых» — говорит один депутат, и 3 августа докладная комиссия, объявляет национальному собранию, что «никакая собственность, какого бы вида она ни была не пощажена».
Во Франш-Конте́ «около сорока замков и дворянских домов были разграблены или сожжены; на расстоянии от Лангра до Грея, по крайней мере, три замка из пяти разгромлены; в Дофинэ двадцать пять замков сожжено или разрушено; в маленьком округе Бьенуа разграблены 5 замков, и, кроме того, все монастыри: из последних разгромлены не меньше девяти в Оверне; 72, по слухам, в Макона и Божолэ, не считая находившихся в Эльзасе. 31 июля, у Лялли-Толлендаля, когда он выходил на трибуну, были уже полные руки отчаянных писем, у него имелся список 36 замков сожженных, разрушенных или разграбленных в одной только провинции и он сообщил подробности еще худших насилий над личностями». В Лангедоке, де Баррас разрезан на куски, на глазах жены, бывшей в последнем периоде беременности. Она умерла от ужаса; в Нормандии, разбитый параличом дворянин брошен в огонь. Его вытащили с обгоревшими руками; во Франш-Конте г-жа де Батильи вынуждена отдать свои документы и даже, свою землю, под угрозой удара топором, уже занесенным над её головою; г-жа де Листенай, принуждена к тому же отреченью, ей приставили вилы к шее, а её две дочери в обмороке лежали у её ног… графу Монжюстен с женой в продолжение трех часов угрожали пистолетами, их вытащили из кареты, чтобы бросить в пруд, когда проходивший мимо полк, спас их… Барон де Монжюстен, один из двадцати двух наиболее популярных дворян, висел в продолжении часа в колодце, куда его спустили на верёвке и слушал, как обсуждался вопрос, следует ли обрезать веревку или лучше покончить с ним другим способом… Кавалер д’Амбли, был выхвачен ночью из своего замка, его голого притащили в деревню, вырвали у него волосы и брови и бросили его на навозную кучу, а толпа плясала вокруг.
Среди разрушенного общественного строя, при отсутствии даже подобия правительства, происходит какое-то нашествие, нашествие варварское; террором оно докончит начатое насилиями, и подобно нашествиям норманнов в Х и XI веках, своей победой закрепит экспроприацию имуществ у целого класса людей. Национальная гвардия, и оставшиеся верными войска, удержали, наконец, напор первой волны разрушения, но это не помогло; напрасно собрание старается направить движение по определенному руслу и сдержать его в известных границах. Декреты 4 августа и следующие за ними узаконения, это не более как паутина, которой питаются преградить поток. Еще хуже, крестьяне, по-своему толкуя декреты, видят в новом законе указание, что они могут продолжать или повторять то, что было сделано. Нет больше платежей, даже законных, даже государственных. «Вчера, пишет один дворянин из Оверна, нам объявили, что не хотят более платить повинностей и что в этом они только следуют примеру других провинций, которые приказом короля избавлены даже от уплаты десятины». Во Франш-Конте, «масса сельских обществ убеждены, что они ничего не должны платить ни королю, ни владельцу имения… Деревня делят между собою леса и луга землевладельцев». Заметьте, что монастырские и феодальные грамоты еще целы в трех четвертях Франции, что крестьянам необходимо их уничтожить и что крестьянин всегда вооружен. Для начала новых жакерий достаточно, чтобы центральный тормоз, уже расшатанный сломался окончательно. Это дело Парижа и Версаля, и там, в Париже также, как и в Версале, все работают над этим, одни по непредусмотрительности и увлечению, другие по ослеплению и нерешительности, все этому способствуют, одни своей бесхарактерностью, другие своими насилиями.
Глава IV. Париж
Бессилие и разногласие властей. Народ-король. Бедствия народа. Голод и безработица. Как набираются исполнители. Новые народные вожди. Их влиянье. Их воспитание. Их чувства. Их положение. Их советы. Их доносы. Их вмешательство в управление. Их давление на Собрание. Дни 5 и 6 октября. Правительство и нация в руках революционной партии.
Действительно, бессилие начальников и отсутствие дисциплины в подчиненных еще ярче выражены в столице, чем в провинции. В Париже есть мэр, Байльи, но «с первого же дня, самым спокойным образом» его муниципальный свет, т.е. собрание представителей общины «привыкло распоряжаться самостоятельно и совершенно о нем забывает». Есть центральная власть, муниципальный совет, под председательством мэра; но, «в то время, власть была всюду, только не там, где должна бы быть, округи передавали ее своим выборным и в то же время удерживали ее за собой»; каждый из округов действовал так, словно он был единственным и самостоятельным. Есть второстепенные власти, окружные комитеты, каждый со своим председателем, своим секретарем, своим бюро и своими комиссарами; но уличная толпа не дожидается их приказаний, и народ, орущий под их окнами, диктует им свою волю. Словом, говорит Байльи, все «умели приказывать, и никто не умел повиноваться». «Пусть представят себе человека, пишет сам Лустало, у которого каждая рука, каждая нога, каждый член имеют свой разум и свою волю, так что одна нога хочет ходить, в то время как другая желает отдыхать, у которого рот закрывается в то время, как желудок требует пищи, губы поют, когда глаза смыкаются от сна, вообразите себе это и получите верное представление о состоянии столицы». В Париже «существует 60 республик», потому что каждый округ — это независимая и изолированная власть; ни один из округов не исполняет ни одного приказания, не обсудив его, и всегда не согласен, с центральною властью, а часто даже противится ей, также, как и властям других округов. Он получает доносы, производит домовые обыски, имеет представителя в национальном собрании, составляет постановленья, публикует свои воззванья не только по своему кварталу, но и по всему городу, распространяя иногда свою юрисдикцию даже за пределами Парижа. Все ему подсудно, и особенно то, во что ему никаким образом не следовало бы вмешиваться. 18 июля округ Petits Augustins «постановляет единолично, что учреждаются мировые судьи» под именем трибунов, немедленно же избирает своего судью и именно актера Моле. 30-го округ Оратори отменяет амнистию, данную в городской думе представителями коммуны, и посылает двух своих членов за тридцать лье арестовать де-Безанваля. 19-го августа округ Назарета поручает отобрать и привезти в Париж оружие, хранившееся в крепостях. С самого же начала все, от своего имени, посылают в арсенал и «получают сколько угодно патронов и пороха». Другие присваивают себе право надзирать за городской думой и делать замечания Национальному собранию. Округ Оратори постановляет, что всем представителям общины будет предложено публично обсуждать дела. Округ Saint Nicolas des Champs обсуждает вопрос о veto и просит Собрание отложить голосование этого вопроса. Странное зрелище представляют все эти власти, взаимно противоречащие друг другу и друг друга уничтожающие. Сегодня городская дума присваивает себе пять возов одеял, посланных правительством, а округ Сен-Жерве протестует против решения городской думы. Завтра Версаль забирает зерно, предназначенное для Парижа, а Париж грозит «идти на Версаль», в случае если тот не возвратит зерно. Я оставляю в стороне явную бессмыслицу, в своей сущности анархия одновременно и смешна, и трагична, среди общего разложения, столица также как и государство похоже то на толкучку, то на Вавилонскую башню. Но из-под этих разногласящих друг с другом властей тотчас же вырисовывается настоящий властелин — толпа. 15 июля она самостоятельно начала разрушение Бастилии, и власти санкционировали это проявление народной воли, так как приходилось сохранять приличия, отдавая приказанья после совершившегося факта, и следовать за движеньем, раз нельзя идти во главе его. Через несколько времени приказано восстановить сбор заставных пошлин, но сорок вооруженных частных лиц явились предупредить свой округ, что, если поставят страну к заставам «они против силы употребят силу и даже пустят в ход собственные пушки» — Из-за ложного слуха, что в аббатстве Монмартр есть спрятанное оружие, игуменья, г-жи де Монморанси, обвиняется в измене и двадцать тысяч человек захватывают монастырь. Ежедневно командующий национальной гвардией и мэр ожидают возмущенья; они осмеливаются отлучиться лишь на один день, чтобы поехать в Версаль, на именины короля. Как только допускают какое-либо сборище на улицах, сейчас же надо ждать взрыва: «В дождливые дни, говорит Байльи, я чувствовал себя спокойным».
Под таким постоянным давлением приходится управлять, и избранники народа, чиновники, самые любимые, пользующиеся самой лучшей славой, находятся во власти толпы, стучащейся в их двери. В округе Св. Роша, после нескольких бесполезных отказов, генеральное собрание, несмотря на протесты своей совести и своего рассудка, принуждено вскрыть письма, адресованные брату короля герцогу Орлеанскому, и министрам военному, иностранных дел и морскому. В комитете продовольствия, Сюро, необходимый человек, оправданный публичным приговором, подвергся доносу, угрозам и принужден покинуть Париж. Де-ла Саль, один из наиболее патриотичных дворян едва не был убит за то, что подписал приказ о доставке пороха; толпа, бросившаяся на него, привязала веревку к ближайшему фонарю, обыскала здание городской думы, врывалась во все двери, поднялась на каланчу, искала предателя даже под ковром бюро, под ногами избирателей и была остановлена только появлением национальной гвардии.
Народ не только осуждает, но сам же и приводит в исполнение свои приговоры и, как всегда, действует в полном ослеплении. В Сен-Дени, Шатель, исполняющий должность мэра, которому была поручена раздача муки, за свой счет сбавил цену хлеба; 3 августа, в 2 часа утра в его дом ворвались, он спасся на колокольню, за ним погнались и задушили его там, а голову его волочили по улицам. Не только толпа казнит — она и милует, и также безрассудно. 11 августа в Версале, собирались колесовать отцеубийцу, толпа потребовала помилованья, бросилась на палача и освободила преступника. Она действительно, повелевает как властелин, и подобно восточному деспоту по своему капризу спасает или убивает. Женщина, протестовавшая против этого скандального прощенья, была схвачена и едва не повешена; потому что новый король считает преступленьем всякое оскорбление его величества. И его публично и униженно приветствуют. В городской думе, в присутствии всех избирателей, и массы публики, первый министр, испрашивая помилованья для де Безанваля произнес в точности следующие слова: «Перед наименее известным, самым незначительным из граждан Парижа, я падаю на колени, простираюсь ниц».
За несколько дней до этого в Saint-Germain-en-Laye и в Пуасси, депутаты национального собрания встали на колени, не на словах только, а на деле и долго стояли коленопреклоненные на улице, на мостовой, простирая руки и плача, чтобы спасти две жизни, из которых им удалось сохранить только одну. По этим ярким признакам, признайте монарха; уже дети, поспешно подражающие всему, что имеет успех, передразнивают его и в месяц, последовавший за убийством Портье и Фуллона, Байльи получил донесенье, что мальчишки расхаживают по улицам, с двумя кошачьими головами на острие пики.
Бедный монарх, которого его признанное могущество делает еще более жалким, чем он был раньше! Хлеб по-прежнему остается редкостью и у дверей булочных толпа не уменьшается. Напрасно Байльи и его комитет продовольствия работают по целым ночам; они все еще по избавились от опасений. — В продолжение двух месяцев, каждое утро, муки оставалось всего на день или на два; иногда вечером её не было к следующему дню. Жизнь столицы зависит от транспорта, который находится за 10, 15, 20 лье от Парижа, и, быть может не дойдет вовсе: один, состоящий из двадцати подвод, разграблен 18 июля, на Руанской дороге; другой разграблен 4 августа, в окрестностях Луврие. Без швейцарского полка Сали, маршировавшего день и ночь в качестве конвоя, ни одна баржа с хлебом не дошла бы из Руана в Париж.
Комиссионеры, которым поручено делать закупки или следить за отправками зерна подвергаются смертельной опасности. Те из них, которые посланы, схвачены, и что бы освободить их, пришлось послать отряд в четыреста человек с пушкой. Тот, которого отправляют в Руан, узнает, что будет повешен, если осмелится явиться туда; в Манте, толпа окружает его экипаж в глазах народа, всякий желающий увезти зерно хуже чумы; он спасается с большим трудом чрез заднюю дверь, и пешком возвращается в Париж. С самого начала, следуя общему правилу, опасения голода увеличивают голод; каждый запасается провизией на несколько дней; на чердаке у одной старухи находят шестнадцать хлебов по четыре фунта каждый. От этого, запасов, рассчитанных на один день, не хватает и стоящие в конце хвоста ожидающих раздачи возвращаются домой с пустыми руками. С другой стороны, субсидии, выдаваемые городом и государством, с целью понизить цену хлеба, только удлиняют хвост, ожидающих раздачи. Деревенские жители приходят сюда и возвращаются нагруженными в свои деревни: в Сен-Дени цену на хлеб установили в два су за фунт, и его перестало хватать для граждан. К этому главному опасению, прибавьте еще опасение безработицы. Не только никто не уверен, что на следующей неделе будет хлеб у булочника, но, кроме того, множество людей знают, что на следующей неделе у них не будет денег, чтобы пойти в булочную. С тех пор как исчезла безопасность и потрясена основа собственности, ощущается недостаток в работе. Лишенные своих феодальных прав, и сверх того, доходов с ферм, богачи сократили свои расходы: угрожаемые следственною комиссией, подвергаясь домовым обыскам по доносам своей прислуги, многие из них эмигрировали.
В сентябре, Неккер жалуется, что за 15 дней пришлось выдать шесть тысяч паспортов наиболее богатым людям. В октябре, знатные дамы, спасшиеся в Рим, пишут, чтобы их слуг отпустили, а дочерей отдали в монастырь. До конца 1789 года, столько беглецов, что, как говорят, в Швейцарии дома, отданные внаймы, приносили доход, равный своей стоимости. В эту первую эмиграцию много тратящих людей, — графа д’Артуа, принца де-Конти, герцога Бурбонского и стольких других, уехали также и богатые иностранцы с герцогиней де Л’Инфантадо во главе, а она тратила по 800 тысяч ливров ежегодно. Остались в Париже всего трое англичан. Это был город роскоши, европейская теплица для всех утонченных и дорого стоящих удовольствий, как только стекла теплицы разбили, любители ушли и нежные растенья погибли, бесчисленное количество рук, культивировавших их остались без дела. И они счастливы, если могут, за ничтожное вознаграждение копать землю лопатой на благотворительных работах! «Я видел, говорит Байльи краснорядцев торговцев, золотых дел мастеров, просивших как милости, чтобы их приняли туда за 20 су поденного вознаграждения». Сосчитайте, если можете, сколько безработных в одном или двух цехах. Тысяча двести парикмахеров дают работу приблизительно шести тысячам подмастерьям; две тысячи мастеровых, исполняют на дому ту же работу; шесть тысяч лакеев занимаются тоже этим делом. Цех портных состоит из двух тысяч восьмисот мастеров, которые имеют под своим начальством пять тысяч подмастерьев. «Прибавьте к этому шьющих поденно, также пользующихся убежищем в монастырях, как, например, в аббатстве Сен-Жермэн и Сен-Марсель, в обширной ограде Тампля, в Сен-Жан де-Латран, в Сен-Жерменском предместье, вы получите по меньшей мере двенадцать тысяч людей, кроящих, примеряющих и шьющих». Сколько же безработных теперь в этих двух цехах? А сколько очутилось на улице обойщиков, бахромщиков, вышивальщиков, золотильщиков, веерных мастеров, каретников, граверов, переплетчиков, и всех производителей парижской роскоши?! А те, которые еще имеют работу, сколько времени теряют они у дверей булочных, в патрулях национальной гвардии!
Они собираются, несмотря на запрещение думы и публично обсуждают свое несчастное положение; три тысячи подмастерьев портных собралось у колоннады, столько же башмачников на площади Людовика XV, парикмахеры собирались в Елисейских полях, четыре тысячи лакеев без мест в окрестностях Лувра, и их рассужденья стоят на уровне их развития. Лакеи требуют, чтобы выслали из Парижа савояров, создающих им конкуренцию. Подмастерья портных решают, что им должны платить по 40 су в день, и запретить старьевщикам шить новые платья. Башмачники хотят, чтобы шьющие башмаки дешевле, установленной цены, изгонялись из Франции. В каждом из этих сборищ взволнованных и возмущенных уже бродят зачатки мятежа и, говоря по правде, по всему Парижу разбросаны эти ферменты: в благотворительных учреждениях, собирающих на Монмартре семнадцать тысяч бедняков, на рынке, где булочники хотят повесить на фонаре хлебного комиссара, у дверей булочников, из которых двое, 14 сентября и 5 октября были уже подведены к фонарям, но спаслись в последнюю минуту.
В этой обнищалой и страдающей толпе люди готовые, бедствовать, становились с каждым днем все многочисленнее; это были дезертиры, из каждого полка они целыми бандами приходят в Париж, иногда по двести, даже по пятьсот человек в один день. Там их «ласкают, чествуют». Они получили от Национального Собрания по пятидесяти ливров на каждого, и король сохранил за ними право на получение жалования. Их угощают округа, из которых один задолжал 14 тысяч ливров за вино и колбасу, которыми он их наделял. «Они привыкают к большим тратам», к распущенности, и их товарищи следуют за ними. Ночью, на 31 июля, солдаты французской гвардии, бывшие в карауле в Версале, покинули свои посты и пришли в Париж без офицеров, но с оружием, чтобы получить свою долю из содержания, которое город Париж дает их полку. В начале сентября, насчитывали шестнадцать тысяч такого рода дезертиров.
Среди людей, идущих на убийство, они занимают первое место, и это не удивительно, стоит только вспомнить их происхождение, их воспитание и их нравы. Солдат шайки Royal-Grauaxe, вырвал сердце у Бертье. Три солдата из Прованса, ворвались в Сен-Дени в дом Шателяя и волочили его голову по улицам. Солдаты швейцарской гвардии убили ружейными выстрелами комиссара объездной команды в Пасси. Их обыкновенное местопребывание — квартал Пала-Рояля, среди публичных женщин, у которых они состоят на содержании и среди агитаторов, отдающих им пароль. Теперь все зависит от этого пароля, и надо только приглядется к новым народным вождям, чтобы понять, каков он будет.
Комиссары и члены окружных советов — люди, провозглашающие резолюцию на гауптвахтах, в кофейнях, в клубах и на площадях, авторы брошюр и газетных статей они размножались как жуки, в бурную ночь вылупившиеся из яичек. Начиная с 14 июля тысячи мест было открыто для разнузданных честолюбий. Прокуроры, клерки нотариусов, артисты, купцы, приказчики, актеры и, особенно, адвокаты, все они хотели быть офицерами, администраторами, советниками или министрами нового режима; журналы, нарождающиеся десятками, являются кафедрами, с которых декламаторы беспрерывно улещают народ, ради собственной выгоды. Попавшая в такие руки философия представляется пародией на самое себя, и ничто не может сравниться с её пустотой, разве только приносимый ею вред и успех. В шестидесяти окружных уст адвокатов гремят звонкие догматы революционного катехизиса. Один, переходя от вопроса о поправке стены к государственной конституции, воображает себя законодателем и пожинает лавры, так как его красноречие доказывает слушателям, что им самой природой дарованы все способности, а потому они должны получить и все права. «Когда этот человек раскрывал рот, говорит один из хладнокровных слушателей, мы были уверены, что он обольет нас целым потоком цитат и сентенций, очень часто по поводу фонаря или ларя уличной торговки. Своды дрожали от его громового голоса, и, когда после двухчасовой речи, его легкие наконец истощались, кругом раздавались крики восхищенья, и слушателями овладевало опьянение, доходившее до бешенства. Оратор соображал тогда, что он — Мирабо, а слушатели воображали себя учредительным собранием, решающим судьбы Франции». Такой же стиль господствовал в газетах и брошюрах. Чад гордости и громких слов отуманивал умы; тот, кто громче всех бредил, тот становился корифеем сборища и, раздувая восторги толпы, вел ее за собой.
Посмотрите на самых главных, на самых популярных: это все или засохшие уже, или еще не зрелые плоды литературы. Каждое утро, газеты являлись прилавками, на которых они выставлялись для продажи, и, они нравятся возбужденным до нельзя массам, именно своим острым или горьким вкусом. Ни одной политической идеи нет в их неопытных или пустых головах; никакого зданья, никакой практической опытности. Демулену 29 лет, Лустало 26 лет, и их образование заключается в школьных воспоминаниях, в обрывках, схваченных на лету в юридической школе и в общих местах, заимствованных у Райналя и подобных ему.
Что же касается Брисо и Марата, напыщенных гуманистов, то они видели Францию и весь мир только через окошечко своей мансарды, сквозь очки своей утопии. Такие умы, неразвитые или бездарные, не могли не признать «Социального договора» Евангелием: потому что он сводит всю политическую науку к точному выполнению одной элементарной аксиомы, что делает излишним всякое изучение, и предавал общество во власть народу, который в свою очередь передавал эту власть в их руки.
«К моим убеждениям, пишет Демулен, присоединилось удовольствие стать на свое место, дать почувствовать свою силу людям, презиравшим меня, унизить до одного уровня с собою тех, кого судьба поставила выше меня. Мой девиз — общий для всех честных людей, не надо высших». Под великим именем свободы, каждое честолюбие ищет удовлетворения своей мести и своих аппетитов. Нет ничего естественнее и приятнее, как оправдывать свои страсти собственной теорией, быть мятежником, воображая себя патриотом, и прикрывать интересы своего честолюбия — интересами человечества.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
