
Ипполит Тэн, «Происхождение современной Франции», Том I. Старый порядок
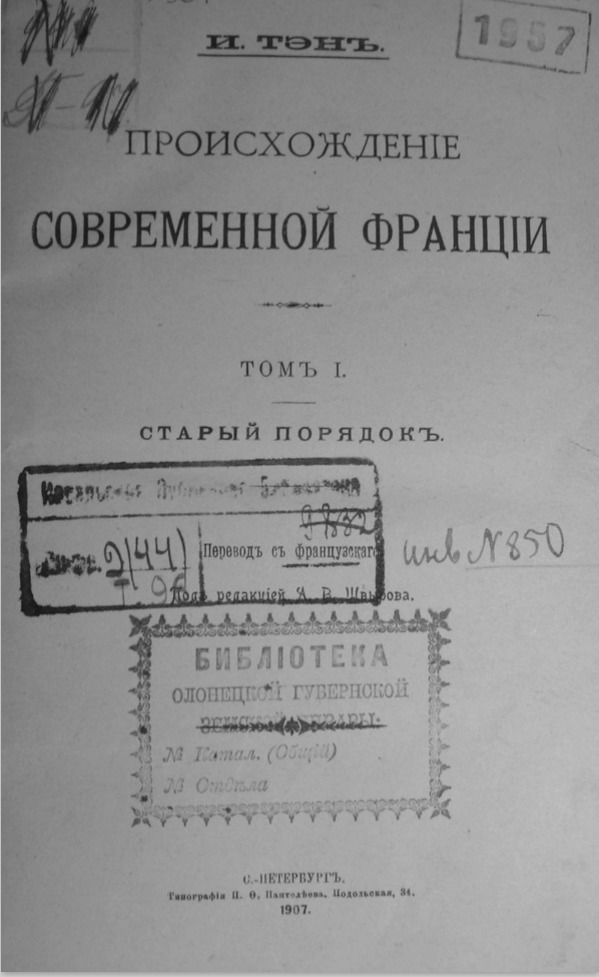
Санкт-Петербург, Типография П. Ф. Пантелеева, Подольская 34, 1907.
Предисловие
В 1849 году, имея двадцать один год от роду, я получил избирательные права и находился в большом затруднении, так как должен был указать пятнадцать или двадцать депутатов; и даже более, согласно французскому обычаю, я должен был не только избрать людей, но еще выбирать ту или другую теорию. Мне предлагали стать роялистом или республиканцем, демократом или консерватором, социалистом или бонапартистом: я не был ни тем, ни другим и даже вообще не принадлежал ни к какой партии и по временам завидовал многим убежденным людям, имевшим счастие быть чем-нибудь. Изучив различные политические доктрины, я убедился, что в моем мозгу существует какой-то недостаток. Доводы, убеждавшие других, не имели в моих глазах никакого значения: я не мог понять, каким образом в политике можно принимать решения на основании собственных симпатий. Люди убежденные строили конституцию точно дом по самому лучшему, по самому новейшему и наиболее простому плану, так как к их услугам было несколько таких планов: отель маркиза, домик буржуа, квартира рабочего, военная казарма, фаланстерий коммунистов и даже шатер дикарей. Каждый о своем плане говорил: «вот настоящее жилище, единственное, в котором может жить здравомыслящий человек». Для моего здравого смысла довод был слаб: личные вкусы не представлялись мне авторитетами. Мне казалось, дом следует строить не для архитектора и не для того, чтобы это был только дом, но он должен быть приноровлен для собственника, который будет в нем жить. Спрашивать же мнения собственника, представить французскому народу на рассмотрение план его будущего жилища, — было до очевидности глупо; в подобном случае вопрос всегда вызовет ответ, и если бы даже ответь был независим, то все равно Франция смогла бы ответить не лучше меня: десять миллионов невежеств не создадут одного знания. Запрошенный народ может в крайнем случае сказать, какая форма правления правится ему, но никогда не будет в состоянии решить, в какой форме правления он нуждается; он сумеет это решить только после опыта: ему нужно время, чтобы проверить удобен ли его политический дом прочен ли он, способен ли противостоять непогодам, приноровлен ли к правам, занятиям, характеру, особенностям, странностям его обитателей. На опыте же мы никогда не были довольны нашим политическим домом: в продолжение восьмидесяти лет мы переделывали его тринадцать раз, и несмотря на все переделки, все еще не напали на ту форму, которая более всего удобна для нас. Если другие народы оказались счастливее вас, если заграницей некоторые политические жилища прочны и существуют бесконечно долгое время, то это потому, что они были выстроены совершенно иначе, на крепком первобытном фундаменте, опираясь на какое-либо древнее центральное здание, несколько раз изменяемое, но вечно оберегаемое, постепенно расширяемое, приспособляемое осторожно к нуждам жителей. Ничто у них не было построено сразу, по новой мерке, на основании лишь одних соображений рассудка. Быть может, следует допустить, что для подобного строительства иных средств и не имеется и что мгновенное изобретение новой конституции — жизненной, приспособленной к нуждам населения является предприятием, превосходящим силы человеческого разума.
Во всяком случае, я мог бы вывести свое заключение из всего сказанного, что если мы когда-либо и найдем, что нам нужно, то это совершится не в силу модных теорий. В самом деле, ведь нужно открыть, если только оно существует, а не голосовать. В этом смысле наши личные вкусы были бы совершенно излишни: природа и история уже наперед предрешили, что нам нужно; нам нужно приноравливаться к ним, так как, наверное, история и природа не станут приспосабливаться к нам. Социальная и политическая форма, которую может принять народ, не предоставлена на его усмотрение, но заранее определена его характером и его прошлым. Нужно, чтобы она до мельчайших подробностей соответствовала живым чертам, к которым ее прикладывают, иначе она зачахнет и распадется на куски. Поэтому, если мы найдем, то это может быть достигнуто лишь путем изучения собственного характера, и чем лучше будем мы знать самих себя, тем яснее увидим, что нам нужно. Таким образом следует отринуть обычные методы и определить характер нации, прежде чем сочинять для неё государственное устройство. Несомненно, что первая часть работы гораздо более длинная и более трудная, чем вторая. Сколько требуется времени, изучения, сколько наблюдений, подмеченных одно за другим, сколько изысканий в настоящем и в прошлом, во всех областях мысли и деятельности, сколько сложной продолжительной работы, чтобы составить точную и полную идею о великом, народе, прожившем века и живущем еще до сих пор! Но это единственное средство для возведения правильной постройки, основанной не на пустых умствованиях, и я обещаю себе, что, по крайней мере, я лично, если когда-либо и стану искать определенного политического мнения, то только после того, как изучу Францию.
Что такое современная Франция? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, как развилась эта Франция или, что еще лучше, присутствовать в качестве зрителя при её образовании. В конце XVIII века она, подобно насекомому, которое линяет, претерпела метаморфозу. Её прежняя организация разлетелась во прах; она сама разрывает самые драгоценные ткани этой организации и падает в судорогах, кажущихся смертельными. Затем, после метаний в разные стороны и тяжелой летаргии, она возрождается. Но её организация уже не та: путем глухой внутренней работы, новое существо заменило старое. В 1808 году все её главные черты уже окончательно определились: департаменты. округи, кантоны и общины, ничто с тех пор не изменилось в её делениях и внешних связях: Конкордат, свод законов, суды, университет, институт, префекты, государственный совет, налоги, сборщики, счетная палата, единообразное и централизованное управление, его главные органы еще те же; дворянство, мещанство, рабочие классы, крестьяне, у каждого класса отныне положение, интересы, чувства, традиции те самые, которые мы видим и в настоящее время. Таким образом, новое существо сразу становится устойчивым и вполне развитым; его устройство, его институты определяют заранее круг, в котором будут вращаться его мысль и деятельность. Вокруг него, другие нации, одни осторожные, другие отсталые, каждая с большой осторожностью, некоторые с лучшим успехом осуществляют то же изменение, путем которого переходят от феодального существования к современному; развитие становится всеобщим и почти одновременным. Но при этой новой форме, как и при старой, слабый по-прежнему является жертвой сильного. Горе тем, медленное развитие которых отдает их соседу, освободившемуся ранее из своей куколки и ставшему вполне готовым к борьбе! Горе также тому народу, слишком быстрое и внезапное развитие которого нарушило равновесие внутренней экономической жизни и который в силу чрезмерности руководящего аппарата, вследствие изменения его коренных органов и постепенного уменьшения живительной субстанции осужден на безрассудства, на тщедушие, на бессилие среди своих более здоровых и более пропорционально развитых соседей! В организации, создавшейся во Франции в начале века все главные линии её истории были уже намечены, политические революции, социальные утопии, разделения классов, роль церкви, поведение дворянства, буржуазии и народа, развитие, направление или уклонение философии, литературы и искусства. Вот почему, когда мы хотим понять наше современное положение, взоры наши непременно обращаются к ужасному и вместе плодотворному кризису, посредством которого старый порядок породил революцию, а революция — новый порядок.
Старый порядок, революция, новый порядок, — я постараюсь точно описать эти три состояния. У меня хватает даже смелости объявить, что я не имею никакой другой цели; ведь может же историк относиться к своей задаче, как натуралист; я смотрел на свою тему, как на метаморфозу насекомого. К тому же, событие настолько интересно само по себе, что стоить потратить время на его наблюдение, и нет нужды стремиться исключить задние мысли. Освобожденное от всякой пристрастности любопытство становится научным, и целиком стремится к тем скрытым силам, которые руководили удивительным событием. Силами этими являются: положение, страсти, идеи, желания каждой группы, и мы можем распутать, даже почти измерить их. Они пред нашими глазами; нам не нужно пускаться в догадки, в сомнительные предположения, мы можем наблюдать самих людей, их внутреннюю и внешнюю жизнь. Французы старого строя еще у нас на глазах. Каждый из нас, в своей юности, мог посещать этих пережитков исчезнувшего мира. Некоторые из отелей еще существуют и теперь вместе с апартаментами и мебелью. При помощи их картин и эстампов мы можем проследить их домашнюю жизнь, мы видим их одежду, их манеры, их жесты. С помощью их литературы, их философии, их наук, их газет и их переписки мы можем восстановить весь ход их мыслей, до дружеской беседы включительно? Огромное число мемуаров, вышедших из общественных и частных архивов за тридцатилетний период, вводит нас в разные салоны, как если бы мы были повсюду знакомы. Письма и дневники иностранных путешественников проверяют и дополняют своими беспристрастными картинами те портреты, которые это общество выдавало за свои. Оно все сказало о самом себе, за исключением лишь того, что считало неинтересным для современников, за исключением того, что казалось техническим, скучным и ничтожным, за исключением того, что касалось провинции, буржуазии, крестьянина, рабочего, администрации и хозяйства. Я хотел пополнить эти пропуски и узнать всю Францию, а не только маленький кружок хорошо воспитанных и образованных французов. Благодаря любезности г. Мори и драгоценным указаниям г. Бутарика, я мог перелистать массу рукописных документов, переписку огромного числа интендантов, директоров, откупщиков, генералов, судей, должностных и частных лиц всякого рода на протяжении последних тридцати лет существования старого порядка, рапорты и мемуары о различных частях королевского дома, протоколы и записки Генеральных Штатов в ста семидесяти шести томах, переписку воинских начальников от 1789 и 1790 гг., письма, воспоминания и подробные статистические данные духовного комитета, корреспонденцию в девяносто четырех связках департаментских управлений и муниципалитетов с министрами от 1790 до 1799 года, рапорты государственных советников, посылаемых с различными миссиями в 1801 г., переписку префектов в эпоху Консульства, Империи и Реставрации до 1823 г., большое число других заметок, столь интересных и столь неизвестных, что поистине можно сказать, что история Революции кажется еще неизданной. По крайней мере только эти документы рисуют нам живые образы мелких дворян, провинциальных священников, монахов и монахинь, адвокатов, старшин и горожан, деревенских судей и синдиков, рабочих и ремесленников, офицеров и солдат. Только благодаря им мы можем видеть вблизи, со всеми подробностями образ поведения людей, внутренность пресвитерского дома, монастыря, городского совета, познакомиться с заработной платой поденщика, с производительностью поля, с податным обложением крестьянина, ремеслом сборщика, расходами помещика или прелата, с бюджетом, с образом жизни и церемониалом двора. Благодаря им мы можем назвать точные цифры, знать час за часом распределение дня, даже более, перечислить блюда на большом обеде, восстановить парадный туалет. Мы имеем, кроме того, приколотыми на бумаге и расположенными по числам образчики платьев королевы Марии-Антуанетты; с другой стороны, мы можем представить себе одежду крестьянина, описать его хлеб, назвать сорта муки, из которого он пекся, и вычислить до последнего сантима, сколько ему стоит фунт. С такими ресурсами становишься почти современником людей, историю которых пишешь и не раз в архивах, пробегая пожелтевшие листки с их старинным почерком, у меня являлось искушение заговорить громко с этими людьми.
Мантон-Сен-Бернар. Август, 1875 г.
Книга первая. Старый порядок. Строение общества
Глава I. Происхождение привилегий
Заслуги и вознаграждение духовенства. Заслуги и вознаграждение дворян. Заслуги и вознаграждение короля.
В 1789 году три рода лиц — духовные, дворяне и король, занимали в государстве первенствующие места, пользуясь всеми преимуществами, предоставляемыми им, властью, богатством, почестями или, по крайней мере, привилегиями, исключениями, милостями, пенсиями, преимуществами и прочим. Если они в продолжение долгого времени занимали это место, то значит, что они давно его заслужили. В самом деле, путем колоссального векового усилия, они постепенно воздвигли три главных устоя современного общества.
Из трех этих устоев самым прочным и самым древним было создание духовенства: в продолжение двенадцати веков и более оно трудилось в качестве архитектора и в качестве сапера, сперва одно, затем почти одно. В начале, во время первых четырех веков, оно создало религию и церковь: взвесим два эти слова, чтобы понять все их значение. С одной стороны, в мире, зиждившемся на завоевании, жестоком и холодном как стальная машина, осужденном благодаря своему строю отнимать у своих подданных всякую охоту к деятельности и всякое желание к жизни, оно возвестило «благую весть», обещало «царство Божие», проповедовало нежную покорность Отцу Небесному, внушало терпение, кротость, смирение, самоотречение, помощь ближнему, указало единственный выход, чрез который задыхающийся человек мог вдохнуть свежий воздух и увидеть просвет: вот религия. С другой стороны, в государстве мало-помалу вымиравшем, разлагавшемся, оно создало живое общество, руководившееся дисциплиной и законом, объединенное одною целью и доктриной, поддерживаемое преданностью вождей и послушанием верных, единственное, которое было в состоянии выдержать поток варваров, хлынувший чрез все бреши разрушавшейся Империи: вот церковь. На этих двух первых основах духовенство продолжало строить и начиная с нашествия варваров, в продолжение более чем пяти веков, оно спасает все что можно еще снасти от человеческой культуры. Оно идет навстречу варварам или приобретает их расположение тотчас же после их вступления; услуга огромная; будем судить о ней по одному факту: в Великобритании ставшей латинской как и Галлия, но завоеватели которой в продолжение полутора веков оставались язычниками, — искусства, промышленность, общество, язык все было разрушено; от подавленного и беглого народа, не осталось ничего кроме рабов; их следы нужно угадывать; низведенные на степень вьючных животных, они исчезают из истории. Такова была бы судьба Европы если бы духовенство не приобрело быстро в свою пользу жестоких дикарей, которым она принадлежала.
Обращенный германец дрожал от страха как перед колдуном видя перед собою епископа в золоченой митре, монаха «одетого в звериные шкуры, худого, покрытого грязью и пятнами гуще, чем хамелеон». В спокойные часы после охоты или пьянства, смутное понятие о чем-то таинственном и грандиозном, неопределенное чувство неведомой справедливости, пробуждение совести, случавшееся уже в лесах по ту сторону Рейна, пробуждалась в нем в виде внезапного беспокойства, каких-то грозных полу-видений. В момент ограбления святилища он задавал себе вопрос не упадет ли он на пороге сраженный ударом с перехваченным горлом. Убежденный собственным смущением, он останавливается, щадит землю, деревню, местечко, которые живут под охраной священника. Если вспышка животного гнева или первобытной жадности толкала его на преступление, на грабеж, то позже, после насыщения в дни несчастия или болезни, по настоянию своей сожительницы или жены, он возвращает в два раза, в десять раз, в сто раз награбленное им, он расточает дары и жертвы. Таким образом повсюду духовенство охраняет и увеличивает число своих убежищ для побежденных и угнетенных. С другой стороны, среди вождей с длинными волосами, наряду с королями, облеченными в меха, епископ в митре, аббат с тонзурой на голове присутствуют на советах; они одни владеют пером и умеют спорить. Секретари, советники, теологи, они принимают участие в издании эдиктов, в управлении государством, трудятся, чтобы ввести немного порядка в колоссальный беспорядок, стараются сделать закон более разумным и более человечным, стремятся создать и поддержать благочестие, просвещение, справедливость, собственность и в особенности брак. Несомненно, что их вмешательство воспрепятствовало Европе превратиться в монгольскую монархию. До конца двенадцатого столетия духовенство влияло на князей, обуздывая в них и в их окружающих грубые аппетиты, возмущение плоти и крови, рецидивы и припадки непреоборимой дикости, разрушавшей общество. В то же время в своих церквах и в своих монастырях оно хранило древние приобретения человеческого рода, латинский язык, христианскую литературу и богословие, часть литературы и наук языческих, архитектуру, скульптуру, живопись, искусство и промышленность, служившие для процветания культа, промышленность более драгоценную, которая кормит человека, одежду и жилище, особенно же лучшую из всех людских приобретений и наиболее противную бродячему характеру ленивого варвара грабителя, я хочу сказать, привычку и любовь к труду. В деревнях, обезлюденных римским фиском, возмущением багодов, [1] нашествием германцев, набегами разбойников, бенедиктинский монах строит из ветвей свою хижину среди сосен; вокруг него огромное пространство некогда культурное является теперь запущенными пустырями. Вместе со своими товарищами он обрабатывает вновь землю, приручает полудиких животных, устраивает ферму, мельницу, кузницу, очаг, мастерские для изготовления обуви и платья.
Согласно своему уставу, он ежедневно читает в продолжение двух часов, семь же часов тратит на ручной труд и соблюдает самую строгую умеренность в пище и питье. Благодаря своему разумному добровольному труду, исполняемому добросовестно, он производит больше, чем простой мирянин. Благодаря же скромному, сдержанному образу жизни он потребляет меньше, чем мирянин. Вот почему там, где мирской человек потерпел неудачу, он не только существует, но даже процветает. Он собирает угнетенных, кормит их, дает им работу, заставляет их вступать в брак; нищие, бродяги, беглые крестьяне собираются к его алтарю. Постепенно их стоянка превращается в деревню, затем в посад: человек начинает работать, как только может рассчитывать на жатву, и становится отцом семейства, когда считает себя в состоянии прокормить детей. Так образуются новые промышленные земледельческие центры, которые в свою очередь становятся новыми центрами населения. [2]
К хлебу телесному присоедините еще хлеб духовный, не менее необходимый; так как вместе с пищей нужно дать еще человеку желание жить или, по крайней мере, покорность, помогающую ему выносить жизнь, и поэтическую или трогательную мечту, которая заменяет ему отсутствующее счастье. До середины XIII столетия это доставлялось человеку почти исключительно духовенством. Своими бесчисленными легендами о святых, своими соборами и их архитектурой, своими статуями и их выражением, своими богослужениями и их еще прозрачным смыслом духовенство сделало доступным понятие о «Царстве Божием» и воздвигло идеальный мир на границе мира реального, как великолепный золотой купол на вершине нищенской хижины. [3] В этот кроткий божественный мир укрывалось скорбящее сердце, алчущее нежности. Здесь гонители падали сраженные невидимыми ударами; дикие животные становились кроткими; лесные олени приходили каждое утро, чтобы запречься в телегу святых; луг расцветал для них, как новый Рай; они умирали только когда того хотели. В то же время они утешают людей; доброта, благочестие, всепрощение источают их уста, как небесную сладость; воздев к небесам очи, они видят Бога и без усилий, точно во сне возносятся к свету, чтобы сесть одесную Его. Божественная легенда имела неоценимые достоинства в эпоху царства грубой силы, когда, чтобы переносить жизнь, необходимо было воображать себе другую и видеть ее духовными очами столь же ясно, как первую очами телесными. В продолжение более чем двенадцати веков духовенство питало ею людей и по величине награды можно судить о глубине благодарности; их папы в продолжение двухсот лет были диктаторами Европы. Духовенство устраивало крестовые походы, развенчивало королей, раздавало государства. Его епископы и аббаты здесь становились князьями и владыками, там — покровителями и истинными создателями династий. Духовенство держало в своих руках половину доходов, треть земель, две трети всех капиталов Европы. Не думайте, что человек бывает признателен без причины и дает без достаточных мотивов; он слишком для этого эгоистичен и слишком завистлив. Какое бы ни было учреждение, духовное или светское, какое бы ни было духовенство, буддистское или христианское, современники, сохраняющие его в продолжение сорока поколений, не могут быть дурными судьями; они не отдадут ему своего добра и своих богатств иначе, как за равное количество оказанных услуг, и чрезмерностью их преданности можно измерить колоссальность его благодеяния.
До сих нор против силы разбойников не было другого исхода, кроме убеждения и терпения. Государства, которые по примеру древней Империи пытались возвыситься до крепких зданий и противопоставить оплот беспрерывному нашествию, не могли удержаться на колеблющейся почве; после Карла Великого все распалось. Со времени битвы при Фонтанэ воинов нет; в продолжение полустолетия шайки из четырех-пяти сот разбойников безнаказанно убивали, жгли, опустошали всю страну. Но именно в этот момент разложения государства появляется военное сословие. Каждый маленький вождь прочно укрепился в области занимаемой или удерживаемой им. Он вполне владеет ею, как собственностью. Это его графство или посад, где он не отдает отчета даже и королю. Он вступает в борьбу, защищая его. В этот момент благодетелем, спасителем является человек, умеющий биться и защищать других и таков в действительности характер нового народившегося класса. На современном языке дворянин значит воин, солдат (miles), и ему суждено положить второй устой новейшего общества.
В десятом веке на его происхождение не обращалось внимания. Иногда это каровингский граф, получающий жалованье от короля, смелый владелец последних франкских земель. Здесь — воинственный епископ, отважный аббат, там — крещеный язычник, осевший на землю бандит, обогатившийся искатель приключений, мужественный охотник, долгое время питавшийся дикими плодами и своей охотой. [4] Предки Роберта Сильного неизвестны и позднее будут рассказывать, что Капетинги происходят от парижского мясника. Как бы то ни было, дворянином в то время называли храбреца, человека, умевшего владеть оружием, который во главе отряда вместо того, чтобы бежать и платить выкуп, собственной грудью защищал принадлежащий ему кусок земли. Чтобы нести такую службу не нужно иметь предков, необходимо лишь обладать мужественным сердцем и тогда сам становишься предком; общество слишком счастливо, благодаря благам, доставляемым им, чтобы справляться у такого человека относительно его титула. Наконец, после многих веков, в каждом кантоне образовался вооруженный отряд, способный дать отпор нападению кочующих народов; иноземцам теперь уже не так легко поживиться за чужой счет, та самая Европа, которая не могла противостоять флотилии двух парусных лодок, выбрасывает двести тысяч вооруженных человек на азиатский материк и отныне на севере, на юге, в борьбе с мусульманами и язычниками, вместо поражения она одерживает победы. Во второй раз вырисовывается идеальный образ, образ героя, который наряду с образом святого возбуждает новое плодотворное чувство и сгруппировывает людей в одно прочное общество. Чувство воинственности переходит от отца к сыну Каждый при рождении получает свою наследственную степень, свою местную службу, свою награду в виде имений, полную уверенность, что никогда не будет покинут своим вождем и обязанность умереть за своего вождя. В эту эпоху постоянных войн, мог существовать только один порядок, именно, быть постоянно готовым встретить врага, и таков был действительно феодальный строй; по одной этой черте вы можете судить, каким опасностям подвергал он и какие обязанности приходилось нести. «В то время, говорит всеобщая испанская хроника, короли, графы, дворяне и все рыцари, чтобы не быть застигнутыми врасплох, держали лошадей в зале, где спали с женой». Виконт в башне, защищавшей вход в долину или проход в ущелье, маркиз, заброшенный на выжженной границе спит с оружием в руке, подобно американскому поселенцу на Дальнем Западе, посреди дикарей Сиу. Дом его ничто иное как лагерь или убежище; пол большой залы устилали соломой или охапкой листьев: здесь он спал в обществе своих рыцарей, отстегнув меч, когда имел возможность уснуть; бойницы едва пропускали дневной свет, так как прежде всего заботились, чтобы в них не попадали стрелы. Все вкусы, все чувства подчинены службе; есть такие пункты европейской границы, где ребенок четырнадцати лет участвует уже в походе, где вдова обязана до шестидесятилетнего возраста снова выйти замуж. Людей, дабы пополнить потери в рядах, людей на сторожевые посты для несения службы — вот крик, исторгаемый в этот момент всеми учреждениями, подобно набатному призыву. Благодаря этим храбрецам, крестьянин находится под защитой; его уже не будут убивать больше, его уже не будут уводить в плен вместе с его семьей, целыми толпами, с ярмом на шее. Он уже отваживается заниматься земледелием, сеять, надеяться на урожай; в случае опасности, он знает, что найдет защиту для себя, для своего зерна и для своего скота за крепким тыном, у подножия крепости. Постепенно между военным предводителем и крестьянами окружных деревень устанавливается молчаливое соглашение, превращающееся в соблюдаемый всеми обычай. Они работают на него, обрабатывают его земли, починяют его экипажи, платят ему подати, иногда с каждого дома, иногда с каждой головы скота, иногда за получение наследства, иногда за продажу; ему ведь нужно кормить свое войско. Но получив свое, он совершает уже несправедливость, если, из гордости или зависти, отнимает у них еще что-нибудь. Что касается бродяг, нищих, которые в эту эпоху всеобщего беспорядка и опустошения приходят к нему искать убежища, то их положение гораздо хуже: земля принадлежит ему, так как без него она не была бы заселена; если он им отводит небольшой кусок, даже если он позволит им только поселиться, или даст им работу или семян для засеяния поля, они становятся его рабами: куда бы они не ушли, он имеет право схватить их, и они будут от отца к сыну его вечными слугами, употребляемые на ту работу, которую заблагорассудит дать им их повелитель, живущие на его полном иждивении, не имеющие права передать своим детям ничего, кроме лишь того, что после смерти отца они будут продолжать его ремесло. «Не быть убитым, говорит Стендаль, и иметь зимою теплое платье из звериной шкуры, являлось для многих людей высшим счастьем в десятом веке»; прибавим к этому, что для женщины высшим счастьем было избежать насилия со стороны какой-нибудь бродячей шайки. Когда представишь себе несколько яснее положение людей в ту эпоху, то начинаешь понимать, почему они с охотой приняли худшие феодальные права, так как то, что приходилось переживать ежедневно, было еще хуже. Доказательством служит то, что в феодальную ограду кинулись все, едва она была устроена; в Нормандии, как только Роллон разделил землю и повесил воров, люди из провинций стали стекаться к нему, небольшой обеспеченности было достаточно, чтобы населить страну.
Поэтому жили, или вернее, стали жить под гнетом тяжелой руки, закованной в железо, которая угнетала вас, но в тоже время и защищала. Повелитель и владетель, в силу этого двойного титула, помещик имеет в своем исключительном распоряжении степь, реку, лес, всю охоту; зло не столь большое, так как страна наполовину опустошена, и он все свое свободное время употребляет на уничтожение диких животных. Владея один доходами, он один только может построить мельницу, доменную печь, давильню для винограда, возвести мост, проложить дорогу, выкопать пруд, держать или покупать быков; чтобы возместить свои расходы, он берет за все это плату или же воспрещает пользование. Если он умственно развит или просто гуманный человек, если он хочет получить наибольшую выгоду из своих имений, он отпускает или разрешает уходить постепенно мужчинам на оброк в тех местах, где мужики или рабы плохо работают, вследствие тесноты населения. Привычка, необходимость, добровольное или принужденное приспособление оказывают свое действие: в конце концов, собственники, мужики, рабы и горожане, освоившись с своим положением, связанные одним общим интересом, образуют вместе одно общество, настоящее тело. Поместье, графство, герцогство становятся отечеством, которое любят со слепым инстинктом, которому преданы. Оно отожествляется с владельцем и его семьей; им гордятся, про него рассказывают; его приветствуют криками, когда его кавалькада проезжает по улице; из симпатии к нему радуются его пышности. [5] Когда он вдов и не имеет детей, к нему отправляют выборных с просьбой, чтобы он вступил вторично в брак, дабы его смерть не отдала страну на жертву войны претендентов наследников или соседей.
Так зародилось после тысячи лет самое могучее, самое жизненное из чувств, поддерживающих человеческое общество. Оно тем более драгоценно, что может быть увеличено, для того, чтобы маленькое феодальное отечество стало великим национальным отечеством, теперь достаточно, чтобы все владения объединились в руках одного господина, и чтобы король, предводитель дворянства, воздвиг на создании дворян третий устой Франции.
Он воздвиг этот третий устой, камень за камнем. Гут Капет положил первый; до него королевство не давало королю ни одной провинции, даже Лион; только он присоединил к титулу еще и владение. В продолжение восьмисот лет путем брака, завоевания, ловкости, наследования продолжалась эта работа по приобретению; даже при Людовике XV, Франция увеличилась Лотарингией и Корсикой. Из ничего король создал целое государство, включающее двадцать шесть миллионов жителей и являющееся отныне самым могущественным в Европе. В то же время он был начальником народной обороны, освободителем страны от иностранцев, от папы в XIV столетии, от англичан в XV, от испанцев в XVI. У себя в королевстве он вечно находился в разъездах, он разрешал судебные тяжбы, разрушал крепости феодальных разбойников, уменьшал гнет сильных, устанавливал порядок и мир: колоссальное дело, которое от Людовика Толстого до Людовика Святого, от Филиппа Красивого до Карла VII и до Людовика XI, от Генриха IV до Людовика XIII и Людовика XIV продолжалось беспрерывно до средины XVII века, когда был издан эдикт против дуэли. В то же время все полезные предприятия, выполненные по его приказанию или развившиеся под его попечением, дороги, гавани, каналы, приюты, университеты, академии, учреждения благочестия, воспитания, наук, промышленности и торговли носят его отпечаток и возвещают о нем, как об общественном благодетеле. Подобные заслуги требуют и соответственной награды: поэтому всеми допускается, что от отца к сыну, он заключает брак с Францией, что страна действует лишь по его вдохновению, что он предпринимает все ради её блага и все старинные воспоминания, все настоящие интересы подтверждают этот союз. Церковь освящает его в Реймсе, как бы восьмым таинством, которому сопутствуют легенды и чудеса; он помазанник Божий. Дворяне, но старому военному инстинкту преданности, считают себя его охраной и до 10 августа готовы дать убить себя за него на его лестнице; он от рождения их вождь. Народ до 1789 года будет видеть в нем отмстителя за несправедливости, охранителя права, защитника слабых, великого милостивца, всеобщее прибежище. В начале царствования Людовика XVI «крики, да здравствует король, начинавшиеся с шести часов утра продолжались почти беспрерывно до заката солнца». [6] Когда у него родился Дофин, радость Франции напоминала семейную радость, «прохожие останавливались на улицах и заговаривали друг с другом не будучи знакомы, знакомые же обнимались и целовались». [7]
Все в силу какой-то неопределенной традиции и уважения, вкоренившегося с незапамятных времен, чувствуют, что Франция — корабль построенный его руками и руками его предков, что поэтому постройка принадлежит ему, что он имеет право иметь там свой уголок, как каждый пассажир и что его единственная обязанность быть опытным и знающим, чтобы благополучно провести по морю великолепный корабль, так как под его парусом находится все общественное достояние. Под давлением такой идеи, ему разрешалось делать все; силой или добровольно он низвел к нулю древние авторитеты, превратившиеся отныне в какие-то отрывки, в одно воспоминание. Дворяне ничто иное как его офицеры или придворные. После заключения конкордата он назначает служителей церкви. Генеральные Штаты не созывались в продолжение ста семидесяти пяти лет; провинциальные штаты занимаются только отсылкой налогов; парламенты распускаются, как только они осмеливаются делать какие-либо представлении. Через свой совет своих управителей и делегатов он вмешивается, в каждое мелкое местное происшествие. У него четыреста семьдесят семь миллионов доходов. Половину он отдает духовенству. Наконец он полновластный владыка и заявляет об этом. Таким образом, имущество, освобождение от налогов, удовлетворение самолюбия, некоторые остатки юрисдикции или местной власти — вот все что остается прежним соперникам; взамен того они получают его предпочтение и милости. Такова вкратце история привилегированных классов, духовенства, дворянства и короля; ее необходимо напомнить, чтобы понять их положение в момент их падения; создав Францию, они наслаждались ею. Рассмотрим же ближе, кем стали они в конце XVIII столетия, какую часть сохранили они из своих преимуществ, какие еще услуги оказывают они и каких уже более не оказывают.
Глава II. Привилегии
Число привилегированных. Их имущество, капитал и доходы. Их льготы. Их феодальные права. Эти преимущества — остатки первобытной власти. Судить о них можно по местным и общим заслугам.
Их около 270 тысяч: в дворянстве 140 тысяч, в духовенстве 130 тысяч. Это составляет от 25 до 30 тысяч дворянских семей, 23 тысяч монахов в 2.500 монастырях, 37 тысяч монахинь в 1.500 монастырях, 6 тысяч священников и викариев в таком же количестве церквей и часовен. Если нужно представить все это более точно, то можно вообразить, что на каждой квадратной лье земли и на каждую тысячу жителей приходится одна дворянская семья, в каждой деревне один священник и одна церковь и каждые шесть или семь миль, одна мужская или женская община. Вот древние вожди и создатели Франции, — судя поэтому у них еще много имущества и много прав.
Следует всегда помнить, кем они были, чтобы понять, кто они еще теперь. Как ни велики их преимущества, это все же лишь остатки преимуществ более значительных Такой-то епископ или аббат, такой-то граф или герцог, преемники которых ездят на поклон в Версаль, был некогда равен Карловингам и первым Капетингам. Один из владельцев Монлери держал в страхе короля Филиппа I. Аббат Сен-Жермен де-Прэ владел 433 тысячами гектаров земли, т.е. площадью равной почти целому департаменту. Не нужно удивляться, если они остались могущественными и в особенности богатыми; ничего нет устойчивее общественной формы. После восьмисот лет, несмотря на многочисленные удары королевского топора и колоссальное изменение социальной культуры, древний феодальный корень был все еще крепок. Эго заметно прежде всего по распределению собственности. Одна пятая земли принадлежит короне и общинам, одна пятая — третьему сословию, одна пятая — земледельческому классу на рода, одна пятая — дворянству, одна пятая духовенству. Таким образом, если не считать общественных земель, то привилегированные классы владеют половиной государства. И это огромное пространство в то же время самое богатое, так как на нем находятся почти все роскошные постройки, дворцы, замки, монастыри, соборы и почти все драгоценные движимости, мебель, посуда, произведения искусства, шедевры, накапливаемые в продолжение веков. О них можно судить по любви к ним духовенства. Эти земли оценивались в четыре миллиарда; они при носили доход от 80 до 100 миллионов, не считая еще десятины, доходившей до 123 миллионов в год, в общем 200 миллионов, сумма, которую нужно увеличить в два раза, [8] чтобы она соответствовала теперешней; прибавьте к этому плату за требу и сбор. [9]
Чтобы лучше представить себе размеры этой золотой реки, познакомимся с некоторыми из её притоков. 399 духовных особ считают свой доход превышающим один миллион, а капитал достигающим 45 миллионов. Тулузский монастырь доминиканцев с 236 монахами владеет более 200 тысячами ливров дохода, не считая их монастырей, построек и в колониях земель, негров и других предметов, стоящих несколько миллионов. Бенедиктинцы Клюни в числе 298 человек имеют доход в 1,8 миллионов ливров. Бенедиктинцы Сен-Морэ в числе 1.672 человек оценивают в 24 миллиона движимое имущество их церквей и домов, а доход считают в 8 миллионов, «не включая сюда того, что поступает к аббатам и приорам», т.е. столько, же если еще не больше. Дон Роккур, аббат Клерво, владеет от 300 до 400 тысяч ливров дохода. Кардинале де-Роган, епископ Страсбургский, более миллиона. В Франш-Контэ, в Алзасе и Руссильоне, духовенство владеет половиной всех земель; в Гэно и Артуа тремя четвертями; в Камбрези 1.400 участков из 1.700. Велэ почти целиком принадлежит епископу Пюнскому, аббату из Шэз-Дьё, дворянскому роду Бриуд и помещикам Полиньяк. Каноники Сен-Клода в Юре владеют 12 тысячами рабов или крепостных. При помощи этого богатства первого класса, мы можем себе представить богатство второго. Так как на ряду с дворянами в него входят и все те, кто получил дворянство впоследствии, и так как в продолжение одного столетия финансисты приобретали или покупали дворянское звание, то ясно, что почти все огромные состояния Франции как древние, так и новые, переданы по наследству, получены в награду от двора, приобретены путем коммерческих операций; когда какой-нибудь класс находится на высоте, то он принимает к себе все, что поднимается или карабкается кверху. Здесь тоже есть колоссальные состояния. Высчитано, что уделы принцев королевской крови, графов д’Артуа и Прованса, герцогов Орлеанских и Пантьеврских, занимают седьмую часть всей территории. Принцы крови имели в общем доход от 24 до 25 миллионов; герцог Орлеанский, один владел 11,5 миллионов ливров ренты. В этом видны следы феодального строя; нечто подобное можно встретить теперь в Англии, в Австрии, Пруссии и России; в самом деле, собственность на много лет переживает обстоятельства, создавшие ее. Ее создала верховная власть; отделенная от верховной власти она осталась в руках некогда бывших тоже верховными. В лице епископа, аббата или графа, король уважал собственника, уничтожая соперника, и в собственнике сто признаков указывают еще бывшего или урезанного в своих правах государя.
Таково изъятие от уплаты налогов, полное или частичное. Сборщики не требуют от них денег, так как король чувствует, что феодальная собственность точно такого же происхождения, как и его. Если королевство — привилегия, то поместье — тоже; сам король никто иной, как самый привилегированный из привилегированных. Самый неограниченный и более всех пользовавшийся своим правом, Людовик XIV и тот выказал беспокойство, когда крайняя необходимость заставила его наложить на всех налог десятины. Договоры, прецеденты, обычай, установившийся с незапамятных времен, память о древнем праве удерживают еще руку фиска. Чем более собственник походит на древнего независимого короля, тем более широки его преимущества. То укрывается он недавним договором, своим чужеземным происхождением, своим родством с королем. «В Альзасе, владетельные иностранные принцы, Мальтийский и Тевтонский ордены пользуются освобождением от всех налогов». «В Лотарингии род Ремирмон пользуется привилегией лично назначать себе размер государственных налогов. [10] То его защищают провинциальные штаты или включение в дворянское сословие; в Лангедоке и Бретани только одни разночинцы платят подать. Повсюду его звание освобождает его, его замок и владения от уплаты налогов, — которые уплачивают только его фермеры. Даже больше, достаточно, если он обрабатывает землю сам или через своего управителя, чтобы его природная независимость сообщилась и этому клочку земли; как только он коснется земли сам или через своего работника, он ничего не платит за триста десятин, за которые в руках другого наложили бы две тысячи франков подати, и кроме того от налога освобождаются леса, луга, виноградники, пруды, земли принадлежащие замку, какой бы величины они не были». Поэтому в Лимузине и в других местах, где большею частью находятся луга и виноградники, он старается управлять сам, так как освобождается совершенно от сборщика податей. Таким образом после четырехсот пятидесяти лет деятельности, налог, это первое орудие фиска, самое тяжеловесное из всех, почти не коснулось феодальной собственности. [11] Спустя столетие, два новых орудия, подушная подать и двадцатая часть казались более плодотворными, но не осуществили ожиданий. Прежде всего, при помощи дипломатического искусства, духовенство отвратило и смягчило эти удары. Так как оно составляло корпорации и устраивало собрания, то могло вести переговоры с королем, откупаться, избежать установления размера налога посторонними лицами, заставить принять, что его взносы не уплата налога, но «добровольный дар», добиться в замен массы привилегий, уменьшать этот дар, иногда даже не делать его, во всяком же случае, сокращать его на 16 миллионов каждые пять лет, т.е. приблизительно на 3 миллиона ежегодно; в 1788 году было уплачено лишь 1,8 миллионов ливров, а в следующем 1789 году духовенство отказалось совершенно от уплаты. [12] Более того, так как оно занимает для взноса своего налога, а десятина, установленная на духовные имущества, не достигает суммы, чтобы погасить капитал и уплатить проценты по долгу, то оно сумело заставить короля прийти к нему на помощь и получает ежегодно 2,5 миллионов ливров; таким образом, вместо того, чтобы платить, духовенство получает и еще в 1787 году ему было выдано 1,5 миллиона ливров.
Дворяне же, не имея возможности собираться, иметь своих представителей, действовать общественным путем, действовали путем частным, у министров, управителей, субделегатов, откупщиков и вообще у всех лиц, облеченных властью; ради их звания им оказывалось снисхождение, уважение. Прежде всего их звание освобождает их, их людей, и людей их от несения службы в милиции, от постоя войск, от обязательных работ по исправлению дорог. Затем, подушная, установленная, согласно налогу, касается их совершенно нечувствительно. Кроме того, каждый из них, насколько может, восстает против суммы, которую на него наложили. «Ваше чувствительное сердце, пишет один из них уполномоченному, никогда не допустит, чтобы отец моего звания был бы обложен такою же податью, как отец простолюдина». [13] С другой стороны, так как каждый платит свою подать по месту жительства, нередко очень отдаленного от его земель, а об его доходах с движимого имущества ничего неизвестно, то он может платить сколько ему вздумается. Никаких расследований не производится, раз он дворянин; «к лицам привилегированного сословия относятся с бесконечной предупредительностью»; в провинции, говорит Тюрго, подушная привилегированных постепенно сводится к чему-то в высшей степени изменчивому, тогда как подушная податных почти равна податям». Наконец, «сборщики считали себя обязанными быть милостивыми по отношению к дворянам», даже когда они были должны, «что привело, говорит Неккер, к крупным недоимкам, числившимся за дворянами». Таким образом, не отражая нападения фиска с фронта, они просто уклонились от него, сделав это нападение почти безвредным. В Шампани, где «сумма подушных достигала до 1,5 миллиона ливров, дворяне уплачивали не более 14 тысяч ливров», т.е. «2 су и 2 динария за тот предмет, который стоит 12 су податному». По словам Калонна, «если бы уничтожили концессии и привилегии, то налоги приносили бы вдвое большую сумму». Самые богатые защищались наиболее ловко. «С уполномоченными, говорил герцог Орлеанский, я достигаю соглашения; я приблизительно плачу сколько хочу», и он высчитывал, что провинциальные власти, обложив его чрезмерным налогом, заставили потерять его 300 тысяч ливров дохода. Доказано, что принцы крови платили 188 тысяч ливров, вместо 240 тысяч. Собственно, при том строе, освобождение от налогов, есть последний обрывок верховной власти или, по крайней мере, независимости. Привилегированный уклоняется от налога не только потому, что он отнимает у него часть денег, но также потому, что он унижает его; налог является отличительным признаком разночинца, т. д. древней сервитуды, и потому дворянин противится фиску столько же из гордости, сколько и ради собственного интереса.
Последуем за привилегированным в его владения. Епископ, аббат, каноник, аббаттисса, — каждый из них имеет свое владение, как и светский помещик; так как прежде монастырь и церковь были маленькими государствами, подобно графству или герцогству.
Оставшаяся нетронутой по ту сторону Рейна и почти уничтоженная во Франции, феодальная постройка позволяет различать один и тот же план повсюду. В некоторых местах лучше укрытых или менее подвергавшихся нападениям, она сохранила всю свою старинную внешность. В Кагоре, епископ-граф города имеет право, когда он совершает торжественное богослужение, «положит на алтарь шлем, кирассу, перчатки и шпагу». В Безансоне архиепископ-князь имеет в своей свите шесть высоких должностных лиц, которые должны платить ему лен, присутствовать при его посвящении и при его похоронах. В Мандэ, епископ, сюзеренный владелец Жеводан, с одиннадцатого столетия избирает «советников апелляционных судей, комиссаров и синдиков страны», распоряжается всеми должностями «как муниципальными, так и юридическими» и отказываясь приехать на собрание трех орденов, «отвечает, что его положение, его владения и его ранг ставят его превыше всех мелочей его епархии и он не может председательствовать лично, так как, будучи сюзеренным владетелем всех земель и в частности баронств, он не может идти на уступки своим вассалам», одним словом, что он король в своей провинции. В Ремирмоне благородный глава каноников распоряжается «нижним, верхним и средним судом в пятидесяти двух поместьях», является представителем семидесяти пяти деревенских священников, председательствует в десяти мужских каноникатах, назначает в городе муниципальных властей, кроме того, назначает трех судей первой инстанции и апелляционного суда и местных чиновников. Тридцать два епископа, не считая монастырских глав, также представляют светскую власть, целиком или отчасти, в своем епископском городе, иногда и в прилежащем округе, иногда же, как например, епископ Сен-Кло, во всей провинции. Здесь феодальная твердыня сохранена во всей неприкосновенности; в других местах она несколько изменена, особенно в уделах. В этих владениях, охватывающих более двенадцати наших департаментов, принцы крови назначают лиц на судейские должности и на доходные места. Заступая короля, они имеют свои права как материальные, так и почетные. Они почти короли, так как получают не только все, что получил бы король как владелец, но еще и часть того, что получил бы он как монарх. Например, Орлеанский дом имеет право облагать налогом напитки, золотые и серебряные изделия, железное и стальное производство, карты, бумагу, крахмал, одним словом, все предметы торговли, которые более всего увеличивают сумму косвенных налогов. Ничего поэтому нет удивительного, если, находясь почти в королевских условиях жизни, они подобно королям, имеют совет, канцлера, двор, домашний церемониал, и, если феодальный строй облекается под их руками в роскошные одежды.
Перейдем к менее значительным лицам, к помещику средней руки, в его имение, в среду тысячи жителей, которые некогда были его рабами, к дворянину, живущему по соседству с монастырем или епископом и права которого переплетены с их правами. Как бы не унижали его достоинства, он все-таки стоит довольно высоко. Он все еще, как говорят интенданты, «первый житель»; это князь, которого мало-помалу лишили его общественных обязанностей и урезали в почетных и материальных правах, но который остался князем. В церкви у него своя скамья и он имеет право быть похороненным на клиросе; на стенах красуются его гербы; ему воскуривают фимиам и подают святую воду. Иногда, будучи основателем и строителем церкви он становится её патроном, избирает кюрэ, требует от него полного себе повиновения, — в деревнях по его фантазии служат позже или раньше приходские обедни. Если он носит какой-нибудь титул, то является главным судьей, и есть целые провинции, как, например, Мэн и Анжу, где нет лена без своего суда. В таких случаях он назначает уездного судью, актуариуса и других законников, прокуроров, нотариусов, сержантов, приставов, которые действуют и судят от его имени, разбирая в первой инстанции как гражданские, так и уголовные дела. Более того, от утверждает особый суд за лесные преступления и назначает штрафы, которые взыскивает лесной судья. Для преступников разного рода у него есть своя тюрьма и даже иногда виселица. С другой стороны, в возмещение расходов по судопроизводству, он получает имущество человека приговоренного к смерти и к конфискации в его владениях; он наследует побочному члену фамилии умершему без духовного завещания и не имевшего законных детей; он наследует местному уроженцу, законнорожденному, но умершему не оставив законных наследников и духовного завещания; он присваивает движимое имущество, живой и мертвый инвентарь, владелец которого неизвестен; он оставляет в свою пользу треть или половину находки и на берегу он берет себе имущество потерпевших крушение; наконец, что случается очень нередко в эту эпоху нищеты, он становится владельцем покинутых земель, которые не обрабатывались в течение десяти лет.
Другие преимущества еще яснее указывают, что некогда он управлял всем кантоном. Таковы, например, в Оверни, во Фландрии, в Гэно, в Артуа, в Пикардии, в Альзасе и в Лоррэне налоги за заботу, которые уплачивают ему за охрану жителей; налоги за стражу; пошлина, которую он берет с людей торгующих пивом, вином и другими напитками в розницу и оптом; сборы деньгами или зерном, которые уплачиваются ему, с каждого дыма, семьи или дома; кроме того, почти повсеместно в его пользу установлен налог на продажу и покупку земель, а также на каждую аренду, превышающую девять лет. Все это настоящие налоги, — земельные, на движимую собственность, на договоры, на наследства, установленные когда-то в виду общественных услуг, оказываемых дворянином и от которых он освобожден в настоящее время.
Другие доходы тоже нечто иное, как древние налоги, но за них он несет известные обязанности. Правда, король уничтожил многие из поборов, и продолжает уничтожать, но всё же остается еще много, приносящих доходы помещику, — таковы налоги на мосты, на дороги, на пруды, на суда, которые поднимаются или спускаются по реке. За починку мостов дорог и прочее они получают в общем налогов на девяносто тысяч ливров. Точно также за содержание рыночного барака и за даровое пользование весами и мерами, помещик устанавливает налог на товары, привозимые к нему на ярмарку или на рынок: в Ангулеме уплачивается сорок восьмая часть проданного зерна, в Конбурге, близ Сен-Мало, с головы скота, в других местах с количества проданного вина, съестных припасов и рыбы. Построив доменную печь, давильню для винограда, мельницу, бойню, он обязывает жителей пользоваться ими и платить ему и при этом уничтожает постройки, которые конкурируют с ним. Ясно, что эти монополии и пошлины восходят к тому времени, когда он имел абсолютную власть.
Он не только имел власть, но владел людьми и землею. Во многих отношениях он является собственником людей и теперь в некоторых провинциях. «В Шампаньи, в Сенонэ, в Марше, в Бублоннэ, в Пивернэ, в Бургундии, Франш-Контэ — почти повсеместно имеются следы бывшего рабства. Там можно встретить большое число рабов ставших, либо по собственному желанию или по желанию их господ». Там человек является рабом иногда в силу рождения, иногда из-за земли. Разные, крепостные крестьяне в количестве полутора миллиона людей, носят на шее обрывок феодального ига; в этом нет ничего удивительного, так как по ту сторону Рейна его носят почти все крестьяне. Некогда полный властитель и собственник их имущества и работы, помещик еще и теперь может требовать от них десять или двенадцать дней барщины в год и ежегодной подушной. В баронстве Шуазель близ Шомана в Шампаньи, «жители обязаны обрабатывать его поля, засевать их, собирать жатву и убирать зерно; каждый кусок земли, каждый дом, каждая голова скота оплачиваются налогом; дети наследуют родителям только в том случае, если живут с ними: если же они отсутствуют во время смерти, то все наследство переходит владельцу». Вот что на современном языке называлось поместьем «с хорошими доходами».
В других местах помещик получал наследство вместо братьев и племянников, если те не принадлежали к одной общине с покойным в момент его смерти, переход же из общины в общину делается лишь с его разрешения. В Жюре и Кеверне он может преследовать бежавших рабов и присваивать после их смерти все оставленное имущество В Сен-Клоде он приобретает это право на каждого, кто провел год и один день в черте его владений.
Что касается собственности земли, то тут еще яснее видно, что прежде она принадлежала ему вся. В округе, подчиненном его юрисдикции, общественные владения остаются его частным владением; дороги, улицы и общественные площади принадлежат ему. Он имеет право усаживать их деревьями и вырубать находящиеся там деревья. Во многих провинциях он заставляет платить население за разрешение пасти их скот в полях после снятия урожая и в разных пустошах. Речки не судоходные принадлежат ему вместе с островками и отмелями, имеющимися на них, а также рыбой. Он имеет право охотиться на всем пространстве своей юрисдикции, так что бывали случаи, что другой помещик бывал принужден открывать ему ворота своего парка, обнесенного оградой.
Для полноты картины сделаем еще один штрих. Этот глава государства, собственник людей и земли, был некогда возделывателем земли, живущим среди других, подвластных ему землепашцев; благодаря этому он оставил за собой некоторые преимущества эксплуатации. Таково, например, право продажи вина, еще очень распространенное, в силу которого он имеет привилегию продавать вино единолично, в продолжение первых сорока или тридцати дней после сбора винограда. В Турене, он имеет право посылать пастись свои стада на луга своих подданных. Такова, наконец, монополия, на основании которой тысячи его голубей могут свободно летать повсюду, собирая себе корм и которых никто не смеет тронуть пальцем.
Благодаря все тому же званию землевладельца, он собирает дань со всех земель, которые были им отданы когда-то в вечную аренду, делая поборы деньгами и натурой, столь же разнообразные, сколько разнообразны местные условия. В Бурбонэ он получает четверть жатвы; в Берри двенадцать колосьев со ста; иногда его должником или жильцом является целая община; некий депутат из национального собрания получал двести бочек вина с трех тысяч частных владений. В других местах он мог «удержать за собою все проданное поместье, с возвращением платы приобретателю, но за удержанием в свою пользу налога за совершение купчей крепости».
Заметьте, наконец, что все эти подчинения собственности образуют для владельца положение привилегированного кредитора, налагающего на своих подданных неделимый неоплатный долг. Вот феодальные права: чтобы представить их в одной общей картине станем изображать всегда графа, епископа или аббата X века, властелина и собственника своего кантона. Форма, в которую выливается тогдашнее человеческое общество, построена под давлением беспрестанной и близкой опасности, в виду защиты местности, вследствие подчиненности всех интересов, необходимости жить, желания сохранить за собою землю, прикрепившись к этой земле. Исчезла эта опасность, распалась и постройка. За плату владельцы позволили бережливому крестьянину воспользоваться несколькими её камнями. Они пострадали также оттого, что король присвоил себе общественную часть. Остается первобытный устой, древний фундамент собственности, земля предназначенная или уже исчерпанная на поддержку социального строя, который распался, одним словом, порядок привилегий подчиненности, причина и объект которых исчезли.
Этого всего недостаточно, чтобы признать подобный порядок вредным или даже бесполезным. В самом деле, вождь не несущий больше своей прежней службы, может исполнять другие обязанности. Назначенный для войны, когда жизнь была военной он может служить для мира в мирное время и для народа подобное изменение имеет огромное преимущество, так как сохраняя своих вождей, устраняется опасность, которая состоит в избрании новых.
Нет ничего более трудного как создать правительство, я говорю о правительстве постоянном, которое состоит в том, что несколько приказывают, а несколько повинуются, т.е. о совершенно противоестественном порядке вещей. Чтобы человек, сидя в своем кабинете, иногда дряхлый старик, располагал имуществом и жизнью двадцати или тридцати миллионов людей, большинство которых его никогда не видали; чтобы он приказывал им вносить десятую или пятую часть дохода, и чтобы они вносили; чтобы он приказывал им идти сбивать других или подвергать свою жизнь опасности, и чтобы они шли; чтобы они продолжали такой образ действия десять или двадцать лет, несмотря на все испытания, поражения, несчастия как французы при Людовике XIV, англичане при Питте, пруссаки при Фридрихе V, без волнений и внутренних восстаний: вот истинное чудо и, если народ желает оставаться независимым, он должен быть готов повторять такое чудо каждый день. Но эта преданность, это согласие не являются плодами рассуждающего разума; разум слишком слаб, слишком нерешителен, чтобы породить подобный энергичный результат. Предоставленное самому себе и низведение сразу к первобытному состоянию, человеческое стадо не знало бы, как поступить, и толклось бы без толку, пока, наконец, чистая сила не взяла бы верх, как в варварские времена, и среди шума и криков не появился бы военный вождь, который почти всегда был палачом. В деле истории лучше продолжать, чем начинать все сызнова. Вот почему, в особенности, когда большинство некультурно, полезно, чтобы вожди назначались вперед по наследственному обычаю и по специальному воспитанию. В таком случае народу не приходится их искать Они на лицо в каждом кантоне, их все видят, все признают; их узнают по их имени, по их титулу, по состоянию, по образу жизни, их власть уважают все. Власть эту в большинстве случаев они уже заслужили; рожденные и воспитанные, чтобы проявлять ее, они находят в традициях, в примере и семейной гордости предшественников, то, что воспитывает в них дух общественности; нужен лишь случай, чтобы они поняли обязанности, налагаемые на них их прерогативой. Таково обновление, вносимое феодальным строем. Таким образом бывший вождь все еще может сохранять за собою свое старшинство, благодаря оказываемым услугам и оставаться популярным, не теряя своих привилегий. Некогда бывший начальником округа, его охранителем, он должен теперь превратиться в помещика, благодетеля своего края, добровольным покровителем всех полезных предприятий, обязательным попечителем бедных, администратором и бесплатным судьей кантона, депутатом у короля, т.е. опять-таки защитником, как в древности, только поставленный в другие условия, приуроченные к новым обстоятельствам. Местный администратор, представитель в центре, вот его две главные функции, и если обратиться в другие страны, то можно увидеть, что он исполняет то или другое или же обе функции вместе.
Глава III. Местные обязанности, исполняемые привилегированными лицами
Примеры в Германии и Англии. Привилегированные лица не исполняют этих обязанностей во Франции. Помещики. Остатки феодального духа. Они не жестоки со своими крепостными, но не занимаются местным управлением. Их разобщенность. Мелочность и посредственность их благополучия. Их расходы. Они не в состоянии восстановить свой прежний престиж. Чувства крестьян к их местности. Помещики, не живущие в своих владениях. Колоссальность их состояния и их права. Имея бо́льшие преимущества, они должны нести бо́льшие обязанности. Причины их отсутствия. Влияние этого отсутствия. Апатия в провинциях. Состояние их земель. Они не творят милостыни. Нищета их крестьян. Требовательность их откупщиков. Их долги. Состояние их судов. Влияние их права охоты. Чувства крестьян в их местности.
Рассмотрим сперва местное управление. У ворот Франции есть местности, где феодальная подвластность более тяжелая, чем во Франции, кажется более легкой, так как на другой чашке весов благодеяния перетягивают гири. В Мюнстере в 1809 году Беньо встречает владетельного епископа, город, состоящий из монастырей и барских домов, где проживают несколько купцов, торгующих необходимыми товарами, очень небольшое число граждан, в окрестностях же рабы и крестьяне. Владетель удерживает для себя часы, их производства, а после смерти часть их наследства; если же они уходят, их имущество переходит к нему. Его слуги наказываются как простые мужики. Порка является обыкновенным наказанием, не считая других более тяжких. Но никогда наказанному не приходила в голову мысль заявить протест или подать в суд, так как владетель, наказывающий их, как отец, в то же время защищает их как отец, помогает им в несчастий и заботится во время их, болезни; он дает им приют под старость, охраняет их вдов и радуется когда у них много детей; вследствие этого они не чувствуют себя ни несчастными, ни беспомощными; они знают, что в крайней или непредвиденной нужде он всегда поможет им. [14]
В прусских штатах, в силу кодекса Фридриха Великого обязанности, налагаемые на феодальных подданных, были еще тяжелее, но вместе с тем были увеличены и обязанности феодальных властителей по отношению к своим подданным. Без разрешения владельца крестьяне не смели продать свое поле, заложить его или культивировать иначе; они не смели также переменить свою профессию и вступить в брак. Если они покидали поместья он мог преследовать их и привести обратно силою. Он имел право наблюдения над их частной жизнью и мог наказывать их за пьянство и леность. В юношеские годы они в продолжение нескольких лет были у него слугами, впоследствии же несли барщину, в некоторых местах три дня в неделю. Но по обычаю и по закону он должен следить за тем, чтобы они получали образование, помогать им в их нуждах, предоставлять им, насколько это в его средствах, ресурсы к жизни. Таким образом на него возложено управление, выгодами которого он пользуется, и под тяжелой рукой, угнетающей и в то же время поддерживающей их, живет сравнительно благоденствующее население.
В Англии высшие классы достигают тех же результатов только другим путем. Там также страна платит еще десятую часть в пользу духовенства; сквайр, дворянин владеет более обширными землями, чем его сосед-француз, и фактически пользуется большей властью в своем кантоне. Но его крестьяне, поселенцы и фермеры — не рабы и даже не вассалы; они свободны. Если он управляет, то лишь благодаря влиянию, а не приказанию. К нему относятся с уважением, как к собственнику и хозяину. Лорд, наместник, начальник милиции, администратор, судья, он полезен. В особенности потому, что от отца к сыну он здесь живет, родился в этом кантоне и находится в непрестанном общении с местным населением, благодаря своим делам, развлечениям, охоте, помощи бедным, благодаря своим фермерам, которых приглашает к своему столу, своим соседям, которых встречает в комитете или в vestry. Вот как поддерживается древняя иерархия: необходимо, чтобы она превратилась из военного кадра в кадр гражданский и нашла себе новое применение феодальному вождю.
Когда поднимаешься несколько выше в нашу историю, то там и сям можно встретить подобных же дворян. Таков был герцог Сен-Симон, отец писателя, настоящий властелин Блэ, уважаемый самим королем. Таков был дед Мирабо, в своем замке Мирабо в Провансе, самый высокомерный, самый невозможный из всех людей, «требующий, чтобы офицеры, которых он представлял в свой полк, были приняты королем и министрами», терпящий ревизоров только для формы, но героический, великодушный, преданный, отдающий свою пенсию шести капитанам, раненым под его командой, защищающий бедных, изгоняющий из своих земель прокуроров, намеревавшихся ввести там свою волокиту, «прирожденный защитник людей» даже от министров и короля. Однажды охранители табачной монополии остановились у его кюрэ; Мирабо изгнал их и преследовал с таким остервенением, что они с трудом спасли свою жизнь. Но, не довольствуясь этим, он написал письмо, требуя отставки всех начальников, обещая, что в противном случае все служащие будут спущены в Рону или в море. Для его успокоения к нему приезжал сам директор монополии». Видя, что его кантон не дает хорошего урожая, а его работники ленятся, он собрал всех жителей: мужчин, женщин, детей и в отвратительную погоду вышел во главе их несмотря на своими двадцать семь ран, и шею, поддерживаемую серебряной пластинкой и заставил за плату работать их, распахивать землю, данную им в аренду на сто лет, воздвигать огромные стены и усаживать оливами каменистую скалу. «Никто не смел ни под каким предлогом уклоняться от работ, если не был болен, и никто никогда не осмелился его обмануть». Это последние пни древности, узловатые, дикие. Их можно было встретить еще в отдаленных кантонах, в Бретани, в Оверне, и я уверен, что при надобности их крестьяне пойдут за ними как из уважения, так и из страха. Сила сердца и плоти порождает и сильных наследников, а изобилие энергии, проявляющееся вначале в насилиях, переходит в благодеяние.
Менее независимая и менее строгая родительская власть остается если не в законе, то в нравах. В Бретани близ Трегюйэ и Ланниана, говорит уездный судья Мирабо, «весь главный штаб береговой охраны состоит из родовитых важных людей. Я не разу не видел, чтобы кто-нибудь из них вспылил на солдата крестьянина и в то же время со стороны последних всегда чувствовалось сыновнее уважение… Это настоящий земной рай нравов, простота, истинное патриархальное величие: крестьяне, которые относятся к своим владельцам, как нежные сыновья к своему отцу, господа, которые говорят на своем грубом языке с крестьянами, улыбаясь в то же время, — здесь видна взаимная любовь между хозяевами и слугами.
Более к югу в Бокаже, в стране земледельческой, бездорожной, где дамы путешествуют верхом или в каретах, запряженных волами, где у господ нет фермеров, но двадцать пять или тридцать мелких поселенцев, первородство господ не угнетает низкорожденных. Можно жить вместе, когда живешь вместе с первого дня рожденья до самой смерти, по семейному, с общими интересами, с общими занятиями и удовольствиями, Так живут солдаты с их офицерами во время походов, в палатке и товарищеские отношения нисколько не вредят уважению. Помещик часто навещает их в их хижинах, разговаривает с ними об их делах, об уходе за скотом, принимает участие в их семейных радостях и горе, которые отзываются так же и на нем. Он бывает на свадьбах у их детей и пьет с гостями. По воскресеньям на дворе замка устраиваются танцы.
Когда он охотится за волком или оленем, священник объявляет об этом с кафедры, крестьяне радостно собираются в означенное место, встречают помещика, который расставляет их по местам, и все до единого соблюдают его приказания: вот солдаты и их командир. Позднее они сами выберут его в начальники национальной гвардии, в мэры общины, в вождя восстания и в 1792 году приходские стрелки пойдут во главе с ним против правительственных войск, подобно тому, как теперь идут против волка.
Таковы последние остатки старого феодального духа, напоминающие вершины гор, поглощенного водной стихией континента. До Людовика XIV такое положение было по всей Франции. «Провинциальное дворянство прежних времен, говорит маркиз Мирабо, пило слишком долго, дремало в старинных креслах, ездило верхом на охоту, с самого утра, собиралось в день Св. Губерта и расходилось только после Св. Мартина… [15] Это дворянство вело веселую и добровольно грубую жизнь, дешево обходилось государству и давало ему больше обработкой своих полей, чем даем в настоящее время мы своими изысканиями… Все знают как велика была привычка и, так сказать, мания подносить подарки своим господам. В мое время эта привычка прекратилась почти повсюду… Помещики больше были не нужны своим крестьянам, поэтому они были забыты, точно так же как забыли сами… Никто не признавал больше помещика на его земле, поэтому его все грабили. Повсюду, за исключением укромных уголков, взаимная любовь и союз двух классов исчез. Пастух отделился от стада, и пастыри народа стали считаться паразитами.
Последуем за ними сначала в провинции. Здесь живет только мелкое дворянство и часть среднего; остальное в Париже. То же самое произошло и с духовенством: аббаты, епископы и архиепископы не живут в своих резиденциях, викарии и каноники находятся в больших городах; в деревнях остались только приоры и приходские священники; по обыкновению весь главный штаб духовенства и светского начальства находится в отсутствии, живущие же на местах исполняют второстепенные или третьестепенные функции.
Как живут они с крестьянами? Достоверно лишь одно, тио чаще всего они не обращаются с ними ни жестоко, ни индифферентно. Отделенные от них рангом, они не отделены пространством; соседство же уже само по себе является связью между людьми. Я читал, но никогда не встречал в них деревенских тиранов, которых описывают декламаторы революции. Высокомерные в обращении с гражданами, они обыкновенно добродушно относятся к крестьянам…
«Если проехать по провинциям, — говорит один современный адвокат, — по тем местам, где живут помещики, то из ста вряд ли можно найти одного или двух, которые являются тиранами для своих подданных; все же остальные терпеливо делят общую нищету. Они ожидают сборщиков, вносят им налоги. Они укрощают и умеряют иногда слишком жестокие преследования откупщиков, управителей, дельцов».
Одна англичанка, видевшая их в Провансе после революции, говорит, что их ненавидели в Эксе и очень любили в их поместьях. «В то время как перед первыми гражданами они проходили, подняв высоко голову, придав своему лицу выражение пренебрежения, крестьянам они кланялись чрезвычайно вежливо». Один из них раздает детям, женщинам, старикам своего владения лен и пряжу для занятия в холодное время года и в конце года выдает премию в сто фунтов за два лучших куска полотна. Во многих случаях крестьяне добровольно отдают его земли за покупную цену.
Вокруг Парижа, близ Ромэнвиля, после ужасной бури 1788 года, помещики щедрой рукой раздают милостыню: «Очень богатый человек немедленно жертвует сорок тысяч франков окружающим его несчастным»; во время холодной зимы в Альзасе, в Париже подают все: «перед каждым отелем известной семьи горит большой костер, куда день и ночь бедные приходят греться. В деле милостыни провинциальные монахи, являющиеся свидетелями общественного несчастия, остаются верными духу своего учреждения. При рождении дофина августинцы Монморильона в Пуату заплатили из собственных средств подушную за девятнадцать бедных семей. В 1781 году в Провансе доминиканские монахи Сен-Максимэна давали пищу в своем округе, где ураган опустошил все виноградники и испортил оливковые деревья. «Шартрские монахи в Париже раздают бедным 1.800 фунтов [16] хлеба еженедельно. В продолжение зимы 1784 года монашеские ордены увеличили милостыню; их сборщики раздавали вспоможение бедным жителям деревень и, чтобы удовлетворить этим чрезвычайным нуждам, многие общины должны были еще больше умерить свои потребности». Когда в конце 1789 года поднялся вопрос об их уничтожении, я встречаю в их пользу большое число заявлений, написанных муниципальными чиновниками, нотабелями, массой жителей, ремесленников, крестьян и эти столбцы деревенских подписей поистине красноречивы. Семьсот семей из Като-Камбрези подают прошение о сохранении почтенных монахов и аббатов, аббатства Сент-Андре, их отцов и благодетелей, питавших их во время градабития». Жители Сен-Савена в Пиринеях «страдают со слезами жалости и горя при мысли, что будет уничтожено их аббатство бенедиктинских монахов, единственное благотворительное учреждение в их бедной стране. В Сьерке близ Теонвиля, «шартрский монастырь, пишут нотабели, является во всех отношениях Божией помощью для нас, так как является главным источником пропитания от 1.200 до 1.500 лиц, приходящих туда ежедневно. В этот год монахи роздали им из собственных запасов по шестнадцати фунтов зерна на дом». Каноники Домьевра, в Лотарингии, кормят шестьдесят бедных два раза в неделю; «их следует оставить, говорит прошение, «из жалости и сострадании к бедному народу, нужда которого превосходит всякое воображение; где нет монастырей и каноником там бедные взывают к милосердию». В Мутье-Сен-Жан близ Семюра, в Бургундии, бенедиктинцы из Сен-Мора поддерживают всю деревню и кормили жителей целый год в своей трапезной. Близ Морлея, в Барроа, аббатство Овей ордена Сито, всегда было для всех соседних деревень благотворительным учреждением. В Эрво-Пуату муниципальные чиновники, полковник национальной гвардии и большое число жителей просят сохранить каноников Св. Августина. «Их существование, — говорится в петиции, — положительно необходимо как для нашего города, так и для деревень, и их уничтожение явилось бы для нас неисправимой потерей». Муниципалитет и постоянный совет Суасона пишут, что дом Св. Иоанна в Виноградниках «всегда спешил помочь общественному горю. Он во время беспорядков принимал бесприютных граждан и давал им пропитание. Он нес все расходы по устройству выборов депутатов в национальное собрание. Он же в настоящее время дает помещение роте Армоньякского полка. Он всюду, где требуется самопожертвование».
В двадцати местах заявляется, что монахи — отцы бедным. В Оксерской епархии летом в 1789 году бернардинцы из Риньи «лишились всего имущества, помогая жителям соседних деревень: хлеб, зерно, деньги, все было отдано приблизительно двумстам человек, которые в продолжение шести недель ежедневно приходили к их дверям… Займы, авансы у откупщиков, кредит у поставщиков дома, все было использовано лишь бы облегчить участь народа».
Я опускаю много других не менее характерных черт; видно, что духовные или светские особы не были простыми эгоистами, когда жили в своих имениях. Человек сочувствует несчастью, когда является очевидцем; для уменьшения впечатления нужно находиться в отсутствии; сердце сочувствует, когда горе народится перед глазами. Кроме того, дружба сопутствует симпатии; нельзя оставаться равнодушным при виде горя бедняка, с которым в продолжение двадцати лет здоровался мимоходом, которого знаешь жизнь, который не представляется в воображении абстрактной единицей, статистической цифрой, но является страждущей душой. Тем более, что после выхода в свет сочинений Руссо и экономистов веяние гуманности, с каждым днем усиливающееся и превращающееся в универсальное, смягчило сердца. Отныне о бедных думают и даже считают честью думать о них. Стоит только прочесть тетради генеральных штатов, чтобы увидеть, что из Парижа филантропическое веяние распространилось до провинциальных замков и аббатств. Я убежден, что, за исключением затворников, охотников и пьяниц, увлеченных телесными упражнениями на путь чисто животной жизни, большинство помещиков походили, в стремлении или на деле, на дворян, которых выводил на сцену Мармонтель в своих нравственных сказках; мода требовала от них таких же поступков, а во Франции всегда следуют моде. В их характере нет ничего феодального, это люди «чувствительные, кроткие, очень вежливые, довольно образованные, поклонники общих мест и которые возбуждаются легко, живо, охотно, подобное любезному резонеру маркизу Ферьер, депутату от Сомюра, в национальном собрании, автора сочинения «О деизме», нравственного романа благожелательных мемуаров; который больше всего удалился от старинного деспотического темперамента. Они охотно бы облегчили участь народа и сами обращаются с ним насколько возможно лучше. Если они приносят вред, то не потому, что они злы; зло происходит от их положения, но не от характера. В самом деле, их положение дает им права, но не дает обязанностей, запрещает им нести общественную службу, оказывать полезное влияние, т.е. все то, чем они могли бы оправдать свои преимущества и завоевать симпатии крестьян.
Но на этой почве центральное правительство заняло их место. Уже с давних пор они не могут бороться с интендантом и слишком бессильны, чтобы защитить свой приход. Двадцать дворян не могут собраться для обсуждения какого-либо вопроса без специального разрешения короля. Если во Франш-Конте они собирались раз в год прослушать вместе мессу и пообедать, то лишь по терпимости, но даже и это невинное собрание происходило всегда в присутствии чиновника короля.
Отделенный от равных себе, дворянин был отделен также и от низшего класса. Управление деревней не касалось его, он не наблюдал ни за внесением налогов, ни за составом милиции; ремонт церкви, собрание и председательствование в приходских советах, устройство дорог, учреждение благотворительных мастерских, все это дело интенданта или коммунальных чиновников, которых интендант назначает и над которыми имеет надзор. Таким образом дворянин совершенно не участвует в общественных делах. Если бы случайно он захотел официально вмешаться и стал бы говорить от имени общины, королевские канцелярии живо заставили бы его замолчать. Начиная с Людовика XIV, все законодательство, административная деятельность были направлены против помещиков, с целью отнять от них плодотворные функции, оставив им лишь голое звание. Благодаря этому разногласию между обязанностью и званием, он, становясь бесполезнее, начинал больше гордиться. Его самолюбие, не имея возможности быть удовлетворенным на широкой деятельности, обратилось на мелочи; отныне он добивается внешних знаков почтения, а не влияния, и стремится первенствовать, но не управлять. [17] В самом деле, местное управление в руках жалких писак превратилось в рутинное бумажное дело и, понятно, не могло не казаться грязным для дворян. «Они оскорблялись собственным самолюбием, когда им предлагали отдаться этому делу. Устанавливать налоги устраивать милиции, скреплять акты рабства — дело синдика».
Дворянин упорствовал, уединялся в своем доме, предоставляя другим заниматься тем, чем он пренебрегал. Не стараясь защищать своих крестьян, так как с трудом мог защищать самого себя и свои привилегии, он стремился лишь к тому, чтобы уменьшить свои налоги, добиться исключения своих слуг из милиции, охранить свою особу, свое жилище, своих людей, свою охоту и свою рыбную ловлю от всеобщей узурпации которая влагала в руки «монсеньора интенданта» и господь субделегатов все блага и все права. Кроме того, нередко он беден, Бунллэ, говорит, что все старинные фамилии, за исключением двухсот или трехсот, разорены. В Руерге многие живут на доход, не превышающий пятидесяти и даже двадцати пяти луидоров. «В Лимузине, говорит один интендант, в начале века из нескольких тысяч человек нельзя насчитать пятнадцати, которые получали бы двадцать тысяч ливров ренты». В Берри, около 1754 года, «три четверти умирают с голоду». В Франш-Конте собрание, о котором мы говорили, являет комическое зрелище: «после мессы они отправляются к себе по домам, одни пешком, другие на своих разбитых на ноги россинантах». [18] В Бретани масса дворян находится на фермах, занимая всякие низкие должности. Некий Моранде поступил управляющим в имение. Некая семья владела лишь одной хижиной и о своем дворянстве могла удостоверить одним голубем; она жила совершенно по-крестьянски и питалась сухарями. Другой дворянин, вдовец, проводит свои дни в пьянстве, живет со своими служанками и употребляет грамоты своего дома на то, что покрывает ими горшки с маслом». «Все рыцари Шатобрианы, — говорит отец, — были пьяницы и страстные охотники». Сам он живет бедно и уныло, имея пять слуг, одну охотничью лошадь и две старых кобылы, «в замке, где когда-то проживало до ста дворян с их свитой». Там и сям в мемуарах встречаются некоторые из этих странных фигур, например, в Бургундии «охотники-дворяне, в гетрах, в окованных сапогах, со старой шпагой подмышкой, испитые, умирающие с голода, отказываются работать»; [19] в другом месте: «Господин де-Периньян, в кафтане, в рыжем парике, занимался постоянно починкой стен и пьянствовал с местным интендантом»; приходясь родственником кардиналу Флери, его возвели в первого герцога Флерийского.
Все способствовало этому упадку: закон, нравы и прежде всего право старшинства. Учрежденное с тою целью, чтобы власть не подвергалась разделу, это право разоряет дворян с тех пор, как они не имеют власти. «В Бретани, — говорить Шатобриан, — старшие дворяне брали себе две трети имущества, младшие же делили между собою одну треть отцовского наследства. Вследствие этого младшие младших доходили быстро до раздела одного голубя, одного кролика, одной утки и одной охотничьей собаки. Все состояние моего предка не превышало пяти тысяч ливров ренты, из которых, старший из его сыновей взял себе две трети — три тысячи триста ливров; для трех младших осталась одна тысяча шестьсот шестьдесят ливров. Это уменьшающееся и уничтожающееся состояние они не умеют и не хотят увеличить путем торговли, промышленности: это унизило бы высоких и могущественных владельцев одного голубя или одного кролика, чем более уменьшается их состояние, тем более привязываются они к своему имени.
Прибавьте к этому зимнее пребывание в городе, представление ко двору, расходы, которые необходимо делать для удовлетворения тщеславия и для вращения в обществе, посещение губернаторов и интендантов: нужно быть немцем или англичанином, чтобы провести скучные, зимние месяцы в замке или на своей ферме. Поэтому они влезают в долги, нищают, продают по кускам свою землю: многие лишаются всего за исключением маленького дома и своих прав, ценза, права охоты и судопроизводства на территории, которая некогда принадлежала им. Живя этими правами, они, конечно, стараются утилизировать их даже тогда, когда эти права угнетают других и когда должник беден. Но как отказаться им от налога на зерно и вино, когда это вино и зерно является для них чуть не единственным пропитанием? Как освободить крестьян от налогов пятой части, когда это единственные деньги, которые они получают? Как им не быть требовательными, если они нуждаются?
Таким образом по отношению к крестьянину, они становятся в положение простых кредиторов; вот к чему сведен феодальный режим, измененный монархией. Я вижу, как вокруг замка симпатии понижаются, зарождается зависть и растет ненависть. Удаленный от дел, освобожденный от налогов, помещик делается одиноким, чуждым среди своих вассалов; его уничтоженная власть и сохраненные привилегии ставят его в особенное положение. Когда он вмешивается в жизнь своих вассалов, то только усиливает общественную нищету. На этой разоренной казной земле, он появляется для того, чтобы отнять часть производства, то — известное количество зерна, то — столько-то бочек вина. Его голуби и его дичь поедают урожай. Молоть нужно непременно на его мельнице оставляя ему одну шестнадцатую помола. Поле, проданное за шестьсот ливров, дает ему доход в сто ливров. Наследство брата поступает к брату только после того, как он возьмет себе сумму равную годовому доходу. Двадцать других налогов, имевшие прежде общественную пользу, служат теперь только для его прокормления. Крестьянин, каким мы его видим теперь, жадный до наживы, привыкший все переносить и все делать чтобы сэкономить или заработать экю, начинает исподлобья бросать гневные взгляды на башенку, в которой хранятся архивы, грамоты, ненавистные пергаменты, в силу которых человек другого сорта, живущий насчет других, всеобщий кредитор и получающий плату за то, что ничего не делает, накладывает свою тяжелую руку на земли на все другие производства. При первом случае недовольство прорвется наружу: башенку подожгут, а вместе с ней и замок.
Ещё более печальное зрелище представится нам, когда с земель, где проживают помещики, мы перейдем на земли на которых помещики не живут. Дворяне или получившие дворянство, духовные и светские, представляют собою привилегированных среди привилегированных и образуют аристократию в аристократии. В это число входят все могущественные фамилии каково бы ни было их происхождение и древность рода. Благодаря своему обычному или частому пребыванию в центре, благодаря своим связям или взаимным посещениям, благодаря их нравам и их роскоши, а также их огромному значению, они образуют отдельную группу, и именно они владеют самыми обширными землями первыми сюзеренствами, самыми широкими и самыми полными полномочиями. Придворное дворянство и высшее духовенство, они, быть может, представляют одну тысячную в каждом порядке и их незначительное число выставляет с большим рельефом колоссальность их преимуществ. Мы уже видели, что уделы принцев крови составляют седьмую часть территории; Неккер высчитывает в два миллиона земельный доход, получаемый обоими братьями короля. Владения герцогов Бульонского, д’Эгильонского и некоторых других занимают целые мили и своей колоссальностью напоминают имения, которыми владеют герцог Сутерландский и герцог Бедфордский в настоящее время в Англии. Только от одних лесов и каналов герцог Орлеанский, еще до своего брака с женщиной столь же богатой как он, извлекал около миллиона ренты. Такое владение как Клермонтуа, принадлежавшее принцу Кондэ, имело сорок тысяч жителей: это размеры германского княжества; «кроме того все налоги, причитавшиеся с Клермонтуа, поступали в пользу его высочества, король не получал оттуда решительно ничего».
Естественно, что власть и богатство идут вместе и чем больше приносит земля, тем более её владелец походит на государя. Архиепископ Камбре, герцог Камбрс, граф Камбрезис, имеет полную власть над страной, которая насчитывает семьдесят пять тысяч жителей; он избирает половину должностных лиц в Камбре и всю администрацию Като, он назначает аббатов в двух больших аббатствах: председательствует в провинциальных штатах, а также в постоянном бюро, которое учреждается на их место; одним словом на ряду с интендантом, он сохраняет первенствующее значение, имеет влияние почти такое же какое имеет в настоящее время в своей земле, какой-нибудь курфюрст, входящий в состав новой германской империи. Близ него в Гэно, аббат Сен-Амандский владеет семью восьмыми территории и получает с неё одну восьмую помещичьих доходов и десятину; кроме того, он назначает прево [20] и должностных лиц, так что, как говорят жалобы, «он составляет все государство или вернее представляет сам все государство».
Я не кончил бы, если бы стал перечислять все большие владения. Возьмем только имущество прелатов и именно их наличные деньги. В «Королевском Альманахе» и в «Духовной Франции» 1788 года, мы находим их доход; но истинный доход будет в половину больше для епископов, в два или три раза для аббатов и, кроме того, этот истинный доход надо удвоить, чтобы перевести его на современные деньги. Сто тридцать один епископ и архиепископ имеют в общем пять миллионов шестьсот тысяч ливров с епископского дохода и миллион двести тысяч ливров в аббатствах, в среднем пятьдесят тысяч ливров на человека и это на бумаге, в действительности же не менее ста тысяч: поэтому в глазах современников, которым была известна правда, епископ представлялся «богатым господином имеющим сто тысяч ливров ренты». [21] Некоторые важные епископские места приносили великолепный доход. Сан приносит семьдесят тысяч ливров, Вердон — семьдесят четыре тысячи, Тур — восемьдесять две тысячи, Бове, Тулуза и Байэ — девяносто тысяч, Руан — сто тысяч, Ош, Мец, Альби — сто двадцать тысяч, Нарбонна — сто шестьдесят тысяч, Париж и Камбре двести тысяч, по официальным цифрам, которые наверно сокращены на половину. Другие места менее хлебные обставлены еще лучше. Представьте себе маленький провинциальный городок, который нередко не имеет в наше время даже мелкой супрефектуры, как например, Консеран, Мирпуа, Лавор, Рие, Ломбец, Сен-Папуль, Комминж, Люсон, Сарла, Манд, Фрежюс, Лескар, Белле, Сен Мало, Трегие, Амброн, Сен-Клод, приблизительно в двести или менее ста, а иногда менее пятидесяти приходов и за духовный надзор их прелат получает от двадцати пяти до семидесяти тысяч ливров, по официальным данным, от тридцати семи тысяч ливров, до ста пяти тысяч ливров в действительности, от семидесяти четырех тысяч до двухсот десяти тысяч ливров на наши деньги. Что касается аббатств, то я насчитал тридцать три аббатства, приносящих от двадцати пяти тысяч, до ста двадцати тысяч ливров аббату, двадцать семь, которые приносят от двадцати тысяч до ста тысяч ливров каждой аббатисе; взвесьте эти цифры Альманаха и подумайте что нужно удвоить их, чтобы получить цифру действительного дохода и учетверить, чтобы перевести на современные деньги. Ясно, что при подобных доходах и феодальных правах полиции, юстиции, администрации, крупный духовный или светский владелец фактически является настоящим королем в своем округе, имеет большое сходство с прежним феодальным властителем, что его личные преимущества придают общественный характер, что его высокий титул и огромные доходы обязывают его оказывать, пропорциональные этим доходам, услуги и что даже при господстве интенданта он должен оказывать своим вассалам, своим крепостным и своим оброчным, помощь, свое заступничество и другие благодеяния.
Для этого необходимо было бы жить в своих владениях, а между тем, он чаще всего отсутствует. Приблизительно в продолжение полутораста лет некая всемогущая притягательная сила заставляет сеньоров покидать провинции, толкает их к столице, и волнение становится непреоборимым, так как оно есть результат двух самых великих и самых общих сил, которые воздействуют на людей: это, во-первых, социальное положение, во-вторых, национальный характер. Нельзя безнаказанно лишать дерева его корней. Учрежденная, чтобы править, аристократия бросает землю, когда перестает управлять, а перестала она управлять с тех пор, как после долгих подходов почти вся юстиция, вся администрация, вся полиция, каждая подробность местного или общего управления, всякая инициатива, сотрудничество или контроль в деле налогов, выборов, путей, общественных работ и благотворительности перешли в руки интенданта и субделегата под высшим управлением главного контролера и совета короля. Приказчики, люди «пера и законов», разночинцы без общественного положения несут службу; оспаривать ее у них нет никакого средства. Даже несмотря на помощь королевской делегации, провинциальный губернатор, будь он наследственным и принцем крови, как Кондэ в Бургундии, должен стушеваться перед интендантом; у него нет действительной службы; его общественные обязанности состоят в приемах и выездах. К тому же он дурно выполнил бы всякие другие: административная машина с её тысячами колес, грязных и скрипучих, такая, как сделали ее Ришельё и Людовик XIV, может функционировать только благодаря рабочим, не мучающимся угрызениями совести и готовым сломить все во имя государства; с этим подлым народом невозможно соперничать. И он устраняется, оставляя дела на их руках. Праздный, униженный, что станет делать он теперь в своем поместье, где уже не повелевает более и где скучает? Он едет в город, чаще ко двору.
К тому же иначе нельзя сделать карьеры: чтобы добиться успеха, нужно стать придворным. Король требует этого, он хочет, чтобы вы были в его салоне для получения милостей, в противном случае при первой просьбе он ответит: «Кто это? Я никогда не вижу этого человека». Отсутствие в его глазах не имеет извинения, даже когда оно бывает вследствие религиозных причин; ему предпочли Бога, значит дезертировали. Министры запрашивают интендантов, чтобы знать, «любят ли оставаться дома дворяне их провинции и не отказываются ли они от исполнения своих обязанностей у короля». Вообразите себе величие подобного притяжения: губернаторства, командования, епископские места, придворные должности, пенсии, кредит, милости всякого рода и всякой степени для себя и для своих — все что государство с населением в двадцать или двадцать пять миллионов может предложить пылкому честолюбию, тщеславию и корыстолюбию, собрано там как в резервуаре. К нему спешат и из него черпают.
Тем более, что само место приятно и приноровлено к социальным чертам французского характера. Двор есть ничто иное как постоянный салон, где «свободен и легок доступ подданных к повелителю», где они живут вместе с ним в коротком и частом общении, несмотря на почти бесконечное различие ранга и власти, где монарх изображает из себя в совершенстве хозяина дома. В самом деле, нельзя было найти салона, ни столь хорошо содержимого, ни столь приспособленного для развлечения гостей всякого рода удовольствиями, красотою, достоинством, разнообразием украшения, выбором общества и интересом зрелища. Только в Версале можно показать себя, выдвинуться, развлекаться, вести беседы или болтать, там был центр новостей, жизни и дел, там были избранные государства, судьи хорошего тона, элегантности и вкуса. «Государь, — говорил г-н де-Вард Людовику XIV, — когда находишься вдали от вашего величества, то чувствуешь себя не только несчастным, но еще смешным». В провинции остается только бедное и деревенское дворянство. Чтобы там жить, нужно быть отсталым, не иметь вкуса или быть изгнанником. Когда король отсылает какого-нибудь дворянина на свою землю, это считается самой жестокой опалой; к горести опалы присоединяется еще невыносимый гнет скуки. Самый красивый замок с чудным местоположением является отвратительной «пустыней»; там никого не увидишь, за исключением чудаков из мелкого города и деревенских жителей. «Только изгнание, — говорит Артур Юнг, — принуждает французское дворянство делать то, что англичане исполняют добровольно: жить в своих владениях и улучшать их. Десятки раз Сен-Симон и другие историки двора повторяют, говоря, о какой-нибудь церемонии: «вся Франция была там»; в самом деле все, что считается лучшим во Франции, присутствует там, и они узнают себя по этой отметке. Париж и двор становится обязательным местопребыванием всей аристократии. При подобном положении дел одни отъезды вызывают другие; чем более покидают провинцию, тем более становится она пустынной. «Нет в королевстве, — говорит маркиз де-Мирабо, — ни одной земли, хотя бы немного значительной, владелец которой не проживал бы в Париже, а следовательно не пренебрегал бы своими домами и своими замками». [22] Богатые, светские люди имеют свои отели в столице, свои квартиры в Версале, свои дачи в окружности на двадцать льё; если изредка они посещают свои земли, то только для того, чтобы охотиться там. Полторы тысячи аббатов и приоров тратят свои церковные доходы, как будто получают их с какой-то далекой фермы. Две тысячи семьсот главных викариев и каноников ездят друг к другу в гости и обедают вне дома. За исключением нескольких лиц строгого образа жизни, сто тридцать один епископ только въездами бывают в своих епархиях; почти все дворяне все люди общества, что они стали бы делать вдали от света погребенные заживо в провинциальном городке? Представьте себе важного барина, некогда блестящего и галантного аббата, а теперь епископа, владеющего ста тысячами ливров ренты, который добровольно зарывает себя на целый год в какой-нибудь Манд Кондом или Коминдж. Разница стала слишком огромной между элегантной, разнообразной литературной жизнью центра и монотонной, энергичной положительной жизнью провинции. Вот почему важный барин, ушедший из первой, не может привыкнуть ко второй, он остается чуждым ей, по крайней мере, сердцем.
Мрачный вид представляет страна, в которой сердце перестало посылать кровь по артериям. Артур Юнг, путешествовавший по Франции от 1787 до 1789 годы, удивляется, находя там столь оживленный центр и совершенно мертвые окраины. Между Парижем и Версалем двойной ряд карет, едущих туда и обратно, тянется все пять лье, не прерываясь с утра до вечера. [23] Зато какой контраст на других дорогах «Выехав из Парижа по Орлеанской дороге, говорит Артур Юнг, мы на протяжении десяти миль не встретили ни одного дилижанса, ничего, кроме курьеров и незначительного количества почтовых повозок, не составлявших десятой части того, что можно встретить близ Лондона в продолжение часа». На большой дороге близ Нарбонны, «на протяжении тридцати шести миль, говорит он, я повстречал только один кабриолет, полдюжины телег и несколько крестьянок, гнавших ослов». Впрочем, близь Сен-Жирона он отмечает, что, сделав двести пятьдесят миль, он встретил в общем «два кабриолета и три жалких экипажа похожих на наши старые почтовые английские повозки в одну лошадь, и ни одного дворянина». Повсюду в этой стране гостиницы отвратительные; нанять там карету нет возможности, в то время как в Англии в самом захолустном городке в две или полторы тысячи душ имеются комфортабельные отели, и все средства сообщения; это доказывает, что во Франции «передвижение ничтожно». Цивилизацию и довольство можно встретить лишь в очень больших городах». В Нанте великолепный театральный зал, в два раза больше, чем зал Дрюри-Лэнского театра и в пять раз великолепнее. Великий Боже, воскликнул я мысленно, так к этому зрелищу ведут степи и пустыни, которые я перерезал на протяжении трехсот миль! Одним скачком вы переноситесь из нищеты к расточительной роскоши. Деревня пустынна и, если какой-нибудь дворянин живет там, то лишь для того, чтобы прикопить денег, которые он затем промотает в столице».
«Одна почтовая карета, — говорить г-н де-Монлозье — еженедельно отправлялась из главных городов провинции в Париж и не всегда все места были заняты. Вот характеристика делового движения. Имелась лишь одна газета, называемая Gazette de France, выходившая два раза в неделю: вот характеристика умственного движения. [24] Парижские судьи, сосланные в Бурж в 1753 и 1754 году описывают этот город так: «Город, в котором не с кем поговорить по душе о чем-либо разумном, дворяне, умирающие с голоду, чванящиеся своим происхождением, держащиеся вдали от коммерсантов и юристов и находящие странным, что дочь сборщика податей стала женой советника парижского парламента и выказывает претензии на ум и светскость; изумительно невежественные граждане единственная опора той летаргии, в которой обретаются умы большинства жителей; тщеславные пустые женщины, всецело отдавшиеся моде и любовным интригам»; в этом развращенном и пустом мире, среди этих разных Тибодье и Гарнэн, среди этих виконтов Сотенвилей и этих графинь Эскарбальяс, архиепископ, кардинал де-ла-Рошфуко, главный исповедник короля, владеющий четырьмя аббатствами, имеющий пятьсот тысяч ливров дохода, светский человек, чаще всего находится в отлучке из своей епархии, а если приезжает туда, то лишь для того, чтобы украшать свой сад и дворец; его с успехом можно уподобить золоченому павлину, залетевшему из птичника на задний двор, где пасутся гуси.
Само собой разумеется, что всякая политическая мысль отсутствует. «Невозможно себе представить, — говорит рукопись, — что-либо более равнодушное к общественным делам». Позднее жители высказывают ту же апатию к самым важным событиям, затрагивающим их по самому чувствительному месту. В Шато-Тьерри, 4 июля 1789 года не было ни одного кафе, где можно было получить какой-нибудь журнал. Такой имелся только в Дижоне; в Мулэне, 7 августа «в лучшем кафе города, где стояло, по крайней мере, двадцать столов, мне также легко достали бы слона, как и газету». Между Страсбургом и Безансоном нет совсем газет. В Безансоне имеются только «Gazette de-France», за которую здравомыслящий человек не даст ни гроша в данный момент, и нумер «Courrier militaire», вышедший две недели тому назад; прилично одетые люди говорят о событиях, происшедших две, три недели тому назад и их речи доказывают, что они ничего не знают о том, что произошло сегодня». В Клермонте «я пять раз обедал или ужинал за табль-д‘отом в обществе двадцати или тридцати человек, среди которых были негоцианты, купцы, офицеры, и т.д., и хоть бы раз зашел разговор о политике — это в тот момент, когда все сердца, казалось, должны бы биться от политических ощущений; невежество и глупость этих людей невероятны. Не проходит недели, чтобы в их стране не произошло крупного события, которое анализируется и обсуждается даже слесарями в Англии». Причина этой инертности выяснена; на вопрос, что они думают по тому или другому вопросу, все отвечают: «Мы провинциалы; нам приходится ждать, чтобы узнать, что делается в Париже». Никогда не выступая в активной роли, они не умеют действовать, но благодаря инертности, их можно толкать. Провинция огромное стоячее болото, которое при ужасном наводнении может сразу выйти из берегов; виноваты её инженеры, которые не позаботились об устройстве водоотводных каналов.
Такова тоска или, вернее, ничтожность провинциальной жизни, когда от неё бежали местные вожди, лишив её своей симпатии и своей деятельности. Живое участие в провинциальной жизни принимали всего лишь трое или четверо крупных господ, практичных филантропов, руководствующихся примером английского дворянства, герцог д’Аркур, помогающий крестьянам в их тяжебных делах, герцог де-ла-Рошфуко-Лианкур, устроивший на своих владениях образцовую ферму и художественно-промышленную школу для детей неимущих военных, граф де-Бриен, тридцать деревень которого придут в конвент требовать свободы. Другие же, по большей части либералы, ограничиваются рассуждениями о народном благе и политической экономии. В самом деле, различие в образе жизни, разность интересов и идеи столь велики, что между привилегированными классами и их крепостными точки соприкосновения чрезвычайно далеки и редки. Даже у де-ла-Рошфуко-Лианкура, когда Артур Юнг захотел узнать какие-то сведения, его направили к управляющему. «У дворянина на моей родине к обеду пригласили бы двух или трех фермеров, которые сидели бы за столом вместе с благородными дамами. Я не преувеличу, если скажу, что это случалось со мной сто раз в первых домах соединенного королевства. Между тем, во Франции, от Калэ до Байоны ничего подобного увидеть нельзя, за исключением разве такого случая, когда посетишь помещика много путешествовавшего по Англии. Французскому дворянству и в голову не приходит заниматься земледелием или делать его темой для разговоров, за исключением чисто теоретических рассуждений, вроде того, как говорят о каком-нибудь ремесле или машине, которая не имеет ничего общего с их ежедневными занятиями и привычками». По традиции, моде и образу жизни, они не хотят быть никем иным, кроме светских людей; единственное их занятие состоит в беседе о пустяках и в охоте. Никогда руководители людей не презирали более искусства руководить людьми, искусства, состоящего в том, чтобы идти по тому же пути, но впереди всех и руководить работой, принимая в ней участие.
Наш англичанин, очевидец и компетентный человек пишет еще: «У помещика, хотя бы получающего миллионные доходы, вы можете быть уверены, что найдете землю в большом запущении. Земли принца Субиза и герцога Бульонского самые обширные во Франции и проезжая по ним, я видел только степи, пустыри, дикие, заброшенные поля. Побывайте в их имениях, и вы увидите, что их усадьбы стоят среди густых лесов, населенных оленями вепрями, волками». «Крупные помещики, говорит другой современник, [25] привлекаемые и удерживаемые в наших городах утехами роскоши, не имеют понятия о своих землях, зная лиши одно, — требовать уплаты денег от своих откупщиков, которые им нужны для поддержания разорительного образа жизни. Каких улучшений можно ожидать от тех, которые отказываются даже от поддержания и исправления самого необходимого?». Не оспоримым доказательством того, что их отсутствие есть причина зла, является резкое отличие владений аббата, находящегося в постоянной отлучке, от владений, принадлежащих монахам. «Опытный путешественник различит их сразу по состоянию посевов. Если он встречает поля, окруженные заботливо рвами, хорошо возделанные и покрытые отличными всходами, эти поля, — говорит он, — принадлежат монахам. Почти всегда рядом с этими плодородными полями находится дурно обработанная полоса, представляющая полный контраст; между тем характер почвы совершенно одинаковый, так как это две части одного владения, но последняя часть принадлежит аббату». «Аббатский надел, — говорит Лефранк де-Помпиньян, — часто напоминает надел расточителя; монашеский же надел представляется наделом хорошего хозяина, не пренебрегающего никакими улучшениями». Вследствие этого, «две трети», которыми пользуется аббат, приносят ему менее, чем «треть», предоставленная монахам.
Упадок земледелия — вот еще одно из последствий отсутствия. Почти целая треть всей земли во Франции, заброшенная также как Ирландия, также мало возделывалась и также мало была продуктивна, как Ирландия в руках богатых absentees, [26] епископов, английских дворян и граждан.
Ничего не делая для земли, как могут они сделать что-либо для людей? Несомненно, от времени до времени, в особенности, когда арендные деньги не поступали в срок, управляющий писал, извещал о нищете фермеров. Несомненно также, что за последние тридцать лет они хотят быть гуманными; они рассуждают между собою о правах человека; они стали бы страдать, видя бледное лицо голодного крестьянина. Но они этого не видят; могут ли они угадать это под не ловкой и льстивой фразой их управляющего? Потом, знают ли они, что такое голод? Кто между ними имеет деревенский опыт? И как могут они вообразить себе нужду бедняка? Они для этого слишком далеки от него, слишком чужды его жизни. Портрет, нарисованный ими, чисто фантастический; никогда крестьянина не изображали более ложно; поэтому пробуждение будет ужасно. Это добрый деревенский житель, кроткий, покорный, признательный, простодушный и прямой, легко подчиняющийся, сочиненный по Руссо и идиллиям, которые в этот момент разыгрываются во всех общее, венных театрах. Благодаря этому они забывают его; они читают письмо их управляющего, затем светский вихрь снова подхватывает их и, вздохнув, из сожаления к бедным, они думают том, что в этом году не получат своих доходов.
Это, конечно, не располагает к тому, чтобы творить милостыню. Таким образом, против отсутствующих, а не против местных помещиков поднимаются жалобы. «Церковные богатства говорится в одной тетради, служат лишь к удовлетворению страстей знатных лиц». «Согласно канонам, говорится в одной тетради, каждый получающий доход священник должен отдавать четверть своего дохода бедным; между тем в нашем приходе получают более двенадцати тысяч ливров дохода, бедным же не дается ничего, если не считать небольшой милостыни, раздаваемой кюрэ». «Аббат де-Конш получает половину десятины и ничем не содействует облегчению прихода». Дальше, «Экуйсский монастырь, пользующийся десятиною, нисколько не помогает бедным, а старается только увеличить свои доходы». «По соседству с ним аббат Круа-Лефруа, получающий крупную десятину и аббат Берней, получающий пятьдесят семь тысяч ливров и не живущие в аббатстве, дают окружным кюрэ столь ничтожную сумму, что им едва хватает, чтобы не умереть с голода». «В моем приходе, — говорит кюрэ Берри — имеется шесть аббатств, начальники которых постоянно отсутствуют, получая в общем до девяти тысяч ливров дохода. Я писал им самые трогательные письма во время постигшего нас в прошлом несчастья; я получил только два луидора от одного, большинство же мне даже не ответило. С тем большим правом можно предполагать, что они не отказывались от получения налогов в обыкновенное время. Впрочем, эти налоги находятся на обязанности управителя, а хорошим управителем считается тот, кто присылает больше денег. Он не имеет права быть великодушным за счет своего господина, но зато нередко эксплуатирует в свою пользу крестьян своего господина. Напрасно мягкая рука хозяина старалась бы быть легче и нежнее, жестокая рука его наемщика угнетает крестьян всей своею тяжестью, и отеческая заботливость помещика уступает место требованиям приказчика.
Что происходит в имении, когда место приказчика занимает откупщик или арендатор, которые за известную сумму купили у владельца право собирания налогов? В Майенском округе, а также, конечно, и во многих других, крупные поместья основаны на этой системе. К тому же большое число налогов, как например, рыночный сбор, налог на стадо, монополия мельницы не могут быть осуществлены иначе; помещику необходимо лицо, которое за него вступало бы в разные пререкания по поводу сбора. В таком случае вся требовательность и вся жадность откупщика, решившегося нажиться, падает на крестьян «Это хищный волк, говорит Ренольдон, которого пускают на землю, который выжимает все до последнего гроша, угнетает крестьяне доводит их до нищеты, заставляет дезертировать земледельцев, возбуждает отвращение к хозяину, который принужден переносить его требовательность». Представьте себе, если можете зло, которое может причинить подобный деревенский ростовщик, вооруженный такими огромными правами; это — феодальное имение, попавшее в руки Гарпогона или отца Грандэ. В самом деле, когда собирание налогов становится невозможным вследствие местных нужд, то почти всегда это дело переходит в руки откупщика: откупщик каноников, например, отнимает отцовское наследство у Жанны Мермэ, под предлогом, что она провела у своего мужа первую брачную ночь. Вряд ли можно найти подобное бессердечие даже в Ирландии в 1830 году на тех владениях, где главный откупщик передает младшим откупщикам, а эти — еще меньшим, мелкого крестьянина, находящегося внизу иерархической лестницы, который один несет на себе всю тяжесть лестницы.
Предположим, что, видя злоупотребление своим именем, владелец захотел бы вырвать из этих цепких рук управление своим владением; чаще всего он не был бы в состоянии исполнить это: он слишком задолжал и предоставил своим кредиторам часть своих земель и часть доходов. В продолжение целых веков высшее дворянство, благодаря своей роскоши, расточительности, беззаботности и ложному понятию о чести, смотрело на счетоводство, как на низкую, недостойную его звания работу. Оно гордится своим пренебрежением, оно называет это жить благородно. «Господин архиепископ, говорил Людовик XVI Диллону, говорят, что у вас есть долги и даже много». «Государь, ответил прелат, с иронией вельможи, я справлюсь у моего управляющего и буду иметь честь дать о них отчет вашему величеству».
У маршала Субиза пятьсот тысяч ливров ренты, которые ему не хватают. Долги кардинала де-Рогана, графа д’Артуа известны всем; их миллионные доходы пропадали точно в пропасти. Принц де-Геменэ оказался несостоятельным на тридцать пять миллионов. Герцог Орлеанский, самый богатый помещик королевства, был должен к своей смерти семьдесят четыре миллиона. Когда нужно было заплатить кредиторам долги эмигрантов, то оказалось, что большинство крупных имений было заложено. Кто читал мемуары, знает, что в продолжение двухсот лет дворянам для покрытия дефицитов приходилось вступать в брак с дочерями богатых коммерсантов или прибегать к благодеянию короля. Поэтому, по примеру самого короля, они старались сделать деньги изо всего, главным образом из мест, которыми располагали, и отказываясь от власти ради выгод, уничтожили последний клочок власти, оставшийся в их руках. Таким образом, повсюду уважение к вождю было потеряно, и он приобрел отталкивающие черты характера. «Не только, — говорит один современник, — они не платят жалованье своим судебным чиновникам, но, что гораздо хуже, большинство в настоящее время продает эти должности». [27]
Несмотря на эдикт 1693 года, назначенные этим способом судьи никогда не приносят присяги. «Что же происходит? Суд, слишком часто производимый недостойными людьми, превращается в денной грабеж и в отвратительную безнаказанность».
Обыкновенно владетель, продавший должность, получает, кроме того, сотую, пятидесятую или десятую часть цены, когда эта должность переходит в другие руки; иногда же он продает ее пожизненно. Такие должности создаются им нарочно для продажи. «Все сеньориальные суды, говорится в тетрадях, наводнены толпою чиновников всех родов, сеньориальными сержантами, верховыми стражниками, стражниками превотства, стражниками коннетабля. Нередко таких судов можно встретить до десяти в одном округе, который едва ли мог бы прокормить два таких суда, если бы они ограничивались одним исполнением своих обязанностей». «Поэтому они в одно и то же время являются судьями, прокурорами, фискалами, приставами, нотариусами», каждый в отдельном месте, каждый работает в нескольких имениях под разными званиями, причем все сговариваются между собой, как воры на ярмарке, собираясь в кабаке, чтобы там составлять жалобы и производить суд. Иногда в целях экономии владелец предоставляет звание судьи одному из откупщиков: «В Готмоне в Гено прокурором является слуга». Чаще таким прокурором становится какой-нибудь доморощенный адвокат из соседнего городишки, получающий жалованье, которое не хватило бы ему и на неделю. Он возвращает свои деньги с крестьян. «Безнаказанность, говорит Ренольдон, царит больше всего в сеньориальных судах… Там не производят следствия даже по самым крупным преступлениям»; так как владетель боится израсходоваться на уголовный процесс, а его судьи и прокуроры боятся, что не получат ничего за судопроизводство. К тому же тюрьмой нередко является погреб замка; «из ста судов нет ни одного, у которого тюрьма соответствовала бы уставу»; стража же его закрывает глаза или помогает заключенному. Вот почему «его земли превращаются в убежище всех негодяев кантона». Страшный результат его безразличия, который скоро обрушится на него самого: завтра в клубе прокуроры, которых он умножил, потребуют его голову, и бандиты, которых он терпел посадят ее на конец копья.
Остается еще один пункт, охота, где его власть не потеряла своего значения и права которой он защищает особенно самолюбиво. В древние времена, когда половина кантона состояла из лесов и густых зарослей, а другую половину опустошали дикие звери, у него была причина оставить за собой охоту; это входило в обязанности местного вождя. Он по наследству был воином, всегда был вооружен, всегда был готов выступить, как против вепрей и волков, так и против бродяг и разбойников. Теперь, когда от воина остались одно лишь звание и эполеты, он по традиции сохраняет свою привилегию и из службы устроил развлечение. Ему необходимо охотиться просто ради охоты. Это для него телесное упражнение и в то же время признак расы. Какой-нибудь Роган, Диллон, травят оленя, даже принадлежа к церкви, несмотря на эдикты и каноны. «Вы много охотитесь, господин епископ, говорил Людовик XV [28] этому последнему; мне кое-что известно. Как же хотите вы запрещать охоту вашим кюрэ, если сами подаете им пример? — Государь, у моих кюрэ охота — их личный недостаток, у меня же это недостаток предков». Когда кастовое самолюбие встает на охрану какого-нибудь права, то делает это без всяких проявлений слабости. Поэтому их начальники охот, ловчие, лесники оберегают животных, как если бы они были люди, и преследуют людей, точно они звери. В судопроизводстве Пон и Эвека в 1789 году приводят четыре примера «совершенных убийств охранителями охоты г-жи А., г-жи Н., прелата и маршала Франции, разночинцев, застигнутых на месте преступления во время охоты или несших оружие. Все четверо убийц открыто пользуются безнаказанностью». В Артуа один приход заявляет, что «на территории кастеляна дичь пожирает все посевы и что земледельцы будут принуждены перестать заниматься обработкой земли». Недалеко оттуда, в Романкуре, в Беллоне «зайцы, кролики, куропатки совершенно поедают посевы, граф д’Уази не охотится сам и не разрешает охоты другим». В двадцати деревнях, расположенных вокруг Уази, где граф охотится, он вытаптывает на полях молодые всходы. «Его сторожа, всегда вооруженные, убили нескольких лиц под предлогом охраны прав своего господина… Дичь, разлетающаяся из многих мест королевской охоты, поедает ежегодно надежду на урожай». В Эврё «дичь пожрала все травы вплоть до порога домов… Из-за дичи гражданин не имеет даже права пойти в течение лета в поле и вырвать сорные травы, которые душат зерно и портят всходы… Сколько женщин осталось без мужей и детей без отцов из-за несчастного зайца или кролика!». Сторожа Гуфернского леса в Нормандии «столь жестоки, что оскорбляют и убивают людей… Я знал фермеров, которые, жалуясь на госпожу и требуя возмещения убытков, понесенных от дичи, даром потеряли свое время, распрощались с жатвой и истратились на судебные издержки… Олени и серпы подходят к нашим домам даже днем». В Домфронтской жалобе говорится: «Жители, более чем десяти приходов, принуждены караулить поля по целым ночам в продолжении десяти месяцев в году, охраняя урожай». Вот результат права охоты в провинции. Но наиболее печальное зрелище представляет Иль-де-Франс, где территория охоты гораздо обширнее. Один протокол удостоверяет, что в одном только приходе Во, близ Мелана кролики соседнего имения истребили восемьсот десятин обработанной земли и уничтожили урожай двух тысяч четырех сот сетье т.е. годовое количество хлеба, потребляемое восемьюстами душ. В Рошете стада серн и оленей в течение дня пожирают все на полях, а ночью приходят в маленькие сады жителей, где уничтожают овощи и ломают молодые деревья. На территории охотничьей нет возможности разводить овощи иначе, как в садах, обнесенных высокими заборами. В Фарсе из пятисот персиковых деревьев, посаженных в винограднике, в который заходили олени, через три года осталось только двадцать. На всей территории Фонтенбло общины, чтобы снасти свои виноградники, принуждены содержать людей, которые охраняют их с захода по всход солнца и с первого мая до половины октября. В Шартрете дикие звери, перейдя через Сену, приходят в имение графини де-Ларошфуко и уничтожают все плантации тополей. Имение, оценивавшееся в две тысячи ливров стоит не более четырех сот ливров, посте того, как окрестности Версаля, стали территорией королевской охоты. Одним словом, одиннадцать кавалерийских неприятельских полков, расположившихся в одиннадцати местах вокруг столицы и отправляясь ежедневно за фуражом, не могли бы причинить большего вреда. Не следует поэтому удивляться, если народ оставлял земледелие. Близ Фонтенбло и Мелона в Буа-ле-Руа три четверти территории превращаются в пустыри; почти все дома в Бролле, превращены в развалины; в Кутилле и в Шаппель-Раблэ, покинуто пять ферм; в Нарбонне брошено на произвол судьбы большое количество земли; в Вилье и в Дам-Мари, где были четыре больших фермы и большое количество отдельных земледельцев, восемьсот десятин остаются необработанными.
Странная вещь, по мере того как век становится мягче права охоты охраняются строже; смотрители охоты выказывают особое рвение, потому что работают на глазах и для «удовольствия» своего господина. В 1789 году устроено восемьсот ремизов в одном только кантоне Фонтенбло и против желания населения. По уставу 1762 года каждому частному собственнику на протяжении территории, объявленной под охоту, запрещается возводить на своей земле какие бы то ни было стены, ограды или рвы без особого разрешения. В случаях разрешения владелец должен оставить в своей ограде широкое пустое пространство, удобное для проезда во время охоты. Он не имеет права носить при себе огнестрельное оружие или какой-нибудь снаряд, пригодный для охоты и не смеет также брать с собой собаку даже не пригодную для охоты, если только эта собака не идет на привязи или не имеет ошейника. Ему запрещается также косить свой луг или люцерну до Иванова дня и входить в свое собственное поле с 1 мая по 24 июня, высаживаться на острова Сены, косить там траву, даже в том случае, если трава принадлежит ему и все это потому, что в это время куропатка высиживает птенцов и законодатель охраняет ее; даже о роженице не так заботятся; старые хроникеры сказали бы про него, как про Гильома Руфуса, что его чрево отечески заботится лишь о животных. Во Франции было четыреста квадратных лье, [29] где дичь мелкая и крупная являлась истинным тираном крестьянина. Вот что говорит Монлозье, в 1789 году: «Когда мне приходилось встречать стада оленей на моем пути, проводники постоянно кричали мне „Вот дворянство!“ намекая этим на опустошения, производимые этими животными на их землях». Таким образом, в глазах своих подданных дворяне были дикими зверями.
Вот куда приводит привилегия без несения службы; обязанность защиты вырождается в право опустошения и гуманные и рассудительные люди действуют, сами того не предполагая, как люди негуманные и нерассудительные. Отделенные от народа они злоупотребляют им; номинальные вожди они разучились нести обязанности вождей активных; потеряв общественный характер, они ничего не уступили из своих частных привилегий. Тем хуже для кантона и тем хуже для них самих. Тридцать или сорок браконьеров, которых они преследуют сегодня на своих землях, завтра пойдут против их замка во главе взбунтовавшейся толпы.
Отсутствие учителей, апатия провинций, дурное состояние земледелия, притеснение откупщиков, вероломство судей, жестокость закона об охоте, праздность, долги помещика, нищета, дикость и враждебность вассалов все это происходит от одной причины и приводит к одному результату. Когда господство превращается в синекуру, оно становится гнетущим, не оставаясь полезным и когда оно угнетает, не будучи полезным, его отбрасывают.
Глава IV. Обязанности, которые должны нести привилегированные лица
Пример в Англии. Привилегированные лица не исполняют этих обязанностей во Франции. Влияние и налоги, которые остаются им. Они приносят пользу только им. Собрания духовенства. Они служат только духовным интересам. Духовенство не уплачивает налогов. Ходатайства его агентов. Его рвение против протестантов. Влияние дворян. Закон на их стороне. Преимущество, даваемое им церковью. Распределение епископств и аббатств, Преимущество, получаемое ими от государства. Административные должности, синекуры, пенсии, награды. Не принося пользы, они становятся тяжелым бременем. Одиночество начальников. Чувства подчиненных. Провинциальное дворянство. Приходские священники. Король. Он пользуется самой колоссальной привилегией. Захватив всю власть, он принял на себя все обязанности, Тяжесть этой задачи. Он уклоняется от исполнения своих обязанностей или исполняет их неудовлетворительно. Спокойствие его совести. Франция его имение. Как он этим злоупотребляет. Королевская власть центр злоупотреблений. Скрытая дезорганизация Франции.
Бесполезные в кантоне, они могли бы быть полезными в центре и не принимая участия в местном управлении, они могли выслужить в главном. Так поступает лорд, баронет, сквайр даже в том случае, если он не представляет собой правосудие или не служит членом приходской комиссии. Избранный депутаток в нижнюю палату или как наследственный член верхней палаты, он держит в своих руках шнурки от общественного кошелька и препятствует слишком часто черпать оттуда королю. Таков порядок в странах, где феодальные владетели, вместо того, чтоб допустить короля соединиться против них с общинами, соединились с общинами против короли. Чтобы лучше защищать собственные интересы, они защищали интересы других и перестав быть представителями себе подобных, стали представителями нации.
Ничего подобного не было во Франции. Генеральные штаты пришли в упадок, и король по истине мог считать себя единственным представителем страны. Подобно деревьям, заглушенным гигантским дубом, другие общественные власти перестали развиваться; они, так сказать, образуют вокруг него круг кустарников и засохших стволов. Один из них, парламент, отпрыск, вышедший из дуба, иногда предполагает, будто у него есть собственный корень; но видно, что его сок заимствован, и он не может держаться сам собою и доставлять народу независимое убежище. Другие корпорации, как духовное собрание и провинциальные штаты, и четыре или пять провинций защищают еще порядок, но эта защита простирается только на порядок или на провинцию, и если она защищает частный интерес, то делает это обыкновенно в ущерб интересу общему.
Рассмотрим самую жизненную и лучше, всех пустившую корни, из этих корпораций, собрание духовенства. Каждые пять лет оно собирается, а в промежутки два выбранных агента наблюдают интересы ордена. Созываемое правительством, руководимое им, допускаемое или прерываемое при надобности, всегда под рукой, употребляемое им для политических целей, собрание, тем не менее, остается убежищем для духовенства, представителем которого оно является. Но оно является убежищем только для него и, защищаясь от казны, оно снимает бремя со своих плеч только для того, чтобы возложить большую тяжесть на плечи других. Мы уже видели как его дипломатия спасла привилегии духовенства, как оно откупилось от взносов налогов, как оно изменило свою подать в «добровольный дар», как ежегодно оно употребляло это дар для уплаты долга, с каким тонким искусством удалось ему, не только ничего не вносить в казначейство, но еще извлекать ежегодно из казначейства около миллиона пятисот тысяч ливров; все это конечно хорошо для церкви; но тем хуже для народа.
Теперь пробегите ряд томов in-folio, в которых заключаются отчеты агентов — людей ловких, приготовляющихся этим путем к более высоким должностям в церкви, аббатов Буажелэна, Перигора, Барраме, Монтескиу; благодаря их ходатайствам перед судьями и советом, благодаря авторитету, который придается их искам, недовольством могущественного ордена, стоящего позади их, много духовных дел было разрешено в положительном для духовенства смысле, многие феодальные налоги поддерживались для удовлетворения желания какого-нибудь настоятеля или епископа, много исков из публики было отвергнуто. В 1781 году, несмотря на постановление римского парламента, каноники Сен-Мало продолжали поддерживать монополию своей печи, к великому неудовольствию булочников, которые хотели печь у себя дома и населения, которое платило бы менее за хлеб, испеченный у булочников. В 1773 году Геннн, [30] школьный учитель, смещенный епископом Лангрским и тщетно поддерживаемый жителями, принужден быль уступить свое место преемнику, назначенному прелатом. В 1770 году Растель протестант, открыв общественную школу в Сен-Африк, подвергся преследованиям со стороны епископа и агентов духовенства; школа была закрыта, а учитель посажен в тюрьму.
Когда какая-нибудь корпорация держала в своих руках шнурки от кошелька, она всегда могли рассчитывать на угождение, равнявшееся той сумме, которую она отпускала. Повелевающий тон короля, подчиненный вид духовенства, в сущности, не изменял дела; между ними всегда был торг: дающему дается; так, например, закон о протестантах появился взамен одного или двух миллионов присоединенных к добровольному дару. Точно также в XVII веке совершалось постепенное уничтожение Нантского эдикта, статьи за статьей. Когда духовенство начинает помогать государству, то государство превращается в палача. В продолжение всего XVIII столетия церковь наблюдает за тем, чтобы подобные операция продолжалась. В 1717 году в Андузе было застигнуто собрание из 74 лиц, мужчины были отправлены на галеры, а женщины в тюрьму. В 1724 году объявлено эдиктом, что все, которые будут присутствовать на собрании, а также все те, которые имеют какие-либо прямые или косвенные сношения с протестантскими проповедниками, подвергаются конфискации имений и, кроме того, женщины будут обриты и заключены пожизненно в тюрьму, мужчины же на всю жизнь — на галеры. В 1745 и в 1746 году в Дофинэ двести семьдесят семь протестантов приговорены к галерам, а несколько женщин к наказанию кнутом. С 1744 по 1752 год на западе и на юге арестованы шестьсот протестантов, а восемьсот приговорены к различным наказаниям. В 1774 году у Нимского кальвиниста Ру были отняты два ребенка. До приближения революции в Лангедоке вешают священников и посылают драгун против конгрегаций, собирающихся в пустыне молиться Богу; там матери Гизо прострелили однажды юбки; по мнению провинциальных штатов в Лангедоке, «епископы, более чем где-либо, земные владыки, всегда готовые послать драгун и обращать в истинную веру при помощи ружейных выстрелов». В 1775 году архиепископ Ломений Бриенский, отличавшийся безверием, сказал однажды молодому королю: Вы относитесь одобрительно к системам преступной терпимости… Увенчайте дело, предпринятое Людовиком Великим. Вам предоставлено нанести последний удар кальвинизму в вашем государстве». В 1780 году собрание духовенства заявляет, что «алтарь и трон одинаково окажутся в опасности, если ереси позволят разбить оковы». Даже в 1789 году духовенство в своих тетрадях, соглашаясь терпеть присутствие в стране людей не католического вероисповедания, считает эдикт 1788 года слишком либеральным; оно требует, чтобы были исключены статьи, в которых протестантам разрешается публичное исповедание своего культа и дозволяются смешанные браки; далее оно требует предварительной цензуры печатных произведений, учреждения духовного комитета для обсуждений этих произведений и унизительных наказаний авторов противо-религиозных книг; наконец оно требует себе права управления общественными школами и наблюдения за частными школами. В этой нетерпимости нет ничего странного. Каждая корпорация, как и отдельный человек, прежде всего думает о себе, если иногда корпорация жертвует какой-нибудь привилегией, то делает это лишь для того, чтобы упрочить свой союз с другими корпорациями. В таком случае, примером чему служит Англия, все эти привилегии зависят друг от друга и поддерживая одни другие составляют в общем общественные свободы. Здесь же депутаты корпорации не уполномочены и не желают ничего уступать другим; интерес корпорации является для них единственным руководителем; они подчиняют ему интерес общественный и служат столь усердно, что готовы даже нанести ущерб обществу.
Так работают корпорации, когда, вместо того чтобы соединиться, они действуют в одиночку. То же зрелище представляют касты и волости; их уединенность составляет их эгоизм. Снизу до самого верха лестницы законные или моральные власти, которые должны были бы представлять нацию, представляют лишь самих себя, и каждый из них извлекает свои выгоды, нарушая интересы нации. Не имея права собираться и ставить вопросы на голоса, дворянство имеет свое влияние и, чтобы познакомиться с тем, как оно им пользуется, следует лишь прочесть эдикты и альманах. В силу устава маршала Сегюра, было возобновлено прежнее препятствие, лишавшее разночинцев получать военные чины, и с этих пор, чтобы стать капитаном нужно доказать четыре поколения предков-дворян. Точно также в последнее время стало нужно быть дворянином, чтобы получить звание учителя фехтования и, кроме того, в тайне на будущее время решено, «что все духовные имущества, от самого скромного приорства до богатейших аббатств, будут предоставляться дворянству».
Фактически значит, что все важные места, как духовные, так и светские предоставляются им; все духовные и светские синекуры существуют только для них или для их родственников, знакомых и близких людей. Франция напоминает обширную конюшню, где породистые лошади получают двойную и тройную порции, ничего не делая или неся только половинную службу, в то время как обыкновенные лошади несут полную службу, получая половинную порцию, а нередко даже не получая и этого. Нужно еще заметить, что среди этих породистых лошадей находится привилегированный табун, который теснит себе подобных, жрет сколько может, жирный, блестящий, с гладкой шерстью, стоящий по брюхо в корме, не имея других занятий, кроме постоянных забот о своем довольстве. Эго придворные, живущие у источника милостей, с детства упражняющиеся в попрошайничестве, постоянно следящие за благосклонностью и холодностью короля, для которых дворцовые комнаты представляют вселенную, «одинаково равнодушные как к государственным, так и к своим делам, предоставляя управлять одними провинциальных интендантов, как предоставляют они управлять другими своим собственным управляющим».
Посмотрим, как отзываются они на бюджете. Известно, насколько велик бюджет церкви; я считаю, что они получают по крайней мере половину в свою пользу. Девятнадцать монастырей для благородных мужчин, двадцать пять монастырей для благородных женщин, двести шестьдесят мальтийских учреждений. Благодаря протекции, дворянами заняты все архиепископские места и все епископства, за исключением пяти. Из четырех главных аббатств и викариатств, они занимают три. Если из женских аббатств взять те, которые приносят не менее двадцати тысяч ливров, то мы увидим, что аббатисами в них являются дворянки. Чтобы доказать колоссальность милостей, приведу одну подробность: я насчитал девяносто три мужских аббатства, находящихся в руках духовников, капелланов, учителей или лекторов короля, королевы, принцев и принцесс; один из них, аббат Вермондский, получает восемьдесят тысяч ливров дохода. Говоря короче, тысяча пятьсот духовных синекур являются ходячей монетой вельмож, которые то превращаются в золотой дождь, падающий на кого-нибудь из их близких, то хранящийся в широких резервуарах и поддерживающий блеск их положения.
Кроме того, по обычаю давать больше тому, кто имеет больше, самые богатые прелаты обладают сверх своих епископских доходов, богатейшими аббатствами. Согласно альманаха, Аржантре, епископ Сеецкий, имеет 34 тысячи ливров дополнительной ренты; де-Сюфрэн, списков Систеронский, 36 тысяч; де-Жирак, епископ Рейнский, 40 тысяч; де-Бурдейль, епископ Суассонский, 42 тысячи; д’Агу де-Бонваль, епископ Памьерский, 45 тысяч; де-Марбеф, епископ Отонский, 50 тысяч; де Ротан, епископ Страсбургский, 60 тысяч; де-Сисэ, архиепископ Бордосский, 63 тысячи; де Люин, архиепископ Санский, 82 тысячи; де-Берни, архиепископ Альбийский, 100 тысяч; де-Бриен, архиепископ Тулузский, 106 тысяч; де-Диллон, архиепископ Нарбонский, 120 тысяч; де-Ла-Рошфуко, архиепископ Руанский, 130 тысяч; т.е. вдвойне а иногда втройне более показанных сумм и вчетверо, а иногда и более, если перевести на современные деньги. Де-Роган извлекал из своих аббатств не 60 тысяч ливров, а 400 тысяч и Бриен самый могущественный из всех после Рогана, 24 августа 1788 года, покидая министерство, послал взять «из казначейства 20 тысяч ливров жалованья за свой месяц, который еще не истек; точность тем более замечательная, что не считая оклада и 6 тысяч ливров пенсии, он иметь 676 тысяч ливров ренты и что еще недавно за срубленный в одном из его аббатств лес, он получил миллион».
Перейдем к бюджету светскому; там тоже синекуры преобладают и почти все принадлежат дворянству. К этому роду относятся, в провинциях тридцать семь больших главных управлений, семь малых, шестьдесят шесть генеральных наместничеств, четыреста семь особых управлений, тринадцать управлений королевскими домами и большое число других; все, эти места, не требующие никаких занятий, все в руках дворян, все доходные не только потому, что каждому месту присвоен оклад, но также вследствие других доходов. Здесь еще раз дворянство позволило отнять у себя власть, деятельность, полезность, получив взамен титул, блеск и деньги. Управляет всем интендант; «губернатор же не может исполнять никаких функций без особого письменного разрешения»; он там только для того, чтобы давать обед, но и для этого ему нужно разрешение, «разрешение отправиться проживать в свое губернаторство». Но место доходно: генерал-губернаторство Берри приносит 35 тысяч ливров ренты, Гвианы 120 тысяч; Лангедока 160 тысяч; маленькое особое управление, как например, Гаврское, приносит 35 тысяч ливров, кроме разных побочных; незначительное наместничество в Руссильоне, от 13 до 14 тысяч ливров, особое управление от 12 до 18 тысяч ливров и заметьте, что в одном Иль-де-Франсе их насчитывается до тридцати четырех: в Вервене, Санлисе, Мелоне, Фонтенбло, Гурдане, Сане, Лимуре, Этане, Дре, Гудане, и других столь же незначительных и мирных городах; главный штаб Валуа перестал служить с эпохи Ришелье, но казна продолжает платить ему.
Поглядите на эти синекуры только в одной провинции, в Лангедоке, где, казалось бы, общественные деньги должны охраняться лучше. Там находятся три младших военачальника, в Турионе, Алэ и Монпелье, «каждый из них получает 16 тысяч ливров, несмотря на то что у них нет никаких обязанностей, так как эти должности были учреждены в эпоху смут и религиозных войн, для борьбы с протестантами». Двенадцать наместников короля бесполезны в одинаковой с ними степени, точно так же как и три главных наместника: каждый из них «получает приличествующее его званию жалованье и каждые три года награду в 30 тысяч ливров за услуги, оказанные этой провинции, которые однако нужно отнести в область химер», так как ни один из них не проживает на месте своего служения и если ему платят, то только потому, что он имеет поддержку при дворе. «Таким образом, граф де-Караман, имеющий более 600 тысяч ливров ренты, как собственник Лангедокского канала, получает 30 тысяч ливров каждые три года, без всякого законного основания, независимо от частых и богатых подарков, которые делает ему провинция за починку канала». Провинция дает также военачальнику, графу де-Перигору награду в 12 тысяч ливров сверх жалованья и его жене другую награду в 12 тысяч ливров, когда она впервые оказала честь штатам своим присутствием. Провинция платит, кроме того, за содержание телохранителей, которые в количестве восьмидесяти человек служат вовремя краткого пребывания в штатах военачальника и которые вместе с их капитаном обходятся в год в 15 тысяч ливров. Она платит также губернатору за содержание восьмидесяти или ста телохранителей «из которых каждый получает 300 или 400 ливров, кроме массы разных привилегий и которые не несут никаких обязанностей, так как губернатор никогда туда не заглядывает»; на этих бездельников расходуется до 24 тысяч ливров, кроме 5–6 тысяч ливров расходуемых на их капитана и к этому нужно еще присоединить 7.500 на секретарей губернатора, кроме 60 тысячи ливров жалования самому губернатору. Я вижу повсюду второстепенных бездельников, укрывающихся в тени бездельников главных и почерпающих средства в общественном кошельке, который является общей кормилицей. Весь этот мир обильно пьет и ест, и проводит время в пустых церемониях: таково его главное занятие и он добросовестно его исполняет. Заседания штатов длятся около шести недель, во время которых интендант расходует 25 тысяч ливров на обеды и приемы.
Столь же доходны и столь же бесполезны придворные должности, домашние синекуры, доходы которых далеко превосходят оклады. Я насчитал одних служащих у стола 295 человек, не считая лакеев, причем первый дворецкий получает 84 тысячи ливров в год деньгами и пищей, не считая жалования и парадных ливрей, на изготовление которых он получает деньги. Первые горничные королевы, записанные в альманахе по 150 ливров и получающие 12 тысяч франков, в действительности получают до 50 тысяч франков, вследствие перепродажи свечей, горевших днем; Висар, секретарь дворцовой канцелярии и месту которого официально присвоено 900 ливров вознаграждения в год, признается, что оно приносить ему 200 тысяч. Начальник охот в Фотенебло продает в свою пользу каждый год на 20 тысяч франков, кроликов». Во время каждого путешествия в загородные дворцы короля, прислуживающие дамы, подавая счета произведенных расходов при переезде, наживают 80%; говорят, что кофе с молоком, и хлебом, для каждой из этих дам, обходится в год в 2 тысячи франков, в такой же пропорции и остальные расходы».
«М-м де-Тайлар сумела скопить 115 тысяч ливров ренты занимая место гувернантки королевских детей, потому что за каждого нового ребенка ей увеличивали жалованье на 35 тысяч ливров. Герцог Пантьеврский, занимая должность генерал-адмирала, получал со всех судов, «входивших в гавани и в устья Франции» якорный налог, годовая сумма которого достигала 91.484 франка. М-м де-Ламбаль, главная управительница, официально получающая 6 тысяч франков, в действительности получает 150 тысяч. После одного праздника, с потешными огнями, герцог Жеврский выручает 50 тысяч экю за остатки и уголь, которые принадлежат ему в силу занимаемой им должности.
Крупные дворовые чиновники, управляющие королевскими дворцами, начальники охотничьих округов, камергеры, шталмейстеры камер-юнкеры, пажи, гувернеры, духовники, капелланы, фрейлины, служанки, приживалки короля, королевы, брата короля, сестры короли графа д’Артуа, графини д’Артуа, принцессы Елизаветы, в каждом дворце имеются сотни должностей с присвоенным окладом и побочными доходами без всяких обязанностей, учрежденных единственно ради декорации. «М-м де-ла-Борд недавно назначена постельничьей королевы с 12 тысячами франков жалования из сумм короля; неизвестно, какие обязанности сопряжены с этим званием, не существовавшим со времен Анны Австрийской». Старший сын г-на де-Машо назначен управляющим классами, это одна из так называемых милостивых должностей: он получает «18 тысяч ливров дохода за то, чтобы подписать два раза в год свою фамилию». Таково же место главного секретаря швейцарцев, приносящее 30 тысяч ливров дохода на которое назначен аббат Бартелеми; таково же место главного секретаря драгун, с жалованьем 20 тысяч ливров в год, занимаемое по очереди Нантолем Бернаром и Ложаном — двумя маленькими поэтами.
Было бы проще давать деньги без мест, но и в этом нет недостатка; читая мемуары, казначейство представляется добычей, разрываемой на части. Окружая короля, придворные заставляют его сострадать их несчастьям. Они его близкие, гости его салона, люди одинаковой с ним расы, его природные клиенты, единственные, с которыми он беседует и так как ему нужно видеть их довольными, то ему приходится помогать им. Он должен способствовать к составлению приданного их детей, потому что расписывается в брачном контракте; он должен обогащать их самих, потому что их роскошь служит украшением его двора. Дворянство, служа украшением трона, обязывает владетеля трона позолачивать его насколько возможно чаще. Приведенные некоторые выше цифры и анекдоты, взятые из тысячи, обладают редким красноречием.
«Принц де-Понс имел 25 тысяч ливров пенсии от короля, к которым его величество пожелал прибавит 6 тысяч для м-ль де-Марсан, его дочери, монахини в Ремирмоне. Семья изложила перед королем дурное положение дел принца де-Попса и его величество соблаговолил разрешить принцу Камиллу, его сыну 15 тысяч ливров пенсии, освободившейся за смертью его отца и 5 тысяч ливров прибавки к пенсии м-ль де-Марсан».
Господин де-Конфлан вступает в брак с м-ль Портейл: «Из симпатии к этому браку, король соблаговолил, чтобы из 10 тысяч ливров пенсии г-жи Портейль 6 тысяч перешло бы г-ну Конфлан, после смерти г-жи Портейль».
Господин де-Сешель, министр, выходящий в отставку, «имел 12 тысяч ливров пенсии, которую король сохранил ему; кроме того, он имеет еще 20 тысяч ливров пенсии в качестве министра, и король прибавляет к этому еще 40 тысяч ливров в год».
Иногда причини милости поразительны. Нужно, например, утешить чем-нибудь г-на Руйле за то, что он не принимал участия в венском трактате: ради этого «его племяннице м-м де-Кастеллан назначают 6 тысяч ливров пенсии, а его дочери 10 тысяч». Господин Пвизье получает приблизительно 76 или 77 тысяч ливров ренты от короля: правда, это довольно значительная сумма, но доход не всегда верный, потому что он получается с виноградников». «Только что назначили пенсию в 10 тысяч ливров маркизе де-Лэд, потому что она не понравилась супруге инфанта и должна удалиться от двора».
Самые могущественные протягивают руку и берут. «Высчитано, что на прошлой неделе, придворным дамам назначено 120 тысяч ливров пенсии, в то время как офицеры не получали никакой пенсии в продолжение двух лет: 8 тысяч ливров назначено герцогине де-Шеврез, муж которой имел от 400 до 500 тысяч ливров дохода; 12 тысяч ливров г-же де-Люинь, чтобы она не была ревнива, 10 тысяч герцогине де-Бранкас, матери предыдущей и т.д.». Во главе этих кровопийцев стоят принцы крови. «Король назначил миллион пятьсот тысяч ливров принцу де-Конти, для уплаты его долгов, из которых один миллион выдан под предлогом вознаграждения за несправедливость, совершенную по отношению к нему, вследствие продажи Оранжа и 500 тысяч ливров в награду». «Герцог Орлеанский имел перед тем 50 тысяч экю пенсии, ожидая наследства от своего отца. Сделавшись богатым после смерти отца и получая более трех миллионов дохода, он отказался от пенсии. Но представив затем доказательства, что его расходы превышают доходы, эти 50 тысяч были возвращены ему королем».
Двадцать лет спустя, в 1780 году, когда Людовик XVI, желая облегчить казначейство, подписывает «великую реформу стола», сестрам короля назначается 800 тысяч ливров на их стол; вот во что обходятся народу сокращенные обеды трех старых дам. Для двух братьев короля назначается 8,3 миллиона ливров, кроме 2 миллионов дохода с уделов; для дофина, принцессы Елизаветы и принцесс 3,5 миллиона ливров; для королевы 4 миллиона: это указывается в счете Неккера в 1784 году. Присоедините к этому получаемые из рук в руки: 200 тысяч франков г-ну де-Сартину, для уплаты его долгов, 200 тысяч г-ну Ламуаньену, хранителю печатей, 600 тысяч франков г-ну Мироменилю на расходы по заведению, 166 тысяч вдове г-на де-Морена, 500 тысяч принцу де-Сальен, 1,2 миллиона герцогу Полиньяку за заложенное графство Фенетранж, 754.337 — сестрам короля на уплату за Бельвю. «Господин де Калонн, называемый Ожеар, компетентный свидетель, говорит, что из ста миллионного займа четверть не попало в казначейство, так как деньги были разворованы придворными; графу д’Артуа было дано 56 миллионов, брат короля имеет 25 миллионов; принцу де-Кондэ, взамен ренты в 300 тысяч ливров, дано было единовременно 12 миллионов. Не следует забывать, что все эти подарки, пенсии и жалованья нужно удвоить, чтобы перевести на современные деньги.
Таково занятие вельмож, окружающих центральную власть, вместо того чтобы явиться представителями народа, они сочли за лучшее стать фаворитами государя и стригут стадо, которое должны бы охранять.
В конце концов стриженое стадо узнает, что сделали из его шерсти. «Рано или поздно, говорит парламент от 1764 года народ узнает, что остатки наших финансов расточаются по-прежнему на незаслуженные подарки, на усиленные и умноженные пенсии, на приданые и бесполезные жалованья». Рано или поздно он оттолкнет «эти жадные руки, всегда протягивающиеся и никогда недовольные, этих ненасытных людей, которые, по-видимому, рождены только для того, чтобы все брать и ничего не иметь, людей без жалости и без стыда». В этот день стригущие окажутся одни, так как аристократия, думающая лишь о себе, превратилась в особую касту. Забыв про народ, она пренебрегает своими подчиненными; отделившись от нации, она отделилась от своей свиты. Это главный штаб в отпуску, который важничает и нисколько не заботится о своих унтер-офицерах; придет день битвы, никто не пойдет за ним, вождей будут искать в другом месте. Такова отчужденность придворных сеньоров и прелатов от мелкого дворянства и низшего духовенства; они захватили себе жирный кусок и не дают ничего или почти ничего людям, не принадлежащим к их миру. Против них в продолжение целого века поднимается ропот и постепенно превращается в крик, в котором старый и новый дух и философские идеи звучат в унисон. «Я вижу, — говорит судья Мирабо, что дворянство дичает и теряется. Это простирается на всех детей кровопийц, на выскочек финансового мира, введенных Помпадур, которая сама вышла из этой грязи. Часть одичает на службе при дворе, другая смешается с писарской командой, которая превращает в чернила кровь подданных короля, еще другая погибнет задушенная судейскими чиновниками»; и все это выскочки старой или новой рас составляют банду, которая и есть двор. «Двор, — восклицает Держансон, в этом слове все зло. Двор превратился в сенат нации. Самый незначительный слуга Версаля, является сенатором. Горничные принимают участие в управлении государством и если не распоряжаются, то во всяком случае препятствуют появлению уставов и законов, вследствие чего в стране нет более ни законов, ни повелений, ни повелителей… При Генрихе IV придворные жили, каждый в своем доме, они не были вовлечены в разорительные издержки, чтобы находиться при дворе; поэтому им и не нужно было тех милостей, как в настоящее время. Двор — могила нации». Большое число офицеров из дворян, видя, что высшие должности предоставляются только придворным, покидают службу и недовольные возвращаются на свои земли. Другие, не покидавшие своих владений, питают праздностью и скукой их неудовлетворенное самолюбие. В 1789 году, — говорит маркиз де-Феррейр, — большинство «так утомилось двором и министрами что почти стали демократами». По крайней мере, «они хотят вырвать правительство у министерской олигархии, в руках которой оно сосредоточено». Не нужно вельмож на места депутатов они их оттесняют назад, говоря, что они не защищают интересов дворянства»; сами они в своих тетрадях настаивают, чтобы не было больше придворного дворянства.
Те же самые чувства питает и низшее духовенство, так как оно исключено от занятия высоких должностей, ни только потому, что оно низшее, но еще и потому, что представители его — разночинцы. Уже в 1766 году, маркиз Мирабо писал: «большинство духовенства сочло бы для себя оскорблением, если бы кому-нибудь предложили занять место деревенского священника. Доходы и награды предназначаются для аббатов и для многочисленных настоятелей монастырей. Истинные же пастыри душ, служители церкви, едва могут существовать». Первый класс, «вышедший из дворянства и высшей буржуазии ничего не имеет кроме претензий. Другой должен исполнять лишь свои обязанности, без всякой надежды на какой-либо доход… Он набирается из нижних слоев гражданского общества и паразиты, обирающие этих работников, приводят их в еще более бедственное положение». «Я сожалею, — говорит Вольтер, — о судьбе деревенского священника, принужденного оспаривать каждую меру зерна у своего прихожанина, возбуждать против него судебное преследование, требовать от него десятину гороха, проводить свою жалкую жизнь в постоянных раздорах… Еще более мне жаль священника, получающего часть от монахов, которые осмеливаются давать жалованье в 40 дукатов, чтобы целый год ходить за две, за три мили от своего дома, днем, ночью, в солнце, дождь и снег, исправлять самые трудные и неприятные обязанности».
В продолжение тридцати лет старались обеспечить и увеличить вознаграждение священникам; сперва им увеличили оклады до 500 ливров (1768) затем 700 ливров (1785) викарию 200 ливров (1768), затем 250 ливров (1778) и наконец 350 ливров (1785). При умеренном образе жизни при существовавших в то время ценах, человек мог просуществовать на эти деньги. Но он жил среди бедных, которым обязан был оказывать помощь, и он питал в своем сердце тайную горечь против праздного богача, который с полными карманами посылал его с пустыми карманами исполнять дело милосердия. В Сен-Пьере де-Баржувиле, в Тулузене епископ тулузский берет половину десятины и раздает в год восемь ливров милостыни; в Бретксе настоятель Иль-Журдена, получающий половину десятины и три четверти других налогов, раздает десять ливров; в Круа-Фальгард, бенедиктинцы, которым принадлежит половина десятины, дают десять ливров в год. В Сен-Круа де-Берней в Нормандии не живущий на месте аббат, получающий 57 тысяч ливров, платит кюрэ 1.050 ливров, у которого нет пресвитера и в приходе которого насчитывается 4 тысяч причастников. В Сен-Обене-Сюр-Гайлон, аббат, получающий крупную десятину, даст 350 ливров викарию, который принужден ходить в деревню и выпрашивать себе зерна, хлеба, яблок. В Плесси-Гебер, «причетник, не имея никаких средств к жизни, принужден ходать просить обеда у соседних кюрэ». В Артуа, где нередко десятина достигает семи с половиной и восьми процентов производства земли, число кюрэ чрезвычайно невелико, церковь их приходит в разрушение, а получающий доходы ничего не дает бедным. «В Сен-Лоране, в Нормандии, приход священнический приносит не более 400 ливров, причем кюрэ должен давать милостыню населению состоящему из 500 душ, три четверти которого нищие». [31]
Так как ремонтирование церкви и священнического дома лежит на обязанности помещика или аббата, нередко находящихся в отсутствии, то случается, что священник не знает, где ему служить обедню и где он должен жить. «Я прибыл, говорит туренский священник, в июне месяце 1788 года… Священнический дом походил на омерзительное подземелье, если бы он не был открыт всем ветрам», внизу две квадратные комнаты без дверей и окон, вышиной в четыре с половиной фута, третья вышиной в шесть футов, [32] квадратная, служащая залом, кухней, пекарней и водохранилищем; наверху три таких же комнаты, «повсюду видны трещины, гниль, разрушение нет ни дверей, ни окон, которые бы закрывались», и в 1790 году жилище не было исправлено.
Посмотрите в виде контраста на роскошь прелатов, у которых полмиллиона дохода, на пышность их дворцов на охотничьи выезды г-на Диллона, епископа Эвреского, на обитые атласом исповедальни г-на Барраля, епископа Труаского, на бесчисленные массивные серебряные приборы г-на де-Рогана, епископа Страсбургского. Такова судьба священников, состоящих на жаловании у монастырей, получающих каких-нибудь 400–500 ливров. Из этой жалкой суммы они еще должны выплачивать добровольный дар. В Клермонтской епархии кюрэ обложены сбором в 60, 80, 100, 120 ливров и более; викарии, зарабатывающие хлеб в поте лица, платят 22 ливра». Наоборот, прелаты платят очень немного и «есть обычай преподносить епископам расписку о взносе их налога в виде подарка на новый год». Для священников нет выхода. За исключением двух или трех епископств, все высшие церковные должности предоставлены дворянству; «чтобы быть теперь епископом, говорит один из них, нужно быть дворянином». Они подобию сержантам в армии лишены какой бы то ни было надежды стать когда-либо офицерами. Нередко поэтому гнев прорывается у них наружу. «Мы — несчастные кюрэ; мы, имеющие огромные приходы, подобно, например, моему, который углубляется на два лье в леса; мы, судьба которых заставляет вопиять даже камни наших жалких жилищ, мы поддерживаем прелатов, которые нередко ведут тяжбу с бедным кюрэ, срезавшим в его лесах палку, единственную опору во время его длинных путешествий».
При их проезде бедный человек принужден бросаться наугад в сторону, оберегая свои ноги от лошадей, от колес, а иногда и от кнута грубого кучера, затем, обрызганный грязью с палкой и шляпой в руках, униженно и быстро поклониться раззолоченой карете, в которой иерарх возлежит на шерсти стада, пасомого бедным кюрэ». Все письмо похоже на долгий крик бешенства; в таком положении и с такими чувствами низшее духовенство не должно смотреть на своих вождей иначе, как смотрело на своих провинциальное дворянство. Оно не изберет «представителями тех, которые утопают в роскоши, спокойно смотря на страдания меньшей братии». Со всех сторон кюрэ порешили посылать в генеральные штаты только деревенских священников, исключив «не только каноников, аббатов, приоров и других, но также главных священников и начальников иерархий», т.е. епископов. В самом деле из 300 депутатов от духовенства, в генеральных штатах насчитывается 208 кюрэ, которые, подобно провинциальному дворянству, принесли с собой недоверие и злобу, питаемую ими с давних пор к своим начальникам. То и другое проявится скоро.
Остается последний привилегированный, самый колоссальный из всех, т.е. король, так как в этом главном штабе наследственных дворян он является наследственным генералом. Правда его службу нельзя считать синекурой как их ранг, но в его службе столько же неудобств и еще больше искушений. Две вещи гибельны для человека, отсутствие занятия и отсутствие преграды; ни праздность, ни всемогущество не согласуются с его натурой и самодержавный владыка, который может делать все, как бездельная аристократия, которая ничего не делает, становится бесполезным и вредным. Незаметно, захватывая все полномочия, король берется за отправление всех обязанностей; задача колоссальная, превосходящая человеческие силы. Не революция, но монархия насадила во Франции административную централизацию под руководством королевского совета три высших чиновника с генерал-контролером в центре, в каждом округе интендант, в каждом избирательном округе субделегат, ведут все дела, устанавливают уменьшают и увеличивают налоги, назначают базарные дни, намечают, заставляют прокладывать дороги, раздают пособия, устанавливают богослужения и распоряжаются как слугами членами муниципального совета. «Деревня, говорит Тюрбо, есть не что иное как собрание домов, хижин и жителей, причем последние столь же пассивны, как и первые… Ваше величество принуждены решать все вопросы сами или при помощи своих приближенных… Каждый ожидает ваших приказаний, чтобы послужить на благо народа, чтобы выказать уважение к правам других, иногда даже во вред своим собственным интересам». Вследствие этого Неккер говорит, что Франция управляется из глубины канцелярии… Мелкие служащие, восхищенные своим влиянием, никогда не упустят случая подействовать на министра, не обладающего всесторонним умом. Бюрократия в центре, произвол, исключения и протекция — вот результат системы. «Субделегаты, выборные чиновники, управляющие, сборщики и контролеры податей, судебные приставы, низшее чиновничество, все эти люди, занимающиеся налогами, пользуются своей маленькой властью и пускают в глаза пыль своими финансовыми познаниями, людям, платящим подати, не знающим и не могущим понять, что их обманывают. Грубая бесконтрольная централизация наводняет всю территорию армией метких пашей, решающих подобно судьям всякие дела, управляющие страной и оправдывающие хищение и злоупотребление тем, что у них всегда на языке имя короля, который заставляет их это делать.
В самом деле, вследствие своей сложности, неправильной постановки и своей колоссальности, машина ускользает от контроля. Фридрих II, встававший в четыре часа утра, Наполеон, диктующий ночью, сидя в своей ванне и работающий восемнадцать часов в сутки, едва успевает присмотреть за всем. Подобный режим подвигается без напряженного внимания, без неутомимой энергии, без военной строгости, без высшего гения, только при таких условиях можно изменить по своей воле двадцать пять миллионов людей в автоматов. Людовик XV дает машине возможность идти самой по себе и пребывает в полной апатии. «Они так хотели, они думали, что так лучше», такова его манера говорить, когда операции министров не удавались. «Если бы я был полицейским, — говаривал он еще, — то завещал бы кабриолеты». Он чувствует, что машина действует неправильно, что он ничего не может поделать и ничего не делает. В случае несчастья у него есть свои сбережения, свой собственный капитал. — «Король, — говорила м-м Помпадур, — без всякого размышления подпишет ассигновку на миллион и с трудом выдает сотню луидоров из собственных средств». Людовик XVI в продолжение долгого времени пытался уничтожить некоторые отдельные части этой машины, уменьшит трение остальных, но части были слишком тяжелы, он не мог пригнать их, согласовать, удержать на месте и в бессилии он опустил усталые руки. Он довольствуется тем, что соблюдает экономию по отношению к самому себе; он записывает в свой дневник о починке карманных часов и предоставляет Калонну управлять государственной колесницей.
Несомненно, зло, причинямое ими или от их имени не нравится и огорчает их. Они могут жалеть народ, но не чувствуют себя виновными по отношению к ним, так как они являются их владыками, а не их уполномоченными. Франция для них то же самое, что имение для помещика, а помещик никогда не чувствует недостатка в почестях, так как он щедр и небрежен. Он расточает свое имущество, и никто не имеет нрава спрашивать у него отчета. Государство, созданное на феодальной системе, является собственностью, наследственным имуществом и было бы изменой, если бы принц передал в руки своих подданных какую-нибудь часть своего королевства, которое он получил в полной неприкосновенности от своих отцов и должен передать его таким же своим детям. Не только по средневековым традициям, он является собственником французов и Франции, но еще и по теории законников он, подобно Цезарю, единственный и постоянный представитель нации, а по доктрине теологов, он, подобно Давиду, священный посол самого Бога. При всех этих титулах было бы чудом если бы он не считал государственный доход своих частным доходом и не распоряжался бы им как хотел. Наша современная точка зрения настолько противоположна, что мы лишь с трудом можем стать на его точку зрения; но в то время, таково было всеобщее мнение. В ту эпоху вмешиваться в дела короля было бы так же странно, как вмешиваться в дела частного лица. Только в конце 1788 года, в знаменитом салоне Пале-Рояля «с невообразимой смелостью высказывали, что в настоящей монархии государственные доходы не должны находиться в распоряжении государя, что ему следует назначить только довольно крупную сумму для расходов по содержанию дворца, для наград своим служащим, а также для его развлечений, остальное же должно храниться в государственном казначействе и расходоваться только с разрешения Национального Собрания». Ограничить монарха цивильным листом, наложить руку на девять десятых его дохода, какая дерзость! Изумление было бы не меньшее, если бы в настоящее время кто-нибудь предложил разделить доход каждого миллионера на две части и отдав ему меньшую, другую часть вносить в общую кассу и расходовать деньги только на общественные дела. Один бывший главный откупщик, человек умный и без предрассудков писал совершенно серьезно, оправдывая покупку Сен-Клу: «Это было кольцо на палец королевы». В действительности кольцо стоило 7,7 миллионов франков. Но король Франции имел в то время 477 миллионов дохода. Что сказали бы о частном лице, обладающем доходом в 477 тысяч ливров и который раз в своей жизни подарил бы своей жене на семь или восемь тысяч ливров бриллиантов? Сказали бы, что подарок очень скромен и что муж не расточителен.
Чтобы лучше понять историю наших королей, будем принимать всегда в принципе, что Франция — их земля, ферма, передаваемая от отца к сыну, сперва маленькая, мало-помалу разросшаяся и через восемь столетий имеющая протяжение в 27 тысяч квадратных миль. Конечно, в большинстве случаев его интересы совпадают с общественным благом; в общем он недурно управлял, и так как его владения постоянно расширялись, то значит он управлял лучше многих других. Кроме того, вокруг него находится много опытных людей, старых советников, преданных государству, которые почтительно упрекают его, когда он расходует слишком много; нередко он призывает их к полезной работе, — устройству путей, каналов, сооружению домов для инвалидов, военных школ, ученых институтов, благотворительных заведений, работает по ограничению крепостного права, по веротерпимости, созывает провинциальные собрания, проводит разные другие реформы, превращает феодальное государство в современное. Но феодальное или современное, оно все же остается его собственностью, которому он может вредить в такой же степени, как и приносить пользу. Если при обычном поведении личные интересы не слишком господствуют над интересами общественными, то он уподобляется святому, как Людовик IX, или стоику, подобию Марку Аврелию. Но тем не менее, у него, как и у других королей имеется свое самолюбие, свои вкусы, свои фавориты, свои родственники, своя любовница, своя жена, свои близкие, которых он должен удовлетворить вперед; нация же идет после.
В самом деле за сто лет, от 1672 до 1774 года, все войны возгорались, вследствие уколов самолюбия, из частных расчетов, из-за жены или семейных интересов. Людовик XVI в своей внешней политике всегда встречает препятствие в супружеских тенетах. Дома он жил, как другие помещики, но роскошнее, потому что был самым крупным помещиком во Франции; сейчас я опишу его образ жизни, пока же ограничусь двумя, тремя подробностями. По достоверным данным, Людовик XV израсходовал на м-м Помпадур 36 миллионов, т.е.72 миллиона на современные деньги. По словам д’Аржансона в 1751 году у него в конюшне находилось 4 тысячи лошадей и содержание дома стоило в этот год 68 миллионов, т.е. приблизительно одна четверть всего государственного дохода. Что же удивительного в том, что король в то время уподоблялся помещику, пользовавшемуся своим наследственным богатством? Он строит, устраивает праздники, охотится, бросает деньгами. Считая себя хозяином денег, он раздает их по своему усмотрению и все его назначения являются милостями. «Ваше величество знает лучше меня, писал аббат де-Вермон императрице Марии Терезии, что с незапамятных времен вошло в обычай три четверти мест, почестей, пансионов раздавать не по заслугам, а по благосклонности. Благосклонность порождается происхождением, связями и состоянием, почти никогда не имеет она другой подкладки, кроме протекции и интриг. Этот порядок вещей так укрепился, что уважается даже теми, кто больше всех страдает от него; дворянин, не имеющий связей при дворе, не могущий блеснуть своим состоянием, никогда даже и не мечтает получить полк, как бы ни были велики его личные заслуги. Двадцать лет тому назад, сыновья герцогов, министров, придворных, родственники любовниц становились полковниками в шестнадцать лет. Господин де-Шуазель привел всех в ужас, отодвинув это назначение к двадцати трем годам; но, чтобы уничтожить протекцию и произвол, он передал на усмотрение короля, или вернее министров, назначение лейтенантов, полковников, назначавшихся прежде по старшинству. Вы знаете, что места нарочно увеличивали, чтобы раздавать их фаворитам. Голубая лента, красная лента — в таком же положении, иногда то же самое происходить и с крестом Святого Людовика. Епископство и аббатство раздадутся всегда по протекциям. О казенных местах я не отваживаюсь и говорить».
Неккер, вступив в управление министерством, открыл, что из королевского казначейства выдается 20 миллионов пенсии: после его падения на придворных посыпался настоящий денежный ливень. Даже в его время король раздавал целые состояния подругам и друзьям своей жены: графине Полиньяк 400 тысяч франков. для уплаты долгов, 800 тысяч франков на приданое её дочери, кроме того, для неё самой король обещал подарить землю, приносящую 35 тысяч ливров дохода и для её любовника графа де-Водрейль 30 тысяч ливров пенсии; принцессе де-Ламбаль 100 тысяч экю в год, с одной стороны, как жалованье, за исполняемые ею обязанности управительницы, с другой, как пенсия её брату. Но расточительность становится прямо безумной во времена Каллона. Выбитый из колеи, король раздает, покупает, строит, помогает близким людям, как настоящий вельможа, швыряя пригоршнями деньги. Судите хотя бы по одному примеру: чтобы помочь обанкротившимся Геменэ, он покупает у них за 12,5 миллионов три имения, только что приобретенные теми за 4 миллиона, кроме того, в обмен двух имений в Бретани, приносящих 33.758 ливров, он уступает им княжество Домбкское, приносящее 70 тысяч ливров ренты.
Когда позднее мы займемся «Красной книгой», то найдем там 700 тысяч ливров пенсии, уплачиваемой дому Полиньяк, большинство которой переходит от одного члена семьи к другому и около двух миллионов ежегодного пособия дому Ноэйль.
Король забыл, что все его милости заставляют страдать других, так как дворянин, получающий шесть тысяч ливров пенсии, получает подати с шести деревень. В государстве, где существует налог, каждый расход монарха основан на голодании крестьянина, и король при помощи своих чиновников отнимает хлеб у бедных, чтобы давать экипажи богатым. Одним словом, центр правительства, есть центр зла; все несправедливости, все несчастия исходят из него, как из зараженного очага: здесь общественный нарыв достигает своей крайней точки. И здесь же он прорвется.
Справедливый и фатальный результат привилегии, которую эксплуатируют в свою пользу, вместо того чтобы извлекать из неё пользу для других. Кто говорит «государь», подразумевает защитник, дающий пропитание, начальник, который руководит; за исполнение таких обязанностей, вознаграждение никогда не будет слишком велико, так как нет обязанности более высокой и более трудной. Но нужно, чтобы он ее исполнял, иначе в день опасности его оставят одного. Уже задолго до наступления дня опасности, его войско не принадлежит ему, если оно еще идет, за ним, то только по рутине; оно — собрание отдельных личностей, а не организованное тело. В то как в Германии и Англии преображенный феодальный режим составляет еще живое общество, во Франции его механическая рама сжимает только прах людей. Еще существует материальный порядок, но нравственного порядка нельзя уже более найти. Медленная и глубокая революция разрушила интимную иерархию и добровольное почтение. Это — армия, где чувство, делающее вождей, и чувство, делающее подчиненных, исчезли; чины различаются по платью, но не существуют более в сознании; ей недостает того, что делает крепкой армию, — доверия, оправдываемого солдатами, ежедневного обмена взаимной преданности, убеждения, что каждый полезен всем, и что вожди полезнее всех. И как может существовать такое убеждение в армии, главный штаб которой разъезжает по ресторанам, выставляет напоказ свои эполеты и получает двойной оклад? Уже до финальной катастрофы, Франция разложилась и разложилась потому, что привилегированный класс забыл свои обязанности общественных людей.
Книга вторая. Нравы и характеры
Глава I. Зарождение нравов в эпоху Старого Порядка
Двор и показная жизнь. Внешний вид и нравственный характер Версаля. Дом короля. Личный состав и издержки. Его военный дом, его конюшня, его охотничий двор, его средства, его стол, его комната его гардероб, его склад мебели, его путешествия. Общество короля. Офицеры его дома. Гости его салона. Занятия короля. Пробуждение, месса, обед, прогулки, охота, ужин, игра, вечерники. Он всегда на виду и в обществе. Развлечения королевских особ и двора. Людовик XV, Людовик XVI. Аналогичные образы жизни. Принцы и принцессы. Придворные финансисты и парвеню. Посланники, министры, губернаторы, вышние военные чины. Прелаты, сеньоры и мелкое дворянство в провинции. феодальная аристократия превратилась в салонное общество.
Главный штаб в отпуску более чем столетие, собирающийся у генерал-аншефа, устраивающего приемы в своем салоне, — вот причина и следствие происхождения нравов в эпоху старого порядка. Поэтому тот, кто захотел бы узнать их, должен прежде всего направить свои наблюдения на их центр и источник, т.е. на двор. Как старый порядок взятый в общем, он лишь пустая форма, пережиток военного быта; когда причины исчезли, последствия еще существуют и применение переживает полезность. Некогда в первые феодальные времена, при товарищеских простых отношениях, дворяне служили королю собственными руками, — один присматривал за его покоями, другой подавал ему на стол, тот раздевал его вечером, а тот наблюдал за его соколами и лошадьми. Затем в эпоху Ришелье и во время фронды они составляли гарнизон его дворца вооруженные они сопровождали его, составляя свиту, всегда готовую дать отпор. Теперь, как и раньше, они неотлучно находились возле него, со шпагой у бедра, ловя его каждое слово, повинуясь каждому его жесту, и самые знатные из них исполняли у него домашнюю работу. Но вычурная пышность заменила плодотворную деятельность; в настоящее время они являются только украшением, а не полезными помощниками; они, группируясь вокруг короля, только способствуют его блеску.
Нужно сказать, что блеску было достаточно и со времен итальянского Ренессанса, мир не видел большей пышности. Последуем за лентой экипажей, которая из Парижа в Версаль, тянется непрерывно, как река. Лошади, которых называют «бешеными», и которых кормят особым образом, совершают путь туда и обратно в три часа. С первого взгляда чувствуешь себя в особого рода городе, построенном сразу, как бы из одного куска, подобно медали, отчеканенной в одном экземпляре со специальной целью: его форма является посторонним делом, так же как его происхождение и цель употребления. Правда, в нем до 80 тысяч душ населения и он считается одним из обширнейших городов королевства, но он наполнен, заселен, занят жизнью одного человека он ничто иное, как резиденция короля, приспособленная целиком, чтобы отвечать нуждам, удовольствиям, услугам, охране обществу, представительству короля. Там и сям в закоулках и трущобах есть гостиницы, винные лавки, трактиры, кабаки для рабочих, людей труда, для рядовых солдат, для младшей челяди; эти кабачки необходимы, так как самый великолепный апофеоз не может обойтись без грязной работы. Но зато дальше идут только пышные отели и дворцы, скульптурные фасады, портики, балюстрады, великолепные лестницы, барские дома, обширные, идущие в стройном порядке точно процессия вокруг колоссального и грандиозного дворца, являющегося средоточием всего. Самые знатные фамилии имеют здесь постоянную резиденцию: направо от дворца, отель Бурбонов, отель Эквилли, отель Тремуйль, отель Кондэ, отель Морена, отель герцогов Бульонских, отель д’Е, отель Ноэйль, отель Пантьевр, отель Ливри, отель графа де-ла Марш, отель Бролие, отель Тэнгри, отель Орлеанов, Шатильона, Вильруа, д’Аркура, Монако; на лево павильон Орлеанов, павильон Монсиен (брата короля), отели: Шеврез, Бальбель, Опиталь, д’Антэна, Данжо, Поншартрэн, — и бесконечного числа других Прибавьте к этому еще тех, которые на десять миль в окружности в Ссо, в Женивилье, в Брюнуа, в Иль-Адан, в Райнси, в Сен-Уане, в Коломбе, в Сен-Жермэне, в Марли, в Бельвю в сотне других мест образуют цветочный архитектурный венок, откуда каждое утро вылетает такое же количество золотистых ос, чтобы блистать, собирать мед в Версале, центре всякого изобилия и блеска. Каждый год бывает «представлено» около сотни мужчин и женщин, что составить в общем две-три тысячи: это общество короля, дамы делающие перед ним реверансы, дворяне ездящие в его каретах; их отели либо рядом со дворцом, либо где-нибудь по близости и поэтому они в любой момент могут наполнить его приемную или салон.
Такой салон имеет и пропорциональные размеры; в Версале нужно считать сотнями отели и другие постройки, отведенные для частного пользования короля и его приближенных. Со времени Цезаря ни одна человеческая жизнь не занимала столько места под солнцем. Улица Резервуар: старый отель и новый отель губернатора Версаля, отель гувернера детей графа д’Артуа, хранилище мебели короля, здания для помещения актеров, играющих при дворе, конюшни брата короля. Улица Бонзанфан: отель гардероба, дом служащих графини Провансальской. Улица Помпы, отель старшины, конюшни герцога Орлеанского, отель гвардии графа д’Артуа, английский сад брата короля, ледники короля, манеж легкой кавалерии гвардии короля, сад отеля смотрителя зданий короля, отель гвардейских жандармов, отель главного штаба легкой кавалерии, огромный отель телохранителей, отель главного ловчего, отель главного сокольничего егермейстера, начальника канала, генерал-контролера, главноуправляющего зданий, отели канцелярии, отель сокольничий, отель придворных карет, мастерские и магазины мелких развлечений, главная конюшня, малая конюшня, другие конюшни в улице Лимож, в улице Рояль, и в авеню Сен-Клу, огород короля, занимающий двадцать девять садов и четыре террасы, большое общежитие на две тысячи лиц, дома и отели называемые «Людовиковы», в которых король помещает разных лиц на время или навсегда, но при помощи слов написанных на бумаге, нет возможности дать физическое впечатление колоссальности.
В настоящее время от этого Версаля, приноровленного к другим требованиям, остались одни обломки; однако, посмотреть его стоит. Взгляните на эти три аллеи, которые сходятся вместе на большой площади, сорок туазов в ширину, четыреста в длину, [33] они не казались слишком просторными для многолюдной толпы, для движения экипажей, для головокружительной быстроты эскортов, мчащихся позади карет; посмотрите на стоящие против дворца две конюшни, с их решетками длиною в тридцать два туаза, стоивших в 1682 году три миллиона, т.е. пятнадцать миллионов на теперешние деньги; эти конюшни так, красивы и вместительны, что еще при Людовике XIV там устраивались то кавалькады принцев, то зал для театра, то зал для танцев; проследите затем взглядом расположение гигантской полукруглой площади, которая от решетки к решетке, от двора ко двору идет, поднимаясь и суживаясь, сперва между отелями министров, затем между двумя колоссальными флигелями, чтобы окончиться у величественной стены Мраморного Двора, где, пилястры, статуи, фронтоны, всевозможные сложные украшения целым рядом этажей возносят до небес величественную прямолинейность своих контуров и громоздкую выставку украшений? По словам одного манускрипта дворец стоил 153 миллиона, т.е. приблизительно 750 миллионов на современные деньги; [34] когда король хочет показаться во всем блеске, то он не может жить дешевле. Бросьте теперь взгляд в другую сторону, на сады, и королевское великолепие станет еще более ощутительным. Лужайки и парк являются салоном на воздухе; природа не имеет здесь своего естественного вида; она приноровлена вся для общества; здесь нельзя отыскать места, куда можно было бы уединиться, но все приспособлено для совместных прогулок и церемонных поклонов. Деревья представляют собою стены и обои, подрезанные кустарники изображают вазы и лиры. Эти лужайки не что иное как мягкие ковры. В этих соединенных, прямолинейных аллеях король, с палкой в руке, станет прогуливаться со своей свитой. Шестьдесят дам в платьях с кринолинами, имеющими до восьмидесяти фут в окружности, легко могут разместиться на ступенях этих лестниц. Эти укромные беседки из зелени будут в состоянии скрыть мимолетное любовное увлечение какого-нибудь принца. Под этим круглым портиком, все сеньоры, имеющие доступ во внутренние покои короля, могут любоваться причудливой игрой нового фонтана. Они находят себе подобных даже в мраморных и бронзовых фигурах, населяющих аллеи и бассейны, даже в благородной позе Аполлона, в театральном виде Юпитера, в светскости и деланной небрежности Дианы или Венеры. Даже сами боги — люди их общества. Углубленный путем усилий целого поколения и целого века, отпечаток двора становится настолько сильным, что ложится как на каждую деталь, так и на все целое, как на материальные предметы, так и на произведения ума.
Все это только рамка; до наступления 1789 года она была заполнена. «Не видеть великолепия Версаля, говорит Шатобриан значит ничего не видеть». [35] Это настоящий муравейник ливрей, форм, костюмов, экипажей, не менее блестящий и разнообразный, чем на картине; я хотел бы прожить неделю в этом мире; он был приспособлен для изображения красками для того, чтобы ласкать взор, как сцена в опере. Но как представить себе людей, для которых жизнь была опера? В ту эпоху каждый вельможа должен был иметь большую свиту; его кортеж и роскошь составляют часть его личности; он теряет часть своего значения, если окружает себя роскошью не вполне достойной его; он чувствовал бы себя неловко, если бы у него в доме было пусто, совсем так, как чувствуем мы себя, находя дыру в платье. Если он экономничает, он впадает в опалу; когда Людовик XVI начинает проводить некоторые реформы, двор говорит, что он поступает по-мещански. Как только принц или принцесса входят в возраст, в распоряжение им предоставляют отдельный дом; когда принц женится, для его супруги тоже отводится отдельный дом; под домом нужно подразумевать пятнадцать или двадцать отдельных служб, конюшня, кухня, часовня, гардероб, людская, винный погреб, фруктовая, кухня для прислуги, кабинет, совет, без этого она не чувствует себя принцессой. У герцога Орлеанского 274 должности, у сестер короля 210; 68 у принцессы Елизаветы; 239 у графини д’Артуа; 256 у графини Провансальской; 496 у королевы. Когда нужно было образовать штат королевской дочери, достигшей возраста одного месяца, «королева, пишет австрийский посол, желает устранить вредное влияние бесполезной массы прислуги и всякий вообще повод для порождения чувства гордости. Но, несмотря на сокращение, дом молодой принцессы достигнет приблизительно 80 лиц, предназначенных единственно к услугам королевской особы». Гражданский дом брата короля включает 420 лиц, а военный дом 179; военный дом графа д’Артуа 237, а гражданский 456.
Три четверти служат только для парада; благодаря своим вышивкам и галунам, благодаря их вежливым и учтивым манерам, их внимательному, скромному виду, их красивой манере кланяться, ходить, улыбаться, они ласкают взор, вытянувшись в ряд в прихожей или образуя живописные группы в галереи; я хотел бы даже заглянуть в конюшни и на кухню где находятся фигуранты, заполняющие фон картины. По этому блеску второстепенных звезд судите о великолепии королевского солнца.
Королю нужна гвардия, пехота, кавалерия, телохранители, французские гвардейцы, швейцарские гвардейцы, сотня швейцарцев, легкая гвардейская кавалерия, стражники, 9.050 человек, содержание которых обходится ежегодно 7,1 миллион ливров. Четыре роты французских гвардейцев и две — швейцарских гвардейцев каждый день устраивают парады на дворе министров, между двумя решетками, и когда король выезжает в экипаже в Париж или Фонтенбло — зрелище поражает своей пышностью. Впереди и сзади едут по четыре трубача. Швейцарские гвардейцы, с одной стороны, и французские гвардейцы с другой образуют длинную непроницаемую ограду. Перед лошадьми идет сотня швейцарцев в костюмах пятнадцатого столетия с бердышами, брыжжами, [36] с султаном на шляпах, их просторные куртки сшиты из двух разноцветных материй; рядом с ним гвардейцы превотства с золотыми петлицами, красными отворотами, в костюмах, покрытых драгоценными вышивками. Во всех корпусах офицеры, трубачи, музыканты унизаны золотыми и серебряными галунами и ослепляют своим блеском взор. Литавры, повешенные на луку седла, украшенные раззолоченными и пестрыми узорами годятся для музея; литаврщик-негр французских гвардейцев походит на какое-то страшилище из феерии.
Позади и по бокам кареты бегут телохранители со шпагой и карабином, в красных панталонах, больших черных сапогах, в голубых куртках, украшенные белыми вышивками, все столбовые дворяне: всех телохранителей 1.200 человек, выбранных из дворян и людей податного сословия; некоторые из них одетые в белые казакины с золотыми и серебряными звездами, с их дамасскими бердышами, присутствуют на всех церковных церемониях, стоя вокруг короля и повернувшись к нему лицом: «чтобы со всех сторон иметь наблюдение за его особою». Вот все относительно его безопасности.
Будучи дворянином, он и наездник и потому ему необходимо иметь достойную его звания конюшню. 1857 лошадей, 217 карет, 1458 человек, которых он одевает и ливреи которых обходятся в 540 тысяч ливров ежегодно; кроме того, имеется еще 38 конюхов, главных и обыкновенных; затем, к этому следует добавить 20 гувернеров, помощников гувернеров, учителей, поваров и слуг, предназначенных поучать и служить пажам; кроме того, около тридцати врачей, аптекарей, сиделок, управителей, смотрителей, рабочих, купцов, состоящих на жаловании за оказываемые ими услуги: в общем более 1.500 человек. Ежегодно покупается на 25 тысяч франков лошадей. Для пополнения состава имеются конские заводы в Лилиузине и Нормандии. 287 лошадей ежедневно дрессируются в двух манежах; 443 верховых лошади стоят в малой конюшни, 457 в большой и этого еще не хватает для всех нужд. Все это стоит 4,6 миллионов ливров в 1775 году и достигает 6,2 миллионов ливров в 1787 году. Еще зрелище, которое стоило бы посмотреть воочию, чтобы полюбоваться этими пажами, пикерами, конюшенными мальчиками в галунах, конюшенными мальчиками с серебряными пуговицами, слугами малой шелковой ливреи, музыкантов, берейтеров конюшни.
Пользование лошадью, это феодальное искусство для человека благородного происхождения, это самая естественная роскошь: вспомните конюшни Шантильи, больше похожие на дворцы. Вместо того, чтобы сказать, что это хорошо воспитанный, благородный человек, в ту эпоху говорили: «Это великолепный наездник». И действительно, он только тогда являлся в полном блеске, когда садился на коня такой же благородной крови, как он сам.
Другая страсть дворянина, являющаяся следствием первой? — охота. Она обходится королю от 1,1 до 1,2 миллионов ливров в год, причем для неё требуется 280 лошадей, кроме двух конюшен. Нельзя вообразить себе более разнообразного и более полного охотничьего снаряда: стая для кабана, стая для волка, стая для дикой козы, соколы для кобчиков, соколы для вороны, соколы для сороки, соколы для зайца, соколы для спуска на полях. В 1783 году на корм лошадям израсходовано 179.194 ливра и 53.412 ливров на корм собакам. Вся площадь на десять льё от Парижа принадлежит королевской охоте; поэтому вы видите повсюду куропаток, вполне освоившихся с человеком, мирно клюющих зерню и даже не сторонящихся, когда мимо них кто-нибудь проходит».
Прибавьте к этому охотничьи владения принцев, доходящих Валлера-Коттера и Орлеана; это составит вокруг Парижа почти непрерывающуюся площадь в тридцать льё в окружности, где дичь никем не беспокоимая, множится для удовольствия короля. Один Версальский парк занимает площадь приблизительно в десяти льё. Лес Рабмульё тянется на протяжении 25 тысяч десятин. В окрестностях Фонтенбло встречаются стада оленей от 70 до 80 голов. Перечитывая охотничьи заметки, каждый истинный охотник почувствует зависть. Волчий снаряд выпускается каждую неделю и истребляет до 40 волков ежегодно. С 1743 по 1774 Людовик XV загнал 6.400 оленей. Людовик XVI пишет от 31 августа 1781 года «Сегодня убито 460 штук». В 1780 он положил 20.354 штуки; в 1781 — 20.291; за 14 лет убито 189.251 штук, кроме 1.254 оленей; кабаны и дикие козы истребляются в той же пропорции и заметьте, что все это находится у него под руками, так как его парки примыкают к его дворцам.
Таков действительно характер «благоустроенного дома», т е. снабженного всем необходимым и всеми услугами; в нем все находится под рукой: это целый мир, довлеющий сам себе. Широкая жизнь привязывает и собирает вокруг себя с величайшей предусмотрительностью и мелочной заботливостью все дополнения, которыми она пользуется или могла бы воспользоваться.
Поэтому каждый принц, каждая принцесса имеет свой медицинский факультет, свою часовню; считается неприличным, если священник, служащий для неё обедню, или доктор, ухаживающий за нею во время болезни, будут приглашены от кого-нибудь другого Тем более король обязан иметь своих собственных; к его часовне приставлен штат из 75 лиц: священников, капелянов, духовников, проповедников, клерков, звонарей, певчих, нотных писцов, композиторов священной музыки; к его медицинскому факультету принадлежат 48 медиков, хирургов, аптекарей, окулистов, операторов и химиков. Присоедините к этому еще светскую музыку, 128 певчих, танцовщиков, инструменталистов, учителей и инспекторов; его библиотеку, 43 хранителей, чтецов, переводчиков, граверов, медалистов, географов, переплетчиков, типографщиков; личные состав, присутствующий на торжественных выходах: 62 герольда, оруженосцы и музыканты, личный состав, который несет заботу об его апартаментах: 68 камердинеров провожатых и гоффурьеров. Я опускаю другие должности, я тороплюсь, чтобы поскорее достичь центра, т е. стола, так как именно по нем можно судить о пышности дома.
Каждый день готовятся три разных обеда: первый для короля и его малолетних детей; второй, называемый малый общий, для гофмейстера, главного казначея и для тех принцев и принцесс, которые живут во дворце; третий, называемый большой общий для второго стола гофмейстера, для метрдотелей для священников, для служащих дворян и для лакеев: в общем для этого требуется: 383 человека служащих, 103 лакея, 2.177.771 ливр расхода: кроме этого, ежегодно тратится 388.173 ливра на стол m-me Елизаветы, 1.095.547 ливров на стол сестер короля, итого 3.660.491 ливр. Виноторговец доставляет ежегодно вин на 300 тысяч франков, поставщик съестных припасов присылает на миллион дичи, мяса и рыбы. Только для доставки воды из Вил д’Аврэ и для перевозки слуг и провизии нанимается 50 лошадей за сумму в 70.491 франков в год. Принцы и принцессы крови «имея право посылать во дворец за рыбой в постные дни, когда они не живут во дворце», увеличивают этим расход в 1778 году на 175.116 ливров. Прочтите в Альманахе название должностей и перед вами развернется настоящий пир Гаргантюа, важная иерархия кухни, великие должности стола, метрдотели, контролеры, контролеры-ученики, приказчики, дворяне-хлебодары, конюшие и стража кухни, начальники, помощники, повара, кухонные мальчики, виночерпии, супники, зеленщики, пирожники кондитеры, официанты, хранители серебра, вертелщики, дворецкий первого дворецкого, целая процессия широких покрытых галунами спин, величественных животов, серьезных лиц, служащих в порядке и с убеждением вокруг кастрюль и буфетов.
Еще шаг и мы войдем в святилище, в апартаменты короля. Там имеется два главных должностных лица, у каждого из которых в распоряжении находится до ста подчиненных, с одной стороны, обер-камергер с первыми придворными чинами, с дворцовыми пажами, их гувернерами и чинами, с швейцарами, с четырьмя главными ординарными лакеями, с шестнадцатью младшими дежурными лакеями, с епанченосцами ординарными и дежурными, с брадобреями, обойщиками, часовщиками, гарсонами и привратниками; с другой стороны, — обер-гофмейстер, с кастелянами, с лакеями гардероба, с портными, смотрителями над бельем, крахмальщиками, с лакеями, с придворными чиновниками, со сторожами и секретарями кабинета, в общем 198 лиц для внутренней службы и такое же число служащих для разных обязанностей по присмотру за роскошной мебелью, за украшениями апартаментов. Есть отдельные служащие для посылки и получения писем и посылок для держания плаща и палки, для причесывания короля, для вытирания его после принятия ванны, для управления мулами, которые перевозят его кровать, для присмотра за его комнатными левретками, для складывания, продевания и завязывания его галстука, для уборки его судна, [37] особенно много было таких, служба которых заключалась в том, чтобы находиться на указанном ему месте и заполнять собою угол, который иначе оказался бы пустым. Конечно, что касается выправки и ловкости, то они были безупречны; находясь в такой близости от повелителя, они были обязаны выказывать эти качества; в таком соседстве их манеры не могли быть неловкими.
Таков дом короля, и я описал только одну из его резиденций; всех же их около дюжины, кроме Версаля есть еще Марли, два Трианона, Мюет, Шуази, Сен-Обер, Сен-Жермэн Фонтенбло, Компьен, Сен-Клу, Рамбулье, не считая Лувра, Тюйлери и Шамбора с их парками, охотничьими территориями, с их губернаторами, инспекторами, контролерами, консьержами, фонтанщиками, садовниками, метельщиками, полотерами, лесничими, кротоловами, верховыми и пешими сторожами, в общем более тысячи лиц. Конечно, король ремонтирует, строит, сажает; на это он расходует 3 или 4 миллиона в год. Конечно, он подновляет или переделывает свою мебель; в 1778 году, который является одним из средних по расходу, это стоило ему 1.936.853 ливра. Конечно, он также приглашает гостей, которые живут у него на всем готовом вместе с их людьми: в Шуази, в 1780 году, кроме обедов для бедных, накрывается 16 столов на 345 персон; в Сен-Клу, в 1785 году, 26 столов; «путешествие в Марли на 21 день обходилось в 120 тысяч ливров чрезвычайных расходов»; путешествие в Фонтенбло стоило до 400 тысяч ливров и даже до 500 тысяч. В среднем, эти переезды обходятся в полмиллиона и более.
Чтобы окончить описание этой расточительной пышности, следует еще напомнить, что «ремесленники и купцы всех цехов и корпораций обязаны, вследствие их привилегии, следовать за двором» во время его путешествий, дабы доставлять повсюду: «аптекарей, оружейников, мастеров шелковых и шерстяных чулок, мясников, булочников, кружевников, кабатчиков, чеботарей, изготовителей поясов, свечников, шапочников, колбасников, хирургов, сапожников, позументщиков, поваров, позолотчиков и граверов, шпорников, кондитеров, лоскутников, обделывателей клинков, парфюмеров, перчаточников, часовщиков, книготорговцев, белошвей, виноторговцев оптовиков и розничных столяров, ювелиров, пергаментщиков, позументщиков, поваров для жарения дичи и рыбы, поставщиков сена, соломы и овса, торговцев железом, шорников, портных, хлеботорговцев, зеленщиков-фруктовщиков, стекольщиков и инструментальных мастеров». Можно подумать, что двигается какой-нибудь восточный двор; когда он начинает приходить в движение, то следует, если хочешь уехать, запасаться местом в почтовой карете заранее». В общем к гражданской части дворца принадлежит около 4 тысяч лиц, к военной части — 9–10 тысяч лиц и около 2 тысяч находятся в свите его близких итого приблизительно 15 тысяч человек, содержание которых стоит от 40 до 45 миллионов, что составляет десятую часть общего дохода. Вот центральная часть монархического блеска. Как ни велика, как ни расточительна она, она все же только соответствует своему назначению, после того как двор превратился в общественное учреждение, а аристократия, не имея серьезного дела, занимается только посещением салона короля.
Две причины заставляют наполнять этот салон: одна является формой, сохранившейся с феодальных времен, другая зародилась вследствие новой централизации; одна заставляет дворянство служить королю, другая же — превращает дворян в просителей.
Вследствие исполнения разных обязанностей при дворе, все высшее дворянство живет у короля. Главный духовник, г-н де-Монморанси-Лаваль, епископ Метцский; первый духовник, г-н де-Бессюежуль де-Роклор, епископ Санлисский; маршал Франции, принц Кондэ; обер-гофмаршал, граф де-Кар; гофмаршал обыкновенный, маркиз Мондрагон; первый хлебодар, герцог де-Брисак; главный кравчий, маркиз де-Вернёль; первый стольник, маркиз де-ла-Шеснэй; первые камер-юнкеры: герцоги де-Ришелье, де-Дюрфор, де-Вилькье, де-Флёри; обер-камергер де-ла-Рошфуко-Лианкур; камергеры: граф де-Буажелэн и маркиз де-Шовлэн; главный сокольничий, шевалье де-Форже; начальник кабаньей охоты, маркиз д’Эквилли; главноуправляющий зданий, граф д’Анживиллэ; обер-шталмейстер, принц де-Ламбеск: обер-егермейстер, герцог Пантьеврский; обер-церемониймейстер, маркиз де-Брезе́; обер-гоффурьер, маркиз де-ла-Суз; начальники охраны: герцоги д’Эиан, де-Вильруе, де-Брисак д'Эгильон и де-Бирон, принцы: де-Куа, де Люксембург, и де-Субиз; управляющий дворцом, маркиз де-Турзель; губернаторы резиденций и начальники охот, герцог де-Ноэйль, маркиз де-Шансанетц; барон де Шапло, герцог де-Куаньи, граф де-Моден, граф де-Монморж, герцог де-Лаваль, граф де-Бриен, герцог Орлеанский, герцог Жеврский. Все эти господа являются как бы членами семьи короля, его постоянными гостями, занимающими свои должности по наследству, живущие у него, ежедневно, составляющие его общество, потому что они — «свои люди» [38] и несут для него домашнюю службу. Прибавьте к этому еще столько же лиц, состоящих при королеве, при принцессе Елизавете, при графе и графине Провансальских, при графе и графине д’Артуа.
И это только высшие чины; если подсчитать число дворян, исполняющих низшие должности, то мы увидим, что еще имеется 68 духовников и капелянов, 170 камер-юнкеров или слуг, 117 конюших и егерей, 148 пажей, 114 титулованных фрейлин кроме того, все офицеры до самого младшего, не считая 1.400 простых гвардейцев, удостоверенных генеалогистом и потому допущенных к службе ко двору. Таково постоянное общество на королевских приемах; отличительной чертой режима является то обстоятельство, что слуги вместе с тем бывают и гостями и что передняя имеет доступ в салон.
Это происходит не потому, чтобы салон не было кем наполнить. Будучи источником всяких милостей и повышений, он, конечно, набит битком; в нашем уравненном обществе; салон мелкого депутата, посредственного журналиста, модницы — полон придворными, прикрывающимися именем друзей или посетителей.
Но здесь присутствие вменяется в обязанность; можно сказать, что это является как бы продолжением воздавания древних и феодальных почестей; главный штаб дворян составляет свиту своему природному начальнику. На языке эпохи это называется «воздавать должное королю». В глазах властителя отсутствие их было бы признаком независимости, а также равнодушие и небрежности.
В этом отношении нужно взглянуть на учреждение с его зародыша. Людовик XVI успел видеть всех «при своем вставании, при раздевании во время обедов, проходя по своим апартаментам, в своих садах: никто не мог укрыться от него даже те, которые не надеялись быть им замеченными; тот мог быть уверен, что попадет в опалу, кто никогда не появлялся при дворе». С древних времен первые лица королевства, мужчины и женщины, духовные и светские, считали главным занятием своей жизни, настоящей работой, быть всегда, каждый час на глазах короля. «Кто считает, — говорит Ла-Брюйер, — что лицо принца составляет все счастье придворного, что он только тем и занимается, чтобы видеть и его и быть виденным им, тот поймет, что лицезрение Бога составляет все счастье и славу святых». Отсюда та удивительная преданность и рачительность. Каждое утро в семь часов, зимой и летом, герцог де-Фронсак, по приказанию своего отца, находился внизу лестницы, ведшей в часовню, единственно чтобы подать руку м-м де-Мэнтнон, уезжавшей в Сен-Сир. «Извините меня, мадам, — писал ей герцог Ришелье, что я осмеливаюсь отправить вам письмо, которое пишу королю, умоляя его на коленях разрешить мне приезжать иногда к его двору, так как я готов скорее помереть, чем прожить два месяца, не видев его». Истый придворный следует за принцем, точно тень за человеком; таков был при Людовике XV герцог де-Ла-Рошфуко, «в продолжение сорока лет он и двадцати раз не выезжал из Парижа, если там в то время находился король». Если позднее при менее требовательных королях и при общем упадке нравов в XVIII веке эта дисциплина ослабла, дворец, тем не менее, по традиции, наполнялся придворными. Приблизиться к королю, быть слугою в его доме, сторожем, лакеем является привилегией, которую покупают даже в 1789 году за тридцать, за сорок и за сто тысяч ливров; но самой полезной, самой почетной и завидной из привилегий — это составлять общество короля. Прежде всего это служит доказательством высокого происхождения Мужчина, участвующий в королевской охоте, женщина, представленная королеве, должны вести свой род от 1400 года. Затем это даёт возможность составить капитал, только в салоне короля можно получать милости; вследствие этого до 1789 года дворянские семьи постоянно проживали в Версале. Лакей маршала Ноэля однажды вечером сказал ему: «В котором часу прикажете разбудить вас завтра?» — «В десять часов, если ночью никто не помрет». Многие из придворных, достигших восьмидесятилетнего возраста говорили, что они провели сорок пять лет на ногах в приемных короля, принцев и министров. «Вам нужно делать только три вещи, — говорил один из них начинающему, говорите хорошо о всех, просите все, садитесь, когда можете».
Вот почему вокруг принца всегда толпа. 1 августа 1773 года графиня дю-Барри представляла свою племянницу, причем свита была так многочисленна повсюду, где происходило это представление, что даже в прихожих с трудом можно было протиснуться. В декабре 1774 года в Фонтенбло, где по вечерам королева устраивала игру, обширное зало едва вмещало присутствующих. «Давка была так сильна, что можно было вести разговор только с двумя или тремя лицами, с которыми велась игра». На приемах послов четырнадцать апартаментов набиты битком разодетыми мужчинами и женщинами. 1 января 1775 года королева «насчитывала более двухсот женщин, представленных ко двору». В 1780 году, в Шуази, ежедневно накрывался стол на тридцать приборов для короля, другой на тридцать приборов для придворных, кроме сорока приборов для гвардейских офицеров и конюших и кроме пятидесяти приборов для служащих во внутренних покоях.
Я считаю, что при пробуждении и отходе ко сну, во время прогулок, на охоте, при игре, короля окружают, кроме лакеев, по крайней мере, сорок или пятьдесят дворян, чаще же сто и столько же дам; в Фонтенбло в 1756 году, хотя «в этом году не было ни балов, ни балетов, насчитывалось сто шесть дам». Когда король устраивает игру или танцы в стеклянной галерее, вокруг игорных столов собираются от четырехсот до пятисот приглашенных. Вот зрелище, которое бы стоило посмотреть, но не при помощи воображенья или неполных текстов, но собственными глазами и на месте, чтобы понять дух, влияние, триумф монархической культуры; в доме высшего общества салон является главной комнатой и во всем доме нет лучше его. С украшенного скульптурными изображениями и населенного порхающими амурами свода, спускаются в виде цветочных гирлянд, пылающие люстры, блеск которых умножают высокие зеркала; огни целым потоком горят на позолоте, на бриллиантах, на остроумных и веселых головах, на красивых корсажах, на чудовищных платьях. Группы дам, стоящих кружками или сидящих на маленьких скамьях, «образуют богатую выставку жемчуга, золота, серебра, драгоценных каменьев, цветов, плодов с их цветами, искусственных вишен, малины», — это гигантский живой букет, слепящий глаза своим блеском. Черных одежд, какие носят в наше время, нет совершенно. В напудренных париках, с буклями и косичками, в кружевных галстуках и манжетах, в шелковой одежде нежно-розового и бледно-голубого цвета с серебряным шитьем и золотыми галунами, мужчины столь же нарядны, как и женщины. Мужчины и женщины, подобраны один к одному — это все люди самого высшего света, обладающие всеми качествами, которые могут дать рождение, воспитание, богатство, праздность и привычка; в своем роде они совершенство. Здесь нет ни одного туалета, ни одной формы головы, ни одного звука голоса, ни одного оборота речи, которые не были бы совершенством светской культуры, квинтэссенцией всего, что может выработать изящного социальное искусство. Как бы ни было утонченно парижское общество, оно не похоже на это; в сравнение со двором оно кажется провинциальным. Нужно сто тысяч раз, как говорят, для того чтобы выработать один золотник той единственной эссенции, которую употребляют персидские короли; таков и этот салон, маленький флакон из хрусталя и золота; он содержит в себе субстанцию человеческой растительности. Чтобы наполнить его, сперва потребовалось, чтобы высшая аристократия, пересаженная в жаркую теплицу и ставшая отныне бесплодной, приносила бы только цветы, затем, чтобы её профильтрованная часть концентрировалась бы в нескольких каплях аромата. Цена велика, но только за эту цену можно сделать чрезвычайно тонкие духи.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
