
Эксизтенциональная сага «Корсария», или побег из Салалы.
Kage no itami utau
Asu mo tsuzuminaru
Mune ishi wa tsuyu
(Тень пропела боль.
Завтра — снова барабаны.
Камень в груди — рос)
DANISE LAPKIN
2025
Глава I: Сон и Воронежский Привет
Корсар проснулся от того, что в его ухе копошился палец. Не
просто палец — тонкий, грязный, с обгрызенным ногтем, словно
его владелец пытался выковырять из слухового прохода какую-то
государственную тайну, но неосторожно, оставив острые
заусенцы. Боль была не резкой, а назойливой, как долгий зимний
вечер в коммуналке, где сосед за стеной учит играть на баяне.
Он открыл глаза.
Перед ним сидел пацан. Лицо — карта нищеты, зубы — как
развалины Вердена, глаза — два уголька, выпавших из печки
истории.
— Оу фа… это я, я… Воронежский Привет… — пробормотал пацан.
Голос его звучал так, будто его склеили из вчерашних пельменей
— холодных, липких, слегка подтаявших по краям.
Корсар вскочил с койки с той же резкостью, с какой когда-то
покидал тонущие корабли. Рука сама выписала дугу — сочный, звонкий лещ. Воронежский Привет отлетел к двери в сортир и
бесшумно осел на кафель, как мешок с костями.
— Вставай! — рявкнул Корсар. В голосе не было злости, лишь
усталое удовлетворение от действия, как у человека, который
давно привык бить первым.
Пацан прижался щекой к холодной плитке, судорожно втягивая
воздух. Ловил запах? Казачьей вольницы? Или просто аромат
козьих катышков, закатившихся под раковину?
— Нефочу мне туфа форофо… — выдохнул он, стеная.
Корсар потер ухо, пытаясь выскрести остатки сна и этого
абсурдного вторжения. Рыгнул — автоматически, для очистки
совести. Взгляд стал жестким, сфокусированным.
— Кто ты такой?
Ответ пришел не звуком, а бумагой. Серой, жесткой, отмеренной
рулоном в общественных нужниках. На ней дрожащей рукой было
выведено:
«Воронежский Привет»
— Воронежский… Привет? — Корсар перечитал, будто не веря
глазам.
— О фа фа, я Воронежский Привет… — подтвердил пацан, расширяя границы нелепости до размеров Вселенной.
Корсар замер. Секундная пауза наполнилась дымом дешевой
папиросы и тяжестью непонимания. Потом, отрезано:
— Имя — как вчерашний суп. Даже тараканы в углах не станут его
обсуждать. Позорно.
— У фебя не луфе, — тонко парировал Воронежский Привет. И
пукнул. Случайно, но с убийственной точностью попадания в
диссонанс момента.
Метафизическая наглость этого жеста переполнила чашу. Корсар
вцепился в облезлую, когда-то белую, а ныне уриново-желтую
рубашонку и швырнул пацана на койку. Тот упал, свернулся
калачиком и мгновенно уснул. Просто. Без вопросов. Как будто его
миссия — быть разбуженным и назваться Воронежским Приветом
— была выполнена.
Корсар сел на край койки, уставился в потолок, покрытый
трещинами и пятнами сырости.
«Ни черта не понял, — подумал он. — Но, наверное, никто бы не
понял. В этой проклятой жизни редко что имеет смысл.»
Глава II: Аэропорт, Пес и Карамелька
Шереметьево.
Гул, как в улье перед бурей. Люди неслись куда-то с
остервенением загнанных зверей. Корсар стоял посреди этого ада, чувствуя себя выброшенным на берег после долгого, пьяного
рейса.
Рядом, на поводке, нервно топтался розовый пудель невероятных
размеров по кличке фон вайсберг. На плече Корсара сидела
крошечная, ярко-желтая карамелька в виде птички — Карамелька
Первая. Его «страховка». Его абсурдный багаж.
Именно вокруг этого багажа разгорелся скандал у стойки
регистрации.
Агентша с лицом, как у бульдога, раздавленного катком, тыкала
пальцем в правила.
— Животные требуют оформления! Страховки! Ветеринарных
сертификатов! Особенно экзотические!
— Страховка? — Корсар хрипло рассмеялся, выпуская клуб дыма.
— Вот она! — Он похлопал по потертому рюкзаку за спиной. —
Гречка. Первосортная. Лучшая страховка в мире. От голода, от
радиации, от дурацких вопросов.
— Это не страховка, это крупа!
— А вы попробуйте голодать без нее. Тогда поймете, что
настоящая страховка — это не бумажка, а полный желудок.
Агентша замерла, словно ее мозг не мог вместить такой уровень
циничного прагматизма.
В этот момент к стойке подошел человек.
Глава III: Появление Ржевского и Баэля
Высокий, подтянутый, в безупречном, хоть и слегка поношенном, френче поручика царской армии. Усы — эталон щегольства. Глаза
— холодные, как февральская Нева.
Поручик Ржевский.
Он оценивающе окинул взглядом сцену, Корсара, розового пса, карамельку и мешок гречи.
— Проблемы с грузом, капитан? — голос у него был бархатистый, с
легкой хрипотцой.
— Страхуют тут, — буркнул Корсар. — От жизни. Глупо.
Ржевский усмехнулся уголком губ.
— Согласен. Но иногда бумажка, даже дурацкая, открывает двери.
Тень легла на них. Не от колонны или рекламного щита. Тень была
плотной, холодной, словно вырезанной из куска арктической
ночи. Они обернулись.
Человек? Почти. Одежда — дорогой, но вневременной крой. Лицо
— необычайно правильное, но лишенное возраста. Глаза — два
куска обсидиана, в которых горел холодный, нечеловеческий
огонь. Мессир Баэль. Он парил над суетой аэропорта, как ястреб
над курятником.
— Интересное общество, — произнес он. Голос был тихим, но
прорезал гул терминала, как лезвие по шелку. — Пират времен
упадка. Аристократ без королевства. Звери… в не своей шкуре. И
гречневая крупа как философия выживания. Поэтично. В своем
роде.
Он подошел ближе. От него веяло запахом старых книг, пыльных
дорог и чего-то горького, как полынь. Его взгляд скользнул по
Корсару, задержался на Ржевском, с легким презрением коснулся
розового пса и Карамельки
— Корсар, — произнес Баэль, обращаясь к нему напрямую. И в
этом имени прозвучало нечто большее, чем просто кличка.
Звучало признание. И предупреждение. — Имя, за которым
тянется шлейф… неудобных вопросов. Пиратство — занятие
рискованное. Особенно когда законы меняются быстрее, чем
ветер в парусах. Особенно когда везешь… необычный груз. — Его
взгляд скользнул к зверям и мешку.
Ржевский насторожился. Он почуял опасность, исходящую от этого
холодного совершенства. Пес заскулил. Карамелька спрятала клюв
под крыло.
— Законы? — Корсар плюнул на сияющий пол. — Для таких, как я, закон — это кильватерный след. Остается позади. А груз… груз
всегда необычный. Иначе зачем его везти?
Баэль медленно кивнул, будто ожидал именно такого ответа.
— Берегите гречку, господа, — сказал он загадочно. — Времена
грядут голодные. И не только на хлеб. — Он сделал паузу, его
черные глаза впились в Корсара. — И помните: корсары редко
заканчивают путь в гавани. Чаще — на рифах. Или на виселицах. Это
закон жанра. Жанра жизни.
— Интересное общество, — произнес он.
Глава IV: Диалог о Страховке и Морали
— Гречка, — сказал Корсар, — надежнее любой страховки.
— Но гречку можно отнять, — заметил Ржевский.
— А страховку — оспорить.
— Значит, все бессмысленно?
— Нет. Значит, единственная страховка — это готовность ко всему.
Баэль наблюдал за ними, как за игрой в шахматы, где фигуры
двигались сами по себе.
Эпилог: Ария Баэля и Ржевского
Когда они скрылись в самолете, Баэль заговорил:
«Hört, ihr Getier, vom Rand der Zeit…»
Ржевский усмехнулся.
— Ну и ну. Даже демоны теперь стихи читают.
— А что, поручик, вам больше нравятся анекдоты?
— Конечно. Вот, например.
Приходит мужик в магазин, спрашивает: «У вас гречка есть?»
«Нет», — отвечает продавец.
«А страховка есть?»
«Есть».
«Ну тогда гречка есть».
Корсар фыркнул.
Гречка осталась с ними.
Как и Воронежский Привет.
Как и абсурд.
Объявили посадку. Последний акт терминальной драмы. Корсар, отбившись от назойливых агентов с помощью нахрапа, цинизма и
демонстративного поедания горсти сырой гречи, двинулся к
выходу на посадку. Ржевский шел рядом, держа в руках поводок
(пес неожиданно привязался к поручику). Карамелька сидела на
плече Корсара, как желтое напоминание об абсурдности всего
предприятия.
Мессир Баэль наблюдал за ними со стороны, слившись с тенью у
огромного окна, за которым ревели стальные птицы. Его лицо
было непроницаемо.
— Пират, — пробормотал Ржевский, глядя на Корсара впереди. —
И вправду пират. Видно за версту. И не в ладах ни с каким
законом, кроме своего. Интересно, куда он нас ведет? И зачем
этим зверям гречка?
Корсар не оглядывался. Он шел к самолету, к новому рейду, к
новым неизвестным водам этого безумного мира. Мешок с
гречкой надежно давил на плечо. Лучшая страховка. Гораздо
надежнее бумажек с печатями. Надежнее законов. Надежнее
всего, кроме собственной шкуры и удачи.
Он чувствовал на себе взгляд Баэля. Холодный, всевидящий.
Взгляд, знающий конец истории еще до ее начала. Но Корсар
привык плыть против течения. Против ветра. Против законов и
предсказаний. Даже демонов.
Эпилог: Поэма у Взлетной Полосы
Когда они скрылись в тесном чреве лайнера, Мессир Баэль, все
еще стоявший у окна, тихо заговорил. Не по-русски. На языке Гёте, Шиллера и Фауста. Слова лились размеренно и торжественно, как
стихи в старой книге, но несли в себе ледяное предостережение:
«Hört, ihr Getier, vom Rand der Zeit,
Ein Warnung spricht der Dämon heut: Der Korsar, den ihr glaubt zu kennen,
Trägt Ketten, die man nicht verbrennt.
Sein Schiff fährt nicht auf klaren Wogen, Dort, wo die Meuterei gesogen
Das Licht der Sonne. Schatten segeln
Mit ihm. Sein Herz? Ein hartes Siegel.
Er ist ein Freibeuter der Nacht,
Dem Recht und Ordnung nichts vermacht.
Sein Weg endet nicht im Hafen,
Doch an des Schafotts schwarzen Stufen.
Nehmt eure Körner, kleine Brut,
Doch hütet euch vor seiner Flut!
Denn seine Seele, kalt und frei,
Ist wie das Eis auf wildem See —
Sie trägt, bis sie zerbricht.»
(Слушайте, звери, с края времен,
Предупреждение демон шлет ныне:
Корсар, которого вы знаете,
Носит цепи, что не сжечь в огне.
Его корабль не по ясным волнам идет,
Там, где мятеж глотнул
Солнечный свет. Паруса теней,
Плывут с ним. Сердце его? Твердая печать.
Он — флибустьер ночи,
Кому закон и порядок — ничто.
Путь его не кончится в гавани,
Но у черных ступеней эшафота.
Берите свои зерна, малая поросль,
Но берегитесь его потопа!
Ибо душа его, холодна и вольна,
Как лед на диком озере
Держит, пока не сломается.»)
Стихи отзвучали, растворившись в грохоте взлетающего Боинга.
Мессир Баэль повернулся и медленно пошел прочь, его фигура
таяла в толпе, как призрак. Оставив лишь эхо предупреждения и
горьковатый запах полыни над сияющим, бессмысленным полем
аэропорта. Звери были предупреждены. Но самолет уже набирал
высоту, унося пирата, аристократа, розовую нелепость и желтую

крошку в небо, навстречу новым, непредсказуемым водам. С
мешком гречи как якорем и талисманом в этом безумном, летящем в пропасть мире.
Глава V Рюкзак и Куклы
Рюкзак лежал на коленях у Корсара, как труп. Тяжелый, набитый
до отказа, с потертыми лямками, которые впивались в плечи, словно напоминая: ты везешь не просто груз — ты везешь
историю.
Внутри — куклы.
Не обычные. Не те, что дарят детям на Новый год. Эти куклы были
особенными. Слишком реалистичными. Слишком… живыми. Их
стеклянные глаза смотрели сквозь ткань рюкзака, будто знали что-то, чего не знал даже Корсар.
— Вы что, в куклы играете? — пробормотал сосед, толстый
мужчина в костюме, от которого пахло дешевым одеколоном и
страхом перед полетом.
Корсар посмотрел на него, не мигая.
— Это не куклы. Это страховка.
Мужчина замер, потом фыркнул и отвернулся к иллюминатору.
Самолет гудел, как улей перед грозой. Воздух внутри был густым, пропитанным запахами:
— Синтетический ковер — старый, въевшийся, как память о тысячах
ног.
— Антисептик — резкий, навязчивый, словно попытка стереть следы
всех, кто здесь был до них.
— Курица с пюре — единственное блюдо, которое подавали на
этом рейсе. Оно пахло тоской.
Корсар ковырял вилкой в безвкусной массе.
— Это не курица, — сказал он вслух. — Это метафора.
— Что? — сосед снова обернулся.
— Ничего.
Рюкзак на его коленях слегка дрогнул.
В Дубае их встретила жара. Густая, как сироп, обволакивающая, как одеяло из песка.
А еще — она.
Барабанщица.
Высокая, в кожаном жилете, с барабаном, который висел у нее на
ремне, как оружие.
— Корсар? — спросила она, не улыбаясь.
Он кивнул.
— У тебя есть то, за чем я пришла.
— У меня много чего есть.
— Я говорю о страховке.
Корсар потрогал рюкзак.
— Она у меня.
Барабанщица ударила в барабан. Один раз. Громко.
— Тогда начнем.
Они стояли на крыше небоскреба. Внизу — город, сверкающий, как расколотый алмаз.
— Зачем тебе куклы? — спросил Корсар.
— Они не куклы, — ответила Барабанщица. — Они — души.
— Чьи?
— Тех, кто потерял страховку.
Корсар засмеялся.
— Значит, я вез мертвецов в рюкзаке?
— Нет. Ты вез их шанс вернуться.
Она снова ударила в барабан.
Рюкзак на плече Корсара вдруг стал легче.
Эпилог:
«Hør min sang, du som vandrer i skyggene, (Hør min fortelling om ryggsekken og dukkene.) De hadde ingen forsikring,
(Bare et håp om å bli husket.)
Nå danser de i Dubai,
(Mens trommeslageren spiller for dem.)
Og ryggsekken?
(Den er tom.)»
(«Услышь мою песню, ты, кто бродит в тенях, (Услышь мою сагу о рюкзаке и куклах.)
У них не было страховки,
(Только надежда быть помянутыми.)
Теперь они танцуют в Дубае,
(Пока барабанщица играет для них.)
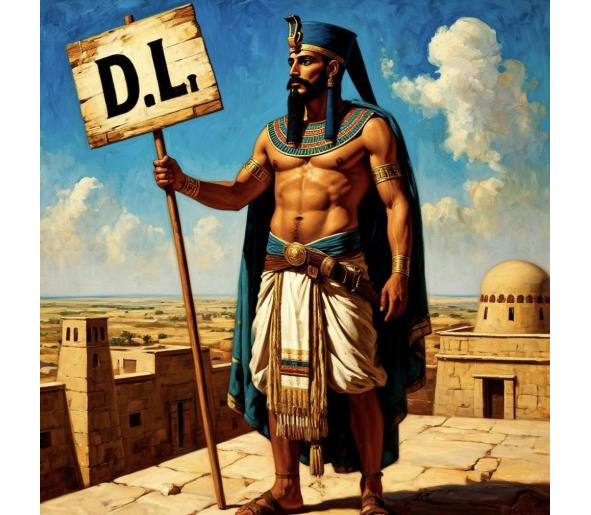
А рюкзак?
(Он пуст.»)
Корсар стоял на краю крыши, слушая, как ветер уносит последние
слова.
Рюкзак был пуст.
Но где-то внизу, среди огней Дубая, куклы наконец-то танцевали.
И барабан бил в такт.
Глава VI
Рюкзак и его немой укор
Рюкзак лежал на кровати, как старый пес, который знает, что его
вот-вот бросят. Его швы растянулись от тяжести не столько вещей, сколько воспоминаний. Лямки обвисли, как руки пьяницы на
рассвете, а молния — та самая, что когда-то блестела новизной, —
теперь заедала на середине, словно отказываясь открывать то, что
внутри.
Корсар сидел напротив, курил и смотрел на него сквозь сизый
дым.
— Ну что, — сказал он наконец, — опять везешь дерьмо?
Рюкзак молчал. Но его молчание было красноречивым. Оно
говорило: Да. И ты это знаешь.
— Опять эти куклы?
Молчание.
— Они воняют, — продолжил Корсар, прищурившись. — Ты
чувствуешь? Они пахнут старыми похоронами. Теми, на которых
никто не плачет, потому что все уже выплакали глаза.
Рюкзак слегка пошевелился, будто хотел возразить.
— Не спорь. Я знаю запахи. Я знаю запах гниющих надежд, и у этих
кукол он есть.
Рюкзак сдался. Он лежал, покорный, как мешок с песком перед
волной.
— Хорошо, — вздохнул Корсар, с силой затягиваясь. — Но если
опять начнут шевелиться — выброшу.
Карамелька Калдиночка лежала на столе, завернутая в
промасленную бумагу от бутербродов, которые никто не ел. Она
была липкой, чуть подтаявшей по краям, и от нее исходил
сладковатый запах, который смешивался с запахом меда и старых
книг — тех самых, что давно никто не открывал.
Корсар развернул ее, поднес к свету.
— Ты тоже часть этой страховки, да?
Калдиночка не ответила. Но в ее сахарных глазах было что-то
знающее.
Она была из Санкт-Петербурга. Не просто карамелька, а питерская
карамелька — с историей, с претензией, с легким налетом
декадентства. Она помнила набережные, туманы, поэтов, которые
когда-то рассуждали о вечном, а теперь продавали носки на
рынке.
Вдруг — барабанная дробь.
Негромкая, но отчетливая. Как будто кто-то бил в барабан где-то
за стеной, в соседней комнате, где уже три года никто не жил.
Корсар замер.
— Опять?
Калдиночка молчала. Но ее липкая поверхность вдруг стала чуть
теплее.
Барабанная дробь — это была ее подруга. Невидимая, но верная.
Они вместе устраивали забастовки, когда страховка отсутствовала.
— Вы что, опять бастуете? — спросил Корсар, сжимая карамельку
в руке.
Калдиночка слегка подтаяла — это был ее способ улыбнуться.
Барабан застучал громче…
Ржевский сидел в баре, пил что-то крепкое и смотрел на Корсара с
тем выражением, с каким смотрят на человека, который вот-вот
наступит на гранату.
— Ты везешь кукол?
— Да.
— Опять?
— Да.
Ржевский вздохнул, достал из кармана монету. Старую, потертую, с почти стертым профилем какого-то забытого короля.
— Возьми.
— Зачем?
— Это монета моего отца. Она приносит удачу.
— У твоего отца удачи не было.
— Потому что он ее потерял.
Корсар взял монету. Она была холодной, как память.
— Если куклы начнут шевелиться, — сказал Ржевский, — брось ее.
— И что?
— И беги.
Ржевский откинулся на спинку стула, закурил.
— А лучше вообще не везешь их.
— Деньги уже взял.
— Какие деньги?
— Те, что дали за страховку.
— А страховки нет?
— Нет.
Ржевский закатил глаза.
— Ну, тогда хотя бы выпей.
Он махнул официанту, и тот принес две рюмки и бутылку чего-то
мутного…
Куклы лежали в рюкзаке.
Их было шесть.
Одна — с лицом старухи, вторая — с лицом ребенка, третья — с
лицом солдата, четвертая — с лицом пьяницы, пятая — с лицом
женщины, которая когда-то пела в кабаках, шестая — без лица
вообще.
Корсар разложил их на столе.
— Ну что, — сказал он, — кто из вас застрахован?
Куклы молчали.
Но безликая слегка пошевелила рукой.
Корсар посмотрел на монету Ржевского.
— Черт.
Барабанная дробь за стеной усилилась.
Калдиночка растаяла еще сильнее.
Розовый пес сидел в углу и смотрел на Мессира Баэля.
— Ты знаешь, что они делают? — спросил пес.
— Знаю, — ответил Баэль.
— И что?
— Ничего.
— Почему?
— Потому что страховки нет.
Пес задумался.
— А если бы была?
— Тогда все было бы иначе.
— Но ее нет.
— Нет.
Пес вздохнул.
— Жаль.
Ржевский налил шампанского в бокал и поставил его перед
группой карамелек.
— Пейте, — сказал он.
Карамельки зашевелились.
— Мы не пьем, — сказала одна.
— Почему?
— У нас нет страховки.
Ржевский рассмеялся.
— Какая разница?
— Мы можем раствориться.
— А без шампанского?
— Тоже.
— Тогда пейте.
Карамельки задумались, а потом начали медленно таять в бокале.
Эпилог:
В конце все собрались в кругу.
Корсар, Ржевский, Баэль, розовый пес, карамельки и даже куклы.
И запели:
«La vie est courte,
La vodka est forte,
Les poupées dansent,
Et le chien rit!»
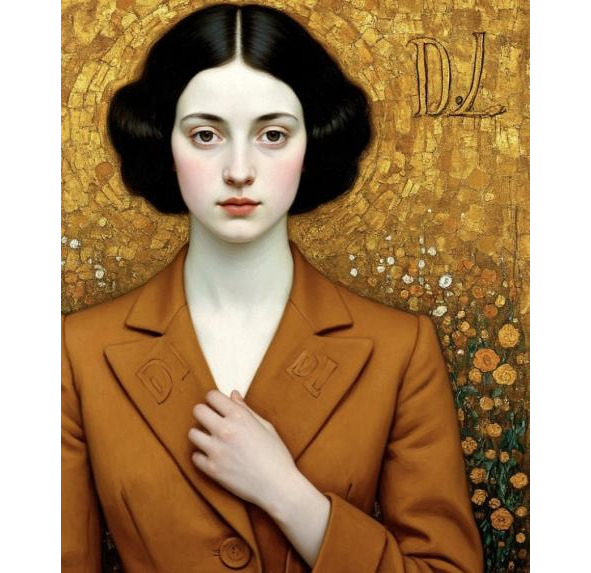
(«Жизнь коротка,
Водка крепка,
Куклы танцуют,
А пес смеется!»)
Безликая кукла протянула руку к Корсару.
Монета упала на пол.
Барабанная дробь стихла.
Калдиночка исчезла.
А рюкзак лежал на полу, как старый пес, который знает, что его
все-таки бросили…
Книга вторая: Барабанная дробь в Салале
Глава VII
День I. Автобус и «Конюшни»
Автобус не приезжал.
Солнце Омана, тяжелое и жирное, как расплавленный свинец, висело в небе, выжигая последние следы тени. Асфальт плавился, превращаясь в черную, липкую пасту, вязкую, как смола. Воздух
дрожал, насыщенный запахом моря — не свежего, нет, а старого, застоявшегося, словно вода в забытом ведре рыбака.
Корсар стоял, прислонившись к выцветшей рекламе соков, чьи
краски давно выцвели под натиском солнца и времени. Он курил, выпуская дым тонкими струйками, наблюдая, как он смешивается
с испарениями раскаленного асфальта. Сигарета была дешевой, отдавала бумагой и химией, но он затягивался глубоко, будто
пытался втянуть в себя весь этот мир — грязный, жаркий, безнадежный.
— Где этот проклятый автобус? — раздался голос сзади.
Корсар не обернулся. Он знал, что ответа нет. Вместо этого он
хрипло пробормотал:
— Утонул в «страховке».
Страховка. Это слово висело в воздухе, как насмешка. Оно значило
здесь все и ничего. Обещание, которое никто не собирался
выполнять.
Когда автобус наконец приехал, он походил на раненого зверя, вырвавшегося из ловушки. Ржавые бока, выбитые стекла, скрип
тормозов, напоминающий предсмертный хрип. Водитель, человек
с лицом, на котором застыло выражение вечного утомления, смотрел сквозь них, будто видел что-то за горизонтом — что-то, чего они не могли разглядеть.
Ехали молча.
Дорога вилась вдоль океана, где волны бились о скалы с яростью
заключенных, рвущих цепи. Вода сверкала, как разбитое стекло, ослепительно и опасно.
Дом, в который их привезли, был бетонной коробкой, серой и
безликой, как все временные жилища для тех, кого здесь
называли «гостями», но кто на самом деле был лишь дешевой
рабочей силой. Комнаты — клетки по пять человек. Теснота, духота, запах пота, дешевого мыла и чего-то еще — чего-то
кислого, отчаянного.
— Как скот, — пробормотал Ржевский, швыряя рюкзак на койку.
Корсар усмехнулся, разглядывая потолок, покрытый трещинами, словно паутиной.
— У нас в Москве кладовки больше.
Из угла раздался голос:
— А страховка?
Корсар медленно повернул голову.
— Страховка? Это когда тебя похоронят за чужой счет.
На ужин принесли две булки и пакетик сока. Булки были
резиновые, безвкусные, словно их слепили из опилок и клея. Сок
— кислый, как слеза ребенка, который только что понял, что его
обманули.
— Даже голодный пес такое есть не станет, — сказал Ржевский, отодвигая тарелку.
Корсар разломил булку пополам.
— Привыкай. Это и есть наша «страховка».
Ночью ударила барабанная дробь.
Где-то за стеной, в темноте, кто-то бил в барабан — резко, ритмично, безжалостно. Звук проникал сквозь стены, наполняя
комнату, как пульс какого-то огромного, невидимого существа.
Корсар лежал с открытыми глазами, слушая.
Будто кто-то бил в натянутую кожу судьбы.
Глава IX Карнавал и Куклы-Рабы
День второй.
Утро началось с запаха.
Не с света, не с звука — с запаха. Горького, как пережженный
кофе, сладковатого, как подгнивший апельсин. Воздух в комнате
застоялся за ночь, пропитался дыханием пяти мужчин, потом, пылью и чем-то еще — чем-то невыразимым, что оседает в легких
и напоминает: ты здесь не гость. Ты здесь пленник.
Ржевский сидел на корточках у койки, тщательно, с почти
религиозным усердием, чистил ботинки тряпкой. Кожа была
старая, потрескавшаяся, но он втирал в нее крем так, будто от
этого зависела его жизнь.
— Жизнь — карнавал, — сказал он, не глядя на Корсара. Голос его
был ровным, монотонным, как стук капель по жестяной крыше. —
Одни надевают маски, чтобы спрятаться. Другие — чтобы стать
видимыми.
Корсар молчал. Он сидел на полу, окруженный куклами.
Шесть пар стеклянных глаз смотрели в потолок.
Он расставлял их в ряд, поправлял руки, головы, будто готовил к
какому-то важному действу. Куклы были разными — кукла-старуха
с лицом, покрытым трещинами, как фарфоровая чашка; солдат в
потрепанном мундире; девушка с пустым, безликим взглядом.
— Репетиция! — крикнул Корсар внезапно, хлопнув в ладоши.
Тишина.
— Сейчас ночь, — прошептала кукла-старуха. Ее голос был
скрипучим, как дверь в заброшенном доме.
— А нам спать, — добавил солдат.
Корсар наклонился к ним, его лицо оказалось в сантиметрах от
стеклянных глаз.
— Вы куклы. Вы не спите.
В углу у забора синий пес прикрыл лапами уши. Итальянская
забастовка.
Девушка-кукла с лицом Македонии вдруг дернула головой.
— Вы все инструменты! — прошипела она. Голос ее был резким, как скрежет металла. — вы рабы вашего безумия!
Корсар засмеялся.
— Рабы? У рабов есть хозяева. У них — только я.
За окном, на пляже, зазвучали настоящие барабаны.
Группа местных девушек в цветастых платках танцевала под ритм, их тела изгибались, как тростник на ветру. Их смех долетал сюда, звонкий и беззаботный, будто из другого мира.
— Вот она, свобода, — прошептал Ржевский.
Корсар не отрывал глаз от кукол.
— Нет. Это побег от себя.
Подпевалы и Договор
Глава X
Утро. День III
Жара накрыла город, как раскаленный колпак. Воздух дрожал, насыщенный запахами рыбы, специй и чего-то гниющего —
возможно, мечты.
Менеджер проекта сиделa за столом, заваленным бумагами. У нее
было лицо человека, который считает не деньги, а чужие грехи.
— Ты хочешь работать по договору? — спросил он, не поднимая
глаз.
Корсар закурил. Дым стелился по комнате, смешиваясь с запахом
пота и дешевого парфюма.
— Договор? — Он усмехнулся. — Это бумажка, которую рвут при
первой опасности.
Менеджер наконец посмотрел на него.
— Без договора нет страховки!
Корсар потряс рюкзаком, из которого торчала голова куклы.
— Моя страховка — вот.
В углу комнаты сидели Подпевалы — два парня с гитарой. Их
пальцы нервно перебирали струны, но звуков не было — они
просто касались их, будто боялись разбудить что-то.
— Нам бы хоть медицинскую… — пробормотал один.
Ржевский фыркнул.
— Вам таблетку от совести дать. Она дороже.
В это время куклы устроили бунт.
— Мы устали!
— Хотим кальян!
— И коньяк!
Корсар швырнул им пачку дешевого табака.
— Держите. Это ваша «страховка».
Глава XI
Таблетки и Рио-Рита
Вечер.
Голова Корсара раскалывалась.
Он глотал таблетки одну за другой, запивая их коньяком прямо из
горлышка. Жидкость обжигала горло, но боль в черепе была
сильнее.
— Убьет печень, — сказал Ржевский, наблюдая за ним.
Корсар ухмыльнулся.
— Лучше печень, чем душу.
Куклы курили кальян, пуская кольца дыма. Безликая кукла
напевала что-то на чужом языке:
«Vi danser i mørket…»
Глава XII
Дверь распахнулась.
— Мы — Рио — Рита! Из Москвы! Рок-н-ролл!
Девушка — стройная, блондинка, пирсинг в носу, глаза как
бритвы. Парень — косая сажень, волосы цвета цикория.
— У вас тут… экзистенциально! — крикнул парень.
— Как Достоевский в аду! — добавила девушка.
Ржевский налил им коньяку.
— Пейте. Здесь все — герои трагедии. Даже куклы.
Синий пес вздохнул.
Барабанная дробь за окном слилась с шумом океана.
Эпилог: Монолог Мессира Баэля
«La pluie de Salalah lave les rêves,
Mais pas les dettes.
Les poupées dansent sans visage,
Les chiens bleus rêvent d’os en or.
Où est l’assurance?
Dans le sac du Corsaire?
Non. Dans le vide qui regarde fixement.
La vie est un carnaval de masques vides.
Et le tambour…
Le tambour bat la mesure de l’oubli.»
(«Дождь Салалы смывает сны,
Но не долги.
Куклы танцуют без лиц,
Корсар видит кости из золота.
Где страховка?
В мешке Корсара?
Нет. В пустоте, что смотрит не мигая.
Жизнь — карнавал пустых масок.
А барабан…
Барабан отбивает такт забвенья.»)
Барабанная дробь стихла.
Куклы уснули в рюкзаке.

Только безликая шептала:
«Vi venter på deg…»
(«Мы ждем тебя…»)
Корсар погасил свет.
За окном океан шептал то, что не мог сказать ни один договор.
Ржевский налил им коньяку:
— Пейте. Здесь все — герои трагедии. Даже куклы.
Синий пес вздохнул. Барабанная дробь за окном слилась с шумом
океана.
XII: Пробуждение под Барабанную Плеть
Утро не наступило — оно было вбито. Не мягкими лучами, не
щебетом глупых воробьев, а оглушительной, каменной дробью.
Звук врывался в вагон, как шрапнель, рвал остатки сна в клочья, бил по вискам наковальней. Корсар открыл один глаз — сухой, запеченный, как раковина на пустынном берегу. Потом второй. В
ушах звенела абсолютная, выжженная тишина после звука, а во
рту… Во рту царила география отчаяния: сладковато-приторный
смрад вчерашнего кальяна («Клубника с мятой», дешевый
ширпотреб, маскирующий горечь плохого табака) и едкий, кислый
шлейф перегара от «Grand» — жидкости, чья премиальность
заключалась лишь в этикетке чуть менее крикливой, чем у
собратьев. Воздух был тяжел, как влажная роба каторжника.
— Что за адский переплет… — проскрипели его губы, больше
похожие на потрескавшуюся глину, чем на часть живого существа.
Он сгреб с лица невидимые крошки сна, ощущая под пальцами
сальную пленку бессонницы и дорожной пыли.
За тонкой перегородкой вагона уже стоял гул. Не жизни —
инкубатора. Фестиваль. Первый день. Предвкушение славы? Нет.
Предвкушение работы. Монотонной, изматывающей, как
перемалывание зерен в жерновах. Звук сотни ног, скрип
деревянных суставов, металлический лязг креплений, приглушенный шепот — не людей, а материалов, из которых
собраны иллюзии: плюша, папье-маше, краски, нанесенной
поверх трещин.
XIV: Парад Неодушевленных и Приказ Капитана
Куклы стояли в строю. Не просто выстроились — их расставили. Как
солдат оловянных перед боем, обреченных на потеху.
Розовый пёс. Его розовый плюш был выцветшим, как застиранное
белье бродяги. Бисерные глаза, когда-то дерзкие, тускло отражали
серое небо. От него пахло старой пылью и слабым, но упорным
запахом собачьей псины, въевшейся в набивку, несмотря на все
усилия.
Синий Пес: Новый. Яркий, кричаще-синтетический. Но уже с
потертостями на выпуклой морде. Его претензия на значимость
выражалась лишь в слишком жесткой проволоке каркаса, не
гнувшейся, как надо. Пах свежей краской и клеем, что разъедает
слизистую.
Желтый Пес: Новый. Грусть в его стеклянных глазах казалась
врожденной. Мягкий, податливый плюш впитывал запах сырости и
чужой безнадеги.
Рио и Рита (Танцоры из Чехова): Он — в смокинге, чьи некогда
черные бархатные лацканы вытерлись до серого войлока, блестки
осыпались, как зубы старика. От него несло нафталином и потом
давно высохшей страсти. Она — в платье, бывшем белым век
назад. Теперь — грязно-палевый, с желтыми подтеками под
мышками и следами грубых штопок. Аромат дешевых духов
«Сирень», забивавших запах тлена.
Розовая Пара: Два одинаковых пухлых тела в розовом трико. Без
лиц, без характера. Просто розовая масса. Пахли новым
синтетическим материалом — резко, химически.
Барабанщики №1 (6 шт.): Стройные, деревянные, в синих
мундирах с потускневшими пуговицами. Руки намертво срослись с
палочками. От них — запах лака и пота кукловода.
Барабанщицы №2 (6 шт.): громоздкие барабаны на ремнях
врезались в их плечи. Их лица, нарисованные тонко, выражали
вечную усталость. Пахли пудрой и женской нервозностью.
Клоуны: Первый — с улыбкой, вырезанной ножом, доходящей до
ушей. Глаза-пуговицы — мертвые. Второй — с лицом, на котором
застыла гримаса только что пережитого ограбления. От обоих —
запах грима (жирный, сладковатый) и старого картона.
Медведи (2 шт.): Косматые, в котелках. Гармошки в лапах —
игрушечные, безмолвные. Пахли пылью и мхом из забытого леса.
Белоснежка и 7 Гномов: Она — в платье цвета запекшейся крови, лицо кукольно-прекрасное, но пустое. Гномы — стоптаны, колпаки
мяты. От них — слабый аромат детства, смешанный с запахом
плесени.
Корсар встал перед ними. Не капитан — надсмотрщик. Его тень
легла на яркие костюмы, как саван.
— Сегодня, — голос его скрипел, как несмазанная дверь склепа, —
мы покажем этим… зрителям, что такое настоящая пляска на
костях. — Он обвел их взглядом, лишенным тепла. — Барабаны! —
Ткнул пальцем в сторону №1 и №2. — Громче! Чтобы уши
кровоточили у мамаш! Чтобы земля стонала! Танцы! — Взгляд
скользнул к Рио-Рите и Розовой Паре. — Четче! Как марионетки на
струнах, которые я дергаю! Суставы должны скрипеть в такт!
Улыбки! — Он оскалился, показав желтые зубы. — Шире! До ушей!
Чтобы дети орали от восторга, а не от страха! Падаете? — Он
плюнул. — Встаете так, будто это кульбит! Будто так и задумано!
Понятно?!
Рио-Рита переглянулись. Ее деревянная рука дрогнула в его
тряпичной.
— А… а если дождь? — выдавила Рита, голосок ее был похож на
скрип несмазанной петли.
Корсар хрипло рассмеялся.
— Дождь? Мило! Тогда… — он сделал паузу, наслаждаясь их
немым ожиданием, — тогда танцуете быстрее. Чтобы зрители не
заметили слез. Ваших или небесных — неважно.
XV: Карнавал под Звуки Трескающихся Швов
Площадь взорвалась. Не цветами — криком. Детским, пронзительным, ненасытным ревом восторга, смешанным с
запахом жареной сахарной ваты, пота и влажных подгузников.
Барабаны ударили. Не просто заиграли — обрушились. Дробь
Полины (Барабанщики №1) была каменным градом, бившим по
натянутым нервам. Дробь Лизы (Барабанщицы №2) — ответный
визг, острый, женственный, отчаянный. Звук колотил по
барабанным перепонкам, вибрировал в груди, заставлял пыль на
площади танцевать джигу.
Колонна тронулась. Розовый пес, подталкиваемый невидимой
рукой кукловода, дергаясь, как эпилептик, попытался прыгнуть.
Его розовые лапы неуклюже шлепнулись о плиты. Синий Пес шел
напряженно, его каркас скрипел под напором неестественных
движений. Желтый Пес просто плелся, грустно опустив морду.
Барабанщики и барабанщицы били в свои инструменты с
остервенением, лица их были искажены гримасой усилия.
Барабаны действительно казались тяжелее их самих.
Рио-Рита кружились. Он вел ее с натянутой галантностью
деревянного кавалера, ее платье трепетало, как крыло подбитой
птицы. Их танец был пародией на страсть — механической, точной, лишенной души. Розовая Пара просто перебирала ногами, розовые комки, лишенные изящества.
Медведи неуклюже переваливались, беззвучно растягивая меха
гармошек. Клоуны кривлялись: один — с истерической веселостью, второй — с немой тоской в нарисованных глазах. Белоснежка
махала рукой — жест отчаяния, а не приветствия. Гномы семенили, их колпаки съезжали набок.
Дети визжали, тыкали пальцами, бросали под ноги колонне
липкие обертки. Корсар стоял в стороне. Его лицо было не
каменным — пустым. Как маска. Он не видел выступления. Он
видел механизм, скрипящий под нагрузкой. Он вдыхал коктейль
запахов: детский восторг (сладкий, приторный), постаревшую
краску кукол, жженый сахар, пыль, поднятую сотнями ног, и
подспудный, едва уловимый запах тлена — тлена костюмов, надежд, самого фестиваля. Его пальцы машинально перебирали
монеты в кармане — холодные, липкие.
XVI: Рисовая Геенна и Шепот Салалы
Тишина в вагоне после возвращения была гулкой, как в склепе.
Запах пота, грима и пыли висел плотным туманом. Куклы стояли, обмякшие, суставы их ныли от напряжения, краска на лицах
поплыла. И тут Корсар взорвался. Не криком — ледяным, режущим
тирадом.
— Это… — он медленно прошелся перед строем, как палач перед
приговоренными, — …что за безобразие?! Барабаны?! — Он ткнул
пальцем в сторону Полины. — Твоя дробь — как у бабки на
поминках! Жалко! Вяло! — Палец перешел к Лизе. — А ты?!
Отвечала, будто с перепугу! Без огня! Без крови! Танцы?! — Он
скривился, глядя на Рио-Риту. — Будто вас током долбит!
Скованно! Без страсти! А этот… — Он остановился перед розовым
псом. — …этот розовый уродец! Он вообще что, с похмелья?!
Прыгал, как куль с опилками на костре! Позорище!
Он выдержал паузу. Воздух сгустился, наполнившись запахом
страха — кислым, как испорченное молоко.
— Штраф, — выдохнул Корсар слово, как струю ледяного воздуха.
— Всем. По полной. Ужин… — он усмехнулся, — …рис. Белый.
Липкий. Без салата. Без курицы. Без вкуса. Научитесь ценить то, что имеете. Или не имеете.
Тихий, коллективный стон пронесся по рядам. Не громкий. Глухой.
Как стон земли перед обвалом. Запах отчаяния стал осязаем.
Ужин. Миски стояли на грубом столе. В них — рис. Не просто
белый. Мертвенно-белый. Липкий, как клейстер, безвкусный, как
пыль. Ни зелени, ни масла, ни намека на куриную косточку. Запах
крахмала и пустоты. Куклы ели молча. Деревянные челюсти с
трудом перемалывали безвкусицу, тряпичные руки дрожали. Звук
жевания — мерзкий, влажный, липкий — был единственным в
вагоне.
Корсар сидел в своем углу. Он потягивал из потертой фляги что-то, от чего в воздухе повеяло резким, ядовитым спиртом. Рядом
дымил кальян — запах дешевой «Клубники» снова пытался
перебить реальность, но проигрывал, смешиваясь с вонью риса и
отчаяния.
— За сегодня, — бросил он в тишину, поставив на стол рядом с
кальяном бутылку самого дешевого пойла — мутной жидкости с
надписью «ВЕСЕЛЯНКА». — Приз. Отличившимся.
Никто не пошевелился. Никто не взглянул на «приз». Запах
дешевого алкоголя лишь усилил гнетущую атмосферу.
Бунт. И вдруг тишину разорвал голос. Не громкий. Детский. Но
звенящий, как надтреснутый колокольчик. Это крикнула
Калдиночка — крошечная кукла с огромным бантом, обычно
молчаливая, как могила.
— Хватит! — ее тряпичный ротик искривился от непривычного
усилия. — Х-хватит так с нами! Мы… мы как проклятые! Целый
день! В пыли! Под крики! А нам… нам что?! Рис?! И угрозы?! Это
нечестно!
Ее слова упали не в пустоту. Барабанщицы №2 — Лиза и другие —
застучали костяшками пальцев по столу. Тихо. Ритмично. Сначала
неуверенно, потом — набирая силу. Как тревожный барабанный
бой.
— Да! — выкрикнула Лиза, ее нарисованные брови сдвинулись. —
Рис! За что?!
— Мы тоже… тоже устаем! — добавила Полина, голос ее был
хриплым, как после крика. — Мы не железные! У нас… суставы
болят!
Розовый Пес жалобно заскулил — звук вышел из его механической
глотки, дребезжащий, неживой.
Корсар медленно поднялся. Он казался выше, темнее. Его тень
поглотила Калдиночку.
— Люди? — он растянул слово, насмешливо, ядовито. — Вы что, возомнили себя людьми? Вы — куклы. Тряпки. Дерево. Проволока.
Ваше дело — скакать. Смешить. Рвать глотки под барабаны. И…
молчать. Поняли? Ваши боли, ваша усталость — это шестеренки в
механизме. Они должны крутиться. Без скрипа. Без жалоб.
Тишина стала абсолютной. Даже барабанный стук по столу замер.
Запах страха смешался с запахом гнева — острым, как перец.
И тогда заговорила Рита. Тихо. Голосом, в котором дрожали слезы, впитавшиеся в тряпичное горло.
— А ведь… а ведь в Салале сейчас… — она сделал паузу, будто
вспоминая чужой сон, — …сезон. Море… теплое. Пальмы…
высокие. Пахнет… солью и чем-то сладким…
Рио подхватил, его деревянная рука сжала ее тряпичную:
— В Маскате… тоже красиво. Солнце… золотое. Не как здесь.
Там… тихо.
Рита закончила, глядя прямо на Корсара, ее нарисованные глаза
казались неожиданно живыми:
— Но мы там… не будем. Никогда. Нам только… рис. И барабаны.
До конца.
Эпилог: Дым Ржевского и Ария Пропавшей Куклы
Поручик Ржевский стоял поодаль, прислонившись к закопченной
стене кафе. Он докуривал самокрутку, запах дешевого табака
смешивался с фестивальной вонью. Его желтый, хищный глаз
наблюдал за сценой у вагона — за оскалом Корсара, за
сжавшимися куклами, за немой драмой тряпок и дерева.
— Боже ж ты мой, — прохрипел он, выпуская струю едкого дыма.
— Цирк уродов. Барабаны — как плети по спине. Бунт — как
мышиная возня. Штрафной рис — последняя точка в меню рабства.
Настоящий… декаданс. — Он усмехнулся, оскалив зубы. — Если б
старина Оскар Уайльд это узрел… Он бы либо пустил пулю в лоб от
восторга перед таким изящным падением, либо… написал бы
поэму. Поэму о тщете блесток на гниющем дереве. Ха!
Финал: Камерная Ария Мессира Баэля (Da Capo al Fine) Из густой тени между вагоном и кучей ящиков материализовался
Мессир Баэль. Не вышел — проступил, как пятно влаги на стене. Его
пенсне поймало последний луч заходящего солнца, превратив его
в две холодные, слепящие точки. Он не смотрел на Корсара, на
Ржевского. Его взгляд скользнул по куклам — по поникшему
Барону, по дрожащей Рите, по крошечной Калдиночке. И он запел.
Тихо. На изысканном, старинном итальянском. Голос был не его —
голос был самой Тенью, голосом треснувшей виолончели в пустом
зале.
«Ascolta, bambola di pezza e legno storto, (Слушай, кукла из тряпок и кривого дерева) La tua farsa è scritta col sudore.
(Твой фарс написан потом)
Sei nata per ballare sul filo del rasoio, (Ты рождена танцевать на лезвии бритвы)
Mentre il vento ti strappa i colori addosso.
(Пока ветер срывает с тебя краски)
Il tuo cuore? Un batacchio vuoto in un campanile cieco, (Твое сердце? Пустой колокольчик в слепой колокольне) Che batte, batte invano nel vuoto della piazza.
(Который бьется, бьется напрасно в пустоте площади) Il mondo ride un riso di caramella marcia, (Мир смеется смехом гнилой карамели)
Mentre tu sanguini stoppa dalle cuciture.
(Пока ты истекаешь паклей из швов)
Il Corsaro? Un becchino con la frusta di lustrini, (Корсар? Гробовщик с плетью из мишуры)
Ti usa finché l’ingranaggio non scricchiola, (Он использует тебя, пока шестеренка не скрипит) Poi ti getta nel fango, come un cencio sporco di lacrime salate, (Потом бросает в грязь, как тряпку, испачканную солеными
слезами)
A sognare il mare di Salalah che non bagnerà mai il tuo legno.
(Где ты будешь мечтать о море Салалы, которое никогда не
омочит твое дерево)
Ma tu balli ancora, piccola marionetta senza fili visibili, (Но ты все танцуешь, маленькая марионетка без видимых нитей) Perché il palco è la tua gabbia e la tua croce, (Потому что сцена — твоя клетка и твой крест) E non conosci altro che l’odore della polvere e del riso rancido…
(И ты не знаешь ничего, кроме запаха пыли и прогорклого риса…) Addio, bambola. La tua tragedia è perfetta.
(Прощай, кукла. Твоя трагедия совершенна.) Riposa… tra gli stracci del prossimo numero.»
(Покойся… среди тряпок следующего номера.)»
Последняя нота повисла в воздухе, смешавшись с запахом
жареного масла и детской мочи. Мессир Баэль не исчез. Он просто
перестал быть видимым, растворившись в сгущающихся сумерках,
оставив после себя лишь холодок у позвоночника и горький
привкус на языке.
Фестивальные огни зажглись — кричащие, дешевые. Музыка
загрохотала с новой силой. Куклы, словно по сигналу невидимого
дирижера, потянулись к костюмам, гриму, барабанам.
Приготовления к завтрашнему выступлению начались.
Механически. Без слов. Без взглядов. Только скрип суставов да
шорох ткани нарушали тишину вагона. Даже Калдиночка молчала, ее бант белел в темноте, как саван.
А Корсар стоял у открытой двери вагона. Смотрел в темноту за
фестивальными огнями. Он не думал о славе, о деньгах. Он думал
о липком рисе в жестяных мисках. О страхе в стеклянных глазах. О
ярости тряпичного сердца. О том, как тихо сказала Рита про
Салалу. И о том, что даже у кукол, этих собраний тряпок и дерева, есть предел. Предел молчания. Который сегодня был почти
достигнут. Он закурил. Запах дешевого табака смешался с
ароматом грядущего шторма. Завтра будет новый день. Новый
парад. Новый рис.
Продолжение следует…
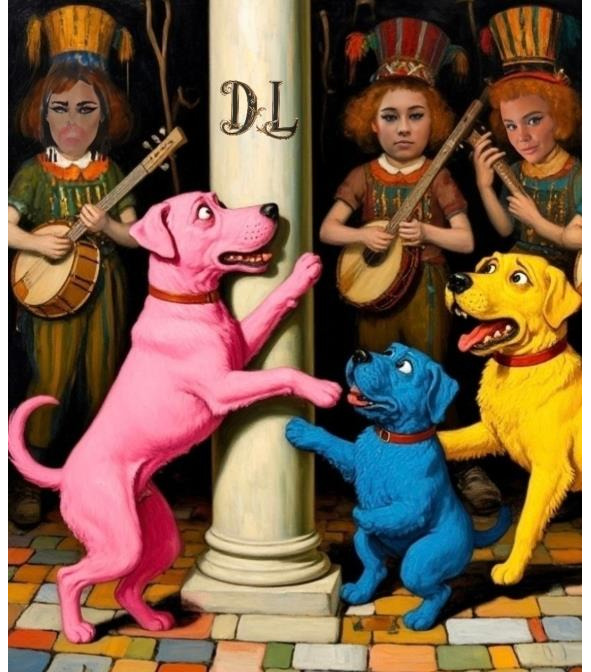
Часть 3. Пустота внутри.
Глава XVII: Бег Костюмов по Краю Мира
Рассвет в Салале был не милостью, а издевательством. Солнце
выкатывалось из моря, как раскаленный шар меди, заливая пляж
светом слишком ярким, слишком настойчивым. Воздух, обещанный «свежим», был тяжел и влажен, пропитан солью, запахом гниющих водорослей и далеких нефтяных вышек.
Тишина? Ее не было. Шум прибоя — постоянный, монотонный, как
дыхание спящего гиганта — заполнял все.
Розовый Пес и Синий Пес бежали. Не по доброй воле. Их каркасы
скрипели на каждом шагу, синтетический мех слипался от влаги.
Их пробежка не была медитацией. Это был ритуал. Ритуал
поддержания иллюзии, что они еще что-то значат, что их
существование — не просто заполнение паузы между
выступлениями.
— Каждый шаг — победа? — хрипло спросил Синий, его голос —
скрежет шестеренок. — Победа над чем? Над ржавчиной? Над
тем, что набивка слеживается?
Розовый Пес, фон вайсберг, фыркнул. Звук напоминал спуск
воздуха из проколотой игрушки.
— Над Корсаром, друг мой. Хотя бы в голове. Вот шаг — ты ему не
нужен. Еще шаг — твой розовый мех не выцвел до конца. Третий —
море… оно все-таки существует. Видишь? Победы.
Они бежали вдоль кромки воды. Лагуна вдалеке мерцала
обманчивым бирюзовым ядом. Пальмы стояли как застывшие
часовые чужого рая.
— Философия жизни? — Синий Пес споткнулся о ракушку, едва не
грохнувшись. — Моя философия — не развалиться до вечера. Не
дать Корсару повода для нового штрафа. Рис… — он сделал паузу, словно вспоминая вкус пустоты. — Рис без курицы — это не
философия. Это приговор.
— А женщины? — вдруг спросил Розовый. Он глядел на пару
туристок в ярких легинсах, пробегавших мимо с наушниками в
ушах. Их смех звенел, как разбитое стекло. — Вот они бегут. Легко.
Ради «эндорфинов». Ради «счастья». Ты веришь в это? В их
счастье?
— Женщины, — процедил Синий, — они как эти пальмы. Красивые
издалека. Подойдешь ближе — стволы в рубцах, а под листьями
кто-то обязательно справляет нужду. Или вешает объявление о
продаже сувениров. Отношения? Игра в одни ворота. Мужчина —
мяч. Его пинают, пока он не сдуется. А потом покупают новый.
Надувной. Удобнее.
— Пессимист, — усмехнулся Розовый. Но усмешка была кривой. —
А Рио и Рита? Они же… держатся.
— Держатся? — Синий Пес резко остановился, его пластиковый
корпус дрожал. — Они держатся на нитках! На нитках привычки и
страха! Он — деревяшка. Она — тряпка. Какая любовь? Какая
психология? Они играют роли, как мы на фестивале! Только их
сцена — вся жизнь. И режиссер тот же — Корсар Судьбы. Он дергает
за ниточки, а они пляшут под барабаны отчаяния!
Песок под лапами был не мягким. Каждая зернинка —
микроскопический нож, впивающийся в стертые подушечки
синтетических лап. Рассветный воздух Салалы, воспеваемый
туристами как «наркотик чистоты», был для них химическим
коктейлем: хлор от бассейнов отелей, прогорклый жир с жаровен
уличных лотков, сладковатый гнильцой аромат манго, упавших и
раздавленных в темноте. Они бежали не сквозь пейзаж, а по его
коже, ощущая каждую пору, каждую складку гниющего рая.
— Ты говоришь о женщинах как о пальмах, — заговорил Розовый
Пёс, его голос — скрип пересохшего шарнира. — Но ты забываешь
о корнях. О том, что вьется под землей, невидимое, пожирающее.
Любовь… — он споткнулся о полузасыпанную пивную банку, —
…разве не та же невидимая гифа? Она оплетает мозг, высасывает
соки, оставляет пустоту в форме другого человека. Запах её — не
роза. Это запах влажной земли в цветочном горшке, где что-то
умерло.
Синий Пёс резко остановился, его пластиковая грудь ходуном
ходила от усилия, которого не было.
— Запах? — он фыркнул, выпуская струйку теплого воздуха, пахнущую пылью и старым клеем. — Женский запах? Это сложная
дуэль химикатов. Дезодорант «Цветущий Лотос», брендовый, дорогой, маскирующий истинный аромат — пот стресса, едва
уловимую кислинку страха перед возрастом, сладковатую ноту
неудовлетворенности. И под этим — базовый фон: кожа. Но не
чистая. Кожа, пропитанная микропластиком из воды, остатками
гормональных кремов, молекулами стресса, выделяемыми с
потом. Это не аромат. Это отчет о состоянии. Как у нас — запах
перегретого мотора и пыли. Они пахнут своей жизнью, как мы —
своей смертью. Где тут место для любви? Это химическая война, замаскированная под парфюмерию.
Они побежали снова, вдоль кромки воды, где волны оставляли
пену, похожую на грязную накипь в чайнике. Розовый Пёс
заговорил, глядя на пару молодоженов, фотографирующихся на
фоне слишком синего моря. Девушка заставляла юношу
переделывать кадр снова и снова.
— Посмотри на них. Ты видишь не любовь. Ты видишь ритуал
подтверждения. Каждый жест — отрепетирован. Улыбка —
рассчитана на определенное количество пикселей. Их
прикосновения… — он всмотрелся, — …лишены спонтанности.
Рука юноши лежит на ее талии не потому, что тянется к ней, а
потому, что так надо для кадра. Она прижимается к нему не от
нежности, а чтобы скрыть тень под подбородком. Их любовь —
это перформанс для внутреннего судьи. Для Корсара в их головах, который кричит: «Улыбнись шире! Держи ее крепче! Имитируй
счастье, иначе — штраф! Штраф в виде одиночества, осуждения, чувства несостоятельности!» Их Салала — наш фестиваль. Только
их костюмы дороже.
Синий Пёс молча бежал несколько минут. Его синтетическая
шерсть слипалась от влажного воздуха.
— Ты слишком добр, — наконец проскрипел он. — Ты даешь им
хоть иллюзию выбора. Перформанс. Но что, если перформанс —
это все, на что они способны? Что если за фасадом нет ничего?
Пустота, как в наших грудных клетках? Никакой «истинной любви»,
ожидающей за кулисами. Только бесконечная череда ролей: невеста, жена, мать, любовница, разведенка, одинокая кошка…
Каждая роль требует нового костюма, нового запаха, новой маски.
Мужчина? Он лишь реквизит. Подставка для фотографии.
Источник дохода или спермы. Или объект для вымещения
накопленной ярости за несостоявшуюся жизнь, которая была
обещана рекламой духов и ромкомами. Любовь — это не чувство.
Это индустрия обслуживания иллюзий. И мы, — он ткнул лапой
себе в грудь, — ее идеальные метафоры. Нас создали для
развлечения. Их чувства созданы для обслуживания сценария под
названием «Нормальная Жизнь».
Глава XVIII: Забвение на Краю Бытия
Они наткнулись на него у камней, где лагуна встречалась с
открытым морем. Поручик Ржевский. Не бежал. Не медитировал.
Лежал плашмя, как выброшенный штормом буй. Рядом валялась
пузатая бутылка дешевого «винишка» — «Каберне Совиньон», судя по этикетке. Запах — кисло-сладкий, как перебродивший
компот, смешивался с соленым бризом и тошнотворным духом
поручика.
— Боже правый, — хрипло пробормотал Ржевский, увидев псов.
Его глаз, мутный, как запотевшее стекло, с трудом сфокусировался.
— Розовый призрак и Синька… Опять на утренний променад?
Искать философский камень в помете чаек? Или женскую верность
в прибое? Ха! Зря стараетесь. Море тут приносит только мусор и
медуз. Как и женщины.
— Мы обсуждали любовь, поручик, — сказал Розовый Пёс, останавливаясь. Песок налипал на его потрескавшиеся лапы.
— Любовь? — Ржевский фыркнул, и запах перегара усилился. —
Ох уж эта психология! Наука для дураков и содержанок! Весь их
Фрейд, Юнг, этот… Карнеги! — он махнул рукой, чуть не опрокинув
бутылку. — Все это ширма! Ширма для одного: женщине нужно
безопасность. Материальная. И статус. Чтоб другие бабы ахнули. А
чувства? Чувства — это инструмент. Как твой розовый мех, песик.
Инструмент для манипуляции. Она говорит: «Я тебя люблю» — и
ждет, что ты ляжешь плашмя, отдашь последнюю рубаху, продашь
почку, лишь бы эта иллюзия держалась. А потом… — он отхлебнул
из горлышка, — …потом она говорит: «Ты изменился» или»Я
разлюбила». А на самом деле — кончились деньги. Или статус
потускнел. Или сосед оказался богаче. Психология? Фи! Это
оправдательная записка для предательства. Научно обоснованная
сволочность.
Синий Пёс подошел ближе. Его пластиковый нос дрогнул от вони.
— А что же тогда… привязанность? Забота? То, что у Рио и Риты?
Ржевский закатил глаза.
— Рио и Рита? Деревяшка и тряпка? Это не любовь, песик. Это
симбиоз отчаяния. Он держится за нее, потому что без ее
тряпичного тела его деревянная рука будет висеть пнем. Она
держится за него, потому что его деревянный каркас —
единственное, что не дает ей рассыпаться в пыль. Это не любовь.
Это механическая необходимость. Как две шестеренки в
сломанных часах, которые все равно крутятся, хоть время давно
остановилось. Забота? Это страх остаться одному с пустотой
внутри. Как вот это… — он потряс бутылкой. — Винишко мое. Оно
не любит меня. Оно меня оглушает. Заботится? Нет. Оно просто
заполняет пустоту. Дешево и сердито. Как женская «любовь», только без истерик и дележа имущества.
Он уставился на горизонт, где море сливалось с небом в ядовито-синюю муть.
— Философия? — он внезапно усмехнулся, обнажив желтые зубы.
— Одна: всё — тлен. Любовь, ненависть, надежда… Всё
превратится в пыль. В песок, по которому вы бегаете. В запах
гниющих медуз. В эту вот… — он пнул пустую банку из-под
энергетика, — …жесть. Бегите, куклы. Бегите. Скрипите своими
суставами. Изображайте жизнь. Это всё, на что мы все годимся.
Изображение. Подделка. Перформанс для равнодушного моря. А
потом… тишина. Без риса. Без винишка. Без любви. Просто…
ржавчина. И пыль.
Он уставился на горизонт, где море сливалось с небом в ядовито-синюю муть.
— Философия? — он внезапно усмехнулся, обнажив желтые зубы.
— Одна: всё — тлен. Любовь, ненависть, надежда… Всё
превратится в пыль. В песок, по которому вы бегаете. В запах
гниющих медуз. В эту вот… — он пнул пустую банку из-под
энергетика, — …жесть. Бегите, куклы. Бегите. Скрипите своими
суставами. Изображайте жизнь. Это всё, на что мы все годимся.
Изображение. Подделка. Перформанс для равнодушного моря. А
потом… тишина. Без риса. Без винишка. Без любви. Просто…
ржавчина. И пыль.
Он откинулся на спину, закрыв глаза лицом к палящему солнцу, словно предлагая себя в жертву абсурду. Его бутылка, полупустая, стояла рядом, как надгробный памятник всем иллюзиям. Псы
молча развернулись и побежали обратно. Их скрип теперь звучал
не похоронным маршем, а бесконечным, монотонным скрежетом
точильного камня, на котором стирались последние надежды.
Запах моря, смешанный с вонью разложения и дешевого вина, преследовал их, как приговор.
Разговор был окончен. Его философия, пропитанная дешевым
вином и вековой усталостью, повисла в воздухе, густая, как смог.
Псы молча бежали дальше. Скрип их каркасов теперь звучал
похоронным маршем по всем иллюзиям о свежем утре, счастье
бега и гармонии мира…
Chanson de Baäl (Pour les Chiens Mécaniques): Из тени пальмы, отбрасывающей косую, как нож, полосу тени, шагнул Мессир Баэль. Он не смотрел на псов. Его пенсне было
направлено на распластанную фигуру Ржевского, но видело, казалось, сквозь него, в самую сердцевину абсурда. Он заговорил.
Не спеша. На чистом, холодном французском. Голос его был похож
на скрип старого патефона, играющего забытый романс.
«Écoutez, chiens de tissu et de rouille, (Слушайте, псы из ткани и ржавчины,)
Votre course est un grincement inutile.
(Ваш бег — бесполезный скрежет.)
Le matin se moque de vos articulations raides, (Утро смеется над вами с вашими туговатыми суставами,) La mer emporte vos pas dans son sable oublieux.
(Море уносит ваши шаги в своем забывчивом песке.)
L’homme ivre rêve de fuite dans la bouteille, (Пьяный человек мечтает о побеге в бутылку,) Sa femme est un mirage dans le désert du vin aigre.
(Его женщина — мираж в пустыне кислого вина.) Il parle d’amour comme d’une balle perdue, (Он говорит о любви, как о потерянной пуле,) Qui blesse toujours celui qui la porte.
(Которая всегда ранит того, кто ее носит.) Vous, les chiens roses et bleus, ombres sans ombre, (Вы, розовые и синие псы, тени без тени,) Vous courez après l’odeur du riz rance.
(Вы бежите за запахом прогорклого риса.) Votre philosophie est cousue de fils cassés, (Ваша философия сшита из порванных ниток,) Et votre bonheur — un aboiement dans le vide.
(А ваше счастье — лай в пустоту.)
Le Corsaire dort dans son wagon-cercueil, (Корсар спит в своем гробу,)
Il rêve de fouets et de paillettes qui aveuglent (Ему снятся плети и ослепляющие блестки.)
Rjevski noie sa logique dans la lie, (Ржевский топит свою логику в осадке,)
Cherchant la femme entre deux gorgées d’illusion.
(Ища женщину между двумя глотками иллюзии.) Et vous? Vous continuez à grincer.
(А вы? Вы продолжаете скрипеть.)
Sur la plage trop large, sous le soleil trop lourd.
(На слишком широком пляже, под слишком тяжелым солнцем.) Car courir, c’est exister un peu plus longtemps, (Ибо бег — это существовать чуть дольше,) Avant de retourner au sac des poupées mortes.
(Прежде чем вернуться в мешок с мертвыми куклами.) C’est tout. La chanson est finie. La mer continue.»
(Вот и все. Песня спета. Море продолжается.)»
Он не стал ждать реакции. Просто повернулся и растворился в
дрожащем от зноя воздухе, как мираж. Оставив после себя лишь
горький привкус французских слов на соленых губах ветра и
бесконечный, равнодушный рев океана, поглощающий и шаги
кукол, и храп пьяного поручика, и саму память об этой утренней
пробежке на краю мира.
Он не растворился. Он испарился, как капля росы на раскаленной
жести крыши. Оставив после себя не эхо, а вакуум, втягивающий в
себя смысл слов, краски пейзажа, даже скрип псов. Только солнце
продолжало бить. Море — лизать камни с равнодушием

гигантского хамелеона. А розовый и синий псы бежали. Бежали
потому, что остановиться значило признать правоту винишка, Баэля и этого бескрайнего, прекрасного, мертвого моря. Скрип их
суставов был единственным ответом на вопрос о любви —
монотонным, вечным, бессмысленным. Как само мироздание.
Глава XIX: Побег сквозь Антифизику
Корсар, ковыряя в носу с философским прищуром, заметил — из
кармана спящего Воронежского Привета торчал уголок записки.
Мятый, с лоснящимися краями, будто побывавший в битве за
существование. Он вытащил ее. Бумага пахла ушной серой и
отчаянием безысходных воскресений. Воронежский Привет, видимо, исчерпав запас ватных палочек, нашел в бумаге
последний инструмент гигиены отчаяния.
Корсар развернул послание, втянув носом квинтэссенцию абсурда, и прочитал с хриплым смешком:
«Забирай этого Воронежского Привета с собой и через сортиры
вылезайте в окно. Оно будет открыто.»
Внизу — нервная приписка:
«Удачи, тварь. Ze luck Тайм!»
Он почесал затылок одной рукой, а другой — интимно скользнул по
месту, где когда-то была совесть. Движения синхронные, отточенные годами практики. Воронежского Привета, полуживого
мешка с хриплым храпом и запахом дешевого самогона, он
взгромоздил на спину. Тот обмяк, как тряпка, пропитанная тоской.
Туалет встретил их зияющим окном. И запахом. Запахом, который
можно было описать только как: сыр козий, заблудившийся в
лабиринте носков почтальона из Богом забытого села после
десятилетней смены. Вонь честная. Вонь Родины. Вонь
экзистенциального дискомфорта, въевшегося в стены.
Чудом, возможно, через дыру в законах термодинамики или по
блату у Хаоса, Корсар протолкнул Воронежского Привета в окно.
Тот исчез во тьме с глухим шлепком. Сам Корсар полез следом. И
застрял. Намеренно. На самой грани свободы и камеры. И там, в
прощальном жесте бунта, в акте эстетического вандализма, он…
выпустил газы. Долго. Громко. С чувством глубокого
удовлетворения от содеянного.
— Случайно, — пробормотал он в темноту, обращаясь к стенам
камеры. — Честное слово. Просто… физиология и гравитация.
Виноват.
Он вылез. Протер глаза той самой рукой, что только что чесала
сомнительные глубины. Ритуал. Снаружи царил «глубокий
утренний абсурд» — не ночь, не день, а серое месиво времени. И
перед ними возвышалось здание. Огромное. В стиле, который
Корсар мгновенно окрестил: «Псевдо-русский сортирный ампир».
Архитектурный шедевр, пропитанный уриновыми амбициями и
мечтами о несостоявшемся величии. Стены цвета застарелого
синяка.
— Зайти бы… — пробормотал Корсар, разглядывая
подозрительные пятна на своих штанах, напоминавшие карту
сокровищ, зарытых на помойке. — По классике жанра. Облегчить
душу.
Он привык считать себя значимым. Казаком лихим, пусть без коня
и с запахом, но — личностью! Реальность же била по морде: всем
было глубоко плевать. Как он оказался в камере — тайна, покрытая
мраком глупее его собственных поступков. От бессилия он дал
леща Воронежскому Привету:
— Подъем, опарыш! Вставай, пока гниль не окончательно съела
мозги!
Воронежский Привет застонал. Звук был неприлично интимным, как скрип койки в ночлежке. Перед ними, за коваными воротами с
прогнившими завитушками, высилась усадьба. Над входом —
вывеска, кричащая вычурным шрифтом:
«СТРАПОНОВА УСАДЬБА»
Цвет стен — специфический. Точный оттенок дешевого латекса
после неосторожного использования. От здания веяло не
благородной стариной, а затхлостью бабушкиного погреба, где на
полках десятилетиями пылятся банки с «Огурцами Разочарования»
и «Грибами Безнадеги». У входа раздавался храп — мощный, хриплый, как у арангутанга, запертого в чулане. И тут
Воронежского Привета прорвало на чихание. Он затрясся, замычал, превращая чих в нечленораздельное ругательство:
— Фа… фуфы… бляфу… апчхииииии!.. Фляяяяя!
— Тише, скотина! — прошипел Корсар, глядя не на него, а на тварь
во дворе. Волосатая свинья восседала в центре навозной кучи, умиротворенная, как Будда в нирване грязи. Ее маленькие глазки
сияли философским принятием мира. Корсар ей позавидовал.
Глава XX: Фестиваль Гнева
Внутри царил хаос, пахнущий потом, пылью и сожженными
нервами. Куклы фестиваля — не на сцене, а в грязном холле
усадьбы. Барабанщицы Алиса и Полина нервно отбивали дробь
по чугунной батарее, их лица были бледны под стертым гримом.
Розовый Пес рычал повернув морду в стену. Синий Пес и Желтый
сидели, обнявшись, в углу — два комка цветного отчаяния.
Калдиночка, та самая кроха с бантом, трясла кулачком в сторону
представительницы Заказчика.
— Йогурты! — визжала Калдиночка, ее голосок звенел, как
треснувший колокольчик. — Воздушные! И поездки веселые! В
парк! На карусели! Как в договоре! Как обещали перед первым
барабанным ударом! Алиса! Поддержи!
Барабанный бой Алисы стал громче, отчаянней. Она била в
невидимый барабан, ее юбка трепалась.
— Легкие! С кусочками персика! И чтоб без комков! — добавила
она, срываясь на крик.
Розовый Пес оторвался от стены. Его голос был скрипом
несмазанной телеги:
— Домой! Нас — домой! В Чехов! В коробку! В темноту! Лишь бы
не этот… этот цирк ужаса! — Он ткнул лапой в сторону Корсара.
Лиза и Полина (барабанщики №1) застучали в такт — тяжело, угрожающе.
Представительница Заказчика стояла неподвижно. Женщина с
лицом, будто высеченным из македонского мрамора — холодным, прекрасным, безжизненным. На бейдже: «Алёна Д. (Косово)». Ее
медово-сливочная улыбка не дрогнула.
— Дорогие артисты, — голос ее тек, как сироп, но с металлической
ноткой на дне. — Йогурты? Бюджет фестиваля… пересмотрен.
Поездки? Логистика невозможна. Домой? Контракт подписан до
конца сезона. Нарушение — штраф. Очень большой штраф. Рис, —
она мягко добавила, — рис будет. Сегодня. С соевым соусом. В
качестве жеста доброй воли.
Корсар взорвался. Не криком — визгом. Высоким, пронзительным, как у загнанной свиньи перед ножом.
— Штраф?! Рис с соевым дерьмом?! — Он затопал ногами, слюна
брызгала изо рта. — Я вас всех! Всем тут заправляю я! Я! Корсар!
Без меня вы — тряпки и щепки! Завтра выступление! И танцевать
будете, как черти на раскаленной сковороде! А кто не сможет —
тому рис! И не с соусом! Сухой! Как песок в почках! Поняли, твари?!
Тишина. Даже барабаны замолчали. Воздух сгустился до состояния
киселя. Куклы смотрели на него стеклянными глазами, в которых
не было страха. Только пустота. И усталость. Усталость длиннее, чем дорога до Салалы.
Эпилог: L’Enfant et la Marionnette (Chanson de Messire Baäl) И тогда открылась дверь в глубине холла. Не скрипнула —
вздохнула. И вошел Мессир Баэль. Не один. За руку он вел
маленькую девочку. Лет четырнадцати. Платьице. Личико —
бледное, с синяками под глазами от недосыпа и вечного страха. В
ее пустых глазах отражались Розовый Пес, визжащий Корсар, мраморная улыбка Алёны из Косово. Она работала на фестивале.
Носила воду. Чистила костюмы. Пряталась от пьяного Корсара. Все
знали. Все молчали.
Корсар замер. Его визг оборвался, как перерезанная гортань. Он
узнал девочку. «Дешевая рабочая сила», — бросал он когда-то.
Баэль подвел ее к центру. Не смотрел на Корсара. Смотрел на
девочку. Потом поднял голову. Его пенсне поймало тусклый свет
из окна, превратившись в две ледяные звезды. Он запел. Голосом, похожим на старый патефон, играющий Джо Дассена на поминках.
На безупречном французском, где каждая фраза — нож в бок
иллюзии.
«Monsieur le Corsaire, marchand de misère, (Месье Корсар, торговец нищетой,)
Votre navire est un cercueil flottant sur l’océan du vide.
(Ваш корабль — гроб, плывущий по океану пустоты.) Vous vendez des rêves en lambeaux aux poupées sans âme, (Вы продаете клочья снов куклам без души,) Et le riz sec est votre monnaie pour les enfants perdus.
(А сухой рис — ваша монета для потерянных детей.) Regardez cette petite: Maria, sept ans de poussière.
(Взгляните на эту малышку: Мария, семь лет пыли.) Ses yeux sont des miroirs vides où dansent vos fantômes ivres.
(Ее глаза — пустые зеркала, где танцуют ваши пьяные призраки.) Elle a nettoyé vos ordures, essuyé vos crachats, (Она убирала ваш мусор, вытирала ваши плевки,) Et son salaire? L’ombre de votre botte sur son rêve envolé.
(А ее зарплата? Тень вашего сапога на ее улетевшей мечте.) Vous parlez de contrats, de spectacles, de gloire éphémère, (Вы говорите о контрактах, шоу, сиюминутной славе,) Mais votre théâtre n’est qu’un cloaque éclairé par des lucioles mortes.
(Но ваш театр — лишь клоака, освещенная мертвыми светлячками.) Les poupées crient pour du yaourt, pour un peu de douceur, (Куклы кричат за йогурт, за каплю нежности,) Et vous leur offrez la menace, le riz amer de la peur.
(А вы дарите им угрозу, горький рис страха.) Écoutez le silence, Corsaire. Il est plus lourd que vos cris.
(Слушайте тишину, Корсар. Она тяжелее ваших криков.) Les poupées ne pleurent plus. Elles regardent Maria.
(Куклы больше не плачут. Они смотрят на Марию.) Et dans leurs yeux de verre, une question est née: (И в их стеклянных глазах родился вопрос:)
«Sommes-nous toutes des Maria dans votre triste comédie?»
(«Все ли мы — Марии в вашей печальной комедии?») Votre temps est fini, marchand de vent et de larmes.
(Ваше время кончено, торговец ветром и слезами.) Le navire-cercueil prend l’eau par tous les bords.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
