
Бесплатный фрагмент - Перстень с солитером
Как я сдавал в театральный институт
Давняя история… Возможно, вы не поверите, но я никогда не мечтал служить актером в театре. Ну не тянет меня на подмостки — и все тут! В крайнем случае согласен быть режиссёром… и то в кино. Однако случилось мне пройти первое прослушивание или просмотр, не знаю даже как и назвать.
А было дело так. Я только что успешно сдал экзамены в Менделеевский институт. Не с первого раза, правда, и все же СДАЛ! Настроение! Хочется весь мир обнять. Начало лета. Словом, вы меня понимаете.
А вот моя знакомая, девушка самых возвышенных чувств, просто бредила театром.
— Хотя жизнь и театр, а мы актеры в нем, но жизнь без подмостков и кулис для меня лишена всякого смысла. Я рождена быть актрисой! Театральной актрисой! — говорила она, закатывая бирюзовые глаза к голубому небу.
Она только готовилась к вступительным экзаменам. Нервничала ужасно! Чтобы как-то успокоить, ободрить, я, провожая ее к вожделенному институту, без умолку болтал о том, какая она талантливая, как надо держать себя на экзаменах, что все будет замечательно, и все такое. И не заметил, как мы оказались в маленьком дворике с неработающим симпатичным фонтанчиком посередине.
Почти весь дворик был заполнен дарованиями приблизительно моего возраста. Слово «дарования» произношу без всякого сарказма — надо было видеть их лица. Здесь следует отметить, что лица эти по большей части были обращены к солидной двери старинного здания, на которой конторскими кнопками были прикреплены листочки. Каждый мог вписать себя, оставалось только дождаться, когда дверь откроется и долговязый студент снимет их и зычным голосом призовет пятерых по списку следовать за ним. Это было так торжественно и страшно, что неокрепшая психика некоторых не выдерживала и они не решались войти в святилище. Сопровождающему приходилось несколько раз громогласно повторять фамилии, что вселяло в абитуриентов еще больший трепет. Они так пугались, будто все являлись однофамильцами. Вид выходящих также не прибавлял уверенности. Естественно, это крайне отрицательно действовало на мою спутницу.
И вот в очередной раз выходит «ангел смерти» и призывает на судилище. Четверо обреченных отозвались, а пятый молчит. Гробовая тишина! Никто не признается, виду не подает. И как на грех этот трусишка оказался моим однофамильцем. Представляете?
Все дергаются, нервничают, смотрят друг на друга, словно кругом одни предатели или прокаженные. А студент и рад — талант выказывает, в раж входит — зов все гуще, свирепее. Моя знакомая глаза закатила, побледнела — сейчас в обморок упадет. Что делать прикажете?
Ну, пришлось взять да заявить: я, мол, такой-то и нечего здесь дантовские сцены разыгрывать — и так публика на взводе.
Подействовало. У абитуриентов сразу отлегло от сердца; к знакомой нормальный цвет лица вернулся, и глаза на место встали; у меня словно камень с души свалился.
Четверо пошли за студентом, а я, конечно, остался у двери. Стою себе и в ус не дую. Однако не тут-то было! Дверь вскоре отворилась, и детина, бесцеремонно схватив меня за плечо, потащил вовнутрь. Я сопротивляюсь, пытаюсь объяснить. Какое там! Бесполезно! А один страдалец-дарование прямо-таки со всей силы в спину толкнул, гаденыш.
Ну, иду по коридору, не знаю, как и выкрутиться, а потом думаю: «Стоит ли так волноваться? Через минуту выгонят, делов-то». Даже повеселел.
Вхожу в зал, там за столами с бумагами расположилась комиссия, очень недовольная.
— Что это вы, молодой человек, себя ждать заставляете? Порядка не знаете?
Еще что-то говорят в таком духе… А седовласый мужчина, сидевший в пол-оборота и смотревший в пол, ткнул в мою сторону пальцем и грозно изрек:
— Басню!
Все умолкли.
Вот вы можете сходу рассказать какую-нибудь басню? Я их только в начальных классах учил, и то не очень твердо. Начни читать — в лучшем случае карикатура получится. Позорище!
Мне бы сейчас же промямлить извинения и уйти, но я возьми да брякни:
— А можно пародию?
Не иначе как лукавый за язык дернул. Тут опять все зашумели:
— Что это вы, молодой человек, себе позволяете? Это уже слишком! Порядка не знаете!
Однако седовласый (видимо, председатель), не отрывая взгляда от пола, махнув рукой, обреченно произнес:
— Валяй пародию.
Должен все же признаться, что буквально перед походом этим прочитал в журнале «Крокодил» заметку о том, как трудно переводить басни, какие нелепости допускают некоторые иностранные переводчики, мало и плохо знакомые с предметом. И как пример была приведена пародия на басню «Демьянова уха». Понравилась!
Вот и начал валять:
— В одном из рррусских грррафств сэррр Демиан, эсквайррр, позвал серрра Фока на са-мо-ваиррр, — почему-то с жутким «еврейским» акцентом произнес я и сам этому немало удивился.
— Моншэррр, я вас прррошу прррэйти в мой скррромный уголок на файв-о-клок, — продекламировал громче, несуразно растопырив руки.
Наступила полная тишина. Председатель повернулся и уставился на меня с нескрываемым любопытством.
— Пришел Фока. Хозяин сам его встречает и прямо у порога угощает.
Вот счи на вертеле, вот сэндвичи с блинами, из рррэдьки пудинг, фирменный калатч — закуска к легкому вину «Перватч», — значительно повысив голос, продолжил я в надежде, что это будет последней фразой.
Теперь-то дошло во что ввязался! Надежды не оправдались. Члены комиссии с явным вниманием впились взглядами, ожидая продолжения. У меня же выступил холодный пот — далее из прочитанного не помнил ни строчки. Почти не помнил.
Отчаянно жестикулируя и корча рожи, сбиваясь, понес я невесть что, думая только об одном: когда же, наконец, остановят? Из-за столов послышались смешки, они перешли в хохот, в какой-то визг с похрюкиванием…
— И все, что видишь здесь вокруг, ты должен с хреном съесть, мой друг! — вопил я со зверской гримасой, пожирая глазами членов комиссии.
Я готов был загрызть их… или провалиться сквозь землю. Это было ужасно! Самое ужасное, что я вставлял в экспромт куски из других басен.
— Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое? — не к месту, в очередной раз не к месту, процитировал Крылова охрипшим уже голосом, что, конечно же, вызвало очередной взрыв хохота.
Но остановиться не получалось. Я как будто раздвоился: язык молол сам по себе, а мозг критически анализировал сказанное и лихорадочно искал выход из создавшегося положения.
За словами мысли явно не поспевали.
— А повара велю у стенки зарубить, чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить! — не продекламировал, а скорее прорычал отсебятину, угрожая присутствующим кулаком.
Катастрофа! Время перестало течь.
Точку в этой вакханалии нужно было ставить самому. Пожалуй, это была первая правильная мысль. В голове мгновенно всплыло окончание пародии, и я, зачем-то подойдя к наиболее удаленному столу, гордо произнес:
— С тех пор я замечаю: не пьет Фока ни перватча, ни чаю!
Затем, как мне казалось, «по-театральному» низко поклонился, а когда выпрямился, глазам предстала кошмарная картина: члены комиссии дергались в конвульсиях, кто-то, распластавшись по столу, отчаянно колотил по нему руками, другой, мыча жутко мотал головой, а одна дама… да что там рассказывать. Председатель, раскачиваясь на стуле, с завидной силой махал руками и зычно выл: «У-у-у-у-у! У-у-у-у-у!»
Сколько так продолжалось, не знаю. Я все еще пребывал в полной прострации.
Наконец, все более-менее успокоились, приняли человеческий вид. Председатель эффектным движением поправил волосы и, широко улыбаясь, вынес вердикт:
— Годится! Полагаю, возражений нет. Готовься к экзаменам. Не надо лихачить, не надо пародий! Гы — ы — ы — ы!
Ответом был лишь жалобный стон:
— Но я же уже поступил в один институт.
— В какой? — изумился председатель комиссии.
— В МХТИ.
— МХТИ, МХТИ? Московский художественно-театральный институт? У-у-у-у! У-у-у!
Кажется, еще что-то было…
Я вывалился на свежий воздух. Боже, какое это счастье снова почувствовать себя свободным человеком! Как прекрасен мир вокруг! Как приятно снова увидеть милое лицо. Однако моя знакомая, бледная как полотно, с опаской подошла и с каким-то отчуждением выдавила из себя:
— Ну-у-у?
— Прошел, — прошептал я удрученно.
Знакомая отшатнулась, словно услышала какую-то гадость. Другие тоже посмотрели на меня, прямо скажем, не слишком дружелюбно. Расфуфыренная девица, стоявшая рядом, презрительно фыркнула, а парень, державший ее за пальчик, испуганно перекрестился. Все слегка расступились. Я изобразил подобие улыбки и на ватных ногах пошел к фонтану — мне необходима была опора. Жаль, воды в нем не было! Только там заметил, что рубашка наполовину вылезла из брюк и с нее исчезла пара пуговиц.
Подруга провалилась. Она заявила, что моя безобразная выходка крайне негативно отразилась на работоспособности комиссии, в результате чего мэтры не смогли объективно оценить ее талант, и с такими эгоистами, как я, ей не по пути.
Так что служить Мельпомене и до этого случая не хотелось, а уж после — тем более! Возможно, вы и не поверите, но меня даже слово «театр» раздражать стало. Дикая история.
Последние каникулы
Моим ботинцам
Мне бы скатертью льняною застелить наш длинный стол, всех собрать, кого люблю я — до земли им мой поклон. Смех услышать, рюмку выпить, говорить и говорить… да теперь уж не увидеть, не услышать, не прощенья попросить…

Глава 1. Перстень с солитером
В руках у меня старый блокнот. На его бледно-зелёной обложке два золотых иероглифа и четыре на корешке; что они означают, я так и не удосужился узнать. Подарили мне его в Пекине, где я жил в интернате, пока родители работали в городе Лоян провинции Хэнань. Помню, такой подарок сильно расстроил меня. Я так хотел, так ждал альбом для марок, а тут… Правда, некоторое время марки в нём всё же хранились. С каким наслаждением я рассматривал и перекладывал их, листая шелковистые страницы палевого оттенка. Постепенно мне стал нравиться причудливый орнамент в виде драконов в верхней части каждого листа и цветочной орнамент внизу, мельчайшие точки, образующие паутинные линии строк. И после того как марки обрели надлежащее хранение, решил использовать блокнот по его прямому назначению — вести дневник. Но каждый раз, как только брался за него, становилось ясно — писать не о чем. И всё же страницы не остались нетронутыми. Произошло это много позже, уже в Москве. Тогда, помню, отец из Индии прислал с десяток шариковых ручек. Большую часть я раздал. В классе были в восторге! В то время таких ручек ещё ни у кого не было. Самой тонкой из них написаны первые страницы. Вначале я писал на отдельных листочках и, лишь убедившись, что всё верно, раскрывал блокнот. Затем стал писать сразу начисто, разумеется, огорчался, если замечал неточности. Но не вымарывать же! Под конец, однако, не понравившееся аккуратно зачёркивал. «Главное содержание, а не форма», — подбадривал я себя.
Содержание блокнота привожу без каких-либо изменений, разве что с исправлением замеченных ошибок. Как говорится, льщу себя надеждой, что внукам события тех лет будут интересны.
1
В преклонном возрасте Владимир Кузьмич был статен, c огромной аккуратной бородой, всегда опрятно одет. Движения его были несколько замедленными и от того казались преисполненными некой особой значимости. Жил Владимир Кузьмич один, в маленьком склАдном доме, в стороне от других домов деревни. В округе почему-то прозвали его «Барином», которым, конечно, он никогда не был, а сколько мог плотничал, вел немудреное хозяйство и никому не отказывал в помощи по строительству. Мастером он был замечательным, несмотря на то, что на правой руке не было большого пальца и двух фаланг указательного.
Подружились, если это только можно так назвать, мы с ним много раньше, когда я был еще пионером. Поначалу, правда, смеялся над ним.
Бывало, в солнечную погоду весной выйдет он на пригорок, где снег только что стаял, не торопясь снимет валенки и встанет на землю.
Нам, мальчишкам, смешно:
— Смотри-ка, Барин по траве соскучился! А ноги-то на земле не умещаются: пятки в снегу стоят!
Крикнешь ему:
— Холодно босиком-то?
— Ничего, брат ты мой, — только и ответит.
Или осенью у околицы сядет на лавку под дуб, снимет картуз и дает нам:
— Наберите-ка желудков попробовать.
Мы нарочно со всей округи полный картуз с горочкой наберём. Он лишь покачает укоризненно головой, очистит и жует. Скажешь:
— Горько ведь.
А он своё:
— Ничего, брат ты мой.
Мы хохочем:
— Барин, а жёлуди ест!
Шикнет на нас — мы врассыпную. Весело было.
Не припомню, были ли летом у него какие-нибудь чудачества… В эти длинные дни в деревне он бывал нечасто — работал с другими плотниками на больших, по деревенским масштабам, стройках. Впрочем, любил прийти на огромный холм, сесть на уцелевший от некогда стоявшей там вышки фундамент и долго сидеть, изредка то ли ощупывая, то ли поглаживая старые камни. Когда я туда приходил один, он непременно звал к себе:
— Посиди, камни тут тёплые. Ишь, как запыхался, всё бегом, торопишься… а ты не торопись…
Сидим молча. Вот как-то спрашиваю:
— Дедушка, что ты здесь делаешь?
— Место больно замечательное.
И опять молчит. Погладил камень и говорит:
— Эту кладку еще Немец делал.
— Как это? Она же еще раньше была?!
— Да не фашист… от него, вишь, кругом одни окопы остались. Каменщика так прозвали, потому что глухонемой он был и неженатый. И как сложил! Когда мужики хотели разобрать на кирпичи, веришь ли, ни одного не смогли целым выломать; пыль одна шла да мелкие крошки. Провозились с полдня да инстрУмент попортили — и только. А ведь ты думаешь, почему окопы кругом нарыты, а здесь нет? Не знаешь? Да земли здесь на полштыка, не больше! Под столбы эти, на самую макушку, щебня натаскали — страсть, извести навезли, еще чего-то… Воду, помню, возили, а Немец заправлял, что и как делать, знал точно. Так что не смог фашист окопы здесь выкопать… хотя, конечно… наверно, ругался.
Старик встал и хотел было уйти, да я упросил его ещё рассказать. Он недовольно помолчал и продолжил:
— Каменщик был мастером, таких теперь и не рожают! На речке остров — Купальня, знаешь? Думаешь, ребятишки там плескаются, вот и Купальня? А там и вправду она была, это всё в мирное время ещё было… Так вот, купальню эту тоже Немец построил прямо в воде из розового мрамора! Да так, что и щелей-то видно не было! Вроде бы на спор построил, дескать, мастер у меня есть — что хошь сложит. Да кто ж это знает? Может, и не спорили!… Баловство все это. До первой весны…
Барин-то поначалу дежурство установил: каждый день какой-нибудь двор её чистить обязан был. За деньги, конечно, и кто хотел, но не упомню, отказывался ли кто. Да и почему не почистить? Купальня маленькая была, мелкая. Ребятишки всё равно дрызгаются. А тут на виду — не утонут. Да и от денег кто откажется? Ну, об них говорить… ты ещё мал…
— Дедушка, расскажи ещё!
Помолчали.
— Вот под тот столб барин сам золотой червонец положил. Что уж под другими — не знаю, не видел.
Когда Немец подготовил макушку-то, народу собралось — тьма! Слухи быстро ползут! День был жаркий… Пришли даже из Тучково! Тогда оно называлось Мухино. Всем было интересно, как вышку строить будут, да и подработать хотелось. Шептались, что с вышки даже Москву видать можно будет. Батюшка, помню, смурый был, но благословил, как положено. И тут барин важно так достал монету, всем показал и бросил в яму. Каменщик на коленки встал, перекрестился да на червонец кирпич и поставил. И началось! Да….
В этих местах такие дела были, брат ты мой!
Старик умолк и стало как-то неловко.
— А под купальню тоже барин деньги положил?
— Кто его знает? Она раньше была построена. Однако заболтался.
Дед встал, одернул рубаху и ушел. Я посидел немного, зачем-то залез на столб, на который показывал Владимир Кузьмич, постучал по нему каблуком, попрыгал и пошел дальше.
А дома бабка ругает:
— Что это ты всё с Барином ходишь? Али мальчишек мало? Он ведь не свой век живёт! И на вышку всё бегаешь чего? Он понятно: сторожем при ней был. А ты?
— А он говорит, что под вышку барин золотой червонец положил.
— А ты больше его слушай! Нечто золото кладут? Пятнадцать копеек серебром — пятиалтынный — надо под каждый угол.
— Как, бабушка, и ты на строительстве вышки была?
— Да господь с тобой, я тогда ещё совсем махонькая была.
— Откуда же ты знаешь?
— Ну, нечего под ногами путаться! Ступай, ступай, погуляй, шалопут!
2
В другой раз разговорились мы с Владимиром Кузьмичом на лавке под старым дубом.
— Там, где теперь пионерлагерь, была усадьба барина Леманна. И у других усадьбы тоже имелись, да жили они больше в Москве, а наш «Первопрестольную присутствием не жаловал» — его слова… Не скажу, что очень богатым он был, но с замашками барскими. Когда его дом разбирали, то, веришь ли, между бревнами и внутренними панелями листы из пробки были — должно быть, тишину любил. Уж сколько домов да изб поставил да перестроил, а о таком даже и не слыхивал. А вышку какую построил! Я тогда, можно сказать, еще мальчонком был, хотя и здоровее всех сверстников и от того казался гораздо старше. Так вот, пристроился я помогать плотникам. На побегушках, конечно. А старшим у них был Иван Егорыч — левша. Топор у него будто сам работал — посмотреть любо-дорого. Ну, я по молодости да по глупости решил тоже попробовать левой да как-то и хватил себя. Народ-то всё бросил да ко мне. «Убили!» — кричат. А мой дед, царствие ему небесное, табачным пеплом рану присыпал, тряпицей перевязал и говорит: «Ничего, брат ты мой!»
Пока руку лечили, понял: мастерство не в руках — оно внутри. Плотникам всё же помогал, а когда вышку построили, барин сам предложил стать мне при ней сторожем. Отец с матерью согласились, и я тоже. Отчего не посторожить? Платил, конечно, и неплохо за такую-то работу. Да…
А вышку выстроил красивую: четыре столба-фундамента из кирпича, на них столбы бревенчатые, затем — большая площадка с резными перилами, а от неё опять столбы, но уже из дуба, и кончались они площадкой поменьше, конечно, тоже дубовой, резной. Вышка-то по чертежам-рисункам строилась, а резьбу Иван Егорыч делал по своему усмотрению — даром что плотник. Барин на ней, правда, нечасто бывал: больше на Зосиму, 30 апреля, в день своего рождения. Народ, бывало, соберётся, барина ждет, а он чинно так с гостями из усадьбы и выходит, с горы хорошо видно. Подойдёт, бывало, все кланяются, поздравляют, а он с гостями на вышку взойдёт и шампанским стрельнет. Потом начнёт медяки сверху горстями кидать и непременно несколько серебряных меченых монет с ними бросит. Ежели кто найдёт, тому дозволялось на вышку взойти, но не на самый верх, а на нижнюю площадку, там водкой угощали. Из нашей-то деревни больше эти деньги ребятишки подбирали, да барин это и замечать не хотел. Так-то!
Старик умолк и подождал, когда я попрошу его рассказать ещё.
— Потом Первая мировая началась, тогда её называли Второй Отечественной. Первой-то считалась война с Наполеоном! Тут уж не до барина было… Купальню всю илом занесло да тиной… Да и сам он уж немолодой стал, к реке вовсе не спускался. Сам знаешь, какие у нас горы. Позже мрамор растащили, но больше в ил ушло. Вот остров-то и образовался!
Вышку я тогда уже мало сторожил. Это поначалу в диковину, а потом привыкли. Ну, вышка и вышка. В войну и вовсе не до неё было. Барин мне платить меньше стал, сказал, что дела теперь меньше, но чтобы смотрел.
А перед самой революцией он вдруг ремонт надумал. Сам мне сказал, дескать, вышка старая стала, подновить её нужно, и чтобы я не ходил сюда, здесь работники и так будут, смотреть незачем. И впрямь, Немец что-то под вышкой при барине делал. Ну, я в это время к тётке за реку на старый хутор и ушёл. Тогда говорили: «На cтарый план». Она да приживалка там жили. Пробыл несколько дней и домой наутро вернулся. Только на крыльцо ступил, а мне соседка кричит:
— Вышка-то сгорела!
— Как так?
— А так: царя-то нет, вот барин-то и сбежал! Иди скорее туда!
Я бегом, гляжу — и впрямь, завалилась вышка и обуглилась сильно, дымится ещё местами. Если бы не погода, то ничего бы не осталось! А из барского дома добро тащат: кто побойчей — тот самовар, кто поглупее — картину. Подхожу ближе, а мне и кричат:
— Революция! Всё теперь общее! Барина нет, все разбежались, бери что хочешь!
А в усадьбе уже одна громоздкость осталась да книги валялись. В одной из комнат стул валялся, я его зачем-то и взял. Дома мне за него сильно досталось…
Барина-то скоро поймали, по барьям-соседям прятался, да всё допытывались, куда он богатство — золото девал. А он и говорит:
— Проклят тот будет, кто позарится на него!
Ну, его в Рузу на Ивановскую гору и повезли, там поначалу на пуговичной фабрике что-то вроде ревкома было, да, видно, отпустили его оттуда. Пришел он вскорости в усадьбу невредимый. Да как там жить? Никого и ничего. Из некоторых окон даже стёкла унесли. Ну, говорят, он к брату в Москву и уехал.
А тут, представь себе, каменщика утопшим нашли, царствие ему небесное. Поначалу-то удивлялись: неужели с прислугой сбежал? Ему-то зачем? Чай, не повар! Повар у барина был — что ты! На хромой козе не подъедешь! Даром что повар. Как же, с барином в Париж ездил! Это ещё до вышки было… Такие вот дела.
Старик перевёл дух и продолжил:
— И вот, как-то раз под вечер подхожу к усадьбе, гляжу, там след вроде как от ямщицких саней (у наших-то розвальни) и кто-то ходит, на мужика не похожий. Подошёл. Помню ещё, в руке у меня топор был, и спрашиваю:
— Кто такой? И чего здесь надо?
— Я то, говорит, брат хозяина усадьбы, а ты какое отношение к ней имеешь?
Ну, я ему и сказал, что сторожем был. Он посмотрел кругом и злобно так:
— Обобрали барина и голым выставили, сторожа — хозяева!
Я ему:
— Не очень-то! С чем барин ушёл отсюда, с тем и вернулся.
— Да так ли?
— Сам не видел, а мужики сказывали, что при поимке обыскали и, кроме часов да перстня с камнем, ничего у него при себе не нашлось, разве что из одежды да кошелёк. И то не взяли! У нас отродясь воров не было. Он сам сбежал и всё бросил, и ежели из усадьбы что берут, так по надобности.
Ещё потолковали. Он и спрашивает:
— А вышка чем революции не угодила? Я ему и расскажи про пожар: дескать, сам удивляюсь. Только ежели рассудить, барская забава всегда мужику поперёк горла. На этом и разошлись.
Старик умолк. Я сидел, не смея проронить ни слова.
— Кажись, года два прошло или больше, я уже женатым был, усадьбу всю растащили, разве только от барского дома осталось что… Даже обгоревшие брёвна от вышки — и те взяли… Жена у меня при родах умерла, царствие ей небесное.
Владимир Кузьмич перекрестился и, вздохнув, продолжал:
— Да, два года с половиной… Я тогда точно чумовой стал, места себе не находил. На вышку пришёл как-то, сел на столб. Долго сидел, а потом и думаю:
— Что это Немец делал?
Смотрю, посередине меж столбами квадрат цементный появился — аккурат на вершок ниже земли. Раньше-то не замечал: золой да угольями засыпан он был. Там ведь фундамент под лестницу был, тоже квадратный, но чуть выше земли!
И вот, брат ты мой, то о жене-покойнице думаю, то о вышке, то о жене, то о барине. И так что ни день. Зачем это, к примеру, брат барина приезжал? Это зимой-то! И действительно, куда это богатство делось? Что-то у него наверняка было, не один же перстень? Перстень он и вправду носил, красивый такой, с большим бриллиантом, а внутри — по оправе — надпись чуднАя…
— Откуда же, дедушка, ты знаешь, что внутри написано? Разве ты видел? — не выдержал я.
Он как-то странно посмотрел на меня — будто увидел впервые.
— Мал ты ещё…
Затем встал, помедлил и ушёл. Мне стало как-то не по себе. Нечаянно обидел старика, наверное, он больше ничего никогда не расскажет, но тут же подумалось, что бабка была права: сказки сказывает. Эта мысль немного подняла настроение, и я побрёл домой.
Вечерело. За лес, перед которым стоял дом Владимира Кузьмича, садилось огромное багряное солнце, и от этого и лес, и дом казались особенно тёмными и таинственными.
В это лето мы больше не встречались, а затем и вовсе я с родителями надолго уехал.
3
И вот я опять в этих местах. Хотелось сразу побывать везде, увидеть сразу всё, что когда-то было моим миром.
Остров перестал быть купальней, вырос и превратился скорее в выступ берега с топкой перемычкой. На вышке по-прежнему из земли виднелся краснокирпичный фундамент, разве что больше ушёл в землю и зарос. Посреди него — старое пепелище от огромного костра. Окопы вокруг превратились в сильно заросшие канавы. У того самого дуба появились сухие ветви, и он уже не казался таким огромным и могучим. Под ним, впрочем, стояла новая лавка. Всё вокруг состарилось и как-то съежилось.
Друзья постарше были в армии, у ровесников свои дела, и посвящать в них меня они не спешили — я стал чужим. Владимир Кузьмич, как мне сказали, в полном здравии и уме, постарел только сильно. Из деревни теперь редко отлучается и чаще по вечерам сидит у околицы.
Где-то через неделю я увидел его. С каким нетерпением я ждал этой встречи! Владимир Кузьмич сидел под дубом один, в том же картузе, новой рубахе, с палочкой в руках. Постарел он действительно сильно. Я поздоровался.
— Володя! — обрадовался он. — Здравствуй.
Раньше он никогда меня не звал по имени. Впрочем, раньше он меня никак не называл.
— Дай-ка я посмотрю на тебя. Вот ты какой стал… Возмужал! Да садись, садись!
Мы разговорились: больше о здоровье, о родных и знакомых.
— А помнишь, Володя, про барина я тебе рассказывал? Вышку?
— Как можно? Всё помню! Всё!
— Ну и хорошо… Холодать уже стало. Пойду я, пожалуй, а ты посиди, посиди, здесь хорошо…
Старик встал и медленно пошёл домой. Я его не видел ещё дня два, а на третий встретились мы у его дома.
— Володя, что же ты не заходишь ко мне? Ты ведь у меня никогда и не был! Заходи!
Через узкое крыльцо мы прошли в избу — довольно просторные тёмные сени, посередине длинный стол, на нём вёдра с водой, за ним топчан, на стене полка с инструментами, над ней старинная лучковая пила, сбоку дверь, закрытая на засов. «Должно быть, эта дверь в пристроенный сарай», — мельком отметил я. Другая дверь, обитая войлоком, вела в жилую часть дома. Хозяин с заметным усилием распахнул её, и я оказался в комнате с отгороженной кухонькой, большой русской печью, рядом с которой была совсем маленькая, с конфорками. У окна массивный стол, с одной его стороны обшарпанный резной стул с остатками некогда зеленой кожи, с другой — сундук, покрытый лоскутным одеялом, перед столом большая лавка. На тёсаной, казалось, полированной, стене — ходики, зеркало, численник и фотографии. Под ними кушетка с заправленной постелью. Ещё дверь, запертая на кованый крючок, но, куда вела она, не знаю.
— Это мои родители. А это тётка. Первые фотокарточки в деревне! Эти, правда, уже после войны племянник сделал из прежних попорченных. Те небольшие были. Отец крупные портреты любил! Тут братья и сестра. Царствие им небесное! Ну, это я в партизанах с командиром нашим: благодарность выносит. А тут… тебе неинтересно будет. Да ты садись, садись сюда, на стул. А я по привычке на сундуке посижу. Самовар сейчас будет!
За чаем мы опять вспоминали родственников и знакомых, затем ещё раз рассматривали фотографии, теперь уже внимательно, и снова сели за стол.
— Что же, Володя, ты про барина не спрашиваешь?
— Неловко как-то.
— А знаешь, я ведь Леманна-младшего, ну, брата барина, хоронил. Под чужим именем, правда, да господь разберёт…
— С этой вышкой я тогда чуть с ума не сошёл, — это было произнесено так, будто давний разговор о Леманне и не прерывался.
Всё ходил туда и догадался: барин велел Немцу, имени-то его не помню, потайной колодец под вышкой сделать, спрятал туда добро да каменщика и утопил, должно быть. Вышку поджёг — и бежать. Прямо как чувствовал что. Думал, кто там искать будет? И место приметное, всегда отыскать можно. И решил я, брат ты мой, выкопать клад!
И вот, как-то ночью взял лом, лопату — да и на вышку. Как сейчас помню: вышел из избы, кругом тихо, на небе ни облачка, луна светит, а когда до вышки дошёл, туча из-за леса вышла, ветер поднялся, и только я ломом по пятачку стукнул, как молния сверкнула, гром и ливень начался. А ведь рановато для гроз! Вспомнил тогда слова барина, страшно стало, перекрестился — и назад.
Только клад из головы не выходит. По ночам то жена-покойница снится, то клад, то жена, то вышка. Аккурат на Зосиму, помню, лёг не в избе, а в сенях, печь больно натопил да всю ночь на новом месте и ворочаюсь, никак уснуть не могу, чудится мне, будто барин клад выкопать хочет. Измучился весь… Встал — и на вышку. Подхожу и точно: кто-то стоит на коленях, рядом фонарик, и саперной лопатой скребёт. Ну, я подкрался и навалился на него покрепче. Он и не сопротивляется! Кто такой, спрашиваю? А он хрипит только, отпустил его да фонариком и посветил. Гляжу, а это брат барина!
— Что, — говорю, — братец каменщика утопил, вышку поджёг и был таков, а ты добро забрать хочешь?
А он шепчет:
— Кто ты?
— Не узнаёшь? Сторож я! Мы уже раз виделись!
— Умираю…
И впрямь: лежит, не шевелится и тихо стонет. Ну, я лесом и принёс его в избу.
Смотрю — батюшки, да он ранен в плечо. Лечил его, конечно, как мог. А чтобы никто не знал, положил его в маленькую комнату, тогда у меня пятистенка ещё большая была. Так вот, дня через два ему полегчало, поразговорчивее стал. Спросил, откуда я про клад знаю.
— Догадался, — говорю.
Позже и рассказал мне. Приехал к нему брат, плачет: дескать, имение растащили, вышку сожгли, в ревком отвезли и там всё фамильное отобрали — ценность представляет. Одни часы оставили. Прощения просил.
Они с братом-то из-за наследства разошлись, вроде как не поделили.
Леманн много мне чего рассказывал: и про семью, про всех дедов да прадедов, и всё у него цари да бары, купли да продажи. Да я мало чего про это запомнил — он о своём семействе говорит, а я о своём всё думаю. Сказывал, что поначалу брату поверил. Да и как не поверить? Кругом тогда что делалось! Свояченицу, сказывал, приютить пришлось, её сразу раскулачили. Просто выгнали из дома со всеми домочадцами, а она, говорит, шутила:
— Мы гордиться должны, что в нашей усадьбе главный штаб сделали! Так-то! Только потом сомнение его взяло: отчего это, скажем, часы оставили? Якобы редкие они были, с фигурами, эмалированные, от деда. И сокрушался братец-то больше о перстне.
— Дурачье! — говорил, — а туда же, Россией править хотят!
На перстне-то резьбу увидали, так больно подозрительной показалась, чуть ли ни шифровкой. Ювелира местного приволокли, тот трясся, как осиновый лист. Тоже дурак, всё «не знаю» да «кажется» мычал. В Кремле об этом узнать советовал. Эко хватил! Так ведь поехали в Кремль!
Когда брат в Париж уехал, он ещё больше засомневался. А позже сюда примчал, и мы с ним случайно и встретились. И после этого все его сомнения развеялись: где-то, думает, на усадьбе фамильное спрятано. Но где? Разве найдешь!
Поехал он в Рузу… Руза не Москва! Разыскал там ювелира, оказалось, никакой он не ювелир, а больше часовщик, хотя тоже не очень, но лавку держал. Ювелирным делом только поначалу занимался. У всех, видишь ли, лавки: и у Шевердяевых, и у Кармалина, у Зуева, на что уж купцы известные, и то… а у него на вывеске — «Магазин»… из немцев! Он за деньги-то и рассказал, что действительно в ревкоме ему перстень показывали и надписью интересовались: давно ли она сделана. Сказал, что вроде давно, ещё сказал, что вещь старинная и лучше о ней справиться у ювелира кремлевской ризницы, его якобы дальнего родственника.
И решил младший Леманн хотя бы перстень вернуть, а как — и сам ещё не знал. Вернулся в Москву — и к ювелиру; представился и сразу о перстне-то и выложил, хотя, конечно, никакой уверенности, что перстень у него, не было. Разве узнать что. Да не сразу у них сладилось-то. Леманн ему о своих предках рассказывал, то да сё, просил всё перстень фамильный показать, говорил, что из России скоро уедет.
С этим перстнем-то у них в роду предание от отца к сыну шло. Будто бы прапрадед их в Россию Лефортом был выписан в наставники русской армии. Да ничего путного из этого не вышло, так я понял, хотя и чин имел. Прадед тоже военным был и в турецкую кампанию у какого-то нАбольшего турка перстень-то и отвоевал. Откупиться тот хотел. Перстень тоже, знаешь… исторический! Якобы царей тамошних. Во как! И умудрился, запамятовал уж через кого, самому Потёмкину поднести, а тот храбреца пожелал видеть, за подвиг перстень вернул и велел надпись на нем сделать. Только слова все никак не умещались, и решили тогда одни первые буквы вырезать. Вот надпись-то чудная и получилась. Об этом, говорит, даже Попов писал. А кто такой — спросить не случилось… Что за слова там были, я не упомнил — речь-то больно непривычная. Вроде как даже с укоризной. Да…
Ювелир-то признался, что приходил к нему студент-недоучка, весь расхристанный, ободранный, как после драки. Аж перепугал всех! Да как не впустить, ведь при мандате! О надписи расспрашивал, о камне и приказывал перстень у него оставить. Ну, тот возражал: говорил, что к ценностям Кремля это никакого отношения не имеет. Да разве поспоришь? Вынул тот револьвер и расписку продиктовал, сказал, что некогда ревкому побрякушками заниматься, обещал скоро вернуться.
А перстень-то он так и не показал…
Однако была у ювелира коллекция копий. Все камни ризницы себе сделал и дома держал. И так ему перстень понравился, что скопировал и его и даже надпись воспроизвел. Вот он Леманну копию-то и показывал. И ведь что тот шельма придумал: уговорил какого-то вора всю коллекцию унести и ему отдать. И только он её получил, так сразу к ювелиру.
— Проститься, — говорит, — пришел. Россию покидаю.
Ну, и на стол поставил, наверное.
— Хочу, — говорит, — последний раз на фамильное взглянуть. А ювелир чуть не плачет:
— Ограбили! Коллекцию унесли!
Леманн у него потихоньку выпытывать стал: не заявлял ли он куда о пропаже. Ювелир не заявлял — камни-то ненастоящие. Да и заяви — себе дороже будет.
Братец-то ему всё о своем, о перстне. А когда хозяин захмелел, то и согласился незаметно его в хранилище провести. Пришли они: ювелир на камни смотрит, причитает, а перстень отдельно хранился, его Леманн взял и слезу пустил да, улучив минуту, и подменил на копию. Поплакали они да так же незаметно и вышли. Правда, Леманн-то из благодарности ювелиру коллекцию домой подкинул, а, скорее всего, подумал, что тот и так догадается, кто украл. Ювелир, небось, ещё не раз его вспомнил. Ведь в конце той зимы ризницу обокрали! Почитай, самого патриарха! Не приведи господь!
Старик медленно перекрестился.
— На тридцать миллионов золотом унесли! Вся Россия гудела. Вот я и думаю: с чего это вдруг решили Кремль обобрать? Небось, копии камней увидали, так кровь в башку-то и ударила… Леманн, кажись, тоже так думал, говорит:
— По газетам следил, что у вас тут делается. Никак не ожидал, что ризницу ограбят. Кошмар!
— А там кто его знает? К себе, конечно, не вернулся и сбежал во Францию. Чужбина, она, знаешь, не мать родная! Да… Только перстень там не смог продать: всё казалось ему, что настоящей цены никто не давал. И о кладе всё думал и догадался. А догадался — и сам не рад… Точно обезумел, говорит. Так-то, брат ты мой! И решил он всё фамильное во что бы то ни стало забрать. Да только, говорит, сразу всё не так пошло, как кто сглазил! Ну, при переходе границы и ранили его.
Владимир Кузьмич снова заварил чай и продолжал:
— А когда понял, что не суждено ему фамильным-то владеть, так всё выговориться хотел, доказать всё чего-то пытался. Предков вспомнил, брата, себя жалел, говорил, большими людьми стать могли. Вот вся сила в разговоры и ушла. А перед самой смертью перстень мне сам отдал и просил только об одном: похоронить его по-людски. В Иванов день умер. Царствие ему небесное! Да похоронить-то непросто. Взял я грех на душу — за родственника приезжего его выдал. Бог милостив! Обошлось… А вскоре и братья погибли…
Старик, беззвучно шевеля губами, перекрестился. Помолчали. Чувствовалось, он устал.
— И вот, сижу я один, кручу перед лампой перстень… Камень красивый такой, затейливый, радугой так и играет… И так мне от всего этого тошно стало! Веришь ли, Володя? Хоть в петлю! Взял я тогда лом, лопату — и на вышку; закопаю, думаю, и его туда же. И не заметил, как у каменного пятачка оказался-то! И так в сердцах его ломом хватил, аж угол отлетел. Пятачок-то сковырнул и… опомнился. Назад хотел было повернуть, да уж никак нельзя! Разворотил щебенку, она как будто сцементирована была. А под ней через полметра так — плита цементная на кирпичной кладке лежит и по углам плиты — крюки железные. Я и так с ней и эдак, ну никак поднять не могу — здорова больно и сдвинуть-то в яме некуда. А тут уж светать стало… Засыпал яму и пятачок назад еле поставил да и домой пошёл. К дому уж подходил, как дождик начался и лил с неделю.
А я, брат ты мой, хуже Леманна стал: чего только не передумал, о ком только не вспомнил! И перстень этот окаянный нет-нет да и достану… За окном льет… В избе один… Вот когда волком выть! Грешным делом думал даже в Москву податься, перстень продать, обжиться там, клад достать да тётку к себе перетащить… Только пустое это всё… По кругу… Однако, разъяснело. Сделал я ворот — и снова на вышку. Сдвинул пятак, выгреб щебенку, ворот поставил да верёвкой за крюки и зацепил, как сейчас помню: стою и не знаю, что делать. Прямо затмение нашло какое-то! Кругом тихо так, луна светит, а я словно жду чего-то.
Вдруг где-то на усадьбе ночная птица прокричала нехорошо так. Очнулся я и плиту давай поднимать. Под ней колодец узкий. Посветил в него фонариком Леманна, там… сияние — ларец перламутровый. Достал его — воистину красота! На крышке герб, ручка витая, кажись, серебряная. Хотел было сейчас же и открыть, да нечем! И ломать-то жалко. А тут опять птица кричит где-то совсем рядом, прямо-таки над ухом. Я чуть ларец не выронил! Просто наваждение: забыл, зачем пришёл! Положил я тогда на ларец перстень, закрыл колодец, засыпал всё, пятак на место задвинул, схватил ворот — и бегом домой. Во как, брат ты мой!
Владимир Кузьмич ещё раз перекрестился. Помолчал и каким-то чужим, охрипшим уже голосом, продолжил.
— А днем тётка проведать пришла — не захворал ли. Я с ней и закрутился, а потом и вовсе не до клада было, да и успокоился я. Много чего насмотрелся, много чего передумать да пережить пришлось, вот и успокоился.
Старик умолк, и в напряжённой тишине отчетливо стало слышно его тяжелое дыхание да такое же тяжелое тиканье часов.
Я пребывал в некотором замешательстве, хотелось скорее спросить о дальнейшей судьбе клада, но отчего-то никак не мог найти нужных слов. Сам вопрос казался мне неудобным, никчемным, даже наглым.
— А ближе к войне забрали меня в НКВД, — прервал затянувшееся молчание Владимир Кузьмич. — Следователь больно въедливый попался и после каждого слова все «так» добавлял. Говорит:
— Это кто? — и показывает мне фотокарточку.
— Барин, — говорю, — наш!
— Ваш, значит? Так! А что, деревня на его земле была?
— Да нет, — говорю, — только раньше, года до 11-го, ежели помню. У нас деревня вольная, как все.
— Так! Вольная, значит? Так! А ты у него сторожем был?
— Не то чтобы сторожем, но сторожил постройку одну — вышку.
— Не сторожем, но сторожил? Так!
— А это кто? — и показывает мне ещё фотокарточки.
— Не знаю, — говорю.
— Не знаешь? Так!
Трое суток мурыжил с зуботычинами, о прислуге расспрашивал, барине, да что я знаю, мужика какого-то показывал, еле отговорился. Да… Думал, в Москву повезут, ан нет… выпустили.
А потом в газете про барина сам читал: главарём диверсантов он оказался. Он и ещё четверо хотели мост у Филей взорвать. Взяли их там с поличным: с инструментом, лопатами, при оружии. К расстрелу приговорили.
Помолчали. Владимир Кузьмич не торопясь отодвинул блюдце и поставил на него вверх дном чашку, важно огладил седую бороду и тихо произнёс:
— Старый он больно был, может, и с головой что, но четверо — это слишком. Вопрос?.. Брат ты мой.
Глаза старика потухли и наполовину закрылись, лицо сделалось безразличным, будто окаменело. И снова тиканье ходиков стало невыносимо громким, молчание — бесконечным. Чтобы как-то разрядить обстановку, я осторожно поинтересовался, рассказывал ли он еще кому. Владимир Кузьмич встрепенулся, сел поудобнее, в прищуре глаз появилась теплота.
— В конце 41-го, ещё в партизанах, рассказал командиру нашему. Тогда мы аккурат в лесу за рекой стояли. Всё рассказал как на духу. Да только показалось, не поверил он — молодой ещё. Говорит:
— Что же ты, Кузьмич, предлагаешь операцию планировать, на рожон лезть? Да если даже мы высотку займём, что там? Там ведь перерыто всё. И что в шкатулке — тоже неизвестно. Не Шереметьев же твой барин. А если и есть чего? Что же ты, спросят, следователю не сказал? А? Так что помалкивай лучше! После победы сам сдашь. Ты всё понял?
— Вот так-то, брат ты мой!
Как только Рузу освободили, я сразу плотничать в бригаду пошёл. В мою-то избу снаряд попал, аккурат в печку, хорошо — калибр небольшой. Внутри разворотило всё, крышу сдвинуло да попортило, а стены раздуло только малость. У соседей хуже. У кого — и вовсе ничего не осталось. Моя-то у леса — это, думаю, и спасло. Поправил с пята на десято и в бригаду. Помотало нас… не приведи господь! А что лишнего сболтнёшь, только тебя и видели. Время такое было. И после войны тоже, знаешь… Да и дел свалилось… Избу править надо. Она так и стояла. Никто не тронул. Да и кому? От деревни четыре двора осталось — и те со старухами. Ну, перестроил её, из большой маленькую сделать — не задача! А рядом так ничего и не построили. Вот и живу на отшибе… как барин.
Владимир Кузьмич хотел было подняться из-за стола, но передумал и продолжил:
— Да, чуть не забыл. О перстне-то мне ещё однажды услыхать довелось. Вот ведь память треклятая!.. Встретил как-то я артельного… ну… с Новосельской пуговичной фабрики, давно это было, ещё до войны. Так вот, за разговорами и выяснялось, что комитет-то они в 17-м организовали, да толку мало: особо никто их и не признаёт. Пришлось в Москву петицию писать. А самым грамотным у них был студент, знаешь, из «кухаркиных детей». Больно бойкий, говорит, был и начитанный страсть как, политическими словами так и сыпал. Только, значит, они бумагу-то составили, а тут деревенские барина притащили, шумят, а чего шумят — и сами не знают. Раз сбежал, кричат, значит, контра, раскулачить германца подчистую, расстрелять — и точка. Да на стол всё отобранное и вывалили. Как же, поделить надо! Ну, студент и говорит:
— Земля с постройками — это по декрету, а часы, украшения, кошелёк, прочие — это воровство, а Советская власть с воровством как раз и борется.
А старший-то их надпись на перстне увидел и спрашивает:
— Что это тут такое зашифровано?
Барин гордый был. Здесь, говорит, подвиг прадеда зашифрован, и молчит. Вот за ювелиром и послали. Разберёмся, мол, когда что зашифровано. Ювелир-то со страху готов был отца родного выдать, всё валил на московского родственника. И ведь что студент предложил: под расписку перстень отобрать и вернуть, когда барин сам добровольно землю и добро передаст. Это, говорит, будет актом признания ревкома. На том и порешили. Барина отпустили, и на другой день в Москву старший со студентом петицию повезли, а за одно и перстень с собой взяли. Только старший в дороге сильно простыл, так что, считай, студент один всё сделал и очень даже неплохо. Такого делового партейца прислали. Что ты! Певунов! Он порядок живо навёл. Гвардию организовал, с мест контру вычистил. И так в гору пошёл, что потом ГубЧК возглавил. С Лениным встречался! Вот так!
Правда, со студентом у него не сложилось, разногласия сразу пошли. Ну, студент в Москву вроде как жаловаться и поехал да перстень обратно привезти. Начудил он с ним. Да там, сказывали, тут же и женился. Больше уже никогда сюда не приезжал. Ну а барин за перстнем не явился, так что о нём скоро и забыли, земли ведь и так поделили.
Старик помолчал, как-то уж очень тяжело вздохнул и медленно произнёс:
— Я ему тогда про клад ничего не сказал… И хорошо сделал… Ты это потом поймёшь, брат ты мой.
Старик снова вздохнул.
— А перстень-то, похоже, счастья никому не принёс: ни турку, ни барину, ни ювелиру — никому…
И опять наступила гнетущая тишина. Теперь уже я слышал биение собственного сердца — оно бешено колотилось. С такой же скоростью неслись путаные мысли. И я сказал первое, что подвернулось на язык:
— Что же всё-таки ты сам, Владимир Кузьмич, не достал клад?
Старик помедлил, огладил бороду…
— Думаешь, испугался? И такое есть, только, ежели всё себе брать, что же останется? Сейчас там ребятишки, песни у костра, а развороти всё? Ничего не будет! Ничего! Одни окопы!
— Ну, зачем же только для себя? — неуместно перебил я.
— А на этот вопрос каждый сам должен найти ответ, — и старик… заулыбался!
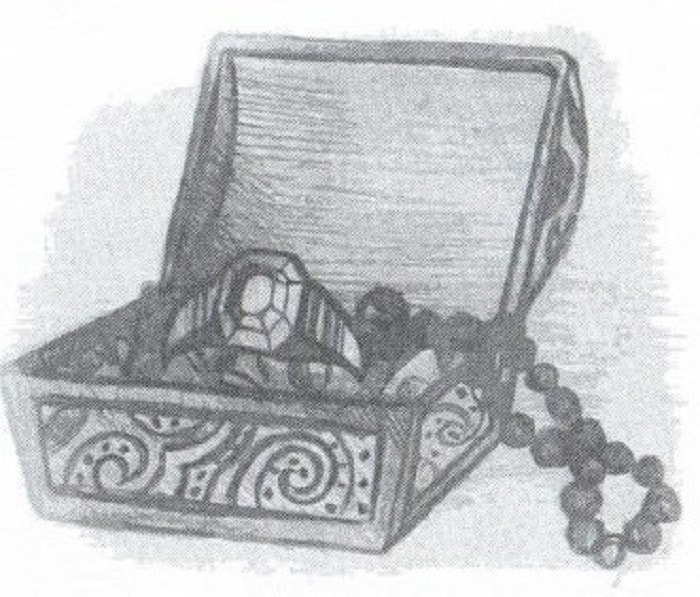
Глава 2. Перламутровый ларец
1
Проводить Владимира Кузьмича в последний путь пришли и из соседних деревень, и больше, чем я мог предположить.
Тот день выдался пасмурным. С раннего утра небо заволокло плотными серыми тучами. Время от времени накрапывал мелкий, по-осеннему мелкий дождь.
Траурная процессия больше из мужчин спускалась через лес по крутой извилистой тропинке к реке. Гроб — «колода», — обтянутый черным ситцем, несли на белых простынях, более чем печальный — отталкивающий контраст. Я шёл последним с охапкой последних пионов и будто загипнотизированный смотрел на скорбную ношу. Гроб то резко дёргался, то жутко наклонялся, казалось, покойник шевелится и вот-вот привстанет и откроет глаза. Крышку впереди несли ненамного лучше. Каким же долгим был спуск! Наконец внизу открылась река с пологим берегом, ещё немного — и испытания закончатся, однако они только начинались. У подвесного моста пришлось остановиться. Он был таким узким, что пронести усопшего, как его несли раньше, было невозможно. К тому же, как нарочно, поднялся сильный ветер, по низкому небу понеслись клочья темно-серых туч, начался дождь. Гроб поставили на землю, забили крышку и обвязали простынями. Затем самые рослые мужики подняли его над головой, и мы продолжили путь. Это было ужасно! Мост под ногами начал ходить вниз-вверх, раскачиваться из стороны в сторону, в такт ему раскачивался огромный чёрный ящик, казалось, он вот-вот вылетит в воду вместе с несущими его людьми. На скользких досках удержаться было трудно, и на середине моста носильщиков буквально швырнуло на стальные тросы ограждения, женщины закричали, что напугало ещё больше, но ношу удержали. Преодолев переправу, его снова опустили на землю, развязали простыни и медленно понесли дальше. Чувствовалось, все устали… Дождь скоро кончился, ветер стих. У могилы его в третий раз опустили, теперь уже на свежевырытую землю, и открыли для последнего прощания. На мгновение выглянуло солнце — что удивило — и тут же растворилось в мрачном небе, оставив бледное пятно. Прощание было кратким: женщины всплакнули, кто-то попросил прощения. Установили крышку и стали её заколачивать. Рослый, плохо выбритый мужчина в разорванной до плеча мокрой рубахе, большим молотком с профессиональной лёгкостью вбивал длинные гвозди. Его рука была в крови, видимо, поранился на мосту — жуткое зрелище! Затем гроб опустили в могилу; каждый бросил по горсти глинистой земли, и его закопали, насыпав продолговатый холм. Воткнули табличку, черенком лопаты на могиле выдавили православный крест, положили скромные цветы и молча пошли прочь с пустынного кладбища. Прошли по мосту, теперь он раскачивался гораздо меньше, прошли по угрюмому берегу и поднялись по скользкой лесной тропинке, мужчины впереди, следом женщины, помогая друг другу.
У калитки Владимира Кузьмича о чём-то громко судачили две старушки, вокруг них кругами бегала маленькая девочка; из трубы его дома вился лёгкий дымок; в окне промелькнуло женское лицо… Такая обыденность только усугубила и без того мрачное настроение, и идти в дом мне совсем не хотелось. На углу крыльца стояла бочка с водой, мужики ополоснули в ней руки и направились к столу, «накрытому» прямо во дворе. Это несколько успокоило, и я последовал за ними.
Стол из сеней был установлен почти вплотную к низкому, настежь распахнутому окну комнаты. На нём стояли щербатые, разные по размеру тарелки, рядом алюминиевые вилки с окрашенными в синий цвет ручками, стопки, стаканы, посередине блюдо с несколькими крупно нарезанными селёдками, засыпанными зелёным луком, большая тарелка с колбасой и поменьше с салом и бутылки с водкой. На широком подоконнике гора черного хлеба, чугунок с картошкой в мундире, тарелка с медом. Сели на слишком высокие, наспех сооружённые скамейки. Через окно передали кутью и блины, мужики засуетились, послышалась команда:
— Помянем!
Все встали и, как говорится, «молча» выпили. Я никогда раньше не пил водку, во всяком случае, в таком количестве, но не пить было нельзя. Мужики закусывали торопливо, даже с некоторой жадностью. Между тем в комнате, где находились почти одни женщины, из-за стола поднялся незнакомый мне старик и стал что-то говорить. За нашим столом его никто не слушал. Мужчина в разорванной рубашке, сидевший почти напротив меня, высоко поднял стакан и громко произнёс:
— Правильный был дед! Пусть земля ему будет пухом!
И залпом выпил. За ним последовали другие. Мне тоже налили в стопку. Пить было противно. Вообще, всё было противно: вместо воспоминаний о Владимире Кузьмиче слышались одни и те же слова, все только ели и пили, в сырой одежде было зябко… Я встал и хотел было что-то сказать, но, окинув взглядом стол с рассыпанным луком, пустыми тарелками из-под закуски, жующих мужиков, передумал и пошёл домой. Вспомнилась картина погребения, вернее, «вспомнилось» не то слово, я словно увидел неправдоподобно большую окровавленную руку с окровавленным молотком, вбивающую в гроб окровавленные гвозди. При каждом ударе капли крови веером разлетались по чёрной ткани… Меня затрясло, к горлу подкатил отвратительно-приторный вкус мёда, и меня вытошнило.
Дома, помню, разделся и лёг в постель, накрывшись с головой, меня бил озноб, голова кружилась. Тут появилась бабка, потрогала лоб и запричитала:
— Батюшки! Да ты весь горишь! Я сейчас чаю сделаю. Не слушаешь ведь ничего! Ну, ничегошеньки!
Бабка принесла горячий чай, от него пахло медом. Я сделал глоток, и опять началась рвота.
2
Болел недолго. Молодой организм быстро восстанавливал силы, и, выздоровев, первым делом я, конечно, прибежал на вышку. Сердце, что называется, вырывалось из груди: и оттого, что бежал, и оттого, что я на вышке! Сколько разных событий помнит эта земля! Событий рядовых и удивительных, событий трагических! «Вышка» — одно лишь это слово завораживало, околдовывало. Здесь, под цементной плитой, спрятан клад, и знаю о нём только я! Воображение живо нарисовало ларец, полный драгоценных камней, золотые монеты царской чеканки и, конечно, перстень с огромным бриллиантом, как минимум времён Екатерины. Мне не терпелось с кем-нибудь поделиться этой тайной, удивить бабушку, родителей, друзей, словом, поразить всех. Я почувствовал себя героем! Но тут же подумалось, что ничего героического в этом нет и, в сущности, к кладу я не имею никакого отношения. Более того, его найти может кто угодно. Последняя мысль была пугающей. Однако клад уже столько лет пролежал здесь, да и с какой стати кто-то будет долбить щебёнку под пепелищем от костра? Барин знал, что делал! Этот аргумент успокоил, и, весёлый, я зашагал домой. Дома ждали другие дела. На следующий день опять пришёл на вышку, сел на кирпичный столб и стал думать о ларце, строить планы, как лучше его достать. Мне снова захотелось сейчас же рассказать о нём кому-нибудь, но, вспоминая Владимира Кузьмича, решил всё же не торопиться. И на другой день я был там же и всё повторилось. Из-за вышки я даже поругался с бабкой! Чтобы как-то избавиться от навязчивых мыслей, решил больше бывать в лесу или на речке. Однако всё чаще и чаще одинокие походы в лес и даже к реке стали заканчиваться на вышке. Она притягивала как магнит! Иногда я приходил туда по нескольку раз в день, садился на тот самый столб и долго сидел, перебирая в памяти мимолетные встречи с Владимиром Кузьмичом, и всегда возвращался к разговору за чаем. С некоторым удивлением стал отмечать, что все меньше меня манит перламутровый ларец. Меня мучила другая тайна: почему старик рассказал о нём мне? Почему он всё же не заявил о кладе? И чем дольше искал ответ, тем труднее было найти его.
В один из таких дней я подошёл к пепелищу, скрывающему каменный пятак, и, присев на корточки, зачем-то стал медленно разгребать золу. Я тщательно расчищал камень, словно это могло помочь найти ответы на мои вопросы.
— Опоздал, кажется!
Я вздрогнул. Сзади стоял рослый мужчина средних лет с мятым ведром и новой лопатой в руках. Мы недоуменно посмотрели друг на друга.
— Костёр здесь был… пионерский, — прервал он недолгое молчание.
— Знаю.
— Я здесь… Мне зола нужна…. Для огорода… удобрение.
— Берите.
— Вы что-то искали?
Я отбросил палку, которой разгребал золу, и, сам не зная отчего, пошёл к дому лесом, хотя по тропинке, конечно, было идти гораздо удобнее. Наполовину спустившись с крутого холма, на узкой террасе неожиданно наткнулся на палатку. «Ну и место выбрали!» — молча изумился я.
— Почему так долго? — послышался приятный женский голос из палатки.
«Влюблённые уединились. А вот и он!» — мелькнуло в голове. Навстречу из-за деревьев вышел загорелый парень с котелком воды, и мне показалось, что я его уже где-то видел. Но где?
За околицей, у того самого дуба, ватага ребят двумя лопатами и ломом шумно вела земляные работы. Поинтересовался, что они делают.
— Гильзы ищем! Здесь у фрицев пулемёт был!
— И как успехи?
— Пока ничего.
— Пошли на вышку, там чего хочешь найти можно! — предложил кто-то, и все дружно отправились туда.
— А кто закапывать будет? — крикнул я. Ребята нехотя вернулись и быстро засыпали ямы.
Словом, был обычный солнечный летний воскресный день со своими мимолетными проблемами, приключениями и встречами. К вечеру погода испортилась, а под утро и вовсе разразилась гроза. Однако к середине дня выглянуло солнце. И снова незаметно для себя я оказался на вышке. Ливень сделал свое дело: пожухлая трава выпрямилась и зазеленела, к кирпичным столбам вернулся естественный цвет, вымытый каменный пятак особенно чётко выделялся на чёрной выжженной земле. И я, пожалуй, впервые почувствовал, что за каждым предметом, сделанным людьми, скрыта своя тайна. За каждой его малой частью… Но что это? Ещё вчера у камня был отбит один угол, теперь он цел, зато отбит другой! Присмотрелся. Сомнения исчезли: кто-то развернул его!
Я помчался к дому, пытаясь на ходу сообразить, кто бы мог это сделать? Взял маленькие козлы для дров, стальную ручку от старого колодезного ворота, верёвку, лопату и, взвалив всё на плечи, вернулся назад. Ручкой выворотил тяжелый пятак и стал вынимать щебень. Вот уже лопата задела железный крюк, а скоро и вся цементная плита была расчищена. Ещё теплилась надежда, что плиту не смогли поднять и ларец и перстень на месте. Соорудив ворот и закрепив верёвку, я остановился, нужно было отдышаться. Руки тряслись от напряжения, глаза застилал пот, в голову лезли чёрные мысли, и всё же я собрался и даже немного успокоился, но отчего-то всё медлил с подъемом. «Владимир Кузьмич также медлил», — подумалось мне. Начал крутить ворот, толстая, прочная с виду верёвка натянулась и… лопнула! Гнильё! Пришлось сложить её вдвое — и опять неудача: теперь она прокручивалась на вороте. Намучившись, наконец, приподнял насколько смог плиту и, сдвинув её ногой, опустил на щебень. Однако в образовавшейся щели ничего не было видно — свет не достигал дна колодца (или глаза, быть может, не привыкли к темноте?) Я полез в карманы и обнаружил спички. Бросил одну зажжённую спичку, другую — безрезультатно: они гасли, не долетев до дна. Тогда я раскрыл коробок, обнажив лишь головки спичек, и одной поджёг остальные. Пылающий коробок полетел вниз и осветил кирпичную кладку и дно из щебенки. Колодец был пуст! Я бесцельно смотрел в него, пока сходящаяся мгла не поглотила последние искры. С трудом поставив плиту на место, засыпал щебенку, установил пятак, развернув его прежней стороной, и, забрав принесённое, поплелся домой. Время перестало течь. Перед глазами всплыла картина погребения Владимира Кузьмича.
— Ты найдешь его! — не знаю, произнёс ли я это вслух, или только подумал так, или даже это услышал от кого-то… мысли путались. Очнулся только у калитки дома и сразу почувствовал вдруг навалившуюся на меня страшную усталость. Сбросив ношу, я буквально рухнул на стоящую рядом лавку. Сколько пролежал на ней, не знаю.
— Сил девать некуда. Бездельем маешься!
Слова откуда-то взявшейся бабки окончательно вернули меня к действительности.
— По грибы сходил, что ли? И то пользы больше будет!
— Не дай бог! — произнёс я упавшим голосом.
В голову снова полезли недобрые мысли. Я чувствовал себя преступником!
Кто мог узнать или догадаться о кладе? С чего начать поиск? И как вообще его нужно вести? И если разыщу взявшего клад, что тогда? Впрочем, об этом думать не хотелось. Словом, был в полной растерянности! В конце концов, решил начать, как мне казалось, с самого простого: поговорить с ребятами — искателями гильз. Однако разыскать их в этот вечер было непросто. Я совершенно сбился с ног, лазая по укромным местам и задавая всем одни и те же вопросы. Я даже стал думать, что клад забрали именно они, и со временем эта уверенность только росла. Как я себя ругал! Но всё оказалось прозаичнее: ребята откопали обрывок пулемётной ленты с патронами, подальше от деревни развели костер и бросили ленту в него. Впрочем, вскоре выяснилось, что откопали они не только патроны, поэтому так далеко и ушли.
На вышке в тот день они никого не видели, старым фундаментом и вовсе не интересовались, их интересовали окопы.
3
Наступила ночь; весь мир, казалось, успокоился, а я всё продолжал ломать голову над проклятыми вопросами, и всё меньше мне верилось в успех поисков. Я пытался вспомнить всех когда-либо виденных мною на вышке, хотя понимал, что вряд ли это могло помочь. Пытался вспомнить мельчайшие подробности из рассказов старика. Быть может, он говорил ещё кому-то? Вспомнил! Вспомнил, на кого похож загорелый парень с котелком воды — на командира партизанского отряда! Нужно во что бы то ни стало убедиться в этом ещё раз — и сейчас же! В величайшем возбуждении я встал с кровати и, взяв топор и фонарь, тихо пошёл к заветному дому. Деревня спала. Я зашёл со стороны леса — там было кухонное окно. Стараясь не шуметь, топором снял с него дощатый щит. Рама, к счастью, оказалась одинарной. Непослушными руками осторожно стал вынимать стекло. Как же это было долго! Наконец, стекло поддалось, и я влез вовнутрь. Из кухни почему-то на цыпочках прошёл в комнату. В блуждающем свете карманного фонаря она выглядела особенно неуютной и холодной. С сундука исчезло одеяло, куда-то делся стул, старая кушетка без постели казалась уродливой развалиной. Всё было мрачным, нежилым. К тому же в доме было отвратительно тихо. Стояла мёртвая тишина — ходики стояли! Я осветил стену — с фотографий на меня строго смотрели родители Владимира Кузьмича, посветил ниже и снял с гвоздя нужную рамку. Выходя из комнаты, опять посмотрел на фотографии родителей, их лица как будто повернулись, мне стало жутко не по себе. Быстро выбравшись из дома, трясущимися руками вставил стекло и стал забивать щит. В деревне залаяли собаки, так что возвращение назад было довольно шумным. Впрочем, мне казалось, что самое важное уже сделано и найти клад теперь не представляет никакого труда. Всё складывалось удачно! С этим приятным ощущением и уснул.
Утром, однако, вместе со сном исчезло и вчерашнее ощущение. Всё сделанное казалось теперь никчемным и постыдным. К тому же в комнату вошла бабка и, покачав головой, произнесла:
— Что ты творишь, внучек? Сам себя потерял! Пора бы за ум браться…
И, всплеснув вдруг руками, быстро вышла. Что она имела в виду, я не понял, но оптимизма это мне точно не прибавило. И всё же решил разыскать того парня — ничего лучшего просто не приходило в голову. Но как это сделать? Я направился к тому месту, где стояла палатка, но там не осталось почти никаких следов пребывания. В растерянности пошёл было назад, но передумал — не хотелось встречаться с бабкой — и спустился к реке. Её размеренное течение, медленно плывущие облака несколько успокоили меня. Я брёл по берегу, размышляя о дальнейших действиях, в голову приходили планы один фантастичнее другого, и не заметил, как дошёл почти до моста. Когда-то пойти по нему было одним из удовольствий, теперь это был путь к кладбищу. Свернул на тропинку, ведущую в деревню, и, поднявшись по ней, оказался у известного дома, что было ещё неприятней. Из-за его угла вышла знакомая уже компания и, кажется, в полном составе. Хотелось бы узнать, что они здесь делают? Но вместо этого ни с того ни сего спросил:
— А с чего вы решили, что под дубом пулемёт стоял?
Ребята удивлённо переглянулись, а самый меленький с гордостью заявил:
— Об этом все знают! Моя бабка говорила. Она при немцах тут жила.
— Да! — подтвердили остальные.
— Здесь кругом бои были. Нам и в школе о войне рассказывали. К нам даже командир партизанского отряда приезжал!
— Командир партизанского отряда? — изумился я.
— Да! А что в этом такого?
Из дальнейшего разговора выяснилось, что приезжал он в прошлом году на открытие школьного краеведческого музея, подарил цейсовский полевой бинокль и много фотографий и что в музее есть, конечно, и его фотография. Ещё сказали, что школа сейчас закрыта, и рассказали, как найти директора. Вот это повезло! Я стал уговаривать ребят пойти со мной посмотреть фото, тот ли это командир? Еле уговорил, но напрасно: никто не помнил музейного портрета, вспомнили только большую тёмно-бордовую раму да наличие орденов и медалей на чёрном пиджаке.
Я не мог ждать ни минуты. Захватив с собой фотографию, бросился к остановке автобуса и, пока его ожидал, придумал, что сказать школьному директору. Я почему-то был абсолютно уверен, что легко его найду и он непременно поможет мне.
Главное, чтобы на школьных снимках был бы запечатлён тот самый командир.
Действительно нужный дом найти не составило никакого труда. Я даже не успел подойти к калитке, как она резко отворилась и из неё навстречу вышел высокий плотный мужчина с большой спортивной сумкой.
— Тебе чего? — отрывисто спросил он.
От неожиданности у меня из головы вылетели имя и отчество директора и всё придуманное.
— Директора мне! — рявкнул я и почувствовал, как заливаюсь краской.
— Ну я директор.
Дрожащими от волнения руками я достал фотографию и протянул её опешившему от такого натиска здоровяку.
— Командир ваш… то есть не ваш… дед мой… то есть не мой дед, а просто дед…
— Просто немой дед?.. Просто ничего не понял! Идём быстрее. По дороге расскажешь. Сейчас автобус будет, — прервал мои заикания директор школы и так быстро зашагал к остановке, что я еле успевал за ним.
Какие уж тут рассказы?! Мы вскочили в уже отправляющийся было автобус. Пока рассаживались и оплачивали проезд, я смог немного собраться с мыслями, хотя имени так и не вспомнил. Опять достал фотографию и попытался как можно чётче изложить свою просьбу, теперь это вышло уже каким-то противно-слащавым тоном, и я снова густо покраснел. К счастью, собеседник не обратил на это никакого внимания и, рассмотрев снимок, спокойно произнёс:
— В том году приезжал… Я и сам думал собрать бы так ветеранов-однополчан, торжественную линейку провести — да и вообще…
Автобус сильно тряхануло, разговор прервался, дальше ехали молча. Впрочем, ехать было совсем не долго. На следующей остановке мы вышли, и опять я еле поспевал за ним.
Школа не только не была закрыта, а напротив, двери её были распахнуты настежь. Мы вошли, вернее, влетели в вестибюль, пахло краской, откуда-то сверху доносился стук.
— Да у нас ученики лучше делают! — услышал я зычный женский голос.
Но, где именно бранились, не успел разобрать, так как директор быстро провёл меня по коридору в приёмную или учительскую, отпер её, и мы оказались в маленькой комнате, половину которой занимали письменный стол и огромный книжный шкаф с занавешенными голубыми шторками стеклянными дверцами. Отпер кабинет — комнату попросторнее с таким же набором мебели, разве что стульев было больше и в углу стоял сейф. И, достав из стола связку ключей, легонько вытолкнул меня назад в приёмную, где, отперев шкаф, тут же извлёк из него тонкую папку и, переписав нужные данные, отдал листок со словами:
— Ты мне копию с фотографии сделай, только побольше. Ну, ты понимаешь. Ну, ступай, ступай! Успехов тебе!
И выпроводил меня из комнаты. Я развернул записку, в ней размашистым, но на редкость красивым почерком были указаны: фамилия, имя, отчество и телефон. У меня застучало в висках, и тотчас вспомнилась фраза Владимира Кузьмича: «Взял грех на душу». Я уже выходил из коридора, как навстречу неожиданно из-за угла выбежала полная черноволосая женщина с раскрасневшимся лицом, за ней двое хмурых мужиков, и, чуть не сбив с ног, пронеслись к приёмной. Теперь уже послышался суровый мужской голос. Я вышел из школы и в размышлении о дальнейших действиях остановился у дверей.
— Посторонись!
Толкнула в плечо бабка в испачканной красками спецовке с ведром, полным мусора. «Совсем затолкали! Хорошо, хоть ведро полное», — отметил я и побежал к остановке. У меня было слишком мало денег, чтобы ехать на переговорный пункт, да и основательно продумать разговор не мешало бы, а то получится как с директором. Словом, я спешил домой и как раз успел на автобус. От автобуса до дома летел окрылённый первым успехом, всё дальнейшее виделось только в розовом свете.
— Ну, наконец-то! Избегался весь! — взмахнув руками, встретила у порога меня бабка.
По всему было видно, что она куда-то собралась.
— Делом бы каким-нибудь лучше занялся. Самовар вон совсем накипью зарос, да и почистить его не мешает. Отец с матерью приедут или кто взойдёт, срамно на стол ставить. И воды мало. В общем, я в Рузу съезжу, заодно и записку подам, завтра ведь Кузьмичу девять дней будет. Он мне первое-то крыльцо, почитай, за так сделал!
— Как? Только девять дней?!
— А по-твоему, сколько?
— Ну… Мне казалось, гораздо больше прошло.
— Пора бы тебе уж с небес на землю спуститься, внучек, — вздохнула бабка и медленно пошла к остановке.
Я занялся самоваром. Радужное настроение постепенно улетучилось, появилась апатия и даже злость. Пожалуй, бабка права! В самом деле, какая теперь разница, кто взял. И всё же разница, наверное, есть. Во всяком случае, должна была бы быть. Не случайно же старик доверился именно мне? Надо бы прийти завтра на могилу, но после случившегося… Подобные мысли постоянно кружились в голове весь остаток дня и большую часть ночи. И, невыспавшийся и злой, рано утром я уехал в Москву, сказав бабке, что мне срочно нужно в школу. Такое решение сначала напугало её, однако, успокоившись, бабушка, перекрестив меня, произнесла:
— Надо так надо. Приедешь хоть ещё-то, горемыка? Приезжай скорее!
В дороге я пытался продумать разговор с командиром, но навязчивые мысли не давали как следует сосредоточиться — это ещё больше злило. Да и встречаться с домочадцами сейчас совсем не хотелось. В общем, в Москву прибыл мрачнее тучи и совершенно растерянный.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
