
Бесплатный фрагмент - Пентаграммы
Из предисловия к первому изданию
Работа над этой книгой продолжалась три года (до 1991-го), но, в известном смысле, так и не завершилась. Ибо, по логике созданной автором формы, «Пентаграмм» должно быть не три, а пять. Пять раз по пять десятков пятистрофных (или двадцатистрочных — идеальный объем в русской лирической поэзии) стихотворений.
Логика формы сдалась и рухнула под натиском свободного, может быть, даже лихорадочного поиска — поиска Родины, смысла, выхода из рутинного круга бесчеловечных решений.
Пентаграмма — попросту правильная пятиконечная звезда — издревле считалась магическим оберегом, спасающим человека от потустороннего зла (символическое и практическое значение перевернутой пентаграммы прямо противоположно). По необъяснимой (или напротив — вполне ясной и закономерной) геральдической иронии для России XX столетия этот знак сделался роковой веригой. Пентаграмма из позлащенного алюминия на погонах, из орденских золота и эмали на парадных мундирах, из «рубина» над башнями Кремля и, наконец, из крашеного железа над могильными холмиками — давила и по сей день продолжает давить на православную нашу землю отступническим отрицанием креста.
То, что «Пентаграмм» оказалось всего три (и в третьей разрушается пятеричная волнообразность в чередовании размера и ритма) — тоже, на мой взгляд, символично. Пентаграмму одолевает Троица.
Не надо думать, будто перед вами книга, исполненная поэтического ригоризма. Здесь пентаграмма проигрывает войну, «приняв» навязанную ей тактику игры — игры воображения и ремесла, формально строгой и трудной, а по существу оказывающейся игрой свободного духа.
В стенах этого странного лабиринта разыгрываются удивительно разнообразные эпизоды. В них смешиваются и сменяют друг друга несовместимые, казалось бы, вещи: юмор и самоирония соседствуют с трагическим переживанием и стоическим монологом, проникновенные мысли — с детской наивностью и поверхностной стилизацией, Восток — с Западом, древность и средневековье — с новым временем и нынешним днем.
Вас. Кириллов-мл., 1993 г.
О новой редакции
Идея выпустить мою первую книгу стихов в новой редакции пришла мне в голову под влиянием нескольких одобрительных отзывов на «Пентаграммы». Сознавая вопиющее несовершенство этой книги, я, тем не менее, постарался в новой редакции сохранить ее основные свойства, связанные со временем сочинения. Стихотворений, которые я счёл необходимым выбросить из книги вовсе и заменить специально для этого сочиненными сегодня, не так уж много. Несколько стихотворений перекочевали в книгу из приложения к ней (среди них необыкновенно популярный «Нафталин»). Многочисленные, но не слишком масштабные изменения внесены в тексты чаще ради их формального усовершенствования, реже — по идейным соображениям.
Аркадий Застырец, 2015 г.
Пентаграмма I
Марии Аркадьевне Грачёвой,
верившей в меня на Земле,
любящей меня на Небесах
Ubinam aut quibus locis te positam patria reor?
(Где или в каких широтах, родина, тебя представить?)
Катулл, Книга стихотворений, 63, 55
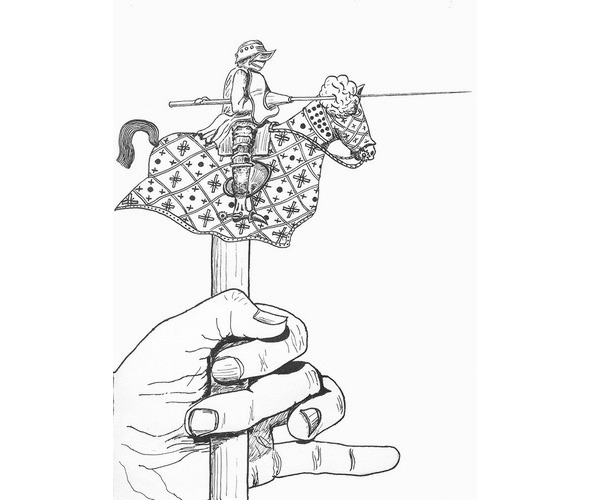
Сон Пифагора
Итак, начнём. Луна, песок, Эллада.
У моря спит весёлый Пифагор.
Не истина, а жизнь ему отрада.
Горазд он жить с тех пор и до сих пор.
В красотах разноцветных геометрий —
Кошмарный ум, но линия легка,
Как ленточка, развившаяся в ветре,
И магия простого перстенька.
Итак, пора. В девятой ипостаси
Он спит себе с ухмылкой в бороде
И на ступнях сухое пламя гасит
В зелёной набегающей воде.
Расталкивая кручи кучевые,
Во сне он мчится с Коса на Кизик
И учит звёзд названия живые,
Небесных сфер прилежный ученик.
Тем временем, восстав, рассвета гидра
Глотает ночь, начав, конечно, с ног,
А в изголовье ржавая клепсидра
По капле точит вечности кусок…
Биармия
На стогнах града есть просторы
В сто вёрст и звёзд, и во сто крат,
Где снег размазывает горы
И дождь пьянит как виноград!
Фасады в воздухе распеты
Семь раз на семьдесят ладов,
И мнится свет чужой планеты —
В пучках неоновых цветов.
Вдали, таинственно размыта
Тумана белой бородой,
За полем Божеского жита
Спит колокольня над водой.
Спугнув дремавшую ворону,
Всё ярче, белая, видна,
В широких розвальнях по склону
Январских туч — скользит луна.
Мечта воспламеняет лица,
И улица внушает мне,
Что здесь навеки поселиться —
Равно что умереть во сне…
Венеция
В компании горьких пропойц
Лапландию я пересёк,
И, кажется, возле Надвоиц
Ко мне подошёл паренёк.
Сверкая серебряной пряжкой
И сдвинув берет набекрень,
Тряхнул он обтянутой ляжкой,
Колено поставил на пень
И молвил: «Синьор, не скупитесь,
Платите две тысячи лир
И смело в гондолу садитесь!»
«Ну что ж, молодой юкагир, —
Ответил гребцу я с усмешкой, —
Считай, что дела на мази:
Вот деньги, смотри же не мешкай —
До Пяльмы меня довези!»
Луна в Беломорском канале
Качала волну за кормой,
И Байрона вслух мы читали,
Карельской овеяны тьмой.
Тифлис
Через ночь — самолёт, нитка в чёрную бусину вдета,
И от глиняных вод на обрывистый берег Куры
Поднимается сноп оперённого горного света,
А навстречу ползут прокопчённые пылью ковры.
Лезут пластырем в окна латинские глупые буквы,
Точно бредит Тифлис перемётной цыганской сумой,
И Святая гора в мох и плесень развесистой клюквы
Погрузилась во сне необъятно широкой стопой.
И грузинская речь удивительней русскому вдвое
В те минуты, когда осенит, что считают рубли…
Под копытами древних коней не расплющатся с воем
И в куски под откос не покатятся все «жигули»!
Разве скрипнет зубами прохожий, хватаясь за ножны,
Разобрав неожиданно, что я глазами сказал, —
И опустит глаза, и плечами пожмёт осторожно,
Ненароком поняв, что предательски сломан кинжал…
Я сижу на траве, на проспекте Шота Руставели,
Надо мной облака бороздят океан синевы,
Тихо дети поют в осенённом крестами приделе,
И восходят по склону слепые крылатые львы.
Чудесное спасение II
Стук и звон — телега с клетью,
Переспрос — кого везут?
По кому изладил петлю
Неподсудный суд?
Видно волосы и спину,
Вкруг — холёные штыки.
И пугает мама сына:
«Бука, бука! Вон клыки!»
Угораздило связаться!
Восвояси уж нельзя.
Поздно, братцы. Тошно, братцы!
Вот и сказка вся…
«Не успели! Обманули!» —
Ударяет в голове.
Вдруг да на ухо шепнули:
«Прижимайся сам к себе!
Берегись и стань покорным,
Нам сподручней, нам видней».
В подворотне трое в чёрном
Стерегли коней…
Европейская стужа
Европейская стужа стара,
Как растрёпанный том в переплёте,
И седая сова на болоте
Коротает при ней вечера.
Разнесётся охотничий клик,
Пробегут с деревянной трещоткой
И горит в очаге за решёткой
Рукописный весенний дневник.
Мечет искры в проталину ветер,
Режут уголь, вздыхая, меха.
Шапка снега блестит на повети,
Под ножом ослепив петуха.
Копит солод морозный рябина —
Грозди с ночи темнее горят.
От солений — на зёрнышках тмина
Настоялся в сенях аромат.
«Дети, что же вы? Кланяйтесь деду!»
Входит облако инея в клеть
И басит: «Краем леса поеду.
Может, ёлочку вам приглядеть?»
Жажда
У буден моих, у магрибских верблюдов,
Нагружены мягкие кладью горбы,
И бронзово солнца библейское блюдо
В песке раскалённой недельной тропы…
Оно меня будит и, стало быть, будет
Щитом интересов большого купца,
Чьи верные слуги и добрые люди
Готовы меня подымать до конца.
Ты видишь того, что, рыдая, подпругу
Зубами рванул на себя второпях?
Он подал мне руку как старому другу,
Он думает, я разделю его страх.
Здесь каждый навечно записанный в стражу,
Войдя в самому себе праведный раж,
До смерти подставил плечо под поклажу
И всем говорит, что свобода — мираж.
Здесь каждый готов и равняется каждый
С рассветом в затылок на всех остальных,
И пламя меня пожирающей жажды
Противней проказы любому из них!
Русская душа
Застенчивый корнет
Поодаль Перемышля
Читает, став на свет,
Японские трёхстишья.
Поднёс листы к глазам
И взвешивает звуки:
«Конец осенним дням.
Уже разводит руки…»
Он сдерживает дрожь
И, строчки повторяя,
Разительно похож
Лицом на самурая.
А на краю леска
Четыре эскадрона
Ахтырского полка
Крушат Наполеона.
Погода хороша —
Хрустит мороз в мундире,
И русская душа
Куда французской шире!
Занавес над портретом
Погляди сюда, лиценциат,
Не води растерянно глазами.
Ты — модель, и кажется, не рад…
Почитай-ка что-нибудь на память.
Расскажи о чёрной ворожбе,
Если не боишься. Если хочешь —
О любви безумной, о гульбе,
Молодецких кознях среди ночи,
Как рога наставил старику,
Как отшила набожная баба,
Расскажи про гибель и тоску,
Про гашиш у старого араба,
Как ты солнце с Крюгером встречал,
Украшая ленточками флюгер,
Как тебя нашёл глазами Крюгер
И в костре на площади кричал…
Ярче свет на левой половине,
Волосок лежит на волоске,
Верный знак служенья медицине —
Матовые ландыши в руке.
Возвращение Синдбада
В ажурный двор несут букеты белых лент,
Самшитовый замок — на розоватом створе.
Как море далеко! И сладко вспомнить горе,
Качая на руках поющий инструмент!
В копчёное стекло жара подслеповато
Бессмысленно глядит на медленный фонтан
И в нежных облаках земного аромата
Любимая к тебе прильнула, капитан.
Твои мечты сбылись, и всё у них на страже
Ты видел этот сон на мертвых островах,
Где лишь сухой песок, холмы горячей сажи
И выступает соль под солнцем на камнях.
Ты видел этот сон в полуночном пожаре,
Объявшем твой корабль, и лёжа на шипах
Злой лихорадки, и — на греческом базаре
С дощечкой на груди и цепью на ногах.
И, отложив канун, ты трогаешь руками
Узор дарки, лицо, рябую мастабу —
И борода блестит, омочена слезами
Во сне и наяву, во сне и наяву…
Весть
Снег падает, волна о берег плещет,
Темней тавро в тугих морщинах лба,
Надрезанные чёрточками вещи
Цепляет кисть искусного раба.
Отброшен меч, от вражьей крови чёрен,
А враг, он — вот, в парчовым кушаке,
Красив, убит и страшно опозорен,
И голова — в запёкшемся песке.
Искусный раб, у сломанного стяга
На пышном трупе выложив листы,
Письмо рисует. Помыслы чисты,
И в полумраке светится бумага.
О хитрых планах войска из столицы
Он вяжет весть на топком берегу
К поджатой лапке выученной птицы
И засыпает в медленном снегу.
Разводит зубы смерть железным звоном…
Всё очень просто только на словах,
И пахнут иероглифы лимоном:
«Чжан Бао жив. Мы встретимся в горах».
Театр
Терпите: кажется, вот-вот
Настанет час перипетии.
Возможно, сцену вдруг зальёт,
Из раны хлынув, кровь витии.
А этот злой мятежный хор
Тиран с ухмылкой объегорит,
С судьбой в суде ещё поспорит
Зарвавшийся сановный вор.
Крепитесь, ждать не до утра —
Так лаконична наша пьеса…
Смеяться зрителю пора!
Вы плачете? Какого беса?
Вот жаль, вы не были вечор:
Мир не видал таких трагедий! —
Рыдая, зал обманом бредил…
Да поумнел, видать, с тех пор.
Патроны в ружьях холостые,
Речами усыплён народ…
Но стойте, кажется, вот-вот
Настанет час перипетии!
Весна
Неверского графа угрозы
Мне, право, теперь нипочём!
Французские, сука, берёзы
Висят над бурливым ручьем.
Крапиву качая и нежа,
Стеною идёт на восток
От Буржа до самого Льежа
Апрельского ветра поток.
Какие бурлят разговоры
На пьяных отважных устах!
Парижские, сука, жонглёры
Подружек ласкают в кустах.
Рассёдланы рыжие кони,
Распущены враз пояса,
В бредовом сливаются звоне
Рыдания, смех, голоса…
В восторге от собственной позы,
Клариса поводит плечом.
Неверского графа угрозы
Мне, право, теперь нипочём!
Шут
Пляшет шут на канате — на шее сидит обезьяна,
Пляшет шут и поёт, растянув намалёванный рот,
И хохочут в толпе, и кричат, балагуря вполпьяна,
А со лба у шута по щекам и за шиворот пот
Льёт и льёт, будто шут — рудокоп, размахнувшийся в штреке,
Иль степенный кузнец, из огня распластавший булат.
Он получит свой хлеб и сомкнёт потемневшие веки,
Но приснится шуту не Небесное Царствие — Ад!
Здесь припомнят ему ремесло оголтелые черти,
Станут в темя лупить, как на ярмарке бьют в барабан,
Вставят в задницу и — через челюсти вытащат вертел,
И на части разъяв, соберут из костей балаган.
Он во сне заорёт и откроет глаза до рассвета,
Слёзы вытрет ладонью и залпом — бутылку вина,
Перекрестится раз, пробормочет четыре куплета —
И ударится лбом в переплёт слюдяного окна!
И на площади в полдень он снова штаны потеряет,
Тощим низом блестя, всуе Бога помянет и Мать
И пойдет сквозь толпу на руках, про себя повторяя:
— Ничего, ничего. Кто-то должен за них пострадать…
Дант
За грядой гремящих льдин
Продуваемого взгорья
Снится радужный сатин
Итальянского приморья,
Где скрывает восемь лун
Апельсиновая зелень,
Черепаховый валун
Изумительно бесцелен,
И не в куколе без слов,
А богатый жадной речью,
Сдвинул шапочку овечью
Автор адовых кругов…
Если полночь — он астролог,
Если день — минералог,
Точно год разлуки, долог,
В точном слоге царь и бог!
Обладатель дорогой
Тетивы звенящих связок,
Мира целого изгой,
Как ведьмак из страшных сказок.
Семейный портрет
На сожжённом луною портрете
До сих пор не погасли глаза,
Как не гаснет в кольце бирюза…
Боже правый, несчастные дети!
Это было последней весной
Накануне кровавой эпохи,
И дела были плохи, ох, плохи!
Звёзды снова грозили войной.
В Петербурге уже забродили,
Закружили кошмарные сны,
Но на дачу детей вывозили,
Как всегда — на грибы да блины.
Вдруг отец по пути на Финляндский
В эту комнату всех поманил —
И осклабился Войно-Оранский
И про птичку сказать не забыл.
И застыли в магическом свете
Подбородком, лицом и плечом —
Боже правый! — несчастные дети
С гимнастическим белым мячом.
Бесплатная раздача
У волка голодный жонглёр на примете…
Зима. Что до лично меня —
Я слышу, как дышат спокойные дети
Игрушечным воздухом дня.
В окрестностях нету ни света, ни дыма,
И, грея лягушку в руках,
Волшебник по городу невозмутимо
В высоких идёт сапогах.
Сапожнику снится роскошная щётка,
Солдату — за подвиг медаль,
Волшебника разоблачает походка
И взор, улетающий вдаль.
На кровли земной черепичную чашу
Наносят белил облака,
А гномы мешают пшеничную кашу
И черпают из котелка,
Стараясь наполнить помятые миски
Всех страждущих грязных бродяг,
Чей гомон становится, тёплый и низкий,
Ответом на каждый черпак.
Завтрак
Разлито молоко,
И тянут время гири.
Выводит «Сулико»
Старик на гудаствири.
Весёлым помазком
Отец разводит мыло,
Под розовым цветком
Присевший на перила.
Взлетает белый креп,
Приоткрывая горы,
А мама режет хлеб
И жарит помидоры.
Взрывает разговор
По радио зарядка,
И шевелится двор,
Потягиваясь сладко.
И, распахнув окно,
Я, злой и долговязый,
Зову тебя в кино,
Мой ангел черноглазый.
Не горит
Хорошо, покуда не горит:
Не спеши, не складывай в тревоге,
Не решай, какой тебя кульбит
Выручит в навязанной дороге.
Не корми любимого кота
На прощанье, впредь и до отвала,
Не целуй нательного креста,
Опасаясь: вдруг осталось мало?
Не стругай для посоха ножом
Старую занозистую палку,
Что в руке топорщится ежом,
Лучше в печку сунь её, нахалку.
Башмаков с тоской не проверяй —
Не дырявы, а? Не промокают?
Не ищи, поскольку — не теряй
Тех вещей, что к месту привыкают.
Хороши на карте Кипр и Крит!
Лампа, свитер, тени снегопада.
Дети спят. Жена тиха и рада.
Хорошо, покуда не горит.
Лаборатория
На нитях серебра прозрачные шары
Свисают с потолка под брюхом крокодила,
Зеркальная стена понуро отразила
Дверной проём, лучи и танец их игры.
Гримасничает тролль с резиновым лицом,
Закрытый сургучом в замызганной реторте,
На маленьком станке соседствуют в супорте
Простой железный болт с брильянтовым резцом…
А книга на столе? Посмотрим, что за книга,
Смахнув кленовый лист небрежным рукавом…
На титуле — венок, разбитая верига
И римское число под ликторским пучком…
Заглавие… хлопок и туча серой пыли!
С испугу нетопырь подъял переполох,
И я со страху — в пот и в пояс адской силе,
Врага упомянув некстати, видит Бог!
Но вскоре осмелев, заглядываю в нишу
И белую сову вполголоса бужу:
— Есть кто-нибудь живой? — и кажется, что слышу,
Как чучело ворчит: — Ума не приложу!
Лекция о Ганнибале
На медном алтаре дымится туша…
Уже разъели с моря Карфаген
Любовь и соль — да он почти разрушен:
Кой толк с такими бухтами от стен?
Вручая жизнь воинственным прикрасам,
Чей — Пиренеи — временный причал,
Девятилетний храбрый Ганнибал
Простёр ладонь над раскалённым мясом.
Все планы, оговорки и причины,
Как шелест волн, с луною отойдут…
Тропою Марса шествуют мужчины —
Ни жёны их, ни матери не ждут.
Но Риму Ганнибал отворит жилы,
В родные бухты вломится спиной
И вновь бежит от суженой могилы
В малоазийский омут земляной.
В кольце врагов он твёрдо скажет яду:
— Мой Карфаген, я сдаться не могу…
И грянут перевёрнутому взгляду
Слоны и негры с кровью на снегу.
Визит
Bonjour, bonjour, месье Клодель.
Входите, сон к полудню сладок.
Простите в мыслях беспорядок
И пыль, и смятую постель.
А как же вы… Ах да, ключи!
Я сам их вам послал намедни.
Да, это мой сонет последний…
Вы правы, точные сычи,
Кричат слова последней строчки.
Я вижу сам, о чем и речь!
А мнил хрустальные звоночки,
Когда вечор собрался лечь.
По-русски? Пробовал «Улитку»
И в «Лебеде» «Осенний день»,
Тачал, тачал — да только нитку
Порвал, сшивая плоть и тень!
Но вы позволите умыться
И сюртуком сменить шлафрок?
За чаем проведём часок,
Другой… Куда вам торопиться?
Зимний танец
В холодной промоине пляшут
Над серой золой языки,
Январское облако пашут
Медведицы звёздной клыки,
И тонкую флейту настроив
Гремучей коробочке в лад,
Жонглёры Версаль себе строят
И роют под струнами клад.
И голосом в пламя напева
Ступает, махнув рукавом,
Небрежно одетая дева
В обнимку с улыбчивым львом.
Тоску разгонять мастерица,
Взлетев на невидимый стол,
Танцует — и вихрем кружится
Засаленный алый подол!
В глазах у весёлых сверкает
Горячими искрами мох —
И кажется, им потакает,
Как детям, Отец их и Бог.
Последнее письмо
Вот и всё. Наконец, обмануть остаётся природу.
Что ж, бывает и так. На судьбу обижаться смешно:
Не накликал беду, а глядел будто в чистую воду.
Ну, да что толковать! Иль не всё перед этим равно?
Я спокоен, хотя жизнь меня баловала дарами:
Вроде есть, что терять, и скорблю о жене и друзьях.
Но надеюсь, что им я оставлю на добрую память
Мирный опыт ума и любовь, а не низменный страх.
Способ выбран уже. Я сперва задержался на яде…
А потом показалось, что путь этот слишком уж скор.
Может, это каприз, но едва ли удастся с ним сладить:
Я хочу растянуть мой последний живой разговор…
Потому решено: не спеша отворю себе жилы
И ленивую кровь подгоню разогретым вином,
Постепенно теряя мои невеликие силы
Между зыбкою явью и вечным безоблачным сном.
Напоследок хочу всё о том же: как много усилий,
Сколько жарких страстей у людей отбирает тщета!
Но без этого жизнь — согласись, дорогой мой Луцилий! —
Может быть, совершенна, но и совершенно пуста.
Штурм
Кверху задранные лица
Льются, пенится поток,
В блеске солнечном ярится —
Бивень, хобот и клинок.
Никому уже не страшен
Ослепительный оскал,
И летят с осадных башен
Стрелы, пакля и запал.
В череп, спину, брат на брата!
Режь, руби, давай вперёд!
Полководец шлёт солдата
В створ обрушенных ворот.
Жёны мечутся и плачут,
Чуя силу позади.
Рвётся нитка на груди —
И шары по плитам скачут.
Дождались победы часа:
На три дня кругом одно —
Кровь, огонь, живое мясо
Да тяжёлое вино.
Переправа
Он был страшен, как шкаф в темноте,
Зашибала, водила, извозчик,
Морда — морды не выдумать площе,
И весло на холодном хвосте.
Под язык он ко мне влез украдкой,
Чтоб положенный вынуть обол,
Поискал-поискал, не нашёл,
Не побрезговал пресной облаткой.
Лодка носом надрезала вал —
Оказавшись под лавкой четвёртым,
Я настолько прикинулся мёртвым,
Что одними глазами дышал.
Наконец, под снопами косыми,
Тех лучей, что сиять не должны
Из-за возчика мощной спины
Вырос берег в непахнущем дыме.
Точно сталью в живот — стало дико.
Погоди, я колки подкручу…
Эвридика моя, Эвридика,
Я ли плавать тебя научу?
Функциональная миниатюра
Отшельник, чиновник и мальчик-слуга,
сосна на утёсе и низкое небо,
и негде взлететь птице гнева, и где бы
тут реки венозные скрыть кулака?
Уж как тяжела смертоносная сталь!
Я трогал не раз колоссальные бритвы —
кто их миновал, из безумия битвы
до смерти глядел в эту реанэмаль
и пальцами гладил разумного пса,
рисуя письмо в императорском стане…
Когда мы умрём и дрожать перестанем,
наш скрежет зубовный взорвут голоса!
Когда мы зайдём, умерев, за утёс
и вечность прижмётся щекой к изголовью,
и кисть невесомая впитанной кровью
окрасит далёкой воды купорос…
Когда оседлаем своих журавлей,
порхающих в танце на кромке вселенной —
агония канувших станет степенной
неспешной походкой бесстрашных людей.
Яшмовая сутра
Усильем смутных век
Глазам открыто утро,
Где светит первый снег
И яшмовая сутра,
Где молодой Урал
В туман вонзает скалы,
Никто не умирал,
Ничто не перестало.
Мой прадед, вняв стеклом
Взволнованному свету,
Листает за столом
Хрустящую газету.
На сковородке соль
Потрескивает рядом,
И генерал де Голль
Командует парадом,
Звон золотой струны
Страну Советов будит —
И не было войны,
И никогда не будет.
Пойман за чтением
Я не стану попусту гадать,
Лишь о том скажу, что знаю твёрдо,
Нарисую в толстую тетрадь,
Будто схему хитрого аккорда,
Шаг за шагом выверенный путь —
Маму, домик, дерево и птицу…
В книжке сладко мне перевернуть
За страницей мятую страницу,
Фонарём китайским осветив
Глубину событий невозвратных,
Паутинкой мыслей аккуратных
Заплетя спасительный мотив.
А потом по светлому пятну
На горбу ночного одеяла,
Обнаружат жизнь и старину,
Скажут: — Стой в дремоте у причала!
Отберут фонарь и в темноте
Напоследок, шёпотом, сердито:
— Школа ждёт, кофейник на плите,
Молоко вскипело и разлито!
Круиз
Над Австрией дожди. Дунай переползают
Коньячная мигрень и облаков гряда.
Я чувствую спиной, как с лошади слезают
Два Штрауса — отец и сын. «Сюда! Сюда!» —
Со стапелей вопят румынские поморы,
Да так, что, русским, нам ни слова не понять;
И в ящиках несут большие помидоры,
Бананы и абсент. Здесь главное — не спать!
Не просто крепок сон от воздуха свободы:
Пока рассудок спит, чудовища ползут
И, кожистым крылом нащупывая броды,
Заходит Люцифер в сверкающий мазут.
Mit lachen springen sing бродячие лютнисты,
И ворохом купюр наполнен их футляр.
Качает катера восторженная пристань,
И дышит ресторан, красивый, как пожар.
Не видит враг врага, и друг целует друга,
Под тентом на столе спит розовый Франц Хальс,
А Штраус-сын торчит на клавишах упруго,
И под его ребром клокочет венский вальс…
Рифмоплёт
Я увлечён бываю, как пчела —
Ковровым многоцветием июля,
Ища слова. Быстрей, чем в доме пуля,
Душа метнётся, глядь — уже нашла.
Но если ставни прежде распахну
В огромный день, в грозу и хищный ливень,
На юг и север, звёзды и луну,
На мамонта сорящий крошкой бивень,
На страшной битвы пламенный пейзаж,
Где бритвы молний даже не скорее
Атаки с фланга, залпа батареи,
На штурм идущих или абордаж…
На океана серое плечо,
Вертящее простором и ветрилом
То до ночи по-адски горячо,
То льдом границу ставя нашим силам…
Тогда — увы — иной раз не могу
Пригодные сыскать цвета и звуки
Вдали тепла, опешивший в разлуке,
Испуганный и бледный, ни гу-гу…
День 1964
Я помню плюшевую ширму
Хрущёвки нашей поперёк,
Когда в мой пятый день рожденья
Давали кукольный спектакль
Отец и мать, и дядя Йося,
Хромой и с чёрной бородой.
Я по двору ходил и детям
Билеты даром раздавал.
И вот их в комнату набилось
Числом не меньше сорока,
И бабушка взяла будильник
И подала им три звонка.
И я со всеми и с открытым
От счастья и восторга ртом
Над ширмы нежным плюшем видел
Двоих весёлых медвежат…
………………………………
Потом — конец, но деда Боря,
Когда уж начало темнеть,
Пришёл и мне вручил в подарок
Искрящий кремнем самолёт.
Comedie russe
Со мной наигрались вы всласть, и —
Опальное сердце, ликуй! —
Холодная оттепель страсти
Влепила мне вдруг поцелуй.
Стремительный шорох воланов —
И голос, ломаясь, дрожит:
— Надеюсь, месье Yemelianoff,
Мой слабости вам не профит…
— Ужель мне, радея о чести,
До старости тискать ваш бант
В своем захолустном поместье?
А старый маркиз-эмигрант…
Как будто не знаете сами!
Брильянтами вымостит путь
И синими станет губами
Слюнявить вам шею и грудь!
— О, нет! Je vous aime, умоляю!
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
