
Бесплатный фрагмент - Память
Моим дорогим родителям посвящаю
Начало
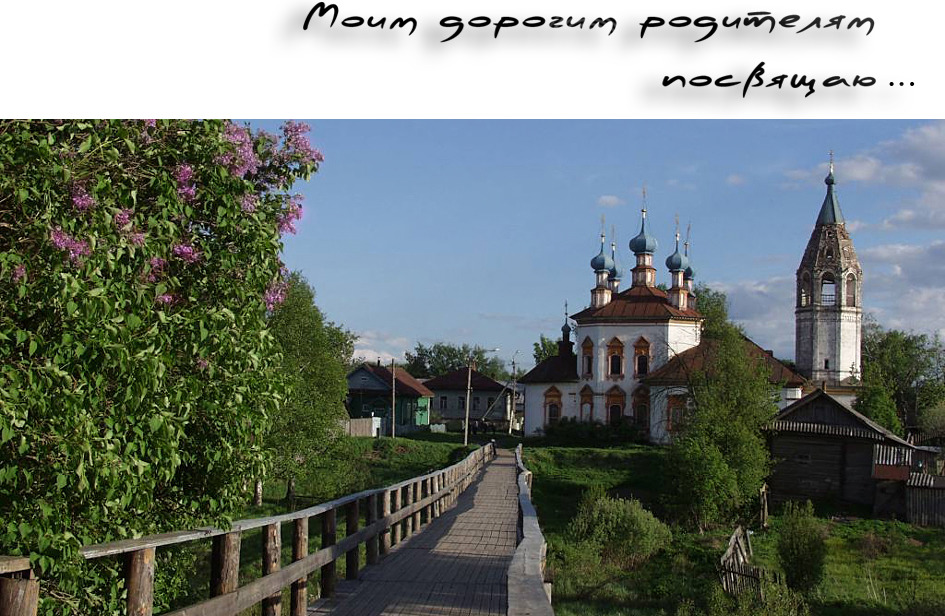
Легенды и мифы
Родители не оставили письменных воспоминаний о своём детстве, мои сыновья мало знают о ранних годах жизни бабушки и деда, да и о моих тоже весьма приблизительно. Вдруг у многочисленных потомков, как и у меня с возрастом возникнет интерес к семейному прошлому. Чтобы удовлетворить их любопытство, да и самому попытаться понять, как повлиял на мой склад характера родительский дом, загляну назад в детство, попробую передать свои ощущения об атмосфере, в которой вырос, осмыслить, что от родителей, что их «генетическое» наследие, что своё, а что из накопленного навязано обстановкой. Уже не первый раз делаю попытки более подробно и честно без восхваления своих поступков изложить то, что знаю, помню и понимаю, переосмыслив небогатый семейный архив, старательно сохраненный отцом.
В советское время своих детей и себя тщательно оберегали от публичного изложения опасных подробностей своей и тем более родительской биографии: уничтожали фотографии, меняли место жительства, года и место рождения, стремясь избежать «поражения» в правах и «любопытства» карающего классового правосудия. Может, у них серьезных оснований для скрытия или искажения своих биографий не было, а редкое обращение к воспоминаниям о своём детстве, юности, самостоятельной жизни можно объяснить скорее тем, что до 12-ти лет я был мал для таких рассказов, а позже практически оторвался от постоянного общения с родителями. Война, затем военно- морское подготовительное и высшее училище с условиями казарменной жизни не оставляли времени для бесед с родителями об их прошлом, да и прошлое их так отличалось от моего настоящего. Если вспомнить, как отправляли людей на расстрел или в лагеря без всяких доказательств уже с 1917 года, начинаешь понимать долго существовавшее инстинктивное стремление оставаться безвестным.


Как и когда встретились в Ленинграде будущие родители, мне не известно. Остаётся домыслить это событие, копаясь в разрозненных биографических подробностях жизни каждого из них, и попытаться придумать подходящий сюжет этого события в духе сюжетов распространенных романов начала ХХ века.
Известно документально точно, Александр Верещагин родился в Петербурге, как следует из рукописной копии «свидетельства метрической книги церкви Святой мученицы царицы Александры при Александринской женской больнице и Родовспомогательном Заведении за 1896 год города С. Петербурга», где под род.№673 значится: «НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ ГОРОДА УСТЮЖНЫ У ДЕВИЦЫ МАРИИ АЛЕКСЕЕВОЙ ВЕРЕЩАГИНОЙ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РОДИЛСЯ НЕЗАКОННЫЙ СЫН АЛЕКСАНДР ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ФЕВРАЛЯ 1896 ГОДА И КРЕЩЕН 25 ФЕВРАЛЯ ТОГО ЖЕ МЕСЯЦА И ГОДА», (привожу дословно).
Рукописный документ сохранен отцом, когда и кем он выдан, копия умалчивает. Когда и почему молодая мать с ребенком вернулись в Устюжну, как жили? Ничего не узнаю, то ли отец не хотел, то ли не любил вспоминать свое раннее детство, но все его устные рассказы начинались с учёбы в реальном училище. Современникам напомню, что до революции после окончания начальной школы существовало два вида, два пути продолжения образования: гуманитарный- в гимназии, с техническим уклоном- в реальном училище. Скудные сведения о своей бабушке я нашёл в архиве отца в виде заверенной копии выписки из метрической книги Троицкой церкви Устюжны за 1912 год: «МЕЩАНСКАЯ ДОЧЬ ДЕВИЦА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА ВЕРЕЩАГИНА УМЕРЛА 6-ОГО, ПОГРЕБЕНА 8-ОГО МАРТА 1912года».

Отцу, оставшемуся без родительской поддержки, исполнилось 16. Странно, но именно в месяцы февраль и март в жизни нашей семьи с упорным постоянством весь ХХ век происходят все главные и трагические, и радостные события.

Далее мне известно документально: с 16 августа 1910 по июнь 1913 года Александр обучался и закончил, «при похвальном поведении», полный курс Устюжского реального училища, а с 16 августа 1913 по 7 июня 1914 учился и закончил дополнительный класс того же училища, готовясь к поступлению в Петербургский Университет.
Копия аттестата реального училища и фотографии отца и его приятелей, выполненные на твердом картоне с недостижимым ныне качеством- это всё, чем я располагаю в своих поисках. Школьная учеба отца завершена, куда ему двигаться дальше, кем быть. По тогдашним законам ему дано право отсрочки от военной службы и открыта дорога к попыткам самостоятельного достижения успешного общественного положения. Годы юношества и учёбы пришлись на периоды болезни и ранней смерти его матери Марии Алексеевны в её 44-хлетнем возрасте. Глядя на фотографию семнадцатилетнего выпускника реального училища, отлично сидящую на нем форму, здоровую задорную физиономию подозреваешь, что не зря 13- 14-е годы ХХ столетия всегда служили мерилом к так и не достигнутому большевиками достойному уровню жизни народа. Сирота, сын чахоточной матери из провинциальной Устюжны, самоуверенный претендент на поступление в столичный Петербургский Университет. Никто из его более благополучных соучеников не занял почему то заметного места в кругу послереволюционных деятелей. Наглядный пример целенаправленного унижения и уничтожения новой властью слоя чересчур «образованных» людей предостерег многих от опасности слишком выдвигаться из серой массы, а успешно реализуемый на практике лозунг недопустимости частной собственности подавил личную активность и инициативу. Ясно лишь одно: нормальное развитие скоро и надолго прервалось. Многие не рискнули поднять голову выше общего уровня, сберегая собственное мнение лишь для разговоров на кухне, которые и там могли закончиться весьма печальными последствиями. Политики отец избегал и с детства, и много позже, но рано начал мечтать о достижении уважаемой профессии адвоката, несмотря на отсутствие у него каких либо протекций.

Судя по фотографиям, круг юношеских друзей и подруг отца был разнообразен и обширен, а их пожелания на обороте открыток так доброжелательны и искренни. Удивительным свойством сохранять и беречь дружеские связи я награждён, видимо, от отца. Мне это передалось совершенно бесплатно, по наследству как «родовой» признак.
Отец из юношеских воспоминаний поделился со мной всего двумя событиями. Во первых, «подработкой» в кинотеатре, где в его обязанность входил сбор с пола кинозала проигравших лотерейных билетов и передачи хозяину для продажи новым посетителям. Во вторых, попыткой распространения в Устюжне велосипедов английской фирмы «Энфилд». Оба приносили некоторые карманные деньги, но главное надежду получить столь желанный приз- велосипед, при условии удачно проведенной им рекламы и успешной продажи энного их числа. О первом событии он всегда вспоминал с юмором и с назидательной интонацией, чтобы предостеречь меня от опасного азарта успеха «на дурака», хотя до последних дней ежемесячно покупал по одному билету государственной спортивной лотереи, посмеиваясь над собой. Эти лотереи по результативности и безнадежности выигрышей напоминали ему годы юности и жуликоватого хозяина кинотеатра. О втором событии он вспоминал с явной гордостью, как о честно добытой награде. Легкодорожный велосипед «Энфильд» — символ первой и на очень долгое время единственной собственности Александра, позже уже Александра Алексеевича, намного позже уже и Павла Александровича, потом и Дмитрия Павловича служил каждым летом верным помощником мужскому корню семьи: отцу, сыну, внукам. Увы, не умеем мы дорожить вещественными символами, способными стать фамильной реликвией и по праву занять почетное памятное место над семейным склепом.
Конечно, этих скудных заработков, идущих на карманные расходы, после смерти матери не хватило бы для жизни и учёбы, если бы не вмешательство председателя опекунского совета Устюжны, земского врача Костина и его жены, усыновивших Александра. Долгие годы после революции, уже получив университетское образование, начав самостоятельную семейную жизнь, после моего рождения, рождения моих старшего и младшего сыновей отец продолжал поддерживать самые теплые благодарные отношения с семьей Костиных. Самого приёмного отца я, бывая до войны довольно часто в квартире Костиных на Гороховой улице, живым уже не застал, но его старенькую жену Надежду Романовну, их сына Володю, жену Володи, его внука и внучку хорошо помню. И до, и после войны отец разными способами поддерживал жену и детей своего сводного брата, репрессированного в 1936 году по обвинению в антисоветской деятельности за распространение анекдотов о Сталине в кругу своих соучеников, — инженеров- путейцев, выпускников престижного Петербургского вуза (этот круг составляли завзятые преферансисты, собиравшиеся за картежным столом в его большой Ленинградской квартире).

Столичный Петербург, скоро уже Петроград. Для поступления на юридический факультет необходимо сдать обязательный экзамен по латыни, ведь в аттестате реального училища только немецкий и французский. Об ужасе зубрежки и сдачи латыни, о полном отказе на это время от всех соблазнов столицы: увлечений театром, музыкой, фигурным катанием даже через много лет отец рассказывал мне с долей удивления к собственной стойкости, с долей назидания и с еще большей долей юмора. Трудности позади. Началась столичная жизнь студента. С деньгами туго, приемный отец умер, Костины уже в Петербурге, и материальное положение семьи резко изменилось. Сводный брат отца студент престижного путейского института, поступления средств, кроме старых накоплений врача, у семьи нет. Надежда Романовна щедро кормит обоих студентов воскресными обедами, но надо самому снимать жильё, питаться и одеваться, нужны книги, билеты на галёрку и прочая, прочая, прочая. Источников средств у Александра всего два: занятия с отстающими гимназистами (обеды там же) и помощь землячества. В советское и современное время «землячество» вещь незнакомая, но очень русская, ценная. Деньги для своих земляков- студентов собирали попечительские советы городов путем благотворительных пожертвований жителей. Оба источника скупы и не постоянны, а столичная жизнь дорога.
Передо мной листы университетской зачетки с перечнем курсов лекций и отметками о сдаче зачетов за семестры 1914-и 15 годов, дальше зачётов, увы, нет.

Из соображений ли материальных, патриотических или поражений на сердечном фронте, но после третьего семестра отец оставляет юридический и поступает в юнкерское училище (через 30 лет я почти повторил этот смелый ход по похожим причинам, хотя узнал о поступке в 1960, когда сам служил родине 10-ый год).
Дальнейшая история его жизни развивается намного хуже и опаснее чем в «доме Облонских». Революции в стране следуют одна за другой, худо в особенности для недоучившихся юнкеров, вывезенных на их юношеское счастье в Тифлис, а потом с началом наступления Красной Армии на Закавказскую республику, распущенных командованием с надеждой на собственную удачу юношей. Об этом времени отец рассказывал скупо, зато аккуратно сохраненные им многочисленные справки, трудовые книжки, пропуска и членские профсоюзные билеты позволяют почти (подчеркиваю- «почти») проследить какие профессии он освоил на пути целенаправленного движения к городу Петрограду. Этот путь занял пять лет, познакомив его и с бытом санитарных поездов, и со случайной преподавательской работой, и с симпатизирующими юноше машинистами паровозов, и с разнокалиберными местными властями. Машинисты паровозов- порода особая, независимая, почитаемая в любые времена любой властью. Это была элита специалистов, вызывавшая общее почтительное уважение во всех классах общества. Управлять огнедышащим громогласным опасным средством доверялось только профессионалам. Добрые знакомства с хорошими людьми научили отца всю жизнь поддерживать настоящие добрые дружеские связи. Они послужили ему опорой и в первый год возвращения в Петроград, где его сердечно встретили в семье машиниста Ерофеева (сын которого стал после Отечественной войны атташе по культуре во Франции, а внук известным современным писателем, мелькающим изредка на серьезном ТВ экране). Подозреваю, что и первые месяцы после моего рождения я провёл вместе с мамой в их квартире. До войны отец регулярно бывал у Ерофеевых в гостях вместе со мной, позже поручив и мне навестить жену машиниста в Москве в 1947 году. С единственным сыном машиниста- тогда студентом филфака ленинградского Университета я виделся всего один раз в 1938 перед его неожиданным отъездом в Москву для полного изменения профиля своего дальнейшего образования с филологического на дипломатический. Молодые, весёлые однокурсники целой группой приехали к нам на дачу, шумно играли в незнакомый мне волейбол, а я обмирал от счастья, что был ими замечен и принят в команду.
Все ближе и ближе интригующее меня время будущей встречи моих родителей.
Вот он, Петроград. За плечами отца трудный жизненный опыт выживания в новых условиях со старанием соблюсти христианские моральные принципы, желание и жёсткая необходимость получения твердой профессии, перенесенная операция после вспышки туберкулеза, 27 прожитых лет и, похоже, наконец- то Университет. Наверное, с такими или близкими к ним мыслями начинался для отца 1923 год.
Среди прошедших после ухода из Университета лет едва ли было время для изучения теории права, но жесткой правовой практики было с избытком. Передо мной лежит документ: «Свидетельство Ленинградского Госуниверситета» за подписями: ректора, декана факультета советского права и секретаря президиума совета факультета о том, что «поступивший в 1923 году Александр Алексеевич Верещагин за время его пребывания студентом Университета к 25 ноября 1926 года выполнил все требования учебного плана и сдал все необходимые зачеты для завершения юридического образования».
Итак, всего 10 лет для достижения цели, поставленной в семнадцать, но цели. теперь воспринимаемой по- другому: чтобы твердо стоять на ногах, иметь законное право создать и обеспечить семью. А дело, похоже, стремительно шло к тому: уже состоялось и успешно продолжалось знакомство с Варечкой Евсеевой- молодым врачом городской больницы, высокой, стройной, рыжеволосой волжанкой, смело смотрящей в будущее, как и у него не подкрепленное, но не обремененное родительским наследством.
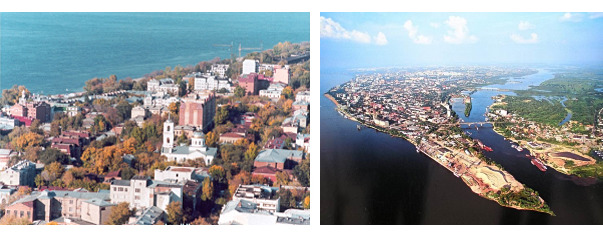
Варвара Александровна Евсеева, в кругу подруг и близких любовно называемая Варечкой, родилась и выросла в собственном доме Самарского купца Александра Ивановича Евсеева, стоявшем на берегу реки Самарки вблизи её впадения в Волгу.
Семья, как водилось по тем временам, большая: двенадцать своих и трое приёмных детей. Из большой семьи мне удалось близко узнать только её сестер: старшую Олю, младших: Веру, Любу, Катю и приёмного брата Алёшу.
Бабушку смутно помню по её приезду в Ленинград, когда мне было года два- три, расскажу о них позже. Ни один из её родных шести братьев не пережил первой мировой и гражданской войн. Дед всем дочерям дал гимназическое образование, старшей Оле даже дополнительно музыкальное. Помню ее игру на пианино в нашей квартире в 1954, когда она вернулась из ссыльного лагерного небытия. Хорошо помню этот приезд. (До этого мы с мамой только однажды были у тети Оли году в 35-ом под Лодейным Полем, где её муж- инженер руководил строительством шлюза на Беломорканале.) Закончилась война, скончался, наконец, наш вождь и учитель, и три сестры: Оля, Варя, Катя вновь вместе, впервые вместе почти через 20 лет, ну. прямо по Антону Павловичу.
В семье Евсеевых строго придерживались обязательных православных правил: молитв утром, перед едой и сном, беспрекословному подчинению старшим, соблюдению традиций, но ветер перемен уже проник в атмосферу купеческой семьи вместе с гимназическим образованием и обожаемыми Варей книгами. Летнее время Варя проводила на даче родителей недалеко от Самары. Урожай яблоневого сада осенью ежегодно отдавали в наём каким то непонятным «молоканам», что по детским моим представлениям превращало мамин сад в гигантские дебри. Довольно большой сад дачных хозяев в Холуховичах мы с соседскими мальчишками обдирали дочиста сами. Других детских маминых впечатлений память не сохранила, как не сохранила в нашем доме ни одной её полной семейной фотографии. Все дочери деда отличались завидной независимостью в принятии решений, как строить свою жизнь, хоть бы это и грозило им лишением материальной поддержки и уж точно приданого. Отказ Варечки от выполнения воли отца, пожелавшего выдать ее за родственника- вдовца с тремя детьми, и наперекор ему поступившей в медицинский институт против его воли, привёл к отлучению ее от дома. Вот такой характер. Шел уже 1917-ый год. Работа санитаркой в госпитале давала ей некоторые средства, но оставляла мало времени для учёбы и сна, думаю, бабушка наверняка скрытно поддерживала строптивую Варечку в тайне от мужа, но об этом я могу лишь догадываться по намёкам маминых сестёр. В отличие от моего отца мама не хранила никаких бумаг, по которым можно проследить её дорогу в Петроград- Ленинград.
Есть сохраненная фотография с надписью: «третий курс, 21-ый год». Есть фотография группы врачей после окончания курсов усовершенствования в 25- 26-ом году в Ленинграде, была и пропала в период блокады брошюра с дарственной надписью от 25-ого года её автора- врача Тайца, получившего известность среди мамаш Питерских детей в предвоенные 30-е.

По этим скудным данным установить, когда же привлёк внимание Варечки будущий супруг, невозможно. Из маминых воспоминаний знаю, что она после учёбы в институте работала в составе отряда врачей в период вспышки холеры в Самарской губернии в тридцатые годы и после этого попала на курсы усовершенствования в Петроград. Остаётся только выдумывать, как своим красноречием и обаянием, буйными вьющимися чёрными кудрями, добротой и надёжностью молодой юрист покорил рыжеволосую романтичную Варечку. Александру за 30, Варечке уже 28. Семейный союз освящён гражданским браком. Тайна почему родители оформили официально свой брак только через восемнадцать лет, когда я поступал в Дзержинку. Что долго служило причиной: опасение отца попасть в число репрессированных с неизбежными последствиями для жены и ребёнка, несогласие с советской формой брака, тогдашнего равнодушия общества к официальному закреплению семейных отношений. Словом, где то в 1927 году у Варечки произошло событие, сохраненное справкой о преждевременных родах и гибели ребёнка, позволяющее мне вести отсчёт начала возникновения семьи с 1926- 27-ого года. В их распоряжении съемная площадь, прогулочный катер с подвесным мотором «Эвинруд», верный велосипед фирмы «Энфильд». Прошу обратить внимание: всё движимое имущество английского производства, что могло навести недремлющее око на мысль об опасном увлечении отца иностранной техникой. (Следует оговориться, так красиво и складно сочиненная история могла быт построена на частичной мистификации. Моему младшему сыну мама советовала не слишком доверять архиву отца- он был опытным и осторожным мужем, готовым надёжно защитить семью.)

Так начиналась семейная жизнь родителей, полная любви и самых «радужных» надежд. Хорошо известно, что истинная любовь не терпит промедлений и долгих размышлений. Девятого марта 1928 года произошло событие, по своему значению для молодой семьи равноценное падению тунгусского метеорита. Это подтверждалось неизменными ежегодными домашними праздниками, отмечаемыми наравне с государственными, отменой надолго в целях экономии празднования ими своих дней рождения и переносом «женского дня» (прошу понять правильно) на восьмое марта. Событие назвали Павлом, изменённое мамой на ласкательное «Пуся», прилипшее ко мне на долгие школьные годы. На деньги за проданный моторный катер сняли приличную комнату, купили кроватку и начали строить светлое будущее рыжему юнцу. По закону сохранения вещества- «сколько прибудет, столько же и убудет», молодая семья, надеясь только на свои силы, духовную помощь отмененного правительством бога, моральную поддержку близких и друзей пустилась в плавание по бурным просторам Ленинградского моря. Шура, как звала любимого мужа молодая мать, проявлял чудеса изобретательности в практическом приложении своего жизненного и юридического опыта, одновременно работая по совместительству в нескольких организациях сразу, консультируя органы домоуправления в разных районах, изыскивая пути улучшения условий жизни семьи, появляясь дома ближе к полуночи, сохранив этот режим на долгие годы. В стране твердый порядок и карточная система распределения еды, жилье только путём предоставления его органами власти методом принудительного «уплотнения» граждан, имеющих «лишнее» жильё, или хитрым путем личных уговоров и платы владельцу такового, боящемуся принудительного уплотнения, за согласие «добровольно» прописать к себе нового жильца на общенародную лишнюю площадь. Жизнь, наперекор трудностям, начинала устраиваться. Нашли няню Марусю, обожавшую малыша, терпевшую его капризы стойко, с уговорами ходившую за ним по комнате с ложкой каши. (Эта информация, по- моему, недостоверна, так как исходит от явно недоброжелательных родственников). Первоначально на лето очень выгодно, потрясающе дешево поселились вблизи города на даче. Все родственники: и ближние, и дальние, даже моя бабушка и мамина сестра Люба из Самары приехали, были допущены к любованию юным чудом. По традиции коренных петербуржцев и приобретенному своему опыту озаботились выездом на это лето и на все последующие годы на природу соразмерно ограниченным финансам. Благодаря няне облюбовали место вблизи города Луги, на хуторе с необыкновенным названием Холуховичи, на берегу реки Удрайки, впадающей в Лугу. Чтобы добраться до дачи надо ехать на телеге или двуколке по настоящей сельской дороге от железнодорожной станции Луга мимо деревни Вычелобок верст пять, что требует всего двух- трёх часов. Каждый год в первых числах июня, невзирая на поведение погоды и ошибочные обещания репродуктором безоблачных дней, мы выезжаем в Холуховичи. Прислушайтесь, как это звучит: ХОЛЛУУХООВИИЧИИ. Ждешь всю осень, всю зиму, терпишь с трудом весну, и, наконец, мама начинает готовиться к даче: не к отъезду, а к сборам необходимой одежды для жары, для дождя, для обязательного в июне похолодания; необходимых лекарств; необходимых продуктов на всё лето, ведь рядом никаких магазинов нет; необходимых постельных вещей. За неделю до отъезда куплены билеты на поезд до Луги, упакованы тюки и плетеная корзина огромного размера, сторговались с кучером телеги, что повезёт нас на вокзал. Наконец, постукивая колёсами, поезд мчит нас к долгожданной деревне. Район Луги давно облюбованное дачниками место: лучшие цены, лучшие яблоки, лучшие грибы и ягоды, поэтому на привокзальной площади Луги полно ожидающих телег, прибывших нервных дачниц и их мятущихся мужей- большой разъезд. Мы с мамой уже на повозке, папа с возчиком идут рядом с телегой пешком, изредка подсаживаясь. Подъезжаем к высокому деревянному мосту через Лугу, справа на высоком берегу дома и улицы большой деревни Вычелобок, отсюда до хутора совсем близко, и мне разрешают бежать, держась за повозку. Проехали мимо строящихся длинных сараев- птичий двор колхоза. Оставляя деревню в стороне, поворачиваем, еще совсем немного, и справа от дороги, за аллеей с двумя рядами тополей, блестящих серебристо- зелеными листьями, остатки большого барского дома. Первый каменный жёлтый этаж без дверей и окон, пустые дыры в стенах. Второго этажа почти не осталось. Не доезжая до развалин, сворачиваем на мало наезженную дорогу. Мимо стен кустов желтых акаций, мимо площади с двором еще пустующей риги, и прямо перед нами место летнего обитания на несколько лет. Хутор маленький, домов шесть, полновластных хозяев двое: пять колхозников и наш один- единоличник. Распаковываем вещи, отец уезжает обратно в город. Да здравствует лето.
Почти реальные факты
Деревня Вычелобок была жива ещё и после войны, туда даже автобус ходил, правда, эти сведения до перестройки. «Наш хутор» всего в двух- трех километрах. Комната светелка в три окна, выходящие в вишневый сад. Сам дом большой, добротный: тёплые сени, кухня с огромной русской печью, парадная «зала» в пять окон. Дом рубленый, снаружи оштукатурен и окрашен известью в небесно- голубой цвет. Павлуше сейчас уже за восемьдесят, а перед глазами тот дом, за ним большой яблоневый сад, спускающийся к реке, за садом баня на берегу Удрайки, впадающей в Лугу, мостик на противоположный берег из двух досок. За домом палисадник, где растут вишни, сливы, кусты смородины отделяют пасеку- любимое место возни отца в редкие его приезды к нам из города. Под одной крышей с домом «двор», где стоят телеги и бричка, перед самим домом площадь с сараями для коровы, овец и домашней птицы. Для хранения запасов кирпичная рига, вблизи глубокий погреб набит на лето снегом, под домом подвал, в который въезжают на телеге. Хозяйство большое, старшие дети: брат и сестра живут отдельно, двое младших с родителями. Совсем близко поле, которое мы застаем уже давно засеянным и к концу лета готовым к жатве. Пока я был совсем мал, молодые женщины брали меня на жатву с собой, поле на глазах покрывалось ровными рядами скирд. Пытаясь помочь, стараюсь ставить снопы в скирду, быстро устаю от жары, и меня укладывают тут же под кустом спать, напоив молоком. Молоко всегда, до теперешних дней, мой самый любимый напиток и еда, молоко парное, молоко топлёное, целой крынкой.
Хозяин наш бородатый, немногословный, хмурый, коренастый мужик, старшие дети красивые, рослые, темноволосые, бабы певуньи, идя с поля всегда заводят здешние песни на два голоса, очень красиво. Младшие дети, брат и сестра, помогают по хозяйству и лет на пять меня старше. За несколько приездов все стало знакомым: ловля уклеек в реке Удрайке, со страхом поиск раков голыми руками в норах под её берегом, набеги с ребятами в соседний колхозный сад за яблоками, вылазки в развалины бывшего господского дома, сохранившего таинственный первый кирпичный этаж и аллею серебристых тополей.
Там в траве мы наткнулись на огромную ароматную землянику непривычного вкуса. Росла она среди погибших кустов смородины и, как объяснила мама, называлась клубникой, такая росла в её саду на даче под Самарой. Эти одинаково таинственные незнакомые Самара и клубника почему- то были между собой накрепко связаны в моём представлении, как что то заморское, сказочное, вроде мандарин, появлявшихся у нас в доме только на Новый год.
Деревенские ребята знакомят с окрестностями хутора, местами, удобными для купания, таинственными холодными ручьями, бьющими в овраге, в воде которых в лучах солнца ярко сияют песчинки, по нашему общему мнению, настоящего золота. Наш берег реки порос ольхой и гибкими лозами пригодными только для изготовления удочек, противоположный, постепенно повышаясь, приводит к песчаной мелкой бухточке с пляжем- местом безопасного купания. Из одежды у мальчишек и девчонок одни трусы и то не всегда. Деревенские умеют вести себя в разных трудных ситуациях намного лучше городских. И умеют много больше. Научили, как правильно сделать удочку, насадить наживку на крючок, где лучше клюет. Вместе отправляемся на другую сторону Удрайки к железной дороге, тропинка ведет через чахлый сырой сосновый лес. Поход затеян, чтобы показать мне, как долго можно, балансируя, бежать по рельсе, теперь это становится общей забавой и спортивным единоборством, вообще- то незаконным, так как мама об этих походах не знает. Сразу на том берегу, метрах в пяти от реки, вырыт пруд, который весной в половодье сообщается с рекой, к осени нам видна и слышна в нем игра крупных рыб, но на удочки никогда не попадаются. Когда мужики осенью на одном конце пруда опустят бредень, а мы колотушками начнем бить по воде на другом, то в бредне живой вырывающейся из рук рыбы за пять- шесть заходов набирается несколько ведер. Попадает рыба и нам за участие. Долгое время трудно было привыкнуть к мытью в бане. Малыши вроде меня идут в баню последними вместе с женщинами, самыми первыми идут мужики, а потом наша очередь. Бревенчатый низкий дом, крытый соломой, стоит на самом берегу, раздеваются до гола в первой его половине, открывают дверь во вторую и на тебя набрасываются клубы горячего пара. Прямо на полу среди горы раскаленных камней клокочет чугунный бак с кипящей водой, кругом голые женщины и дети. Шумно и жарко. После походов в баню всякий интерес к девчонкам пропал окончательно. Не понять старших парней. Первый банный испуг проходит не сразу, но избежать обязательных еженедельных испытаний не удается, зато потом, когда привыкнешь, уже сам ждешь жаркого, немного страшного удовольствия.
Такая трудная в самом начале беготня босиком скоро становится единственно удобной. Кожа твердеет на подошвах, привыкает к мягкости земли и твердости обкатанных камней. Ребят и девчонок на хуторе совсем мало, а близких по возрасту можно посчитать по пальцам одной руки. Помню только одного «Сереженьку- золотую шишечку», как звала мальчишку его мать. Книги забыты, их заменяют мои пересказы местным друзьям прочитанных или услышанных в городе по радио приключений книжных героев. Время летит. Летом отца вижу редко, приезжает иногда из города всего на несколько дней, от станции Луга до хутора едет на своём любимом велосипеде, сопровождавшем его в поезде. Здесь у него два увлечения: возня с хозяйскими пчелами и походы за малиной. Уходит в лес один, рано, когда все еще спят и приходит к обеду с полной корзиной, веселый, довольный. Только раз поехали с ним вместе вдвоем за вишней. Наша (хозяйская) уже отошла, а маме захотелось заготовить варенья. Папа в седле, я на багажнике отправились в ближнюю деревню, рекомендованную нашей хозяйкой. Этой поездкой я страшно гордился. Далеко, вдвоем, и не просто для прогулки, а для самостоятельного сбора вишни прямо с тонких веток высокого дерева. Собирал и передавал отцу, крепко державшему меня за ноги. Собрали целое ведро. Вот какой помощник.
В один из приездов на хутор стало заметно, что обстановка в доме резко изменилась. Нет прежней спокойной размеренной устоявшейся жизни деревенского дома, хозяйка неприветлива и часто плачет. Хозяин настойчиво возмущенно расспрашивает о чём то отца, который избегает разговоров и непривычно отмалчивается. Идет сплошная всеобщая под лозунгом «смерть буржуям» коллективизация. А как ему объяснить горбатящему с утра до утра мужику почему отбирают его землю, хозяйство, нажитое трудом, почему забыт начисто такой привлекательный громкий лозунг- «землю крестьянам», за который он сообща так дружно разорил дом и хозяйство ближайшего барина.
В следующие свои приезды живем теперь в доме старенькой, совершенно одинокой хозяйки на другом конце хутора, наших старых хозяев нет, их поле не засеяно, сад и двор заброшены. За молоком ходим к хуторянам, а для еды покупаем впрок оптом на колхозном птичьем дворе худущих драчливых молодых петушков, «на откорм». Так и не сеял никто больше на этом поле, и стояло оно пустым, зарастая травой и быстро принявшимся кустарником. Похоже, последний раз были в Холуховичах летом 1937 года, а ясно помню всё до сих пор. Для меня память о деревне- полюбившийся с детства аккуратный, до блеска отмытый дом, хлопотливая хозяйка и хозяин, вечно неторопливый, занятый в конюшне или амбаре своими делами, продуманные предками устройство и распорядок жизни, и моя свобода, полная свобода. Привязанность к этим местам возникла много позже и передалась от материнского радостного восприятия духа тех мест, полюбившихся сразу. Лучше это ощущение любви и покоя передаёт её короткое письмо к отцу.
«Шурочка, дорогой, здравствуй. Вот уже 4 дня как живу на даче. Здесь чудесно, погода стоит жаркая, солнца хоть отбавляй. Все время проводим в саду или на террасе. Малыш в первый же день загорел. Сейчас мордасья круглая, вся красная одни только глазенки блестят. Чувствует себя здесь великолепно. Перед отъездом на дачу была в консультации, оспу ему советуют привить только осенью, т.к. сейчас жарко. Я тоже поправилась, только немного сожгла солнцем шею и руки, ну это конечно пустяки. Одно неприятно- мошки, едят нас вовсю. Говорят, что они через неделю, две должны пропасть. Каково то тебе, мой хороший, вероятно сейчас в Л де отвратительно. Скорее бы что ли ты приехал вздохнуть. Я купаться ещё не начала, думаю с конца недели начать. Пока живу на даче одна, Катя перебирается на этой неделе. Мы сняли дачу из 3-х комнат, мы это мы и семья наших квартирантов, по 50 руб. всего за дачу, 100 руб. в лето вся дача. У нас есть общая прислуга 6 руб. в месяц. Питаюсь я хорошо. С 1-ого июля, вероятно, Любонька приедет на месяц, закрывают диспансер. Мама приезжает дня на 3- 4-в неделю. Ну будь здоров целую тебя, пиши побольше, не хватает мне здесь только тебя, поскорее бы приехал, просто душа болит, замучаешь себя ты там в Л де. Пиши, как проводишь праздничные дни. Крепко целую, всем поклон, Твоя Ва. 18. 6. 28.»
Я не посмел изменить ни орфографии, ни пунктуации письма, найденного мною в бумагах отца, хотя оно явно и не относится к Холуховичам, оно передаёт отношения родителей друг к другу тогда и все последующие годы.
Когда убранные с поля снопы свозили в ригу, крытое помещение с утрамбованным земляным полом, начиналось одно из самых любимых мальчишками занятий- молотьба. На площадке перед током ставили железное чудовище, управляемое ременным приводом, ремень шел к шкиву столба врытого в землю. Шкив вращали лошади, идущие вокруг него, нам доверялось следить за ними и погонять лошадей. Молотилка оглушающе гремела, двое здоровых парней непрерывно забрасывали в ее жерло снопы, двое отгребали в сторону высыпающееся из молотилки зерно, женщины подбрасывали его деревянными лопатами в воздух, чтобы отвеять шелуху. Лошади шли ровно, молотилка гремела, люди сменяли друг друга, гора обмолоченного зерна росла, получалось, что главные во всем этом мы. Впечатления от первой встречи с совершенно другой жизнью: жатва, молотьба, езда на водопой верхом на лошади, купание, полная свобода, которая, наверно, может быть только в раннем детстве. Такие яркие, не повторившиеся потом никогда, ушедшие в далёкое прошлое.
Улица Рылеева, дом 7. Сказочные Рабиновичи
Пока Павлуша в первый свой приезд в деревню с мамой Варей набираются сил и сельских впечатлений, Шура в городе развил бурную деятельность, невероятную, несбыточную деятельность, в несколько раз превосходившую возникшую во время перестройки конца двадцатого столетия (вам не видать таких сражений). В итоге к моменту возвращения в город у нас уже была своя «собственная» комната в коммунальной квартире дома 7 по улице Рылеева. С ванной, кухней и туалетом в разных концах необозримых по длине коридоров, с соседями, о каких только можно мечтать, с мощеным булыжником двором, с церковным садом перед двумя узкими высокими окнами нашей комнаты. Вход в квартиру с черной лестницы, в самом начале попадаешь на кухню с гигантской, давно не работающей кирпичной плитой, уставленной на поверхности 4-мя примусами, которые прогресс постепенно сменяет на керосинки, а позже на керогазы. Всего в квартире четыре семьи, соседей семеро. Приняли нас хорошо, благодаря дипломатическому дару отца и спокойной благожелательности мамы. Как и все, или почти все коммунальные квартиры эта результат деления бывшей большой на несколько меньших. Вообще, весь дом по составу жильцов, их происхождению и их занятиям похож на Ноев ковчег. Кроме двух- трех семей петербуржцев, уцелевших в революцию и не сбежавших куда либо, полно приезжих: врачей, актеров, владельцев национализированных после НЭПА мелких и средних магазинов, лавок и лавочек, людей, просто ищущих приюта и работы в недрах бывшей огромной столицы, представителей среднего звена местной служивой и милицейской власти. Для мальчишек во дворе ежедневные бесплатные развлечения. Вот во двор не спеша выходит из дверей «парадной» в шубе с мехом во внутрь, с солидной палкой в руке «профессор», поддерживая под руку немолодую важную даму, дама тащит на привязи за собой озлобленную голую собачонку неизвестной нам странной породы. Их заботливо сопровождает, грозя нам, Альфонс Яковлевич, — дворник- поляк огромного роста, на ходу поддакивая и кивая головой «профессору». Вот из полуподвального помещения общей прачечной с тазами мокрого белья выходят женщины, горячая вода греется жадной дровяной печью и одному греть невыгодно. По чёрной лестнице белье поднимают на чердак для сушки. Теперь по очереди только следи, чтобы местные воры не забрались. Из прежних жильцов внимание мальчишек нашего двора приковано к преподавателю «правильной» театральной речи Сафарову, — солидному, не пожилому, важному, таинственному господину, одетому в строгие тёмные тона, ноги в огромных «буржуинских» ботах, головной убор единственного в районе фасона. Посетители педагога- яркие модные актрисы и невзрачно одетые молодые актеры, и те, и другие с папиросой в зубах и с видом инопланетян, сторонятся от нас как от шпаны.


Обитатели нашей коммунальной длиннющей квартиры представлены: моими родителями- (юристом и врачом); уплотненной нами семьей Владимира Савельевича Рабиновича- (начальника литейного цеха), его женой и дочерью, студенткой Университета, (начальник цеха в недавнем прошлом владелец реквизированного литейного завода в Харькове); семьей виолончелиста с женой, балериной кордебалета, и сыном Витей моих лет; одинокой девицей, которую каждый год сменяет похожая. Квартира- плод строительной деятельности первых её коммунальных обитателей. Из кухни с двумя окнами во двор дверь ведёт в первый коридор, длиной не меньше 10 метров и шириной 1,5, в его начале миниатюрный туалет, прообраз туалетов будущих советских квартир, явно отнявший кусок кухни. Коридор до предела сужен сундуками, шкафами и вешалками, высота доведена до 2,5 метров несколькими антресолями по его длине. Три двери ведут в комнаты двух соседей. За ними дверь во второй коридор, ширина в его начале 2,5м, увеличивающаяся плавно до 5м, длина 6, слева поместилась фанерная выгородка ванны с дровяной колонкой и умывальником. Уже в самом торце дверь в комнату с «венецианскими» окнами, смотрящими на Север, а из неё в комнату с кафельной печью, отапливающей обе, и двумя широкими окнами. В первой мы, во второй- Рабиновичи. Потолки высокие. Проход к ним отделён белой ширмой с фигурными накладными орнаментами, куплена на распродаже имущества бывшей знати. Обстановка нашей комнаты предельно проста: кровать с панцирной сеткой; оттоманка с тремя подушками и боковыми валиками; резной обеденный стол со стульями; резной туалет с двумя тумбами; белый комод и высокий тёмный фанерный «древтрестовский» шкаф. Интерьер дополняет сундук с музыкальным звоном при открывании замка, — бабушкин подарок к моему рождению. На узких окнах тяжёлые вишневые, шерстяные машинной вязки портьеры с бахромой и кистями, купленные на одной из гигантских комиссионных распродаж дворцового имущества в том же Царском Селе, придающие комнате необходимый оттенок солидности и некоторого достатка. Вскоре интерьер пополняется книжной этажеркой красного дерева и малахитовыми часами на ней. Правда, часы не ходят, но зелёные на красном дереве смотрятся очень красиво. С часами не везло. Те, что на стене, с красивым музыкальным боем, вдруг начинали звонить в любое время любое число раз, но только не то, которое нужно. Для борьбы с часами у папы знакомый мастер, который усмирял их. Лишь позже, влюбленный в маму, потом в свою жену и всегда в себя Павлуша сумеет понять и оценить по достоинству любовь отца к дому, заботу о нём и стремление немного приукрасить наш быт. Несмотря на то, что и отец, и мама постоянно работали, а отец в нескольких местах одновременно, с деньгами всегда было туго, но никогда это не было темой домашних споров или обид. Оба любили свои профессии, было и необходимостью, и нормой, что муж и жена оба работают, а это было возможно, если у ребенка есть няня, или бабушка, или детский сад, наконец. Мать отца умерла рано, мать мамы всегда жила в далёкой Самаре у одной из дочерей и с моей мамой, возможно, не слишком ладила. О детском саде ребенку служащих и не мечталось, так как графу «происхождение» родителей рабочей никак не назовешь, служащих же пруд пруди, потерпят. Няня Маруся после нашего переезда на Рылеева ушла, когда мне исполнилось неполных два. За год коммунального соседства с обожаемой мною семьей Владимира Савельевича и Беллы Израилевны Рабинович я так прилепился к сердцам тети Беллы и дяди Володи, потерявших своих детей во время петлюровских погромов в Харькове в революцию, что они (Белла) убедили маму- «не надо никаких случайных нянечек», она присмотрит в часы маминой работы.

Бывают все таки соломоновы решения. Всю свою нерастраченную любовь к детям Белла и Володя отдавали мне: угощение необыкновенными по вкусу и форме горячими пирожками и супами Беллы, а вкус гоголь моголя из ее рук на завтрак, а какао. А походы и поездки с дядей Володей в Летний сад к памятнику Крылову и в Царское Село, в его дворцы и обязательно в Пушкинский лицей, его вечерние чтения мне вслух стихов Пушкина, позже Лермонтова, рассказов Чехова и Толстого. Через короткое время, благодаря непрерывным подкормкам Беллы, я стал образцово упитанным, полненьким домашним мальчиком. Когда теперь я встречаю похожих детей, то нет сомнения, что у них в доме непременно есть любящая бабушка и наверняка с корнями из Израиля. Лучшими подарками ребёнку в доме считались только книги, отец и Володя тщательно искали старинные разрозненные издания и иллюстрированные однотомники классиков в букинистических магазинах.


Голубой, тисненый переплет однотомника Жуковского, серая бумага и такой же шрифт первого советского однотомника Пушкина, толстенный, рассыпающийся по листам том Крылова с огромными яркими иллюстрациями, тяжеленный в твёрдом переплёте однотомник Гоголя с такими живыми описаниями людей, с уморительно смешными рассказами и страшными повестями. Настояниями дяди Володи и из за желания ему угодить я к пяти годам бойко научился читать и читал все подряд, доставляя ему и себе удовольствие. Среди моих книг долго хранился юбилейный трехтомник Пушкина издания 1937 года, подаренный мне Володей на день рождения. Вторым сильным увлечением рано стало, как ни странно, пение. В доме музыкальных инструментов не было, родители пением не увлекались. Круглая черная тарелка репродуктора весь день звучала со стены бодрыми песнями, ариями из классических опер, голосами действующих лиц сказок, скучать некогда. К двум часам мама уже дома, обнимает, целует меня так будто не видела целую вечность. Становлюсь на стул и детским высоким голосом, повторяя услышанную арию герцога, самозабвенно пою: «…сердце красавицы склонно к измене…», не очень понимая смысл слов, и жду одобрения восхищенных слушателей, слушатели «восхищаются». Уверовав в мои «явные» музыкальные способности, взрослые начали всерьёз думать, что самое время заняться музыкальным образованием ребёнка. Повели проверять в музыкальную школу и там обнаружили на мою беду «идеальный слух», память и еще что то. Естественно, с такими задатками я был обречён стать соперником скрипача Хейфеца. Первая сложность-приобретения детской скрипки решена знакомым папе скрипичным мастером. Маленькая скрипка лежит в футляре, нагоняя на меня ужас извлекаемыми мною отвратительными звуками. Жизненные обстоятельства военных лет быстро разлучили меня со скрипкой, и Хейфец мог быть спокоен. Впечатления детских лет держатся в памяти очень ярко. Любовь к пению осталась самым главным увлечением на всю достаточно долгую жизнь. Не мудрено, ведь с 8 лет меня школил сам Свешников в детском хоре мальчиков при капелле. Уверовав в свои «необыкновенные» певческие данные, я до сих пор смело продолжаю (после лишней рюмки) терзать слушателей своим порядочно охрипшим голосом. Каждое новое впечатление от таланта хорошего певца воспринимается как дорогой подарок и надолго западает в душу. Если у тебя, в добавок к первым детским открытиям, вдруг неожиданно появляется ещё и теплое Черное море, южные горы, запахи юга- это любовь навсегда. Потом мечтаешь и ждешь, вновь ждёшь повторения сказки.
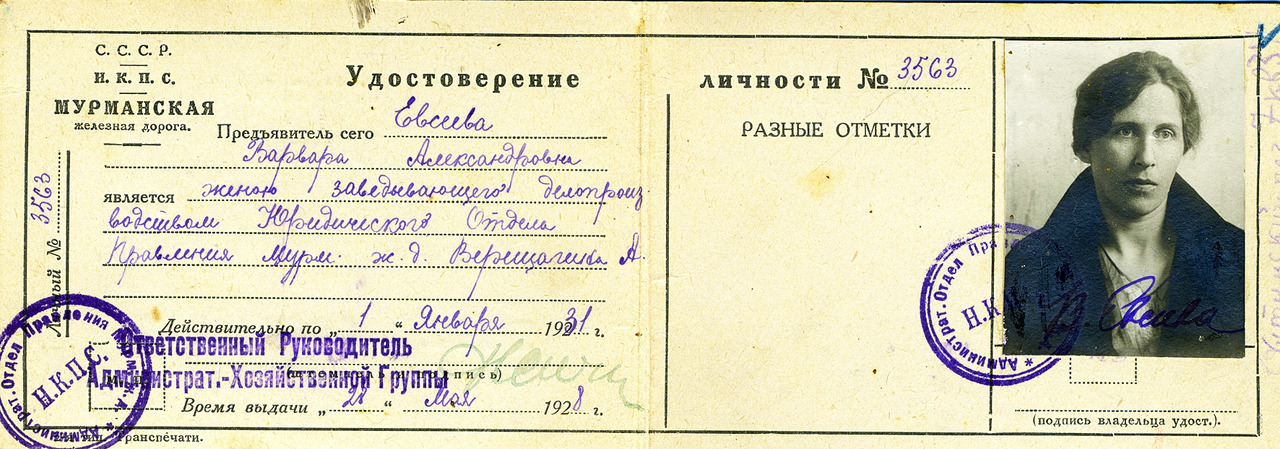
1931 год, мои родители едут «дикарями» в Сочи бесплатно, как члены профсоюза железнодорожников, железная дорога одно из мест работы отца, мама член семьи члена союза. За окном вагона все бежит и меняется, один день, еще один, и еще, и вот он, Юг. Все иное, на солнце нельзя не только уголком глаза посмотреть, даже выйти к нему на улицу страшно, а море…,, волны теплые, нежные убегают, и обратно к тебе назад, давай догоняй. Только через двадцать лет я снова увижу их. А тогда, глядя с ужасом на обожженную солнцем отцовскую спину, с которой мама хлопьями снимала кожу, испуганно прячусь от его ладоней, там, из пригоршней полных морской воды, лихорадочно рвется аналогия крошечной живой лошадки, без ног, зато с её мордочкой и хвостом колечком. Когда через 20 лет во второй раз увидел долгожданный юг, этих лошадок не было и в помине, не выдержали цивилизации, подохли.
Южный отдых отца и мамы недолог, мы снова дома. В домашних играх лучший друг и помощник: сосед по квартире- Витька Винтман, младше меня на год, читать не умеет, но умеет шумно бегать вдоль коридора, слушать мой пересказ книг, искать меня в шкафах и под кроватями. Мама Вити, доверяя мне старшему, оставляет нас дома одних и уходит гулять с левреткой по имени Логри- вреднейшей ябедой, которая на ее вопросы о нашем поведении за время отсутствия заливается визгливым лаем, выдающим все наши хулиганские проделки. После этого собачьего доноса нас разлучали и наказывали, и никакой Витькин рёв не помогал. Мы готовы были придушить эту мелкую вредину, если бы дала себя поймать. У Вити есть московская тетя Лолла, поражающая своей ослепительной красотой, фигурной прической, удивительным цветом и длиной ресниц, ароматом незнакомых духов, сразу наполняющим коридор и кухню, заграничными чемоданами с разноцветными наклейками. В каждый приезд она что нибудь обязательно Витьке дарит, в этот раз это была с полметра длиной жестяная копия паровоза, который сам ехал, если налить что то в его топку, зажечь и тогда из трубы шел пар, колёса вращались, паровоз двигался как настоящий. Без участия взрослых нас к нему близко не подпускали. Он вечно стоял днем на шкафу в ожидании прихода взрослых. Однажды, когда Витина мама ушла в парикмахерскую, мы точно знали. Значит, надолго, наше нетерпение пересилило все запреты. Из огромной бутыли мы залили в паровоз жидкость, напоминающую цветом ту, которую заливал Витин отец (дети очень наблюдательны), разлив порядочную лужу из за маленького размера входного отверстия. На кухне стянули коробок спичек, зажгли и ничего, жидкость не загоралась, сколько не старались. Нам теперь строго настрого запрещено встречаться друг с другом, Витькин ежедневный рёв слышен даже у нас в комнате, а Витина мама много лет потом напоминала, как мы тогда погубили месячную норму страшно дефицитного оливкового масла.
На этот день рождения я получил невероятный подарок. По просьбе отца замечательный дядя Володя заказал мастерам на его заводе настоящий педальный автомобиль: с открытым кузовом из гнутой толстой фанеры, мягким сидением, с настоящим рулем для поворотов, черным резиновым клаксоном и железными колёсами с литыми резиновыми шинами. Мы целыми днями гоняем на нём по бесконечным коридорам. Авто успешно переживет блокаду (дядя Володя её не переживёт) и кончит путь в 50-ых годах ХХ века, по моему остроумному замыслу развозя по танцевальному залу любовные послания девицам на вечерах отдыха моего факультета.
Стремление Владимира Савельевича обучению меня прелестям его любимой профессии- литейному делу вылилось в частые походы в заводской цех, наглядному там объяснению процесса изготовления форм и самого литья. Заботливый учитель заказал мастерам крошечные опоки, копии настоящих, принёс формовочную землю, и под его надзором мы отливаем по выходным на кухне из олова копии юбилейной медали войны 12-го года, барельефы юного Ленина и Наполеона по образцам настоящих медалей из отцовской коллекции. Белла Израилевна молча наблюдает за нашими занятиями, не одобряя, но не мешая, считая это очередным безвредным чудачеством любимого мужа. Добрая, чуткая Белла, никогда не повышавшая голос в кухонных спорах, сохранившая и после 50 лет стройную осанку молодой красавицы, смотревшей с её свадебной фотографии размера 2 на 1,5м, висевшей в комнате под стеклом в красивой тёмной раме вместо картины. Это было всё, что вывезли Володя и Белла из дореволюционного Харьковского прошлого. Володя любил читать мне вслух Пушкинские стихи, а стихи Шевченко читал и на украинском. Он же уговорил родителей повести меня на оперу «Наталка Полтавка» на гастролях Киевского театра, ставшую надолго одной из любимых. Изумительные украинские голоса, совершенно другое мягкое звучание. Гоголевские повести и стихи Шевченко предопределили мою привязанность к украинской культуре и образу жизни. Но больше всего Володя любил Чехова, знал наизусть все рассказы, достаточно было прочесть ему абзац, и он продолжит, а к молодому «Чехонте» меня приучал обязательным вечерним чтением.
Местом для самостоятельных гуляний служил двор. Мощёный булыжником он по форме напоминал букву «Е» с ножками разной толщины. В широкую часть вела с улицы подворотня, широкая и была основным местом игр, споров и драк. Это двор знакомил с другой жизнью, с непростыми правилами отношений и борьбы за место в мальчишеской стае. Играем в фантики, чижик пыжик, маялку, с девчонками в штандер и прятки, с мальчишками битой на деньги, все вместе до изнеможения, пока не позовут домой, в казаки- разбойники. Днём двор, вечером чтение, занятия с дядей Володей, придумывание Минюсей неожиданных шарад- всегдашнее её увлечение. В самый разгар игр заставляют идти спать. Вообще то кроме двора, книг и радио для меня подоконники в комнате Беллы одно из самых привлекательных мест, и для наблюдения за событиями в церковном саду, и для ловли слишком жадных прохожих. Если, лёжа на подоконнике, опустить на нитке привлекательный пакетик и, дождавшись желающего его поднять, дернуть приманку перед самым его носом!!!! Вы наверняка это пробовали? Любопытных в начале и разозленных потом прохожих в некоторые дни попадается до десяти, но это тайное, запрещенное Беллой очень интересное опасное занятие. Если заметит, то запретит бывать в её комнате. Обязательно запретит, но быстро простит. Ну как её не любить.
Как интересно устроен мир, Мир деревни- ежедневная свобода, беготня босиком в одних трусиках. Мир города- сплошные запреты: чулки с лифчиком, штаны на лямках крест- накрест, ботинки, да еще и с галошами. В городе конечно тоже интересно. Каждую осень на улицах прямо на мостовой сидят в старых одежках бородатые мужики, на ногах обмотки, в руках деревянная колотушка для заколачивания в землю булыжников. Рядом кучи песка и булыжников. Перекладывают мостовые, да так красиво и ровно, с уклоном к середине улицы для стока воды. Середина выделена двумя рядами самых крупных булыжников и прямая, как стрела. Можно стоять и смотреть подолгу на их работу, никогда не гонят. Но на Невском и Литейном проспектах мостовая особенная, из черных пахнущих дегтем деревянных шестигранных и плоских сверху и снизу большущих кубиков. Их укладывают аккуратно одинаково одетые рабочие и рядом всегда их «старший». Машины и подводы тут едут плавно, беззвучно, не так, как по булыжнику. Такая же мостовая на дворцовой площади и где то еще. Зимой на улице тоже интересно. Вдоль улицы через три — четыре дома стоят котлы, под которыми горят дрова и уголь. Дворники утром лопатами собирают и сбрасывают снег в котлы, горячий ручей бежит по мостовой, вскоре ночного снега как не бывало. Зато весной в талой воде ручья мы пускаем свои корабли, и самые удачные доплывают почти до площади перед собором. Еще город очень хорош в праздники. На домах красные флаги, по Литейному проспекту (тогда Володарского) идут разукрашенные колонны, выход с нашей улицы на проспект перекрыт грузовиками и милицией, перед Преображенским собором полно народа. На ручных тележках торгуют вкуснейшим разноцветным мороженым, китайцы продают яркие самодельные игрушки, из уличных репродукторов звучат марши. Конечно, я тут, вместе с кем ни будь из родителей. Но эти праздники все равно ни в какое сравнение не идут с двумя главными: Новым Годом и моим днем рождения. На Новый год за столом собираются самые близкие: тетя Катя с мужем; дочь маминой старшей сестры Ляля- студентка рабфака; наша семья. На столе горящие свечи, бутылка шампанского, разная еда и главное- мандарины. У каждого рядом с тарелкой листик бумаги и карандаш. За время, пока часы бьют полночь, всем надо успеть написать свое желание, сжечь, чтобы исполнилось, и съесть, запив шампанским, а мне клюквенным морсом. Все смеются, поздравляют друг друга, в этот вечер ложусь поздно, взрослые празднуют до утра. Утром под подушкой нахожу задуманное желание. Когда неожиданно власти разрешили в Новый год ставить украшенные елки, стало еще интереснее. Сам делаешь украшения, помогаешь их вешать. При свете свечей елка такая нарядная, и теперь находишь подарки уже под ней. Еще лучше мой день рождения, приходят знакомые с детьми, и все с подарками, а от отца и Володи всегда книги. До той поры, пока мы все были вместе, мой день рождения праздновался всегда, а на обложках книг оставались памятные шутливые или серьезные пожелания.
Счастливые довоенные
Мне уже 6 лет, нужно что то менять в моём воспитании, своеволие бьёт ключом. Не слушаюсь маму, даже грозный воспитательный «угол» не помогает. Только обидно и оскорбительно. Так бывает у кого есть свой «домашний» ангел, я знаю точно у меня был такой, правильнее сказать был долго. Но тогда он точно был и превратил дошкольные годы в ежедневную ожидаемую с утра радость. По совету маминой знакомой меня приняли в частную дошкольную группу. Представьте: две дамы средних лет ведут с детьми шести- семи лет регулярные занятия с 9.00 до 17.00: чистописание, чтение, арифметика, немецкий, пение, рисование, «тихие» игры, и все эти премудрости в виде шутливого соревнования: кто быстрее. Десяток детей под мудрым ежеминутным доброжелательным вниманием, первый опыт общения в коллективе согласно установленным и понятным правилам. Группа перемещалась из какой нибудь квартиры одного ученика в чью- то подходящую другую, обеды учительницы готовили для нас сами, за столом царил порядок и мир. Одна из наставниц, настоящая немка, особенно ко мне благоволила (мне действительно язык давался легко) и даже подарила два тома сказок Андерсена, изданных на красивом готическом шрифте в невероятно далекие годы. Я очень этим гордился, но от регулярного чтения сбежал. Жаль, её ожиданий свободного владения мною немецким языком, ни других ожиданий, я не оправдал. Два года, целых два года той удивительной жизни дали мне больше, чем первые 3 года обязательных школьных мучений. Доброй Вам памяти, первые талантливые наставницы. До конца третьего класса я был свободен от сидения над домашними заданиями. Знаний вполне хватало для положительных отметок в дневнике и школьном журнале. Правда, это приводило к регулярным замечаниям за поведение, так как на уроках всё уже было не интересно и можно было заниматься посторонними делами.

Школьная жизнь началась для меня в 1936 со второго класса школы, номер которой существовал долго только на бумаге и в проектах. Вновь принятых в неё учеников временно приютили в здании «первой образцовой» школы на Соляном переулке. Здесь царил еще старорежимный дух, мы чинно ходили парами под надзором учителей по длинному коридору с белоснежным изразцовым полом. Среди нас школа шла под кодом «первая изразцовая». Те же занятия, что и раньше, а обстановка другая и ребята совсем другие, учительница с громким командным голосом, и главное зло чистописание чернилами. Идёшь с портфелем, набитым учебниками, пеналом с карандашами, резинкой, ручкой с пером и запасными перьями. В руке мешочек с чернильницей непроливайкой и тряпицей для протирания перьев и рук. Вы не знаете, что такое писать ручкой с пером. Это адский труд. Во первых, через минуту указательный палец, потом большой почему то густо покрываются чернилами, на странице появляются кляксы, так выразительно называли капли, обязательно падающие с пера после каждого макания в стоящую на парте чернильницу. В дошкольной группе мы все задания писали карандашами, и я там считался одним из первых, так как писал без ошибок. А тут ничего не получалось. Очень затейливым по форме золотистым пером следовало выводить буквы строго по тетрадным косым линиям с наклоном и почти без нажима. Блестящим 86 пером выводить те же буквы, но уже изменяющиеся по толщине. Это было выше моих сил, так как требовало усердия и терпения, которых у меня и в помине не было, а чем чернильные буквы лучше карандашных, понять было просто невозможно. Вечерами отец показывал мне чудеса чистописания, какие красавцы буквы появлялись из его пера, а из моего одни уроды. Мама, видя, что слезы вот вот закапают, смеясь, уводила меня спать. В результате теперь мой почерк разбираю только я, и, слава богу, появился компьютер, изобретенный, наверное, таким же мучеником чистописания. Дни занятий долго делились по шестидневкам, пять дней занятий, шестой день выходной, никаких недель и буржуйских воскресений.

И следующий год мы учились опять в другой, тоже чужой школе на углу Литейного и улицы Пестеля, в сером стандартном здании против дома Мурузи. Таинственный «Мурузи» канул в неизвестность уже в 20-ые неблагополучные годы, знаменитый этот дом готов повторить его судьбу в первом десятилетии 2000 из за совершенно не профессионального бездарного строительства рядом с ним нового здания. Результат, конечно, тот же, что и с домом, где я сейчас живу, мой с одной стороны «осел» и дал трещины. С домом Мурузи все значительно серьёзнее. Ведь маразм крепчает с годами, а профессионализм слабеет. Но для меня было важно, что дом Мурузи-место обитания одного из первых друзей- соперников, друга по парте, общим интересам, а потом, как оказалось, по своеобразиям порядков военной службы. Вместе с Ильёй нас приняли в знаменитый детский хор Свешникова при Капелле, куда мы гордо ходили несколько лет, пока не начали ломаться голоса. Вместе с Ильей мы начали и бросили грызть ногти, закручивать себе вихры, собирать марки, придумывать игры, регулярно ссориться и тут же мириться.
На следующий год мы осваивали очередную чужую школу уже возле кинотеатра «Спартак», вместе с нами в очередную чужую школу перемещались и учителя, а «наша» еще строилась. Лишь в пятом классе обосновались в «своей» на углу улиц Некрасова и Маяковского. Она пахла свежей краской и новыми порядками, самой замечательной новинкой был директор, расположивший к себе неуправляемых пятиклассников сразу и навсегда какой то необъяснимой верой в его непререкаемое право руководить нами. Это был вождь, мы верили ему абсолютно, не понимая почему. Мир тесен, с дочерью бывшего любимого директора я встречался не раз после войны на весёлых домашних студенческих капустниках архитекторов, регулярно проходивших в квартире моих друзей. С началом занятий в школе интерес к дворовой компании зачах незаметно сам по себе. Прежняя стая стала не интересна и по возрасту, и по занятию, детство заканчивалось. Класс, как и государства, разделен на «своих» и «чужих» скорее интуицией, чем осмысленно. Среди «своих» начинают выделяться первые товарищи и уже потом друзья, без которых нельзя прожить и дня, не обсудить одну и ту же книгу, не разделить роли мушкетеров, не выбрать среди одноклассниц личных Дульсиней, которых друзья станут беззаветно охранять и спасать от нападений «чужих». Среди первых друзей были Сережа Кролик и Илья Данциг, среди подруг Ляля Иванова и 3 Наташи (Дмитриева, Туманович, Роскина), Других включали по настроению от прочитанных книг, из стихов поэтов производили для них нужные извлечения, а порой и изменения. Тщательно изучалась (по тем же романам) геральдика, и на своем деревянном «щите», и на послании Дульсинее наносился фамильный герб воздыхателя. При такой кипучей жизни, активно заполненной играми в церковном саду после школы, никакого свободного времени для домашних уроков оставаться не могло. К счастью для родителей на отметках это не слишком отражалось до поры до времени, вернее до шестого класса, избытка пятерок и четверок в дневнике уже не наблюдалось, в отличие от успехов у наших старательных Дульсиней. Дульсинеи бесконечно обожали нелюбимую мной классную руководительницу (мой неисправимый порок на долгие годы по отношению к начальникам).
Приклеивали к тетрадям чистенькие промокашки ленточками вызывающе розового цвета, на чистописании без клякс (!) выводили 86 пером каждую букву. Это выводило нас из себя и охлаждало наш любовный пыл. С любовными посланиями связано первое столкновение с общественным «остракизмом». Влюбленный Сережа «отредактировал» письмо Татьяны к Онегину, посвятив измененный текст Ляле. Я, верный оруженосец, путем сложных манипуляций таинственно и «анонимно» передал Лялиной неизменной наперснице и подруге Наташе Дмитриевой драгоценное послание. С трепетом мы замерли в ожидании. Результат предсказать невозможно, и первыми узнали о нем родители Павлуши и Сережи. Высоконравственные родители Ляли, усмотрев в письме признаки «посягательства» на честь дочери, или черт знает что еще, решили выставить на суд классных наставников десятилетних сексуальных извращенцев. Разум у взрослых все же возобладал, и нас почти простили, на всю жизнь насторожив против мам будущих возлюбленных и письменных излияний в любви. Та самая маленькая кучка одноклассников, уменьшаясь числом год от года, долго продолжала и все еще продолжает шествовать вместе, верная прежним принципам. При нынешней жажде к сенсационным заголовкам нищенствующих газет и шоу «бедствующего» телевидения неопалимая школьная дружба с почти регулярными встречами и взаимным вниманием друг к другу- бесплатный душещипательный сюжет. УПАСИ НАС ГОСПОДИ ОТ ЖУРНАЛИСТОВ. Особливо журналистов- депутатов. Пять долгих лет церковный сад Преображенского собора был для нас продолжением школьных занятий. Огражденный решеткой, где вместо столбов строенные чугунные морские пушки, снятые с побежденных вражеских кораблей, сад после уроков был нашим учителем и товарищем. Здесь за якорь цепями ограды проходили битвы с «чужими», здесь соревновались в быстроте бега наперегонки (Лена, в нашем обиходе Ляля, всегда выигрывала первенство). Здесь возникали и умирали симпатии к одноклассницам. Действующая церковь была любимым приложением к любимому саду, знакомая с детства ежедневным радостным колокольным перезвоном, но не своим истинным назначением. Ограда хорошо вписывалась в знакомую атмосферу зачитанных до дыр старинных исторических и героических романов. Дорога из за этого сада занимала, как правило, пару часов, взмокшие, возбужденные появлялись мы домой и получали заслуженные упрёки родителей, знавших, что завтра всё будет так же. Подозреваю, что эти романтические годы стали основой наших будущих дружеских взаимоотношений с людьми, в том числе и другого пола.


А во внешнем мире всё было сложно и не всегда понятно. Войны: Халхин Гол, Хасан, поиск на уроках вредительских знаков на печатных обложках тетрадей; замазывание чернилами в учебниках чьих то фотографий; убийство популярного вождя Кирова, памятное скорой после этого отменой карточек на продукты; долгие трансляции по радио процессов врагов народа; исчезновение наших одноклассников из за ареста их родителей. В доме эти события при мне открыто не обсуждались и осторожно обходились молчанием, некоторое время отец не ночевал дома.
Друг Сережа в четвертой четверти ушел из школы (арест его родителей), по той же причине исчезла моя первая Дульсинея, Наташа Туманович, рано сформировавшаяся высокая, сероглазая, белокурая девочка с красивой косой и задумчивым взглядом, почти никогда не принимавшая активного участия в наших играх в церковном саду. Уход Сережи- первая ощутимая потеря детства. Мы жили в одном доме, встречались во дворе, а после школы практически ежедневно дневали в его квартире. Прекрасная библиотека его родителей осваивалась нами последовательно от одного края полок до другого. Читалось всё подряд, без запретов, единственное ограничение- не интересно. Издания дореволюционные, шрифты, бумага, иллюстрации- все лучшего качества. Русская, французская, английская классика, Шекспира с его жестокими пьесами проглотили практически целиком, сейчас под угрозой пистолета не согласился бы их читать. Конечно, приключениям мы отдали дань полностью. Это был непрерывный книжный голод. А строгие книжные застекленные шкаф остались в памяти предметом несбыточных мечтаний иметь такие же для своих книг. Сестра Сережиной матери после ареста его родителей забрала Сережу к себе, перевела в другую школу. Несколько месяцев мы ходили к нему домой. На улицу, идущую от Мойки к Конюшенной. С нового учебного года встреч почти не было, на душе мучительное чувство предательства. Общаться по- прежнему не получалось, как бы виноваты мы перед ним тем, что у нас всё осталось по- прежнему, а у него… Ощущение, как при встрече с близкими умершего, помочь невозможно, утешать бесполезно и трудно.
Самое обсуждаемое событие в мире- жестокая война с фашистами в Испании, наша добровольная помощь, встречи детей, прибывших из Испании, бомбежки немцами мирных испанских жителей, подвиги наших летчиков, героически проявивших себя ранее при спасении челюскинцев. Яркие злые статьи Кольцова в защиту испанцев. В школе мы уже как взрослые, готовимся к сдаче первых годовых экзаменов, не хочется провалиться.
Не ездим в Холуховичи, второй год дача в Тайцах, соседи настоящие родственники Пушкина, дети почти мои одногодки, — Маша и Петя.
Играем с Петей в индейцев, все трое азартно в крокет с обеими мамами. Тайцы- место голое и некрасивое, знаменито тем, что отсюда начинается сток воды для Петергофских фонтанов. Новым впечатлением стал пуск первой загородной линии электрички, удобно, просторно и быстро. Теперь и папа бывает на даче каждый выходной. Лето промелькнуло мгновенно, не оставив больших впечатлений. В городе загружен доверху занятиями скрипкой, игрой в школьном драмкружке и новыми книгами; в число друзей вместо Сережи очень быстро вошел Вадим. Новое увлечение- кружок по истории искусства при Эрмитаже, и еще более новое: походы с родителями в театры, приезд МХАТА со спектаклем «Синей птицы». Любимые прогулки с отцом по набережным, улицам и Невскому по выходным дням со знакомством с архитектурой фасадов и его рассказами об архитекторах дворцов и частных домов, фамилиях и заслугах их владельцев. В молодости, в дореволюционные годы занятий в Университете, отец увлекался искусством, спортом: коньками, велосипедом, водным спортом. Коньки лежали в ящике шкафа без применения, тяжелые массивные шведские фигурки, велосипед был рабочим конём, постоянным ремонтным занятием, школой обучения меня стремительной езде. Отец довольно быстро поставил меня на коньки, и теперь зимой на дорожках и площадках Таврического сада я осваивал «фигурки» и «бегаши» до позднего часа, ожидая выговора дома. Велосипед сдался не сразу, зато потом такое удовольствие и азарт от быстрой езды. В отце удивительно сочетались самые различные увлечения: умение работать с деревом, переплетать книги, готовить восковой состав и натирать до зеркального блеска наш пол, собирать марки, открытки и старинные медали. А его любовь к балету, серьёзной музыке, старой архитектуре, истории города и вдруг возня с пчёлами, походы в лес за грибами, за малиной. Увлечение марками заразило и меня, когда я стал обладателем отцовского альбома, торжественно врученного мне на девятилетие. Вместе со мной это увлечение захватило друзей, опустошая наши небогатые финансовые источники для покупки марок. На углу Невского, почти рядом с Литейным старейший магазин марок с ценами за серию несбыточными, часами простаивали мы у его стендов, разглядывая недоступные шедевры. Взрослые тоже подолгу стоят у витрин, почёсывая затылки, и не спешат раскошеливаться.

Теперь окончательно мой близкий друг и самый опасный соперник в учёбе и внимании ко мне со стороны девчонок- Илья, в его уютном доме и в нашей дружеской «переписке» зовущийся до сих пор Люликом. Его родители приучили нас к азартной совместной с ними игре, без скидок на возраст, путём придумывания наибольшего числа разных слов из букв слова заданного. Вскоре мы достигли солидных успехов, тренируясь на уроках, не требующих устного участия, что не было одобрено учителями. Некоторые придуманные примитивные слова оценивались презрительно, некоторые как настоящая ценная находка. Почти во всём, что доставляет радость в конкурентной мальчишеской борьбе, мы с ним шли почти ровно, но в одном соревновании я был бессилен- внешность! Орлиный нос Ильи, волосы с блеском антрацита, жгучий взгляд, глаза с длиннющими чёрными ресницами, таинственная бледность- бесспорный Арамис. При таких данных мне- обладателю непокорной рыжей шевелюры, курносого носа, обильно усыпанного веснушками, размножающимися независимо от сезона, ничего не оставалось, как попытаться взять слабый реванш на «церковном» спортивном ристалище перед взорами наших Дульсиней. Самолюбивый Арамис эти жалкие мои попытки превзойти его в глазах Дульсиней быстро обезвредил, начав ежедневные нападения на меня и наших дам угрозы улицы Рылеева- Зеленцова старшего, подкупив его своими подсказками безнадежно отстающему младшему брату, нашему однокласснику. Теперь в глазах дам мой рыцарский престиж был подорван окончательно трусливым улепётыванием от кулаков уже поджидавшего меня после уроков Зеленцова. Пришлось заключить позорный мир и откупиться, призвав на помощь главного хулигана моего двора, заплатив ему двумя редкими марками. Вторым, а может и первым, в глазах наших всегдашних Дульсиней, конечно, был безупречный Вадим, и мне оставалась незавидная роль воздыхателя.
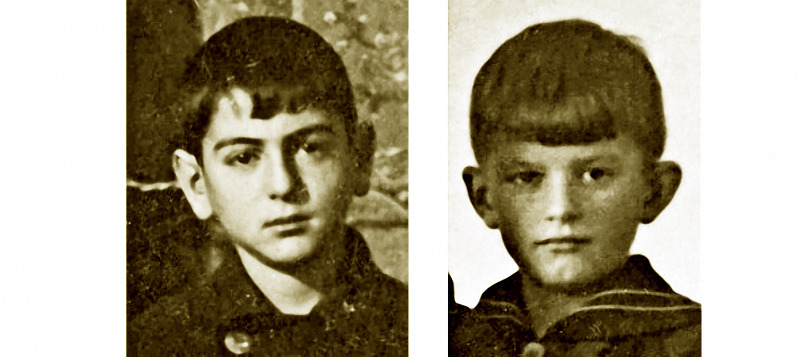
Новый триумвират в составе Ильи, меня и Вадима удобно обосновался в трехкомнатной квартире родителей Вадима на углу улиц Рылеева и Маяковского, вблизи от школы и наших домов, под недреманным оком его мамы.
Достоинств у нового тройственного союза было много. Большая комната Вадима, настоящая казачья сабля отца, атлас мира невероятной полноты, покупка его отцом недоступных книг в доме офицеров. Доброта мамы Вадима вполне компенсировала её занятия с нами ПВХО, винтовкой и вступления в пионеры, отмеченное неудобством ношения галстука и ее праздничным пирогом. Нам с Ильей долго бы оставаться за пределами пионерской организации из за плохого «уровня поведения». Как активный член родительского комитета Вадина мама пользовалась безусловным авторитетом классной руководительницы, и почти последними из классных грешников мы все же влились в стройные ряды юных ленинцев под ободряющие звуки горна и барабана. Так завершился 1937 и начался 1938 учебный год: потерями навсегда и приобретениями надолго.

1937 год стал для моей семьи годом приобретений. Помню последнее лето в Холуховичах. Мама беспокоилась, что папа долго за нами не едет, в телеграммах объясняя ей причину задержки незаконченной перепланировкой новой квартиры. Не выдержав ожидания, сама наняла возчика с телегой, погрузила все вещи- несколько корзин. Раньше мы уезжали без вещей, этим занимался папа. Посадили меня на телегу и отправились на станцию Луга. Вновь домашний ангел не подвел, перед въездом на высокий мост молодая лошадь шарахнулась в сторону, телега пошла под откос, и я тоже, к счастью, лошадь протащила телегу дальше места моего падения, иначе плохо было бы Пусику. Заново погрузились. Пешком перешли мост, испуганный возчик виновато топтался перед снежно- белой мамой. Это и был год нашего переезда от Беллы и Володи в новую, стараниями отца созданную двухкомнатную коммуналку в том же доме 7. Мы уехали от Рабиновичей, которых «уплотняли»» своим присутствием долгих шесть лет. Уехали просто в другую парадную. Для родителей были явные плюсы, для меня очевидные потери: нет Витьки Винтмана для разрядки, нет коридоров для беготни, правда обедать можно теперь на своей кухне, а не в комнате, как раньше. Отец проделал труднейшую работу за три месяца. Из двух комнат последнего этажа сумел сделать квартиру с входом с парадной лестницы. В 15 метровой одинокий красавец Юрков, большую отец перекроил в 40 метровую жилую, 10 метровую кухню и прихожую. В бывшей прихожей разместились ванная и туалет. Скольких сил стоило, чтобы добиться перепланировки, не говоря о строительстве, я понял лет через 60, когда встретился с несравнимо более простой ситуацией. А тогда с удовольствием завел аквариум, мама весь подоконник заняла цветами, огромное окно выходило на юго восток, и мы впервые наслаждались солнцем каждый день. Оказалось, это было подготовка к будущему рождению моего долгожданного младшего брата. (А когда у меня родился сын, я, увы, за целый год после рождения и ожидания приезда жены с сыном в только- только оживающий после полного разрушения Севастополь удосужился найти для них комнату только перед самой встречей. Комната была такая, что из за недостатка места малыш спал на чемодане, выполнявшем днём роль стола. Счастье, что ни отец, ни мама не видели этого позора.)

А сейчас в новой квартире я осваивал её уголки, еще не подозревая, что семья ждёт прибавления. После церковного сада самым излюбленным местом для игр в казаков разбойников были подвалы нашего дома, они тянулись от улицы Рылеева до параллельной ей Артиллерийской. Мы знали все входы и выходы каждой клетушки в подвале, через какое из подвальных окон можно вылезти на любую из двух улиц, какие таинственные богатства хранят забитые до отказа клетушки. Игры продолжались долго, составы команд и их лидеры рождались в спорах, отвергнутые участники подолгу хранили обиду на главаря, и задобрить их стоило усилий, а то потом и совсем команду не соберешь. Одна из этих игр уложила меня в постель на три недели с опухолью колена. Разбойники опрокинули тяжеленную дверь, когда я проходил мимо их убежища. Три недели запомнились благодаря прочитанному от корки до корки фолианту о древнем Египте. Отец принёс от знакомых. Более полных знаний о времени фараонов и большего восхищения от снимков искусства Египта я никогда и нигде больше не получал, даже при занятиях в Эрмитаже. С каждым годом круг моего обитания все более расширялся: коридор, двор дома, церковный сад, сад Таврический и Михайловский, Марсово поле, набережные до памятника Петра.

Событием для горожан стало появление первой линии троллейбуса с малым количеством машин, весь маршрут от площади Восстания до Большой Морской за 15 минут, на остановках очереди, так много желающих прокатиться в плавном, бесшумном вагоне. Ведь основным транспортом был трамвай, рельсы которого змеились по проспектам и улицам от края до края города. Звонкий, демократичный транспорт, любимый за спортивную лихость прыжков с него и на него на ходу, постоянный источник анекдотов, карикатур, сатирических рассказов. Грузовые и легковые авто были редкостью. Они представлялись нам выходцами из другого мира, в котором были другие правила, откуда ночами появлялись машины, увозящие соседей и знакомых в мир без возврата. Среди мальчишек нашего двора существовало твёрдое мнение. Значит поймали очередного шпиона или врага народа, о котором репродуктор ежедневно предупреждал убедительным голосом: «Эти люди пригрелись на груди трудового народа», то есть на груди людей похожих на дворника Альфонса Яковлевича, носившего по квартирам вязанки дров из штабелей, исчезавших к весне. Вопросы у нас были, но правдивый репродуктор и возмущения собраний трудового народа, о которых он рассказывал очень убедительно, успокаивали. Просто отец Сережи ловко скрывал желание гибели народа и страны, а мы этого желания не заметили. Следовало быть бдительным, настоящим ленинцем, как учил нас красивый старшеклассник, комсомолец- пионервожатый Валера Певцов на сборах пионеротряда. «О великий могучий», на нём все звучит убедительно в устах опытных специалистов. И никакие редкие призывы «люди будьте бдительны» не избавляют от ошибок, уж очень хочется верить в прекрасное и так не хочется не доверять. Валера Певцов верил искренне и погиб, пройдя добровольцем всю войну, 9-ого мая 1945 года при освобождении Праги. И откуда это всегдашнее доверие у нашего вообще то недоверчивого к властям народа.

Событием для горожан стало появление первой линии троллейбуса с малым количеством машин, весь маршрут от площади Восстания до Большой Морской за 15 минут, на остановках очереди, так много желающих прокатиться в плавном, бесшумном вагоне. Ведь основным транспортом был трамвай, рельсы которого змеились по проспектам и улицам от края до края города. Звонкий, демократичный транспорт, любимый за спортивную лихость прыжков с него и на него на ходу, постоянный источник анекдотов, карикатур, сатирических рассказов. Грузовые и легковые авто были редкостью. Они представлялись нам выходцами из другого мира, в котором были другие правила, откуда ночами появлялись машины, увозящие соседей и знакомых в мир без возврата. Среди мальчишек нашего двора существовало твёрдое мнение. Значит поймали очередного шпиона или врага народа, о котором репродуктор ежедневно предупреждал убедительным голосом: «Эти люди пригрелись на груди трудового народа», то есть на груди людей похожих на дворника Альфонса Яковлевича, носившего по квартирам вязанки дров из штабелей, исчезавших к весне. Вопросы у нас были, но правдивый репродуктор и возмущения собраний трудового народа, о которых он рассказывал очень убедительно, успокаивали. Просто отец Сережи ловко скрывал желание гибели народа и страны, а мы этого желания не заметили. Следовало быть бдительным, настоящим ленинцем, как учил нас красивый старшеклассник, комсомолец- пионервожатый Валера Певцов на сборах пионеротряда. «О великий могучий», на нём все звучит убедительно в устах опытных специалистов. И никакие редкие призывы «люди будьте бдительны» не избавляют от ошибок, уж очень хочется верить в прекрасное и так не хочется не доверять. Валера Певцов верил искренне и погиб, пройдя добровольцем всю войну, 9-ого мая 1945 года при освобождении Праги. И откуда это всегдашнее доверие у нашего вообще то недоверчивого к властям народа.

Несмотря на походы по городу, знал я его в местах, ограниченных Невой и Невским проспектом, Потёмкинской улицей и зданиями Сената и Синода. Бывал не раз в здании музея горного института, Кунсткамеры, биржи и зоологического музея, на Петроградской стороне бывал в зоологическом и ботаническом саду, безуспешно второе столетие ожидающих переноса в более достойное место, был на Елагиных островах.
Об Охте и Выборгской стороне знал только по революционному фильму. Фильмы уже начали своё наркотическое воздействие на жадный ум по всем направлениям: развлекательным, идейным, познавательным. Твердо знал, что без всяких сомнений наша страна, наша столица, наша армия и вообще всё наше самое лучшее в мире, самое справедливое, и мы никому его никогда не отдадим, что подтверждали давние и ближние боевые победы. Фашисты были главным злом, о котором ежедневно говорило радио, перед фильмами показывали бомбежки Испании, добровольцы рвались в Испанию, собирались деньги в помощь испанским детям, и вдруг после захвата фашистами Чехословакии и Австрии, после войны с Абиссинией и нападения фашистов на Польшу, Францию, Скандинавию о них замолчали. Не просто замолчали, а даже заключили мирный договор.
Мы ввели войска в Прибалтику, чтобы спасти её от вторжения фашистов, отмечено появлением в доме конфет в удивительно красивых фантиках (так называлась в мальчишеском кругу обертка, обмениваемая и разыгрываемая по жестким правилам). Спасение братских западных белорусов и украинцев подтвердило нам наше стремление служить добру и миру. Чтобы обезопасить Ленинград от возможных происков финских фашистов, мы победили Финляндию. Первые затемнения, первые неожиданности и сомнения в абсолютной победоносности Красной армии. Немцы захватывали одну страну за другой за считанные недели, а мы за месяц у финнов несколько километров. Кто виноват? Неужели фашисты везде, их так много? Тогда и у нас где то затаились фашисты и ждут подходящего часа. Такие мысли и настроения бродили не только в очередях домохозяек и домработниц. В памяти были свежи показательные процессы «над подлыми врагами народа, за жалкие гроши (дословный текст газет) продавшихся вражеским разведкам». Но дома удивительно спокойно.
По случаю рождения моего брата из Самары (тогдашнего Куйбышева) приехала любимая мамина сестра Люба с сыном «Санкой» (Александром) и мужем. Санка младше меня на 1,5 года, с ним у нас устанавливаются добрые отношения обнюхивающихся псов, настороженно дружеские.
Наша квартира теперь усилиями отцов семей стала отдельной. Мамина сестра Катя заняла комнату соседа и, похоже, собирается рожать. Хороший пример заразителен, правда её комната маловата: высоченный муж Кати- Исай Вениаминович, Катя и будущий малыш в 15 кв. метрах при обилии вещей. С тетей Катей и Исаем до переезда в «нашу» мы встречались регулярно, то у нас на Новый год, то у них по выходным в их маленькой комнате на Казначейской улице. Мне нравилось бывать у них по нескольким причинам. Чтобы попасть на их улицу нужно пройти через Сенную площадь, где находится огромный шумный самобытный рынок, с торговлей прямо с возов, с громкими призывами продавцов, с запахами дёгтя, сена, лошадиного пота и навоза, с запахами как бы Холуховичей. У них всегда полно конфет, пирожных, даже любимых мандарин и не только на Новый год. Катя парикмахер в модной вонючей дамской парикмахерской на Невском рядом с думой. Исай, добродушно посмеиваясь, выигрывает у меня партии в шашки, одна за одной. Теперь место нашего общего летнего отдыха обсуждается совместно мамой и тетей Катей, организуется энергичным, всюду проникающим дядей Исаем. Таким местом становится профсоюзная дачная «база отдыха» каких то работников- надомников, расположенная в Петергофе почти против запущенного парка «Александрия», граничащего с нижним парком фонтанов.
В распоряжении наших двух семей половина одного из дачных домиков. Соседство дает возможность изучать и действующие, и бездействующие фонтаны подробно, как это удаётся только мальчишкам. От источников накопления воды, пути её поступления и распределения, любования струей, красотой согласия скульптур и окружающей архитектуры, завораживающей обалдевших платных посетителей сразу за один раз.


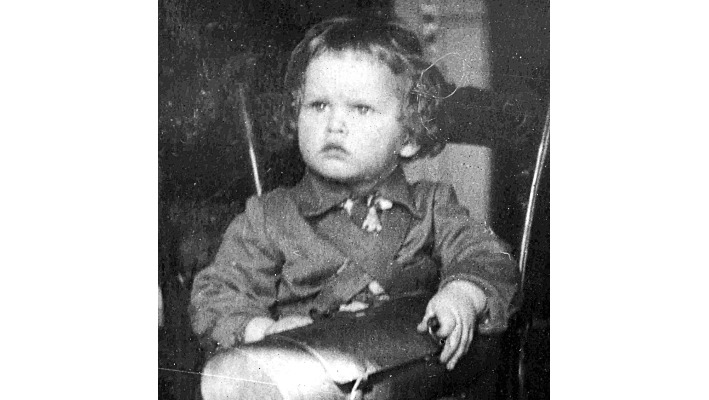

А тут мне всё даром и ежедневно. Для тех, кто знакомится с Петергофом первый раз, или несколько, но мельком как на экскурсии, ошеломляющее впечатление от окружающей тебя красоты, ее изобилия не дают возможности долго любоваться каждым фонтаном в отдельности. Помимо каскада и главной аллеи фонтанов, ведущей к заливу, справа и слева еще несколько причудливых фонтанов, где прячутся новые находки. Проход из парка «Александрия» мною изучен прекрасно и входных билетов не требует. Он ограждён от шоссе, ведущего в Петергоф, высокой чугунной оградой, вывезенной немцами в Германию в годы Отечественной войны, так и не восстановленной нами за все последующие. Сразу за оградой находился железнодорожный состав царского поезда, в одном из вагонов которого император Николай 2 якобы подписал отречение от престола. Об этом сообщали экскурсантам плакаты на стенах вагона- кабинета. Поезд не пережил войны, и его судьба мне не известна. Парк изумительно продуманно спланирован. Плавно спускаясь к заливу, он то открывает поляну с могучими платанами и отдельно стоящим дубом, то эстакаду, не ведущую никуда, но с каменной скамьей для отдыха и «созерцания». Деревья тщательно подобраны и отличаются и кроной, и формой листьев, и особенно ярко осенью цветом. Аллеи расчищены и достаточно широки для проезда конного экипажа от шоссе к даче Николая 2, небольшому двухэтажному зданию в стиле модерн. Мимо него мы всегда шли по дороге на пляж, редко посещаемый местными жителями из за далекого расстояния от жилых домов. Близость Ленинграда и регулярное движение электричек были удобны родителям при выборе места отдыха, но если бы не фонтаны, худшего места отдых не припомню. Вокруг ни одного мальчишки, готового к возможным приключениям в зарослях заброшенного парка, купаться можно только в присутствии взрослых, так как после нескольких метров мелководья сразу идёт обрыв, куда заходить опасно. Любимая беготня босиком здесь невозможна. Дорожки усыпаны колкой каменной крошкой, в траве полно осколков стекла. Остаётся только чтение и игра в крокет с любыми партнерами от десяти до пятидесяти лет. Самый азартный противник- мама, и самый опытный. Эта старинная игра совсем исчезла во второй половине 20-ого века в дачных поселках, где для неё самое место. В магазинах спортивных игр о ней почти не знают. А зря, это прекрасная семейная игра и для родителей, и для потомков. Новые русские слишком новы, чтобы о ней знать, старые русские слишком стары, чтобы о ней помнить. Сразу по приезде в Петергоф доверили солидную сумму денег и отправили в магазин за крокетом, наверно часа два пыхтел я под тяжестью ящика, пока дотащил до дачи.

Чтобы скрасить мой летний отдых в Петергофе, мама впервые разрешила мне на две недели поехать на дачу к Илье, в совхоз в верховьях Невы. Это была серьёзная жертва, так как за подвижным любопытным младшим братом требовался непрерывный присмотр, вся остальная работа делалась в пол силы. Если в ограниченном квартирой пространстве контроль прост, а малыш легко понял, что категорически нельзя, то в дачной обстановке старые табу отпали, и всё нужно начинать с начала. Он так обрадовался моему возращению от Ильи, так старался не отходить от меня, чтобы я не исчез надолго, что даже мама расчувствовалась. И мне стало неловко за своё нытьё о поездке, которая оказалась совсем не такой интересной, если не считать интересным нападение бездомной собаки и порцию уколов от бешенства. С младшим братом нас разделяет ровно десять лет, а по сути- другой мир.

Белокурый, сероглазый, с пухлыми губками, улыбчивый, радостно тянущийся на руки ребёнок, похожий на младенца Амура с рисунков и картин в Эрмитаже. Я горжусь им так, будто это моё произведение, без напоминаний хожу в детскую консультацию за питанием, мама доверяет мне присмотр за его попытками самостоятельного передвижения. Никакой ревности к маминой явной восторженной любви к Лёшеньке не испытываю, я сам в него влюблён и ревную его к посторонним. Для помощи в домашних делах в доме есть домработница, молодая девушка из пригорода. С момента переезда от Рабиновичей у нас всегда были сменяющиеся домработницы, девушки из деревни, уходившие через год- полтора потом на учёбу или на фабрику после знакомства с городом. Задерживались они не больше двух лет, но не помню случаев ссор между ними и мамой. Заботливый отец при перепланировке квартиры предусмотрел место и для жилья домработнице, В чём конкретно заключались их обязанности до появления брата, не помню, наверно уборка и стирка, покупка продуктов и приготовление еды было всегда делом мамы. Где и когда мама научилась так вкусно и разнообразно готовить, небольшие зарплаты и скромное карточное меню требовали невероятной изобретательности и усердия для приготовления вкусной и сытной кормёжки. При этом мама никогда не жаловалась на трудности семейного быта, недостаток средств, недостаток внимания к её загруженности, невозможности для отца дарить ей дорогие подарки. Причиной её расстройств или плохого настроения служил всегда я: получил двойку, порвал новую с трудом приобретенную вельветовую куртку- гордость мамы (ребёнок прилично одет), опять замечание в моем дневнике о плохом поведении на уроках. Реакция, как правило, была одна: мама мочила полотенце, обвязывала им голову, ложилась на тахту и поворачивалась лицом к стене в полном молчании. Все мои заискивания и обещания исправиться, просьбы прощения оставались без ответа, мама молчала, а через ужасно долгие полчаса вставала и молча продолжала прерванное дело- меня не существовало. Отец никогда не наказывал меня, не повышал повелительно голос, просто отправляя в угол по жалобе мамы, показывая лишь интонацией и жестом, что, увы, ждать от меня хорошего нечего. Такие наказания действовали сильно, но недолго.

Мамина сестра тётя Катя- пышная, яркая, самая младшая из её сестёр, любящая дорогие наряды, помаду, современные фокстроты и танго, звучащие из ее патефона, готовится стать матерью. А отцы обеих семей вновь активно ищут пути улучшения жилищных условий, не беспокоя остальных ненужной информацией. Всё идёт по неизменному природному закону, и в 1939 году в Петергоф мы едем уже с двумя малышами: братом Лёшей и двоюродной полугодовалой сестрой Иришей. Уклад тот же, что и в городе, только мама на работу и с работы едет на электричке. Совместные усилия отцов двух семейств увенчались успехом. Осенью 1940-го года мы покидаем мой любимый счастливый дом номер 7, дворовых приятелей, ещё больше удаляемся от любящих меня и любимых мной Рабиновичей, переезжаем в дом 31 на улице Каляева. Был такой прославленный террорист. Переезжаем, как оказалось потом, очень надолго, для некоторых до самой смерти. Квартира всем хороша, только опять окна на север, это значит, что солнца опять не будет.

1940-ой год. Шестой класс. После прошедшего лета в числе и составе одноклассников изменений нет, а в самих одноклассниках изменения очень заметны, особенно необыкновенны в девочках, что они сразу дают нам понять и больше никогда не забывать об этом. Атмосфера на уроках оживлена регулярной подпольной передачей между партами очередного рукописного номера своей классной газеты «КРИКИ- ДРАКИ». Это отзвуки прочитанной нами повести «КОНДУИТ И ШВАМБРАНИЯ», заводилы самиздата Илья и Наташа Роскина. Газета популярна вплоть до учительской, хотя официально учителями и не рекомендована. Редакторы купаются в волнах славы. Авторы анонимны, но подозреваемы по стилю. Нагрузка новыми предметами возросла вдвое, а прежних внеклассных занятий не уменьшилось, отметки поползли вниз, замечания учителей и родителей вверх. А на Фонтанке уже открылся «Дом занимательной физики» Перельмана, такой, которого повторить не удалось и после войны. В этом доме можно пробыть часами и не один раз. То, что физик формулами старательно объясняет на классной доске, действующие приборы показывают в жизни. То, что нужно знать, там легче понять, запомнить и потом подумать, как всё это применить.
Осень 1940-го. В новой квартире у меня своя комната с письменным столом и папиным рабочим креслом. Это очень возвышает в собственных глазах, теперь и у меня могут без помех собираться друзья. Улица Каляева примечательна многим: «Большим домом» в одном конце, Таврическим садом в другом, окончанием одного из маршрутов трамвая перед нашими окнами, но главное самим нашим домом и в нём дворцовой мраморной парадной лестницей. Почти полвека прослужит этот дом верным пристанищем для разраставшегося семейного клана.
Весь учебный год до начала мая 1941 прошёл на одном радостном дыхании, все здоровы, в комнатах светло, знаменитые красные оконные портьеры будто специально ждали здешних высоких окон, нашей мебели маловато, зато свободы много. Многочисленные годовые экзамены прошёл с отличными результатами, в табеле первый раз даже поведение пятёрка. Остаётся дождаться привычного 10-го июня и в Петергоф. И родителям и мне новая квартира понравилась сразу, в прежних наши комнаты были большими, но здесь ещё и окна огромной высоты, и до потолка 4,5 метра, воздуха и простора полно. Сам дом сохранил останки задуманного модерна и внешне не выглядит большим. Три этажа на высоком полуподвальном, в бельэтаже по фасаду семь окон, из которых пять наши, а два принадлежат парадной. Но рядом с соседними домами он выглядит выскочкой. Да он и в действительности богатый выскочка, спроектирован в начале 20-го века талантливым архитектором для известного сенатора. Отцу нравился модерн в архитектуре, он не раз специально водил меня по Петроградской стороне, показывая его образцы, но я еще был достаточно глуп и глух для полноценного восприятия. Зато мне нравилось, как отец вежливо приподнимает шляпу, встретив знакомого, «изящно» поправляет пенсне и представляет ему своё драгоценное чадо. Ради этого я был готов сколько угодно слушать о достоинствах того или иного дома, а потом оказаться после прогулки в кафе «Норд» над порцией мороженого. Всё шло так ладно.
Ничто не предвещало ни бед, ни сложностей, когда майским днем в середине обычной недели у Лёши, игравшем на диване, началась сильная рвота. Тетя Катя в испуге. Позвонила маме на работу, измерила температуру- нормальная. Мама примчалась домой через несколько минут, у Лёшеньки начались судороги. Тётя звонила в скорую помощь, мама ложкой разжимала Лешины челюсти, я в ужасе бестолково крутился возле с мокрым полотенцем. Скорая увезла маму и Лёшу. Через полторы недели страха и неизвестности она вернулась из больницы, одна. Лёши не стало. Не хочу вспоминать этих ужасных следующих недель. Почерневшая, полумертвая мама, отец, угнетенно, бесцельно бродящий по опустевшим комнатам, исчезновение кроватки Леши.
Война
Боровенки
Через две недели после похорон, в воскресенье 22 июня мы с мамой едем в Петергоф, только чтобы не оставаться дома в пугающе опустевших комнатах. Обычное воскресенье, в электричке народа немного, выехали до полудня, меньше часа в пути, а от вокзала до дачи пятнадцать минут по тропинке.
Иду молча, боюсь тревожить отрешенную маму. Уже у входной калитки навстречу взволнованные, испуганные люди, спешащие на вокзал. «Война!!!!… По радио объявили война!». Возвращаемся, ничего не соображая, назад на Петергофский вокзал и едем обратно. Вот так началась война. А в нашей семье потери произошли за месяц до ее начала. На этом закончилось мое счастливое детство.
Представление о войне у меня и моих сверстников складывалось по прочитанным книгам, кинофильмам, занятиям по истории. Для нас было очевидно, что от Ивана Грозного до наших дней мы всегда и всех побеждали: тевтонцев и шведов, французов и немцев, японцев и финнов, и даже объединённую Антанту. По этой причине явное, граничившее со страхом беспокойство взрослых, со ссылками на ужасы совершенно нам не известной, мало интересной для наших писателей и учебников первой мировой войны казалось ошибкой. Ведь: «броня крепка и танки наши быстры, и наши люди мужества полны», как убедительно пели бывшие трактористы в тогдашнем фильме о том, что «чужой земли мы не хотим ни пяди, но никому своей не отдадим». Привыкнув к непредсказуемым поступкам взрослых, я воспринял как неизбежность общее решение обеих семей об отправке меня и тёти Кати с двухлетней Иришкой в целях безопасности к родственнице в посёлок Боравёнки, на полпути железной дороги между Москвой и Ленинградом. Родители, как военнообязанные, оставались ждать призыва. Перспектива разлуки с отцом и мамой меня совсем не радовала. Я был не по возрасту очень самоуверенный, но очень «домашний» мальчик, которому только что исполнилось целых 13 лет. Был конец июня, две семьи в полном составе отправились на Московский вокзал.
Уже на перроне, где с одной стороны стоял наш «местный» состав, идущий до Малой Вишеры, а с другой метались, кричали, плакали женщины, у которых организованно вывозили из города их детей в опасении возможных немецких бомбёжек, почувствовалось что то незнакомое, угнетающее. За окнами вагонов соседнего состава вплотную к стеклам теснились дети самых разных возрастов. Шум на перроне стоял такой, что в нескольких шагах друг друга не было слышно. Под этот плач, шум и гам наш поезд отошёл от перрона, мама всё махала и махала нам вдогонку рукой. Отец и дядя Исай тоже активно желали нам удачи и скорого возвращения. Малая Вишера место пересадки на рабочий поезд- «подкидыш», который повезет до станции Боравёнки, скорые поезда там не останавливаются. Дорога живописная, густые леса, в глубокой расселине какая то бурная река, редкие станционные поселки с добротными домами, украшенными деревянной резьбой. Пройдёт 40 лет, я повторю этот маршрут, но, как и тогда, условия и удобства сообщения останутся неизменными.

В Боравёнках незнакомые нам родственники встретили радушно, местные весьма язвительно усмехались над столичными «беженцами».
Это оскорбительное слово впервые прозвучало ещё на ленинградском перроне. Воспитанный в понятиях «чести и долга» романами зарубежной и отечественной литературы, абсолютно убежденный кинофильмами в непобедимости Красной Армии я был ошарашен обращением «беженец». Так возмущён и обижен поступком родителей, отсылавших меня от принятия личного героического участия в борьбе с немцами, что прощался неохотно, наспех. Глупость с моей стороны, конечно, потрясающая.
Обязанностей у меня в Боравенках практически нет никаких, кроме ежедневных походов за водой к колодцу с вёдрами на коромысле. Изучаю окрестности, знакомлюсь с ребятами. Прямо за домом начинается самый настоящий густой бор с огромными елями, в котором полно больших и мелких проток, озёрец, вода в них тёмная и холодная. Передвигаются по ним мальчишки на «камейках». Два выдолбленных бревна, скрепленные вместе, осадка судна небольшая, верткой «камейкой» легко управлять шестом. Двумя, тремя такими суденышками с пассажирами на борту шныряем по лесу полному созревающих ягод и беспощадных комаров.
Август уже на носу. Соседство старых елей вровень с протоками, где вода стоит почти на уровне земли, создает удивительные сочетания. Ощущение будто находишься не в Новгородской области, а в Северной Америке, и из за ближайшего дерева вот вот выскочит книжный индеец. Всё вроде вокруг пока хорошо, только почему то война идёт совсем не по обещанным правилам. Из очень коротких ежедневных радиосообщений об отбитых сегодня Красной Армией атак немцев у города N выясняем по карте, что немцы уже под Киевом, под Смоленском, продвигаются к Таллину. Похоже, быстрые победы немцев над Францией за несколько недель, Бельгией, Норвегией не случайность, может действительно правы были мои родители в своих опасениях.
Муж здешней родственницы, у которой мы живём, назначен командиром отряда промысловых охотников, мобилизованных сельсоветом для поиска сбрасываемых немецких парашютистов. По деревенским слухам где то близко их уже не то видели, не то поймали. Тётя Катя сильно напугана слухами о немцах, чтобы посоветоваться как ей действовать дальше, начинает телеграфную «переписку» с городом, телефонной связи нет. Дней 10 уходит на это общение, и вот по совету мудрых мужей тем же способом, которым ехали сюда, возвращаемся назад в Ленинград, в городскую квартиру. Возвращаемся, как потом выяснилось, всего за два дня до того, как немцы совсем перерезали движение по Октябрьской железной дороге.
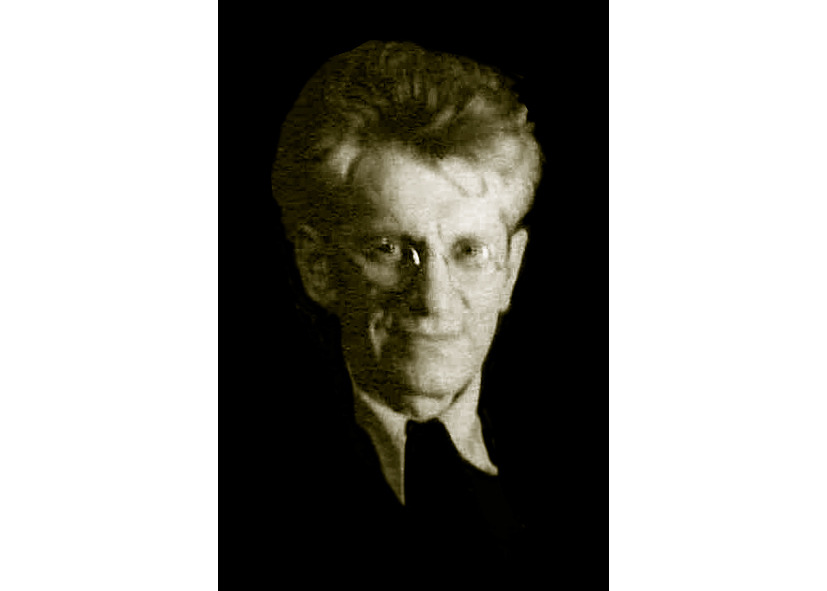
Блокада
О том, что город уже в блокаде громко и гласно не распространялись.

За полтора месяца нашего отсутствия город сильно изменился. На всех окнах бумажные крестообразные наклейки, вечером строгое затемнение, контролируют его дежурные патрули, дворники и милиция, за нарушение строгие наказания. Для членов наших двух семей на весь месяц выдали продовольственные карточки, свободной продажи продуктов практически нет. А по нашей улице прямо за окнами с раннего утра до позднего вечера телега за телегой вереницей идут уходящие из западных районов беженцы. Идут куда то вверх вдоль Невы к Ладоге. Дети и вещи на возах, у редких на привязи коровы. Не знаю, что ели и где жили они, находясь в городе, но не видел, чтобы обращались за помощью к горожанам.
Из моих одноклассников нашёл здесь только Лену Иванову, она в городе, их семья ждёт эвакуации вместе с сотрудниками Пушкинского дома. С оставшимися ребятами из нашего дома добровольно помогаем дворникам готовить чердаки для тушения пожаров: носим песок, заливаем воду в бочки, и это как бы делает нас тоже активным борцами с немцами. До сих пор ни тревог, ни налётов авиации в нашем районе не было. Моя добровольная общественная деятельность понимания и поддержки у мамы и Кати не нашла и была категорически строго настрого запрещена. Вместо этого я теперь по их заданию утром ежедневно отправляюсь в крошечную полуподвальную булочную на углу улиц Потемкинской и известного террориста Воинова, чтобы на все талоны 6-ти карточек купить хлеб, который еще не «выбран» за дни нашего отсутствия в городе. Папа и дядя Исай «мобилизованы» на рытьё противотанковых рвов. В начале под Псковом, потом под Лугой, потом еще ближе к городу. Приезжали они домой за этот месяц один раз и рассказывали о частых налётах на землекопов самолетов немецкой авиации, спешном своем бегстве от прорвавшихся немецких частей. По радиосводкам трудно понять, как близко немцы от Ленинграда, становится страшно, но все убеждены, что мы их вот вот обязательно победим.

А в Таврическом саду с утра бойко работает замечательное летнее кафе с самыми разными дешевыми пирожными по хлебному талону, мороженым и горячим какао без талонов. Солнечно. По дороге в булочную захожу туда, играет музыка, за столиками смеющиеся женщины и дети, уютно, деньги и хлебные карточки при мне, как взрослый делаю заказ. Мирная обстановка, весёлая музыка противоречат идущей совсем рядом войне. Мама и Катя по своему опыту от прошлых войн и тогдашних неурядиц весь приносимый мною хлеб превращают в сухари, складывают в мешочки, точно так накапливаются карточные крупа, постное масло, сахар, соль. Бегаю по их поручениям по аптекам в поисках какао на сахарине, лекарств, бинтов. Стенной шкаф заполняется этими запасами. Этого я совсем не понимаю и не одобряю. Таких заготовителей запасов становится все больше, а пригодных товаров в свободной продаже уже практически нет. Но карточный хлеб в августе был в изобилии и намного лучше довоенного. С той поры у меня в памяти остались вкус и запах того горчичного батона, и мама, и Катя, и я не могли удержаться чтобы не съесть один тут же целиком, сразу после моего прихода из булочной. Без преувеличения больше нигде, никогда такого горчичного хлеба я не пробовал, видимо рецепт исчез вместе с пекарями хлебозавода. Свободного времени у меня полно, до начала занятий далеко, и я трачу его на походы по городу. Город серьезно готовили к встрече с немцами, закрашивали купол Исаакия, укрывали шпиль Петропавловки, засыпали землей памятник Петра. Начали, но не закончили убирать Клодтовских коней с Аничкова моста, устанавливали зенитки на площадках садовых скверов, появились большие пузатые «аэростаты». На углах домов в нашем районе, выходящих на сквозные магистрали, закладывали окна магазинов первого этажа, образуя в них узкие бойницы. Вдоль набережной от Литейного моста вниз по Неве стоят боевые корабли, прорвавшиеся из Таллина. Оставшиеся в городе оборонные предприятия и мосты на всякий случай готовят к подрыву. Слухи разные и мрачные, верить им не хочется. Погода стоит жаркая, солнечная, и мы с ребятами нашего дома вылезаем позагорать на крышу, возвышающуюся над крышами домов- соседей. Далеко на восток просматривается Нева, Смольный. Надёжный парапет позволял без страха даже девчонкам вылезать и загорать. В один из дней увидели летящую с востока низко над Невой группу из трёх самолетов. Выдерживая строй, они быстро приближались, не покидая русла реки. Мы видели немецкие самолеты только в кино и то издали. Кто то закричал «фашисты», гурьбой бросились к спуску, хорошо разглядев кресты на бортах стремительных чёрных машин. Тишина, ни одного выстрела ни с нашей, ни с их стороны, стало по- настоящему беспомощно и жутко. Так уверенно, по- хозяйски вели себя эти самолеты, так нагло, не торопясь летели над центром города. А ведь я сам видел наши зенитки, аэростаты в небе. Даже не дали сигнала воздушной тревоги. Все казалось совсем непонятным, не реальным, привычная жизнь изменилась, и вот вот станет похожей на кадры кинохроники об Испании. Эрмитаж, театры уже не работали, уехало большинство научных организаций, но часть сотрудников всё же осталась в городе, и было не ясно чем им заниматься. Трамваи, как и раньше, ходили регулярно, работали кинотеатры, дворники поливали пыль на улице, заметно уменьшилось число соседей в нашем доме. На улицах много народа в военной форме, слабо напоминающего военных из прежних кинофильмов, и выправкой, и возрастом, и полнотой. Родители ходят на свою обычную работу, мобилизация мужчин на рытьё окопов с перерывами продолжается. А в стороне Пулковских высот как то вечером было видно огромное зарево далекого пожара.
Подошло время начала школьной учёбы, но никого из друзей- одноклассников, кроме Ляли и Наташи, в городе нет, уехали. Пошел узнать, когда начнутся занятия. А наша, такая долгожданная, только в позапрошлом году обжитая школа совсем закрыта, в ней госпиталь, оставшихся здесь учеников перевели в здание ближней школы на улице Некрасова. Здание старое и после нашей кажется неуютным и запущенным, директор новый, учителя тоже, в списке учеников седьмого класса ни одной знакомой фамилии. Интерес к учебе пропал полностью. Раньше школа была не столько уроки, отметки, новые знания сколько соревнование с ребятами, которых уважал, хотел доказать себе и им, что ты им ровня, не лучше, может быть, но и не хуже, «одной крови». Не имело значения мальчик или девочка, главное- это родная стая.
В конце первой недели унылых школьных занятий мама получила повестку о призыве ее в армию. Об этом узнал, когда она позвала меня с собой, идя в поликлинику для увольнения с работы. Чтобы не болтаться в канцелярии остался ждать её в сквере против здания дома Кочубея, давно ставшего поликлиникой. Жду долго, народа вокруг почти нет. Светло, солнечно. Без всяких сигналов воздушной тревоги дружно забухали выстрелы зениток, издалека, за деревьями Таврического сада стало подниматься грязное расширяющееся облако дыма, и оттуда, казалось прямо надо мной, высоко, стройным парадным порядком, группа за группой, не торопясь полетели на запад однажды виденные черные самолеты с крестами на крыльях. Это был знаменитый разгром немцами Бадаевских продовольственных складов, основного резерва запасов города. Если память не изменяет, это было 8 сентября, так запомнилось. Вместе с мамой на следующий день на трамвае едем в госпиталь, где ей предстоит служить, он размещен в самом центре в гостинице «Европа». Поднимаемся по главной лестнице на третий этаж, все прежнее парадное убранство еще на своих местах: люстры, зеркала, портьеры, кресла с бронзовыми украшениями.
Для двух врачей, мамы и ее коллеги, отведен гостиничный номер. Инкрустированные столики, затейливые тумбочки, кровати не то красного дерева, не то карельской берёзы, на окнах тяжелые цветные занавеси, сюда я буду приходить не раз, но этот первый, в ещё не нарушенной мирной роскоши дома для мистеров «Твистеров», хорошо запомнил.
Домой возвращаюсь один, мама на казарменном положении, и когда сможет побывать дома, не известно. Отец все так же на строительстве противотанковых укреплений в качестве землекопа и дома бывает редко.
А война уже во всю напоминает о себе. Первый обстрел и прямое попадание снаряда в трамвай с людьми, первые бомбёжки и уничтоженные бомбоубежища вместе с обитателями, детали потерь разносятся сарафанным радио моментально, ежедневным городским радиорепродуктором сухо, со словами ненависти к врагу.


Мы с Катей и Иришкой с первыми сигналами воздушной тревоги уходим в подвал, переоборудованный в бомбоубежище прямо под полом нашей квартиры. Там собираются и стараются устроиться удобнее уже знакомые жильцы нашего дома, с собой запасы еды и питья на долгое время налёта. Никто и не хочет думать, что это псевдо убежище может стать коллективной могилой в случае прямого попадания. Но когда рядом люди, то не так страшно слушать вой самолета и грохот редких взрывов под угнетающий ритм метронома, звучащий из репродуктора. Блестящие умы немецких психологов хорошо потрудились над тем, чтобы максимально расшатать нервы и силы горожан, налеты регулярно начинаются в начале ночи и повторяются через два- три часа. Издерганные дежурные добровольных пожарных расчетов, не выспавшиеся рабочие, учителя и ученики, издерганные дети. Бомбежка города фугасными в некоторые дни сменялись массовым сбросом бомб зажигательных.
В нашем районе такие фейерверки больших пожаров не наносили, зато крыша близко расположенного к нам «большого дома» сияла новогодними «бенгальскими» огнями и затухающими факелами от сбрасываемых на мостовую горящих бомб, что поднимало наше патриотическое настроение. На утро, идя в школу, можно было видеть результат ночной бомбёжки. Рухнувший от крыши до основания угол шестиэтажного дома, отрезанный от внутренних стен, на которых жутко смотрелись открытые в никуда двери комнат, висящие на стенах пальто, картины и фотографии, будто раскрытая для общего обозрения бывшая жизнь разных людей. Внизу беспорядочная гора балок, кирпичей, сломанных досок, домашних вещей.

Немцы не забывали о нас и в дневные часы, только начнется урок- звучит сигнал тревоги, после отбоя обед и отпускают домой. Какая уж тут учеба. С продуктами становится всё хуже и хуже, наш неприкосновенный запас, бережно расходуемый Катей, уменьшается слишком быстро. Кроме хлеба других продуктов по карточкам не помню. Наши мужчины ищут способы добычи ненормированных продуктов, и сразу становится очевидным преимущество торгового образования перед университетским. Черный рынок запрещен, отец с большими предосторожностями приносит с окопов мешок подмороженной картошки, дядя Исай привозит с мельничного комбината полмешка твёрдых полуметровых пластин кукурузной дуранды (потрясающе полезно и сытно) и два полных мешка овсяной шелухи, остающейся после обмолота зерна.
Именно в этот приезд с окопов отец со мной идет в госпиталь на первое свидание к мобилизованной маме. Справочное бюро и приемный покой госпиталя в вестибюле бывшего восточного ресторана гостиницы «Европа». Через кажущееся нам долгим время появляется мама с увольнительной, правом три часа отсутствовать в госпитале. Недолгие объятия и поцелуи, отец, поколебавшись, принимает решение вести нас в ресторан «Чайка» на берегу канала Грибоедова, против «дома книги». Это в двух шагах от госпиталя, и здесь можно хоть поговорить в спокойной обстановке. Слава богу, за эти три часа не было ни одной тревоги. Родители не виделись давно, а я их обоих сразу вместе еще дольше. Мама в военной форме с какими то знаками отличия в виде кубиков или ромбиков, папа в обычном городском костюме. Я не мог и подумать тогда, что мы соберемся вновь все вместе только летом 1945 года, а ведь могли и не собраться. Я в ресторане первый раз, народа много, залы маленькие, музыки нет. Пока ожидаем, когда подадут заказ, рассматриваю окружающих, гордо поглядывая на стройную фигуру мамы в военной форме. Не знаю, как часто вы ели на обед жареных рябчиков под замысловатым соусом, я первый и боюсь последний раз в жизни в октябре, в голодающем блокадном Ленинграде, где в магазинах и мышам то есть было нечего.
Проводив маму до госпиталя, на углу Садовой сели на трамвай и после цирка за мостом через Фонтанку началась воздушная тревога. Пассажиров патрули сразу высадили, загнали в вестибюль подъезда шестиэтажного дома на улице Белинского с широким лестничным пролетом, где толпа пассажиров разлучила меня с отцом. Где то очень близко, а мне казалось на крыше этого дома, оглушительно бухала зенитка, пустая лестница усиливала все звуки. Недалеко, казалось совсем рядом прогремели взрывы первых бомб. Лихорадочно, торопливо, как бы захлебываясь залаяла наш зенитка, в ответ вой падающей бомбы, грохот, удар, звон летящих вниз по ступеням осколков. Я обмер, сгорбился, вжался в стену, ожидая падения обломков. Пришел в себя, когда отец, найдя, обнял и прижал к себе. Дождались отбоя и пешком, молча пошли домой. Никогда за дальнейшее время бомбёжек, обстрелов я не переживал такого все подавляющего полуобморочного ужаса.
В квартире всё больше и больше всё менялось до неузнаваемости по двум причинам: из страха ранений осколками оконных стекол при близких взрывах; от нереальности отопить огромные жилые комнаты. Перебрались из спальных покоев на кухню с окном во двор, обогреваемую плитой, и темную прихожую, с сожалением вспоминая экономную печь прежней довоенной квартиры. В октябре сильно похолодало, стоя в очередях в ожидании хлеба я мёрз чертовски, особенно руки, и мама вместо рукавиц сшила мне очень теплое убежище из обрезанных стёганых ватных рукавов, надежно прослужившее всю зиму.
По дороге из школы я нередко забегал к Рабиновичам, оставшимся в городе и не рискнувшим на еще один очередной в их жизни самостоятельный вояж в неизвестность. Володя, пока по городу ходили трамваи, ездил на свой завод. Дочь Минюся продолжала заботиться об эвакуации семьи вместе с сотрудниками её Пушкинского дома. Моя любимая добрая Белла колдовала над тем, чтобы семья не сразу умерла с голода, не забывая между тем мельком подсунуть хоть что ни будь и мне. В один из дней похода в школу (по причине отсутствия ночной бомбежки) на перекрестке улиц Кирочной (тогда Салтыкова Щедрина) и Чернышевского встретил обычный грязный грузовой трамвай. Оба вагона до верха нагружены то ли ветками, то ли бревнами, плотно уложенными друг на друга. Вблизи понял- тела погибших от голода. Два вагона мертвецов. Так обыденно, так открыто, одеревеневшие тела раздеты. Окружающие пешеходы реагируют на это абсолютно спокойно. Одинокие трупы на детских санках или присыпанные снегом возле подворотен я уже привык встречать, и притерпелся, но так. Вместо школы вернулся домой, а через пару дней слег с температурой за 40 градусов. Это был не нервный шок, а самая примитивная, запоздалая, детская, теперь ещё более опасная корь.
Недели две прошли лёжа в прекрасном полусознательном забытьи, еще полторы на той же «раскладушке» в прихожей в сознательном состоянии, что почти избавляло от чувства постоянного голода и страха. Налёты и бомбёжки шли с привычной немецкой аккуратностью, в бомбоубежище я спускаться из за слабости не мог и оставался в пустой прихожей один. За ее фигурным потолком находится изумительная, восхищавшая нас беломраморная парадная лестница, ведущая только на второй этаж. Её акустическая особенность в том, что она усиливала намного лучше зала любой филармонии гул моторов близкого немецкого самолета и особый гнусный вой падающей бомбы. Постепенно, не сразу я уверенно научился различать звук приближающегося самолета и определять, как близко от дома может раздаться взрыв, и, ей богу, ну почти перестал дергаться от страха, только сжимался в ожидании и задерживал дыхание. После болезни спускаться в подвал во время тревог я отказался начисто, вопреки Катиным уговорам. От того самого первого уничтожающего страха почти излечился. Надо сказать, что первой тяжестью для жителей города стало полное отключение электричества, темные зимние часы мы коротали при свете первобытной, но к счастью, не забытой старшими самодельной коптилки. Читать практически было невозможно, но всё же домашнюю работу можно выполнять без опаски. Электричество распределялось между предприятиям по «лимиту».
Мы не сразу по достоинству оценили многие преимущества нашей квартиры в условиях блокады. Что определяло сопротивляемость в эти дни? Наличие тепла, наличие воды и хотя бы мизерное регулярное наличие пищи любой калорийности. Лепешки из шелухи, добытой Исаем с раннего утра готовились на плите на сухой раскаленной сковороде. Шелуха размачивалась ночью, превращаясь к утру в подобие кашицы, но не теряя своих колючих свойств. Чтобы избавиться от этого недостатка кашица долго парилась на плите под крышкой кастрюли и становилась пригодной для приготовления лепешек. Открытие кулинарного рецепта принадлежит Кате и выручает от настырного, неумолимого постоянного чувства голода. Дуранда, папин столярный прозрачный клей, тощие главные продуктовые запасы расходуются микродозами. Отец дома практически почти не ест, исхудал, ослаб, одежда висит на нем как бы отдельно от тела. И как надежда на жизнь, как подарок судьбы приходит повестка о призыве его в армию.
Перед самыми ноябрьскими праздниками я и Катя собирали для папы в его окопный рюкзак теплые вещи. Нашли валенки, рукавицы из шерсти. Морозы стояли жестокие. После получения повестки он всего один день был дома, четвертого ноября я отнес ему в казарму маленькую кастрюлю пшенной каши, приготовленной Катей из неприкосновенных запасов. Не узнаваемых в военной форме призывников при мне посадили на машины, и мы с отцом неловко растерянно обнялись. Кто то из бойцов охраны казармы, глядя на мои слезы, сказал, успокаивая, «не реви, они для дороги через Ладогу». Формировался батальон создания и охраны ледовой «Дороги жизни». А я ничего тогда не понял. Представить себе не мог отца с винтовкой, он не терпел охоты и охотников, при приготовлении обеда из кур приглашали кого то со стороны чтобы ее зарезать, не терпел грубостей, не пил и не любил спиртного, не курил, без своего привычного пенсне в нескольких шагах ничего не видел. Я один провожал его, маму не отпускали из госпиталя из за наплыва раненых. И теперь я действительно остался совсем один под присмотром тети Кати.

В ноябрьские праздники мама ночевала дома, я получил столько её любви и внимания, что и думать забыл про мысли о своей теперешней заброшенности. Хотя стол был скуден, сидели при свете коптилки в верхней одежде, папы с нами не было, но мы с мамой были вместе и это был праздник.
У истощенных голодом людей каждый лестничный марш отбирал так много сил, что некоторые по дороге к себе садились отдыхать на лестничных ступенях на каждом этаже, а наш то был первый и это было важное преимущество. Вслед за электричеством перестали работать водопровод, канализация, замерзли не обогреваемые трубы. Цепочки горожан потянулись к Неве с ведрами, бидонами, чайниками, с тем, что каждый мог донести домой. От нашего дома спуск к Неве всего в двух шагах, если быть точным в двух кварталах. Несравнимо кто живет в домах на улицах Некрасова, Жуковского, Невском, да и ещё на верхнем этаже. По порядку, заведенному Катей еще в Боравенках, роль водоноса моя. Ведер у нас нет, да я их и не донесу. С двумя бидонами отправляюсь на Неву, ходить приходится несколько раз: умывание (будь оно неладно на холоде), непрерывный чай с сахарином или без него весь день, туалет, у нас он работал всю зиму, труба обогревалась снизу из подвала буржуйкой бомбоубежища. До наступления настоящих холодов носить воду было не так уж тяжело, просто очень хотелось отлынить от трудной работы. В фильмах о блокаде очень любят показывать кадры с людьми, скользящими по замерзшим ледяным ступеням и падающими обратно к Неве, разливая по ним с таким трудом добытую и быстро замерзающую воду. Я не падал, но удержаться на обледенелых ступенях требовало невероятного упорства. Из тех, кто падал, сразу повторить подъем решались немногие, ждали помощи от более удачливых или сильных. Такие были, возможно у них оказывалось дома случайно несколько лишних карточек. В очереди за выдаваемым нам хлебом люди, плотно сбивавшиеся для тепла в тесную кучу перед закрытой дверью булочной, к числу таких счастливых владельцев относили, как правило, дворников, первыми узнававших о смерти жильца в своем доме и забиравших карточки. Допускаю, что так и было, но то был ангельский поступок по сравнению с воровством карточек, что означало для потерявших карточки смертельный приговор. В очередях стояли в основном ослабевшие женщины. Сам видел такую, которую обворовали, ведь ждали мы приезда хлебного фургона подолгу, боясь вдруг хлеба сегодня вообще не будет, вдруг хлеба на всех не хватит. Устаешь, замерзаешь, слабеешь. Когда дверь, наконец, открывалась, в полутемную от света коптилок булочную врывалась жаждущая толпа, каких- нибудь полчаса, и ты с килограммом хлеба (в начале блокадного пайка), потом с половиной на нас четверых уже дома. Эту жизнь в очередях и до войны, и во время, и после войны, в очередях за всем: жильём, едой, книгами, правом на правду, учебу, работу, лечение- ненавижу, её можно назвать только одним хорошим ёмким русским словом.

А и здесь у нас было преимущество, булочная наискосок от нашей парадной, на углу улиц Каляева и Чернышевского, можно, заняв очередь, сбегать погреться.
Кухонная плита от прежних хозяев, занимала важнейшее место не своими огромными размерами, она была главным единственным источником тепла и приготовления еды, прожорливая кирпичная двухметровая по длине наша хранительница работала почти весь день, съедая все горящее. Остальные печи оставались нетоплеными в покинутых комнатах, мы и мечтать не могли отопить их, в прошлую зиму для этого ушло немереное количество дров. Дрова область забот отца, он и на эту зиму заполнил весь наш сарай под дворовым флигелем. Все были спокойны, пока во время моей внезапной болезни не закончился расходный запас, хранимый в стенном шкафу. Мне полагалось периодически его пополнять. Тогда взрослые и обнаружили, что в сарае не только дров, но и самих деревянных перегородок нет и в помине. Шок от этого открытия наблюдать не пришлось, лежал без памяти. Мужчины, ругая себя и меня, без пользы для дела, бросились на поиски топлива, каждый используя свои возможности. Первое открытие сделал папа. На лестничной площадке нашего бельэтажа рядом с белоснежной дверью в нашу квартиру была такая же, ведущая в кладовку, где мы хранили ненужные домашние вещи: корзины, велосипеды, старые сундуки, сломанную мебель. Низкая дверь вела по узкой лесенке вниз в два подвальных помещения. Одно закрывалось железными стилизованными дверьми, и там по его стенам тянулись в несколько рядов основательные толстые деревянные полки. Второе забито до самого верха каким то горючим хламом, оставшимся от всех предыдущих жильцов, и доступ через него стоил усилий. Разобрались с назначением помещений после войны, а сейчас отцы радовались находке, сожалея, что не там хранили дрова прямо у себя под носом, и ключ от этой двери был только у нас. Дядя по своим связям узнал, что на Лиговском проспекте за Обводным каналом есть склад, где вроде бы можно по договоренности с полузнакомым завскладом купить дрова. Этот вариант отложили и решили реализовать после моего выздоровления. Я еще вернусь к этому. Мама, напуганная моей болезнью, решила дополнительно подкармливать меня ослабевшего, деля часть своих госпитальных обедов. Два месяца ходил я к ней два раза в неделю в госпиталь, где на поверхности инкрустированного столика в ее очень холодном номере лежала накопленная еда. В январе номера уже не отапливались и врачей перевели на первый этаж в бывший люкс членов правительства. Простые кровати с тумбочками в изголовье стоят несколькими рядами, в комнатах тепло. Врачихи посмеивались, говоря, что это тепло ушлые местные тыловики очень выгодно для себя обменяли за вывезенную из номеров на сторону старинную мебель. Дорога к маме вела мимо прежнего жилья на Рылеева 7, потом от дома Мурузи по узкой тропинке вдоль стены Литейного проспекта, по середине заваленного огромными сугробами с вмерзшими намертво на рельсах неподвижными трамваями. На этой тропинке всегда попадались или встречные детские санки с мертвым телом, аккуратно замотанным простыней, или присевшие у стены фигуры людей неразличимого пола и возраста. Опасный признак. К ним боялись подходить редкие прохожие. Сам присядешь и не встанешь. Когда я встречал позже кинокадры блокадной кинохроники мне казалось, что их снимали именно там, где я шел, до того все было похоже. После поворота на улицу Белинского передышка. Здесь вдоль всей церковной ограды книжное царство. Деревянные закрывающиеся на висячие замки книжные лари забиты книгами, тут все приложения к журналу «Нива», тут вся классика и в каких разнообразных изданиях, альбомы репродукций, ноты. Продавцы до глаз укутаны от зверского внешнего и внутреннего холода, но немногие покупатели всегда роются в книгах. С уважением смотрю на собратьев по разуму, значит верят, что все пройдет. Так как больших денег у меня не бывало я только жадно разглядывал названия и спрашивал цену какой нибудь не читанной книги. Хотелось купить весь роман Гарина Михайловского, успел прочесть только первую часть. Долго стоять возле книжных лавок невозможно, холодно, и скорей, скорей мимо цирка, мимо музея этнографии, и я у входа в «Европу». Знакомые охранники пропускают сразу, незнакомые заставляют ждать заказанного мамой пропуска. Короткая встреча, мама уходит в палату к раненым, я, поев, в обратный путь. Вместо бомбежек с января нас регулярно обстреливают тяжелыми снарядами, внезапно, предупреждения уличных громкоговорителей опаздывают, и я придумал свой способ, выбирая во время обстрела маршрут перпендикулярный направлению полета и как можно ближе к стенам домов со стороны полета. Так мне кажется между мной и снарядом больше защитных препятствий. Пока везет, и осмелев, не прячусь в подворотни, не останавливаюсь. Один раз только чудо оставило следы осколков на стене музея этнографии, а не на мне, после войны напоминая о тогдашнем легкомыслии. По пути к маме, или от нее домой захожу к Рабиновичам, они пока не дождались обещанной эвакуации. Володя совсем ослабел, лежит дома и в разговорах старается дать жизненно важные советы. Я слушал, не понимая, что он старается защитить меня- мальчишку от будущих ошибок. Только раз из домашних запасов решил принести несколько мерзлых картофелин и кусок дуранды.
Умер Володя почти сразу после моего очередного ухода, и ничто мне не подсказало, что это была последняя встреча и последнее наставление. Узнал о его смерти, возвращаясь от мамы, с купленным по дороге романом Михайловского. После бывал у них много реже, откровенно боясь встретиться с еще одной потерей, роман так и остался там.


В городе сразу почувствовали результаты разгрома немцев под Москвой, уменьшилось количество фугасных бомбардировок, зато усилились обстрелы и сброс зажигалок. Уже заработала «Дорога Жизни» и увеличили хлебный паек. Удача, Исай выменял у шофера, перевозящего грузы по «Дороге жизни», свои часы на кусок мяса и полкило сливочного масла. Как ни безнадежно плохо, но вопреки всему верим, что мы выживем назло немцам, что нам помогут, что мы не сдадимся. А для меня неожиданным подспорьем стало то, что в одну из очередных бомбежек бомба пробила трубу водопровода посреди нашей улицы почти против наших окон и в неглубокой воронке постоянно текла вода. Вот это подарок. Края воронки быстро обледенели, но если изловчиться, лечь головой вниз, достать воду можно. Один раз неосторожность могла стоить серьезных бед. Уже вытаскивая полный бидон, лежа на краю воронки, я соскользнул вниз, уперся в дно, руки оказались в воде. Вытащили меня довольно быстро проходившие мимо солдаты за торчащие из воронки ноги, и отделался я только обморожением кистей рук и памятью о полной беспомощности в той ловушке. Но говорят, что опыт всего дороже, больше не попадался.


Из блокадников, зимующих в нашей квартире, самым радостным человеком была двоюродная трехлетняя Иришка, к счастью не понимавшая что происходит вокруг, и это нас сближало и заставляло барахтаться.
Какую важную цель хотели поразить немцы недалеко от нашего дома, не ясно, но только следов бомбежек оставили много. На углу улиц Моховой и Пестеля, Моховой и Чайковского, Литейного и Петра Лаврова, Потемкинской и нашей, нашей и Чернышевского видны разрушенные дома или воронки на мостовой, но ни Литейный мост, ни «Большой дом» не пострадали. У нас только наружные стекла комнат треснули, а вы не верите в личных ангелов.
Запасы топлива подходили к концу, дядя Исай, поколебавшись, решил, что пора послать меня на разведку к рекомендованному источнику возможной добычи дров в обход закона о черном рынке. Я был несовершеннолетний, родители на фронте, самый безопасный вариант. Взрослому грозил как минимум арест по законам блокадного города. А нам без тепла просто смерть. Довольно далекие походы к маме уже выработали достаточно самоуверенности, но района Лиговки я не знал вовсе и пошел с большой опаской. По улице Восстания до Невского, мимо опустевшего Московского вокзала, по заваленной горами снега Лиговке. Иду все с меньшим и меньшим энтузиазмом, далековато от дома. По сторонам непохожие дома, стоят одиноко, непонятно жилые или нет. Людей почти не встречаю. Как объяснил Исай, склад находится почти рядом, сразу за Обводным каналом, квартала три. Но за Обводным по обеим сторонам Лиговки сплошная стена огня, горят деревянные и каменные дома, стоит оцепление. Как объяснить куда и зачем иду. Для собственного успокоения, потоптавшись, с огромным чувством облегчения поворачиваю назад, подальше от пугающего пожара. Поручение не выполнено, но я точно не виноват.
В нашу спасительницу плиту идут книги, стулья, прочая горючая мебель, ушло юбилейное к 300 летию дома Романовых трехтомное издание «Великая Россия», из которого узнал, как много народностей составляют Россию, для плиты это кошкины слезы. И тут изобретательный дядя, слава Богу, обнаружил нетронутые запасы угля в одной из давно замерших бездействующих маленьких котельных огромного здания Гостиного Двора, бывшего раньше местом его работы. Теперь мой маршрут к маме дополняется еженедельными санными походами в Гостиный Двор. Самым трудным был первый. С детскими санями по Литейному и Невскому до Садовой. Там в середине Садовой линии через настежь открытые, никем не охраняемые ворота вхожу с опаской во двор мертвого Гостиного. Поворот, приоткрытая дверь в полутьму безжизненной котельной с горой блестящего антрацита. Воровато озираясь, торопливо засовываю в мешок крупную глыбу, привязываю к санкам и скорей назад на Садовую. Во дворе пусто, на улице также, и по заснеженному, без сугробов Невскому тащу добычу домой. Мешок предательски съезжает, и на Аничковом мосту сани переворачиваются. Уже обессилев, после нескольких неудачных попыток водружаю мешок на место, привязываю, боясь предложений об оказании помощи, и мокрый от пота, измотанный и ослабевший до полуобморочного состояния дотягиваю сани домой. Катя, не спрашивая ни о чем, укладывает отдыхать. Теперь надеемся, что тепло будет долго.
В следующие бандитские операции за углем я набирал его только размером с орешек и не больше полмешка, тогда все шло без происшествий. За время двухмесячных походов в котельную мне не встретилось ни одного соперника, приходящего за этим богатством. А Катя только одна и могла разжечь и заставить гореть долго и ровно необычное жаркое топливо. Будем жить. Во время походов в Гостиный двор я наткнулся здесь на конфискованные в самые первые недели войны радиоприемники горожан. То ли снарядом, то ли ворами оконные стекла склада разбиты, стеллажи опрокинуты, и на полу, присыпанные снегом, приемники самых разных марок. НКВД мог быть спокоен, немецкая подрывная информация до ленинградцев точно не дошла.

Занятия в школе прекратились как то незаметно, сами собой, сразу после зимних каникул. Мы и ходили, по правде, в школу в основном ради обеда. Он состоял из порции жидкого мучного супа, который я в полулитровой банке носил домой, осадок отстаивался почти с палец толщиной. Зимние месяцы в Ленинграде всегда кажутся мрачными из за короткого светового дня, да еще сейчас всё без освещения и в доме, и на улицах, совсем мрак. Продолжительность активной нашей жизни по этой причине определялась длиной светового дня. А если выходили из дома в темное время у каждого на груди светился зеленый фосфоресцирующий значок, который помогал избежать в темноте встречных столкновений. Кто то из властей придумал, здорово удобно. Вспоминаю и самому поверить во все это трудно. Старались поменьше ходить, больше спать или просто лежать, но это приводило для многих к плохим результатам. Такие лежачие блокадники погибали обычно первыми. Так умерла соседка со второго этажа нашей лестницы, молодая красивая женщина, в квартире которой часто собирались еще более молодые офицеры с первых блокадных дней. Эти сборы становились все реже, перестала следить за собой, заходя к нам говорила, что боится налетов до обморока, боится выходить за хлебом, не хочет жить. Катя считала, что все это от ее слабоволия. Дворники увезли ее тело еще в декабре. А я, опекаемый с двух сторон мамой и тетей Катей, защищенный от холода и трудностей блокады особенностями нашего жилища и нашей настойчивостью, уже с начала более светлого февраля не сомневался, что мы (мама, папа, Иришка, Катя, Исай и конечно я) уже пережили эту жуткую зиму и сможем бороться дальше. Не понимал совсем, что мама, отдавая мне свой паек, решила спасти меня ценой своей жизни. Не видел, как она похудела и ослабла. Не знал, что у нее развивалась серьезнейшая дистрофия, которая вскоре уложит на койку в госпитале. Под давлением ли её коллег врачей, по настоянию ли начальства, просьбам в письмах отца она приняла, наконец, решение обратиться в военкомат о моей эвакуации. Ее февральское официальное письмо сохранилось в бумагах отцовского архива. Я был включен в списки эвакуируемых из Ленинграда на 25 марта 1942 года. В дорогу мама собрала чемодан, где улеглись все необходимые летние и зимние вещи, отрез на так и не сшитый папе выходной костюм, папин фронтовой адрес. В обычный холщевый мешок с веревочной завязкой у его горла положила в дорогу ЦЕЛЫЙ кирпич чёрного хлеба и флакон из под духов со спиртом, проверенным средством борьбы с желудочными заболеваниями. Наверное, она долго колебалась отпускать ли от себя в далекую Самару последнего сына, сказала о предстоящем отъезде только за неделю. Прощание с Катей и трехлетней Иришкой было трудным, они оставались без моей хоть и слабой, но постоянной помощи. Я уезжал от дома, от мамы, от Кати, знакомой и близкой мне столько лет, уезжал в неизвестную Самару, в неизвестный дом, как там меня примут.
На задворки Финляндского вокзала провожала мама, чемодан нес Исай. Никакой транспорт, конечно, не ходил, мы все здорово устали, идя через длинный Литейный мост, пока добрались до места посадки, далеко отстоявшего от вокзала. Прощался долго, сбивчиво, обещая точно выполнять наставления на дорогу, на Самару. Обычный пригородный поезд с несколькими вагонами пошёл по временной ветке, которая станет исторической, к берегу Ладоги, увозя от мамы, от немецких бомбежек и обстрелов, холода и голода, а в голове сплошной бред, ни одной ясной мысли. Полная растерянность от запоздалого осознания того, что теперь я точно остался совсем один, ни родителей, ни дома, ни родного города. Один, один. На время, надолго, навсегда? Твержу последние мамины наставления, прижимая к себе дорожный мешок. За окном сплошные бесконечные плоские снежные поля и полная неизвестность.


Еще при посадке мама познакомила с семьей военной врачихи, которая с маленькой дочерью и своей матерью едут в Куйбышев (Самару), давшая маме обещание присматривать за мной в дороге. Как это было предусмотрительно я понял, когда поезд остановился и вся масса людей высыпала из вагонов на площадь в поисках транспорта. Моя опекунша- врачиха в военной форме сразу из заботливой мамы преобразилась в энергичную командиршу с властными навыками и таким же голосом.
Пока все кругом метались в поисках она вынырнула из людского моря с солдатами и офицером, быстро погрузившими в военный фургон ее солидный багаж, мой чемодан и всю нашу объединенную группу: бабушку, внучку и меня на мягкие вещи внутри, командиршу, как штурмана, в кабину. В марте ледовая дорога видимо доживала последние недели, ехали по сплошной воде в колеях, машину мотало и бросало из стороны в сторону, очень скоро мое сознание отключилось полностью, очнулся уже на том берегу озера. А на том берегу царил твердый четкий воинский порядок, сразу подчинивший неорганизованную толпу. Питание для всех одно- налево у раздаточного окна; медицинская помощь нуждающимся после переезда озера- направо; погрузка в стоящий эшелон по спискам- прямо. Вот это была организация, такую бы нам теперь в социальной современной службе, без всякой болтовни и идеологии. Ждать слишком долго нашей отправки отвечающие за нее не могли из за боязни воздушного налета. Без преувеличения через час все получили горячую пищу, еще через час сухой паек до следующего питательного пункта, еще через час мы уже ехали в жарко натопленном буржуйкой самом демократичном вагоне товарного состава. Из блокадников, прибывших из Ленинграда, увы, с составом уехали не все. И среди оставшихся в здешней больнице блокадников не все, боюсь, выжили. Причиной служил этот замечательный, виданный только во снах обед. На первое- мясной густой гороховый суп, ложка стоит. На второе- настоящая пшенная каша, от души сдобренная маслом. Хочешь добавки- бери без ограничений. Смотреть на нас, прибывших оттуда, местным поварихам было страшно и жалко. И их, и нас строго предупреждали, чтобы не бросались мы сразу на еду. Да это можно сколько угодно говорить тому, кто не умирал полгода с голода, и не ощущал запаха этой еды. Кто то и не удержался всего в полшага от жизни.
Беженец
Впервые оказался я пассажиром такого универсального вагона, пригодного и для людей, и для скота, и для перевозки груза. Все внутри старательно подготовлено к долгому пути. Два ряда деревянных нар занимают по высоте всю переднюю и заднюю части вагона от стены до стены, доходя в середине до проемов для широченных подвижных дверей, свободную середину вагона занимает круглая железная печь с трубой через крышу. Над верхними нарами почти у потолка по маленькому окну в обеих стенах. Это единственный источник света и свежего воздуха при закрытых дверях. С правой стороны по направлению движения состава дверь можно приоткрыть. Левая закрыта постоянно накрепко. Возле натопленной печи поленница дров, два ведра с водой и на печке горячий чайник. Мы, четверо во главе с уставшей и присмиревшей нашей командиршей, разместились на нарах с соломенными матрасами, заботливо приготовленными службами эвакуации. Попутчики кучками разбились по трём остальным. Первым долгом наши женщины разобрались с содержанием выданного сухого пайка, и здесь первую скрипку в свои руки взяла разом ожившая бабушка. Мы не знали, когда можно снова пополнить запасы, но заботливый первый прием внушал надежду, что нас не оставят без поддержки. В общий котел моих опекунов я отдал остатки сильно похудевшей к тому времени хлебной буханки, с сомнением в правильности «благородного» поступка. Во всяком случае в глазах бабушки это явно принесло мне доверие, и я как бы вошел в круг ее птенцов. Всего в вагоне человек 12, в основном женщины, мужчин трое, если и меня отнести к их числу. Видимо, все старательно готовились перед дорогой, оделись в чистое. Меня Катя подстригла машинкой коротко, вспомнив свой профессиональный опыт. Все разбились по своим группкам, обстановка почти дружеская, никто не старается занять роль наставника, за время блокады научились взаимовыручке. Еще под впечатлением от переезда Ладоги, погрузки, сытного обеда и стремительного отъезда улеглись и заснули, не раздеваясь, под неторопливый стук колес. Это не литературный прием, поезд, действительно, двигался по сравнению с пассажирскими довольно медленно. И тишину вокруг не нарушали привычные взрывы, сигналы тревоги, настораживающая интонация радиоголоса любимой поэтессы. Пройдет не один день, пока нас не отпустит хоть немного постоянное блокадное напряжение ожидания внезапной беды, ужаса завала, смерти. Стук колес успокаивал, но возвращал к мыслям о маме, об отце. После Ладоги я пытался там что-нибудь узнать об отце по номеру полевой почты, единственной ниточке связи, но безуспешно.
Некоторые женщины маленького Ноева ковчега, сидя у печи, курили, часто, нервно, мама всегда курила спокойно, не торопясь. Курила она папиросы, которые папа делал из смеси разных сортов табака с помощью металлической трубки, пахли папиросы вкусно. Поезд наш двигался странно, с длинными стоянками иногда днем, иногда ночью, с короткими то в чистом заснеженном поле, то на полустанках, где нам выдавали «сухой паёк». Вскоре поняли правила, установленные машинистом, и всегда были наготове. Остановка в чистом поле и два гудка значат возможность набрать дров для печки, очередные два гудка- окончание стоянки. Тогда мы трое, набрав охапку дров или обломков досок, бегом назад к вагону, и по следующему гудку отправление. Для мальчишки, которому две недели назад исполнилось четырнадцать, прекрасное занятие. А если стоянка на полустанке, то бегом с ведрами к паровозу, набирающему воду из подвижной трубы, чтобы успеть самим пополнить запасы воды и получить продукты. Воды, а водоносов трое и ведер всего два, уходит много, так как женщины боятся отстать и от вагона не отходят, а на умывание вылезают дружно. Говоря честно, я тоже побаиваюсь отстать, и каждый раз, уходя от вагона, проверяю на месте ли за пазухой мои документы: эвакосправка блокадника; свидетельство о рождении; школьный табель за шестой класс; адреса родителей и адрес тети Любы в Куйбышеве. Кстати о мытье, эта обязательная процедура еще в Ленинграде на холоде и в одежде наводила на меня тоску, в дороге на снегу и в верхней одежде умывание было чисто символическим, и это отражалось на оттенке данных мне в дорогу маминых полотенец. Пункты пополнения нашего сухого пайка попадались теперь чем дальше, тем реже, но с более обильным числом продуктов и ни разу с горячей пищей. Последнее утверждать не берусь, так запомнил. Какими неведомыми путями и дорогами шел наш блокадный эшелон, при скудном знании дорожной географии определить было невозможно, напрасно вспоминал я тщательно хранимую папой подробнейшую железнодорожную карту с бесчисленными веточками дорог и названиями станций от Ленинграда до Владивостока, которая сейчас очень бы пригодилась. Где то на десятый или пятнадцатый день почувствовалось приближение большого города, стоянки на сильно разветвленных запасных путях стали чаще и намного дольше, нас регулярно обгоняли пассажирские и товарные составы, а мы уныло стояли и стояли, и только весеннее яркое солнце радовало теплом через настежь открытые двери. Все были уверены, что героических ленинградцев обязательно повезут через Москву и придерживают состав, чтобы блокадники оправились от истощения и не испугали столичных москвичей своим видом. Это не выдумка, такие разговоры шли в вагоне. Наконец, однажды, к раннему утру за один ночной скоростной безостановочный перегон нас доставили на дальнюю платформу вокзала Рязани. Самого города, подъезжая, мы так и не увидели- проспали. По платформам во все стороны торопливо шныряют озабоченные люди с заплечными мешками с картошкой, луком и еще с чем- то, давно не виданным нами, но точно округлой формы. Запомнились их тележки на колесиках из крупных шарикоподшипников и испуганное выражение лиц. По платформам ходят вооруженные патрули, но ощущения близости войны, знакомое по Ленинграду, здесь сменяется ощущением забытой обстановки довоенного Сенного рынка, только покупателей не видно, одни продавцы. Через две платформы здание вокзала, никто не рискнул сходить туда. Ни наш состав, ни мы сами жителей Рязани не заинтересовали, и ожидавшихся некоторыми, мною в том числе, полагающихся героям почестей мы успешно избежали. После Рязани на какой то из станций наш эшелон за двое суток расформировали по разным направлениям эвакуации. В вагоне другого товарного поезда я сравнительно быстро, примерно на двадцать пятые сутки, прибыл в город Куйбышев. Из вагона нас вышло четверо, остальные двигались дальше. Не встретился я больше с моими невольными опекунами, и расстались наскоро после недолгого прощания.
Самара городок

Пять часов утра. Подождав открытия камеры хранения, сдал свой драгоценный чемодан и отправился к умывальнику хоть немного привести в порядок запущенный внешний вид.
Из универсального своего «рюкзака» впервые за дорогу извлек расческу, мыло и принялся отмывать лицо, голову, шею и безнадежно почерневшие от паровозной гари и угля руки. Первый раз за месяц увидел себя в зеркале и понял, что лучше стал не на много, но намного чище. В справочном окне бдительная старушка тщательно разъяснила, как добраться до Чапаевской улицы и отправился я на давно не виденном трамвае по родному городу моей мамы под опеку к тетушке Любе.
Вид у меня невзрачный, ватная замызганная телогрейка, грязные ботинки, мятые штаны, худая физиономия. Вот таким я позвонил в воскресное апрельское утро в дверь первого этажа небольшого двухэтажного дома, в котором предстояло мне провести два очень насыщенных разными событиями года. Дверь открыл двоюродный брат, с ним познакомились четыре года назад в дни приезда к нам в гости по случаю рождения Лешеньки. Было ясно, что он меня не узнает, да и не ждали меня, так как никакой связи за время долгой дороги у меня не было, а сообразить посылать телеграфные сообщения по мере своего передвижения ума не хватило, да и почтовой возможности практически тоже. Кажется, я придумал вместо приветствия единственную умную фразу: «я к вам из Ленинграда» и брат потащил меня в комнату, где за утренним завтраком (еще девяти утра не было) сидели тетя Люба и ослепительно красивый муж, уже виденный мною в его приезд в Ленинград в 1938. Спасибо Любе, искренне любимой мамой, она приняла меня так, что сразу понял- я дома, а мне так долго не хватало хоть иллюзии этого ощущения. Первый день и вечер я таял от внимания и грелся в лучах славы, излучаемой тётиными соседями на первого увиденного ими живого блокадника. Вымытый первый раз за полгода до блеска, уложенный в чистую мягкую постель, накормленный домашней едой, заснул я мгновенно без всяких снов. Утром брат разбудил меня поздно, тетя и ее муж давно уехали на работу.

Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
