
Бесплатный фрагмент - Оправа для бездны
Кодекс предсмертия. Книга вторая
Пролог. Голос и тени

«… когда сайды разорили Храм Исс и с юга на земли баль двинулись воины и колдовские исчадия Суррары, начался исход мертвецов. Первыми отправились в сторону ненасытной Суйки, в древности называемой Айсил, герои, погибшие в битве на священном холме, и поверженные ими враги. Они поднялись и пошли на север, обращая незрячие, залитые кровью очи в сторону города умерших, словно властный голос призывал их. Вряд ли их тела добрались до цели ужасного похода, потому что члены их были истерзаны, уже мертвых их жгли и рубили на части обуянные ужасом сайды, но за ними пошли и другие. Все, кого настигала смерть, подчинялись неведомому зову. Убивавшие друг друга шли плечом к плечу. Простившиеся с жизнью в собственной постели или на поле битвы вставали на ноги, поворачивались в сторону города умерших и отправлялись в последний путь. Никому они не причиняли вреда, хотя ужас от смертного шествия полз над землями Оветты, как осенний туман над бальскими болотами, и только маги Суррары пытались остановить исход мертвых, пока не прозрели собственное бессилие. Откуда бы ни начинали последний путь мертвецы, рано или поздно их плоть успокаивалась, но имеющие дар видели холодные тени, летящие к цели из праха. И этот полет можно было ускорить, но остановить — нельзя. И были смертные тени тех ужасных лет подобны каплям сока ядовитого дерева, которые падают в горло сосуда, пока не наполнят его…»
Хроники рода Дари, записанные Мариком, сыном Лиди.
Где она, былая легкость? Где ветер, бьющий в лицо? Где жар разгоряченного коня, несущего молодого хенна по весенней степи? Где юная жадность, которой всего было мало; и пищи, и золота, и гибкого сладкого тела, притиснутого к ковру, и снова ветра, ветра, ветра.… Где запах свежей подорожной травы? За дымкой времени, которая тает быстрее, чем затихает стук копыт? За лигами покоренных земель? Так неужели запах родной степи не долетит до все еще жадных ноздрей, ведь с запада несутся тучи, с запада! Вот только роскошный шатер великого тана стоит не в степи, а в парадном зале разоренного дуисского дворца. Не выйдешь наружу, не глотнешь полной грудью дикого ветра. Сидишь тут, как ярмарочный шут за цветастой занавеской!
Великий тан раздраженно покосился на замерших у полога, вооруженных кривыми церемониальными мечами полуобнаженных рабов, толкнул пяткой распластавшуюся у ног невольницу. «Тщ-щ», — то ли дунул, то ли свистнул. Поняла. Поползла прочь, как учила смотрящая за рабынями мамка. Старательно поползла, приподнимая над подушками и чеканными золотыми кувшинами округлые ягодицы, раскрываясь, как речная раковина, только ничего не отозвалось в чреслах у тана. Если уж мастерица обольщения — лучшая хеннская танцовщица, укутанная в полупрозрачную ткань, не смогла разбудить утраченную похоть, то куда уж неумелой радучской девчонке.
— Свитак! — раздраженно окликнул слугу тан, наклонился, проклиная слабый обвисший живот, подтянул к себе хрустнувшую сушеной травой подушку. Распустил витой шнур, вытащил крошащиеся в пальцах стебли, засопел, чихнул от пыльцы, но запаха не почувствовал. Стиснул зубы. Отчего же немощь опережает смерть? Или просто вышло его время и он, тан Каес, покорившей все рода великой степи, так и не смог покорить собственную судьбу? Что же он тогда делает? Испытывает ее терпение?
— Свитак! — громче повторил оклик тан, хотя уже знал, что рядом верный слуга, склонился над ухом — достаточно близко, чтобы услышать шепот, достаточно далеко, что бы не осквернить дыханием обоняние тана.
— Я здесь, всемилостивейший, — звякнул серебряными подвесками седой раб.
— Где сыновья?
— Хас с тысячью в горах учи, ловит их самонадеянного князька. Кеос на пути в Томму с богатым обозом и тысячами рабов. Раик в Бевисе. Нок в Етисе. Фус…
— Знаю об этих! — раздраженно оборвал слугу тан. — Лек где?
— Твой младший сын здесь, всемилостивейший, — поспешил успокоить хозяина слуга. — Так же как и старший Аес.
— Зови его, — махнул рукой Каес. — Лека зови. И так, чтобы Аес не видел. Или нет, пусть видит! И открой же, наконец, все двери и окна этого проклятого дворца!
— Слушаюсь, всемилостивейший, — метнулся в сторону слуга.
Тяжело вздохнул тан. Знал, что давно уже были открыты все окна и двери во дворце радучского короля, над головой сияли дневным светом проемы разбитых витражных фонарей, но не хватало Каесу ветра. И в шатре, верхушка которого была снята, словно не осень подступала к Оветте, а лето, и даже на ступенях дворца, с которых открывался вид на каменные холодные дома покоренного Дуисса. Не хватало Каесу ветра, словно кто-то вставил ему в ноздри тростниковые трубки, а горло захлестнул поясным платком. Год уж как утихли пожары и перетлели костры, сложенные из тысяч и тысяч трупов, но не мог отдышаться великий тан хеннов. Или это запоздавшее проклятье покоренных родов? Так ведь никого из танов не душил Каес, каждый из его соперников принял смерть от меча, как и требовали законы степи. Но не могли же проклясть его жалкие белолицые выродки, которых он уже перерезал без счета?
— Я пришел, отец, — раздался спокойный, чуть насмешливый голос и крепкая рука сдвинула цветастый полог. — Звал?
Ни на одного из братьев не походил Лек. Слишком много взял от матери — дикарки-корептки. Взгляд был жестким, как у отца, да цвет кожи, а темные волосы, прямой тонкий нос, скулы, все казалось чужим. Но злые взгляды остальных сыновей, смешанные со страхом и подобострастием казались чужими еще более. Одно раздражало Каеса, никогда улыбка не сходила с тонких губ младшего сына. Такая язвительная улыбка, что старшие братья не единожды пытались отсечь ее от туловища наглеца вместе с головой. Но выкручивался пока младший. Боги ему покровительствуют или собственная чрезмерная наглость дорогу торит?
— Садись, — махнул рукой на подушки перед собой тан. — Садись и говори.
— Какие слова ты хочешь услышать от меня, отец? — ухмыльнувшись, спросил сын. — Я должен слушать тебя!
«Красив, — подумал Каес. — Оттого и не любят его братья, что он не похож на них. Или и в самом деле, правда, что боятся они младшего»?
— Послушаешь еще, — почти равнодушно произнес Каес. — Свои слова пока скажи. Те, которые уже год на губах твоих висят.
— Почему мы остановились? Этот вопрос ты чувствуешь, отец? — рассмеялся Лек и продолжил через мгновение. — Отчего, покорив всю Оветту, стоим уже второй год с этой стороны реки? Отчего не разбили войско сайдов до того, как оно успело укрыться за стенами Борки? Почему, наконец, не разберемся с жалкими риссами, что выбрались из-за пелены и заняли Дешту? Неужели так боимся колдунов Суррары?
— Это все, о чем бы ты хотел спросить? — после долгой паузы проговорил Каес и раздраженно вогнал причудливый кинжал в ножны.
— Ты злишься? — поднял брови Лек.
— Да, — коротко бросил Каес. — Злюсь, потому что ты не спрашиваешь главного!
— А ты можешь ответить? — удивленно наклонил к плечу голову Лек, но тут же вновь оскалил зубы. — Я думал, что главный вопрос следует задавать старшему шаману, но он… не любит меня.
— Разве ты женщина или ребенок, чтобы любить тебя? — сам расхохотался в ответ тан. — Ты же смеешься над ним! Зачем ты на празднике первой травы вытащил горючие порошки из-под войлока? Захотелось пошутить над стариком?
— Ты вспомнил давнюю историю, — Лек презрительно скривил губы. — Тогда мне было всего лишь десять, и я не знал, что шаману дозволительно обманывать хеннов. Я был уверен, что боги и в самом деле бросают на его войлок пригоршни звезд. Он жульничал!
— Они бросают, — проворчал Каес, покусывая верхнюю губу. — Но сюда! В голову! Или ты думаешь, что Кирас слабый колдун?
— Пока что мне не приходилось почувствовать его силу, — уклонился от ответа Лек.
— Он злопамятен…. — с трудом дотянулся до собственной пятки Каес и поскреб ее желтыми ногтями. — К тому же он не любит не только тебя. Кирас вообще никого не любит. Впрочем, он не смог бы помочь тебе с ответом, даже если бы любил тебя как родного сына. Нет, Лек. Конечно, духи, с которыми советуется Кирас, могут ему что-то подсказать, но они не могут знать дня моей смерти. Я — великий тан, а не пастух!
— Я сам мог бы сказать кое-что об этом, — стал серьезным Лек. — Конечно, если ты согласен слушать меня.
— А ты думаешь, что я позвал тебя развлечься с наложницами? — поднял брови Каес.
— Зачем мне знать день твоей смерти? — сузил глаза Лек. — Чтобы лишиться покоя? Я даже не хочу знать дня собственной смерти. Тот, кто знает конец пути, отсчитывает шаги, тот, кто не знает его, дышит и радуется.
— А разве тебе не интересно, чье имя выкрикнут глашатаи, когда я оставлю владычество над степью? — прищурился отец. — Неизвестность не лишает тебя покоя? Все твои братья отметились в чаше для пожертвований Кираса! Некоторые не единожды! А кое-кто осмелился поинтересоваться, можно ли ускорить мое путешествие за полог смерти?
— Когда-нибудь я с интересом прислушаюсь к крику глашатая, но не собираюсь задумываться об этом теперь, — качнул головой Лек. — Тем более, что война не окончена и пройти тропою смерти может любой из твоих сыновей, в том числе и я. Думаю, что мои шансы на скорую смерть даже предпочтительнее прочих…
Лек склонил голову и добавил после паузы.
— И еще я думаю вот о чем; когда единый вяжет на своей плетке узлы, отмеряющие рождение и смерть, ему все равно, чьи волокна трепещут в его пальцах — пастуха или великого тана.
Тан раздраженно пожевал нижнюю губу. Улыбка вернулась на губы младшего сына, но глаза его были серьезны. Страшные у него были глаза. Наверное, такие же глаза были и у молодого Каеса, когда он превращался из простого пастуха в тана своего рода, но тогда он не мог их видеть, не водилось никаких, даже бронзовых зеркал в кочующем по степи племени.
— Тогда что же еще может сказать тебе шаман? — презрительно скривил губы тан. — Почему мертвые поднимаются и бросаются в воды Лемеги? Этого и шаман не знает. Одно ясно, колдовство это. Безумное колдовство. Но я не верю глупостям, что колдуны-риссы, вышедшие из-за пелены, или конг Скира собирают армию мертвых, чтобы противостоять воинам степи. Это невозможно.
— Я не об этом, — покачал головой Лек. — Я знаю, что докладывают тебе лазутчики. Заклятье древних колдунов, которых сайды и баль считают богами, разрушено, и город умерших призывает к себе тех, над кем властвует. Оттого же рассеялась пелена, выпустив из Суррары рисское воинство. И мне не только известно, что подобной магией не владеет ни один хеннский шаман, она не подвластна и сайдам. Но мой вопрос не об этом. Кто зовет тебя, отец?
— Ты слышишь? — поразился Каес.
— Да, — коротко ответил Лек.
— Ты слышишь… — задумался тан и снова потянул за витую шнуровку, снова поднес к носу сухую траву.
— Я слышу голос, который призывает тебя идти до предела земли, чтобы полить ее кровью, — расправил плечи Лек. — Не до пределов города умерших, хотя голос и раздается оттуда, а дальше, до границ, до площадей самого Скира. Я слышу голос, который призывает тебя завалить Оветту трупами втрое против уже исполненного. Я слышу голос, который обещает тебе силу и молодость. Кто это? Что за магия приносится ветром? Кто зовет тебя, отец? Это человек или…
— Так ты слышишь… — потрясенно пробормотал Каес. — Шаман не слышит, а ты слышишь…. И я слышу. Поэтому и стою тут, не перехожу берег Лемеги. Думаю и… жду! Никто и никогда не приказывал Каесу!
— Разве это приказ? — не понял Лек. — Это зов. Но не следует ли откликнуться? Или тебе жалко недостойных сайдов, что убежали за Лемегу, что скрываются за борскими башнями, что ушли в горы? Или ты не хочешь вернуть силу и здоровье?
— У меня еще достаточно сил и здоровья! — прошипел Каес.
— Откликнуться можно и для того, чтобы уничтожить зовущего! — склонил голову Лек. — А что если это голос судьбы?
— У судьбы нет голоса, — медленно обронил Каес. — Собирайся.
— Куда ты отправляешь меня, отец? — вновь заискрился добродушием Лек.
— В Риссус, за бывшую пелену. Гонца прислали колдуны, хотят что-то предложить. Или ты думаешь, что они просто так вывели к Деште только жалкие пять тысяч воинов? Не столь они глупы, чтобы бросить собственное царство под копыта степной коннице в угоду скирскому конгу! Собирайся, Лек. Как соберешься, придешь сюда. Мне нравится говорить с тобой.
Сын поклонился и шагнул к пологу. Тан перевел взгляд на лицо рослого раба-великана, который, как и все телохранители, был лишен языка. Лоб и щеки несчастного, мгновенно покрылись каплями пота. Ужас сковал лицо. Точно так же тана боялись и его сыновья. Все, кроме Лека. Значит, он слышит…. Значит, сумеет противостоять шаману. Выходит, именно младшему сыну сменить его в главном шатре. Сыну наложницы. «Нелегко тебе придется, Лек», — прошептал Каес и закричал в голос. — Свитак!
— Да, всемилостивейший!
— Не забыл? Всю округу переверни, но хорошего лекаря или местного мага найди!
— Так порезали всех магов и лекарей, — пролепетал Свитак. — Сам старший шаман казнями руководил.
— Ищи, Свитак, — утомленно повторил Каес. — Плох тот лекарь или маг, что дает лишить себя жизни. А мне хороший нужен! Понял?
Башни Борской крепости были столь высоки, что, по рассказам самозваных знатоков, если бы при осаде крепости кому-нибудь из защитников вздумалось плеснуть горящей смолы с самого верха, то до осаждающих долетели бы скорее всего еще горячие, но уже твердые комья. Вот только никому и в голову не приходило заняться чем-то подобным, поскольку никто и никогда не пытался овладеть неприступным укреплением, оседлавшим узкое горное плато, по которому проходила единственная дорога из Оветты в Скир. В последние месяцы на этой дороге путников было немного. За два года, прошедшие с тех пор, как сайды покинули Дешту и отступили за крепкую борскую стену, те, кто хотел укрыться в скирских пределах, — уже укрылись. Беженцы со всей Оветты, которые не решились искать спасения в южных горах, не рискнули переправляться через широкую Мангу и идти через непролазные топи в дикие восточные леса, принадлежащие племенам неуступчивым ремини, а также потрепанные отряды воинов покоренных хеннами королевств и последние переселенцы из Дешты и ее окрестностей с повозками со скарбом, на которых порой вместе сидели и знатные горожане и нищие, — почти иссякли. Те, кто не дошел до Скира, либо откочевали в пределы маленького королевства рептов, увеличив население единственного рептского города Ройты в три раза, либо остались жить там, где жили, надеясь, как и сотни поколений их не единожды обиженных хеннами предков, что прокатит мимо неминуемая погибель, а если и зацепит, то не слишком больно. Те же, кто решились встать под руку скирского конга, теперь спешно рубили деревеньки в некогда заповедном лесу близ Скомы, собирали в осень овощи с выжженных по весне полей, отрабатывали приют сайдскому королевству, устраивая засеки на лесных и горных тропах, поднимая и укрепляя стены Скира, Ласса, Омасса, заготавливая камни, дрова, смолу для обороны крепостей. Скир ждал войны. Давно уже ждал, с тех пор, как рассеялась пелена на границах Суррары, и рисские воинства смяли малочисленные отряды бальских воинов и заняли внезапно и странно опустевшие земли баль вплоть до храма Сето. С тех пор, как орды серых вытоптали Гивв, сожгли Крину и Оветь и хлынули на земли Радучи. Даже раньше. С тех пор, как мертвые двинулись к Суйке. Впрочем, что мертвые? Человек ко всему привыкает. Тем более, что, как казалось страже, в Суйке мертвецов не прибывало, потому как ни один из неупокоенных борских укреплений не миновал. Правда, одно время специальные команды орудовали на подступах к башням, цепляли баграми пошатывающихся трупаков и подтаскивали их к огромным кострам, трое стражников и теперь поддерживали огонь на одном из почерневших кострищ, но мертвецы почти пропали. Гнили, наверное, по лесным дорогам, не успев добраться до неприступных башен в отведенный ужасным колдовством срок, или вовсе их не стало. Ничего, война лишь притихла, с лихвой временную недостачу вернет.
Скирский сотник стоял в надвратной башне, не сводя глаз с дороги. Он легко различал среди редких путников торговцев солью и бесшабашных охотников, бортников и крестьян из ближних деревень, торопящихся сбыть урожай за серебро или медь, нищих и немощных, рассчитывающих на пропитание и защиту за высокими стенами, но выглядывал всадников, сторожевых, что должны были заведомо предупредить о приближении врага, или лазутчиков, чья задача была заметить врага еще раньше. Но на дороге, продуваемой неожиданно холодным ветром, тех, кого он ждал — не было. Пока не было. Война нависла над Скиром, как грозовая туча, цвет и тяжесть которой не оставляли сомнений — вся прольется на головы, ни капли не пронесет мимо, но пока еще грядущая беда все откладывалась и откладывалась.
Ярусом ниже в тесной, но уютной, затянутой шкурами и войлоком потайной комнате держал в ладонях чашу разогретого цветочного вина главный маг Скира — Ирунг. Лето подходило к концу, и пусть дули уже холодные ветра, до настоящих холодов еще не дошло, но маг все никак не мог согреться, словно холод пропитал самую сердцевину его костей. Ожидание неминуемой войны затянулось. Сначала отсрочка радовала и его, и нового конга, потом она стала беспокоить, затем уже раздражать, а в последние месяцы так и вовсе выводить из себя. К счастью, Седду было, чем себя занять, войско сайдов выросло за счет остатков разбитых воинств прочих королевств Оветты, и избранный на место прежнего конг Седд Креча усердно пытался возродить в истерзанных солдатах боевой дух. А уж Ирунг… А что Ирунг? Он устал так, как не уставал никогда в жизни. И главной причиной его усталости была не армия серых, замершая за пологими берегами великой Лемеги, а язва на теле Скира — Суйка. Именно туда рвались ожившие мертвецы или, как их стали называть в народе, топтуны, и именно оттуда, о чем пока еще мало кто знал, исходили те беды, что понемногу охватывали земли Скира и грозилась захватить всю Оветту. От Скочи до Борки, от морского берега и до быстрых вод своенравной Даж ни один сайд не мог, выйдя из дома, чувствовать себя в безопасности, если только его не охранял десяток стражников. Из вечерней и ночной мглы появлялись словно сошедшие с ума разбойники и уничтожали людей и домашний скот. Если и удавалось кого из них порубить, то их число прибывало вдвое за счет вчера еще безобидных нищих и благонравных крестьян. Многие сотни конга прочесывали окрестности, но лихие людишки словно возникали из ниоткуда, и Ирунг был уверен, что если бы не колдуны, которые день и ночь жгли ритуальные костры на границах Суйки и раздавали амулеты сайдам, все было бы еще страшнее. Хотя, что может быть страшнее войны, которая казалось столь близкой, что слышались Ирунгу уже и запах горящей смолы, и звон мечей, и удары стенобитных орудий? В настоящей войне колдун плохой помощник воину. Главный маг Скира слишком хорошо понимал, что магия хороша для ворожбы или против своего же брата ворожея, а против вражеского войска она как перо на обратном конце стрелы — точности добавить способна, а силы нет. Может, оно и к лучшему? А вдруг возьмут враги Борку? Скалы вокруг, да пропасти, но нет непроходимых гор. Что тогда? Хенны будут разбираться с суйкской мерзостью?
В дверь постучали, затем она скрипнула и в проеме показалось испуганное лицо старшего стражника.
— Мудрейший! Нищенка какая-то вонючая подошла к воротам. Требует встречи!
— Она сказала слово? — нахмурился маг.
— Сказала, — неуверенно пробормотал стражник.
— Так чего же ты ждешь, дурак? — раздраженно повысил голос маг.
Стражник исчез и через время, достаточное, чтобы скатиться кубарем с лестницы на первый ярус, а затем не бегом, но быстро подняться наверх, дверь скрипнула вновь. Ирунг поморщился. От закутанной в лохмотья фигуры действительно пахло гнилью.
— Ну? Брось маскарад, Мэйла. Что скажешь?
Нищенка выпрямилась и неожиданно оказалась высокой, крепкой и стройной. В лохмотьях мелькнуло немолодое, но очерченное резкими линиями лицо.
— Я нашла ее, Ирунг.
— Мать или дочь?
— Дочь.
— Где?
— За Мангой. В самой гуще сеторских лесов. Но близко подбираться пока не стала, слухами довольствовалась. Спугнуть побоялась. Уж больно тамошние ремини стерегут свои земли. Да и часть ушедших за реку баль осела поблизости.
— Уверена, что она?
— А кто же? Появилась три года назад. Словно ниоткуда вынырнула. Молода. Красоты, по словам рептов, что руду с восточных гор везут, необыкновенной. Но не тем славна стала. Врачует она. Всякого, кто обратится. Я видела шов у одного охотника, которому она руку зашивала. Так врачевать в твоем храме учат, мудрейший.
— Значит, дочь осталась… — задумался Ирунг, хлебнул вина и потер пальцами оплывшую переносицу. — Как же она матушку свою пересилить смогла?
— А кто сказал, что она ее пересилила? А если случай помог? У храма Исс она не одна была. Не устояла бы она против матери. Эх… Надо было сразу ее искать…
— Не ты ли искала? — презрительно усмехнулся маг.
— Те мертвецы, что от алтаря вышли, черными были, как уголь! — скрипнула зубами Мэйла. — Я мужские тела от женского тела едва отличила, куда уж мать от дочери? В снег она зарылась тогда или заклятье ее откатило в сторону, не знаю. В том мареве, что вокруг сгинувшего алтаря поднялось, я бы и рук своих не разглядела! Что теперь делать-то? Я ведь могу подобраться. Я бы и мать ее достала с пятидесяти шагов, а уж девчонку-то… От самострела никакая магия не спасет…
— Нет, — пробормотал Ирунг. — Она мне живая нужна.
— Зачем? — не поняла Мэйла. — Алтарь Исс она сожгла, пелену сдернула с Суррары, что ты еще от нее хочешь, кроме мести?
— Мести? — Ирунг словно очнулся от собственных мыслей, посмотрел на Мэйлу с раздражением. — О мести забудь. И я не о мести думаю теперь, а чтобы сайдов со Скира или хеннской, или суйкской гребенкой не вычесало. И тут Кессаа могла бы помочь. Зеркало с ней пропало. Зеркало Сето. Многое можно было в том зеркале увидеть, понять многое можно. Но даже если и ничего увидеть нельзя, так уж главное давно увидели. Кессаа может Оветту от погибели избавить. Так что, никакой мести. Поговорить мне с ней надо.
— Поговорить? — подняла брови Мэйла. — Это вряд ли. Мало того, что она говорить со мной не станет, убить попытается! Выманить ее из-за Манги надо! Спугнуть или привлечь чем! И проследить. И только тогда уж живой брать. Только вот чем приманить ее, я не знаю.
— Приманить? — задумался Ирунг. — Приманил бы, кабы наживка была. Правда, есть человек, с которым она увидеться захочет. Но хозяин его под другое дело слугу своего заточил…
— А кто хозяин-то? — брякнула Мэйла и тут же прикусила губу, но Ирунг почему-то не разозлился, только холодом улыбку наполнил.
— Тебе ли не знать? Седд Креча. Бывший наниматель твой и нынешний враг. Отец этой девчонки. Ладно, наживка — наживкой, но и без тебя я не обойдусь. Если для разговора ее мне связанной принести нужно будет, спеленаешь и принесешь. Пусть даже для начала и спугнуть ее придется. Только зеркало уж постарайся не упустить. Если оно у нее в руках, конечно….
Правитель Суррары Зах стоял на ступенях алтаря Золотого Храма Риссуса и ощупывал сухими пальцами выемки в священном камне. Старший жрец старательно жмурился внизу, всем видом показывая, что не упустит ни вздоха всесильного. Зах досадливо поморщился. Все-таки этот изворотливый недоумок за все семьдесят лет своей никчемной жизни так и не поверил или не осознал, что именно Зах был свидетелем того, как сам Сурра опустил на алтарь зеркало судьбы и кинжал силы, которые погрузились в камень, словно легли на ком гончарной глины. Зеркало судьбы и теперь мутно чернело неровным осколком, как высохшее пятно крови на уступе скалы. А кинжала не было, потому как проклятый в столетьях отступник не вернул его на место.
Зах провел пальцами по длинному отпечатку, нащупал рельеф, изображающий снежный кристалл на рукояти. Как сохранять спокойствие, если кинжал уже сотни лет служит знаком силы нечестивым сайдам? Ну, ничего, те преграды, которые отделяют Суррару от святыни теперь ничто по сравнению с рассеявшейся пеленой. Маг глубоко вдохнул и провел рукавом по осколку. Зеркало было залито кровью. Почерневшей и окаменевшей за те же столетия кровью Сурры. Может ли хоть что-то сравниться с этими ценностями? Скоро и кинжал силы окажется на своем месте. Вряд ли хенны посчитают его слишком большой платой, если он — Зах, предложит им ключи от неприступной Борской крепости. Кинжал силы и право на одного пленника. Зах не может ошибаться, выматывающий нутро зов идет из Скира. Не тот зов, что заставляет мертвецов брести к северу, а правителей хеннов проливать кровь и громоздить отрезанные головы, а другой. Тот, который приказывает ему выбить священный осколок из камня и нести его туда же, где хранится священный кинжал. Неужели давний враг все еще жив? Наверное жив, если Сурра в тот страшный далекий день, когда его кровь начала заливать зеркало судьбы, так и сказал — или я, или он. А Сурры нет…. Сурры нет, а враг жив. И недостойный, который должен был уничтожить врага, тоже жив. Мерзкий трус!
— Вы что-то сказали? — подобострастно прошипел снизу жрец.
— Готовься, — холодно ответил Зах. — Скоро он придет.
— Кто, — согнулся в почтительном поклоне жрец.
— Варух, — твердо сказал Зах. — Я зову его.
— Вы по-прежнему уверены, что он жив? — позволил себе усомниться жрец. — Прошли тысячи лет! Ведь он не был богом? Зеркало судьбы вросло в камень! Скорее я поверил бы, что живы Сето или Сади!
— Готовься, — повторил Зах. — Я тоже не был богом, но я жив. Варух придет. Он всего лишь служка. Он не сможет мне противиться. Он жив. И не только он….
Часть первая. Марик
Глава первая. Сын Лиди
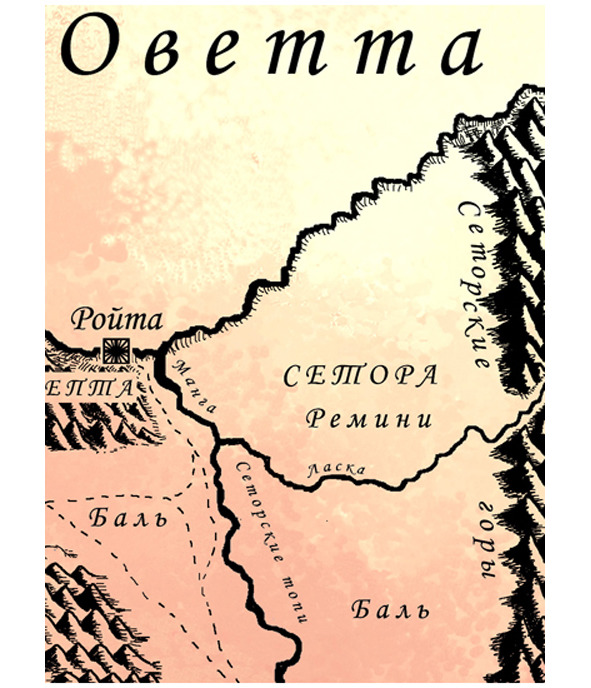
Старый Лируд всегда говорил медленно. Если требовалось что-то сказать, он прищуривался, откашливался, переводил дыхание и произносил нужные слова, нимало не заботясь о том, слушает ли его юный подопечный или нет. Именно так, не изменив голоса ни на тон, однажды он сообщил Марику, что отца у того больше нет. «Как нет»? — воскликнул мальчишка, который только что прибежал к престарелому опекуну, чтобы сообщить удивительнейшую новость — умерший вчера старик Милди неожиданно поднялся во время погребальной церемонии и, не отвечая на оклики оторопевших родных, поплелся куда-то на запад, явно не замечая не только глубокого снега, но и того, что на его лицо напялена похоронная маска, но Лируда странное повеление покойника не заинтересовало. Он повернулся и взглянул Марику в глаза, чего не делал почти никогда, а потом медленно повторил.
— Твоего отца больше нет, парень.
— С чего ты взял? — скривил губы Марик.
— Эмучи сказал мне.
Старик сдвинул рукав на правой реке и Марик увидел проступившее на предплечье имя — «Лиди». Кровяные точки составили его.
Марику тогда едва исполнилось четырнадцать. Он уже привык, что видит отца раз в два или три месяца, что ложится спать и просыпается под одной крышей со слегка придурковатым стариком, которого, впрочем, боится даже деревенский колдун, и который, если верить слухам, когда-то обучал колдовскому мастерству самого Эмучи, но ни на мгновение Марик не допускал и мысли, что отец, бывший без сомнения лучшим воином баль, уйдет за темный полог, не обернувшись и не окликнув единственного сына.
— Ты понял? — спросил Лируд, снова уставившись мутными глазами в заснеженную пустоту.
«То, что старик выбрался из теплой избы и уселся на пороге, не замечая холода, само по себе чудо сравнимое с посмертными чудачествами Милди», — уже потом подумает Марик, но в тот миг его мысли остановились. Он качнулся на затянутой льдом тропинке, поскользнулся, едва не упал и устоял на ногах, лишь ухватившись за промасленный тотемный столб.
— Иди, — разрешил старик. — Поплачь. Твой отец достоин слез горя. Я не знал воина баль лучше чем Лиди из рода Дари. Разве только знаменитый Зиди мог сравниться с ним. Но и Зиди теперь уже нет, и кто теперь помнит о нем? И Эмучи больше нет, а ведь я знал его так же, как и тебя. Иди, парень, поплачь. Воин не должен стыдиться слез. А ты станешь воином, если захочешь.
Марик плакал недолго. Пожалуй, он не плакал ни одного мгновения, слезы намочили его щеки самовольно. Они вытекли из глаз без рыданий и всхлипов, как избыток влаги, припасенный для увлажнения глаз, и исторглись наружу кратчайшим путем, потому как причина удерживать их внутри иссякла, а иных поводов для слез в будущем не предвиделось. Все остальное вовсе могло обойтись без слез. Еще не понимая, что он остался один, Марик вдруг почувствовал холод, который подбирался к нему не из-за заснеженных пространств, а изнутри. Имена Эмучи и Зиди значили многое, но оставались всего лишь именами, а отец, несмотря на редкие встречи, был частью его жизни. Он казался Марику похожим на прочный столб, на котором держится нехитрое походное жилище охотника. Сруби его — и ничто не защитит от дождя, снега, холодного ветра.
Марик пролежал в промерзшей кладовой, устроенной между желтыми стволами вековых сосен, до вечера, потом набил рот моченой болотной ягодой, скривился от невыносимой кислоты, запустил палец в туесок с медом, облизал его, выполз через узкий лаз, спрыгнул на снег и вышел к берегу узкой речушки, чтобы умыться. Морозец сопровождал его шаги скрипом, ветер обжигал лицо, но боли не было. Ее не было даже в сердце, где, как говорил Лируд, она имела свойство скапливаться и откуда никогда не растрачивалась полностью. Место боли занимала холодная пустота. Или именно эта пустота и была болью.
Марик пробил ногой тонкий прибрежный лед, умылся и пригляделся к кажущейся черной в зимних сумерках воде. Речка Мглянка, изгибаясь между заснеженными кустами, убегала на север. Где-то через сотню лиг она впадала в полноводную Ласку, а потом, сплетаясь с ней струями, бежала на запад вплоть до величественной Манги, чтобы вновь повернуть на север, но уже к океану. Именно за Мангой, на исконных бальских землях месяцами пропадал его отец. Там в заповедных лесах почти не осталось поселений. Женщины, дети и старики баль уже давно перебрались в долину Мглянки — в земли, выторгованные по слухам у лесных племен ремини еще самим Эмучи, но воины продолжали охранять последние бальские угодья. От сторожевых башен на севере, которые смотрели на давно уже ставший сайдским храм богини Сето, до сторожевых башен на юге, стерегущих мутную колдовскую пелену и таинственную Суррару, скрывающуюся за ней.
Марик вернулся в избу в темноте. Лируд сидел у завешенной мхом стены неподвижно. На темном столе подрагивал огонек лампы, освещая блюдо с печеными овощами. Марик пригляделся к лицу старика, но так и не понял, спит ли он или высматривает что-то в противоположном углу, поэтому молча подбросил поленьев в остывающее печное нутро и бездумно уставился на огонь.
Еще утром он был сыном лучшего воина баль и вдруг стал круглым сиротой, последним отростком рода Дари. Вот только ушедший в небытие род вряд ли бы стал гордиться собственным последним побегом, потому что мать Марика была безродной сайдкой, и он сам с удлиненным лицом и светлыми, почти рыжими волосами больше походил на сайда, чем на баль. Кроме всего прочего у него не было ни собственного меча, ни кольчужного или хотя бы кожаного доспеха, ни лошади, ничего, что могло бы свидетельствовать о доблести предков Марика и поддержать его самого среди подобных друг другу черноволосых отроков, которые и так косились на сверстника, словно то, что Марик был рожден мертвой женщиной, оставило на нем невыводимую печать.
— Неправда, — раздался глухой голос. — Она не была мертвой.
Марик вздрогнул. Он уже уверился, что Лируд уснул, поэтому скрипучий голос показался ему голосом пробудившегося от многовекового сна лесного духа.
— Она умерла, едва ты родился, хотя смерть спеленала ее в кокон еще до твоего рождения, — сказал Лируд. — Но сердце ее билось. Она сама остановила его, когда посчитала нужным. Не каждый воин способен на такое.
Старик вздохнул и со стуком положил на стол угловатый кулак.
— Это случилось еще за рекой, в нашей старой деревне. Вырвавшийся из-за пелены юррг напал на женщин в поле. Твоя мать была на последнем месяце, стягивала медоносные корни в пучки. Юррг распушил иглы, разорвал пятерых, ранил воина, ей же успел только разодрать руку и бок, когда мужчины все-таки сумели убить зверя. Твой отец нанес ему главный удар. Но даже он не справился бы, если бы юррг не был молодым и слабым. Взрослый зверь обычно уносит с собой не меньше десятка жертв, даже если крепкие воины встречают его. Этот же убил только пятерых и шестой твою мать, Марик. Но не тебя, хотя ты уже давно толкался ножками в ее животе. Она перетянула кровоточащее плечо той же бечевой, которой вязала корни, и крикнула, чтобы позвали меня. Я едва успел. Я пытался вызвать роды, когда яд уже разбежался по ее сосудам. Твоя мать сама начала превращаться в юрргима. Ее мышцы окаменели, но ее дух не был сломлен. Она всегда была упряма; и когда скирские таны разорили оружейную лавочку твоего деда и нищета взяла ее за горло, и когда увидела на дештской ярмарке твоего отца, и когда ответила на его взгляд, и когда решилась пойти с ним в лес, и когда отстаивала среди плохо принявших ее женщин достоинство твоего рода, Марик…. Она была точно такая же, как и ты теперь. Гордая, но веселая. Говорливая, но скрытная. Мне пришлось рассечь ей живот, чтобы достать плод, но она даже не пикнула. А когда услышала твой голос, уверилась, что ты жив, то остановила свое сердце. Она сама убила себя. И ушла непобежденной….
— А как же… — потерянно прошептал Марик.
— Да, — дрогнул подбородок старика. — Ты тоже был отравлен. У меня не оказалось снадобья от яда, некогда было искать нужную траву, время ускользало, словно вода из раскрытой ладони, но ты вылечился сам. Или же твоя мать как-то сумела ослабить яд, бегущий вместе с кровью к ее плоду. Так бывает. Почти так. Я знал случай, когда мать, спасая дитя, убила голыми руками серого волка. Ты выжил. Сначала ты был горячим как седой уголь в едва прогоревшем костре, потом холодным, как вода в роднике. Ты не плакал, а хрипел. В твоих глазах стояла боль, но ты выжил! Ты очень удивил меня, парень, и я остался присматривать за тобой. Правда, ни одна кормилица в деревне не решилась дать тебе грудь, поэтому ты был вскормлен звериным молоком.
Марик судорожно выдохнул. Он выжил, чтобы стать изгоем. Неужели истории рождения было достаточно, чтобы его невзлюбили в деревне? К чему его веселость и говорливость, если никто не хочет веселиться и делиться с ним деревенскими новостями? Почему злобные слова и через четырнадцать лет звучат ему в спину? Или он виноват в том, что бальские старики, женщины и их дети живут на берегах узкой чужой реки, близ огромного болота, а их мужья и отцы продолжают оборонять почти уже брошенные земли? Или вся его вина в том, что он не похож на других и когда-то вкусил звериного молока? С малых лет он слышал презрительное прозвище «сукин сын» — хотя оно и передавалось из уст в уста вполголоса. Лируд говорил ему, что ложь лучше всего не замечать, особенно если она оскверняет уста глупца. Но Марик слышал и другие слова. Слышал и не единожды, забыв увещевания опекуна, бросался в драку с двумя, тремя, четырьмя и большим количеством обидчиков и никогда не давал воли слезам, даже когда его избивали в кровь. Впрочем, последнее случалось все реже и реже. Ему уже позволяли смеяться и болтать, когда он сам этого хотел, но теперь его не любили еще и по причине страха, который он вызывал. За глаза его звали придурковатым болтуном. И сумасшедшим выродком. И приемышем полумертвого старика Лируда. И колдовским выкормышем. И твердолобым пнем. И упрямым зверьком, потому что, не будучи первым в детских играх, он все чаще становился первым в играх юношеских. Именно из-за порой необузданного упрямства и удивительной терпимости к боли. Или его ненавидели именно за это? Именно потому, что другие давали слабину тогда, когда их юный соперник только крепче стискивал зубы? Что ж, он и вправду не уступил бы теперь и взрослому воину, но ради чего он старался? Его никогда не признают ровней. До тех пор, пока был жив отец, Марик находился в уверенности, что рано или поздно тот приведет его на священный холм и вручит ему меч воина, и он станет равным среди равных, потому что воины равны между собой. И что же теперь? Тут уж смейся — не смейся….
— Четыре года, — проговорил колдун после долгой паузы. — Четыре года или чуть больше я еще продержусь, парень. Тебе не будет легко, но теперь всем будет трудно. Я не видел, но знаю. Я не получал вестей, но уверен в том, что тебе скажу. Колдовская пелена пала. Суррара выхлестнула из границ, определенных для нее богами. Зло, которое скопилось за пеленой, пытается затопить всю Оветту. И все-таки не зря было потрачено золото Храма Исс. Надеюсь, что хотя бы до моей смерти непроходимые болота Манги укроют остаток лесного народа. А через четыре года ты станешь воином. Я тебе обещаю. Только и ты продержись. Это не просто, но тебе по силам. Всегда поступай только так, как поступил бы и твой отец, и все получится. Главное — понимать, чего ты хочешь добиться. Ведь ты хочешь стать воином, парень?
Марик продержался. Продержался, хотя последующие четыре года обратились бесконечной чередой тяжелых дней, состоящих из повседневных забот, изнурительного труда на отнятых у леса крохотных полях, опасной охоты, которой в обычные времена занимались только взрослые мужчины, дозоров на тайных тропах в непроходимых чащах на краю бескрайних болот и тяжелых упражнений с оружием, на которых настаивал однорукий староста деревни — седой воин Багди. Вряд ли он мог сделать из осиротевших юнцов настоящих воинов, а отцов потеряли или все еще не дождались больше половины семей деревни, староста хотел дать им возможность выжить. Хотел, чтобы их будущее зависело только от их доблести, а не от недостатка воинского умения.
А будущее казалось зловещим. Сначала деревню обдало ужасом от немыслимого колдовства, когда вслед за Милди и прочие старики и старухи, умирая, стали подниматься на ноги и уходить к западу. Их попытались связывать и сжигать на кострах, но судороги мертвых тел показались деревне еще более ужасными, чем шествие мертвецов к Манге, староста обреченно махнул единственной рукой и, посоветовавшись с колдуном, приказал не удерживать мертвых, тем более что вряд ли кому из неупокоенных удалось бы пересечь трясину. Затем из-за реки вернулись несколько израненных воинов и рассказали о нападении сайдов и разорении ими Храма Исс. Именно там погиб отец Марика, приняв, как рассказали выжившие разведчики, вместе с другими воинами в смертной схватке кровь юррга, ту самую, каплями которой при рождении был отравлен и Марик. Вскоре до деревни дошли известия об исчезновении южной пелены и захвате риссами и ведущими их колдунами Суррары и бальского леса, и земель сайдов и корептов от гор на юге до гор на севере и от полноводной Манги на востоке до столь же полноводной Лемеги на западе. Разочарование и боль утраты истерзанной врагами родины, захлестнули многих. Староста даже посылал гонцов в соседние деревни, кричал о том, что вот-вот уцелевшие баль соберут военный совет, изберут правителя, которого не было со времен потери столетия назад древней Дешты, и который станет полновластным князем всех баль и поведет их на войну за освобождение исконных земель, но вскоре пришли новые известия и все досужие разговоры прекратились сами собой. Сначала в деревне появились уцелевшие защитники южных сторожевых башен, которые, впрочем, вскоре отправились дальше на восток к Сеторским горам, где по слухам совет старейшин собирал бальское войско. Некоторые даже начали поговаривать, что и ремини готовы влиться в ряды лесной армии, которая, впрочем, так и не появилась. Затем с запада потянулись пробившиеся через необузданные пороги Ласки редкие беженцы-чужеземцы и до деревни докатились слухи об ордах серых, захватывающих одно за другим королевства Оветты и движущихся к берегам Лемеги. Старики принялись обсуждать возможность того, что серые степняки хенны, северяне сайды и южные риссы из Суррары истребят друг друга, и некоторые из юнцов даже начали поднимать голос, что нечего ждать совершеннолетия, они и так достойны стать воинами, чтобы вернуть баль исконные земли, но потом вдруг все успокоились. Нет, редкие покойники продолжали уходить к западу, вот только иссякли беженцы, да и новостей с равнины стало приходить все меньше. Истерзанная, но еще живая Оветта притихла. Сайды ушли на север и затаились за борскими укреплениями. Хенны встали за Лемегой и против тревожных ожиданий почему-то не торопились переправляться на восточную равнину. Беженцы, что не добрались до Скира, по слухам осели в Деште и столице рептов Ройте. А вышедшие из-за пелены риссы, с которыми баль воевали столетия за столетиями, стали действовать спокойно и расчетливо. Малыми силами они захватили земли баль, сайдов и корептов, но вели себя на этих землях как облеченные, но не утружденные властью гости. Израненная плоть обитаемого мира замерла в надежде перевести дыхание, и укрытая посередине реминьской земли в скудных мглянских лесах деревня тоже постепенно успокоилась и плавно погрузилась в трудности обыденной крестьянской жизни.
В этом успокоении даже и на Марика стали обращать меньше внимания, потому как несколько воинов-дучь из числа беженцев осели в деревне, сошлись с овдовевшими бальками и на их фоне и белизна кожи и цвет волос «звереныша» перестали бросаться в глаза. Да и усердный труд последнего из рода Дари если и не принес ему всеобщего уважения, так уж примирил с его болтовней и беспричинной веселостью многих. А когда в очередную зиму Марик одного за другим взял трех медведей, повышать голос на него перестал даже однорукий Багди. Староста окончательно погрузнел, приобрел синевато-лиловый нос и уменьшил количество дозоров. Со временем он перестал устраивать на деревенской поляне ежедневные бои между вооруженными деревянными мечами и шестами юнцами и даже понемногу начал обсуждать со стариками возможность первого посвящения в воины с упрощением древнего обряда, но Марик не прислушивался к разговорам. Где бы ни проводился обряд; в оскверненном врагами храме или на лесной поляне, на убранном к зиме поле или в глухой чаще — у него не только не было меча, которым отец должен был срезать прядь собственных волос, чтобы поручиться за нового воина, у него не было и самого отца, и матери, которая могла бы, в крайнем случае, заменить отца, бросив в огонь прядь со своей головы. А уж Лируд, если бы и дошел до костра, ничего бы не сумел срезать с покрытой старческими пятнами лысины. У Марика не было ничего, кроме упрямства и жажды к жизни. Упрямство он испытывал на вытоптанной поляне, когда до изнеможения повторял приемы владения мечом и копьем, тянул тетиву лука, лазил по деревьям, сходился в схватках с ровесниками на поясах или на кулаках, днями уговаривал седых ветеранов или пришельцев из Радучи поделиться не до конца растворенным в старости и немощи воинским умением и смеялся над собственными неудачами. Жажда жизни обращалась любопытством, которое утолял Лируд.
Каждый вечер, пока Марик, морщась от усталости и многочисленных синяков, растапливал печь и готовил нехитрую еду, Лируд говорил. Он рассказывал предания баль, корептов и других народов, порой нес, на взгляд парня, полнейшую чушь, затем вдруг начинал перечислять рода баль или Скира или описывать битвы не просто прошедших веков, а забытых тысячелетий. Рассказы о богах и духах сменялись подробными описаниями свойств трав и камней. Порой разговор плавно перетекал в составление лекарственных снадобий. Марик двигал лавку, тянулся к подвешенным на стропилах пучкам сухой травы, кипятил воду, дробил в каменной ступке нужные зерна, орехи, а то и минералы, затем смешивал, процеживал, снова кипятил, выпаривал, сушил и повторял все то же самое снова и снова. Частенько Лируд заставлял Марика раздеться и начинал выкалывать шипом иччи на теле парня какие-то узоры, которые исчезали, едва заживали шрамы. Марик привычно терпел боль, помня слова старика, что невидимые татуировки должны будут уберечь его от колдовства, болезней и прочих пакостей, но затем Лируд доставал из корзины ветхие свитки и понуждал Марика читать непривычные сайдские слова, а затем повторял уже рассказанные истории по-сайдски и требовал пересказа, безжалостно поправляя произношение трудных мест.
— Зачем мне все это? — раздраженно спросил Марик, когда ему исполнилось семнадцать. — У меня все уже перемешалось в голове. Я не помню и четверти рассказанного. Да разве воину это все нужно? Или ты хочешь сделать из меня колдуна?
— Нет, — разомкнул губы Лируд, когда Марик вовсе отчаялся уже дождаться ответа. — Колдуна я из тебя сделать не смогу. Для этого нужен особый дар. У тебя такого дара нет. Ты, сможешь, конечно, перещеголять нашего деревенского умельца, чутье у тебя есть, такое, что даже я удивляюсь, но тебе это не нужно. Я хочу, чтобы ты выжил. Ты не резв от природы, не чрезмерно высок ростом, не очень-то прозорлив и хитер, у тебя нет тонкости и силы знахаря или чародея, но ты крепкий корешок, о который споткнется еще не один враг. Не зря же судьба уберегла тебя от неминуемой смерти? Разве закаливает кузнец обычный гвоздь той закалкой, которую требует лучший меч? Я думаю над этим…. В тебе есть что-то важнее быстроты, силы, хитрости и чародейской начинки. Я это почувствовал еще тогда, когда подкладывал тебя к животу собственной собаки и с тревогой ощупывал твои ручки и ножки. Уж не знаю, сколько любви и удачи успела передать тебе мать, пока носила тебя в животе, но ни того, ни другого все равно не хватило бы, чтобы удержаться на краю пропасти и не стать юрргимом. Тебе это как-то удалось.
— Это просто, — неожиданно буркнул Марик. — Насколько я понял, мать тоже не стала юрргимкой? Ведь ее мышцы окаменели под действием яда юррга, но она не потеряла разум, не набросилась ни на кого, не убила?
— Она убила себя, едва услышала твой голос, — кивнул Лируд. — А ведь воины, включая твоего отца, уже стояли над ней с копьями, чтобы защитить деревню от колдовского безумства. Хотя, когда она сама попросила о смерти, отец твой не смог нанести удар. Да и другим не дал этого сделать…. Но она справилась…. Ведь и за тобой приглядывали еще полгода, пока ты не соизволил встать на слабые ножки.
— Почему ты возишься со мной? — скривил губы Марик в усталой усмешке. — Я не твоего рода. Для деревни я чужак. Мало того, что моя мать безродная сайдка, которую отец подобрал где-то у стен Дешты только потому, как кричали мне наши старухи, что она отказалась продавать себя, даже не имея для продажи ничего другого. Моего отца боялись, но не любили, слишком многих он победил на турнирах, что проводились когда-то на священном холме, он был жестоким вожаком, не щадил воинов.
— Кто тебе рассказывал об отце? — нахмурился Лируд.
— Багди, — пожал плечами Марик.
— Твой отец спас его, — нахмурил брови старик. — Багди до сих пор сомневается, что меч твоего отца не зря отрубил ему руку. Ведь это и его тогда цапнул юррг. В один день с твоей матерью. Багди думает, что отец отомстил ему за то, что он проглядел юррга. Твой отец очень любил твою мать, но не потому, что она отказалась себя продавать, пусть и не продавала себя никогда, не верь грязным языкам деревенских старух. И не потому, что она пошла в лес. И не потому, что смогла жить в лесу, хотя все ее предки, которых она помнила, пусть и не могли похвастаться знатностью, но жили в городе и занимались тем или иным ремеслом. Твой отец ее просто любил, а раздраженные бальки… Понимаешь, каждая из них хотела бы оказаться на ее месте…
— Что же это такое — любовь? — спросил Марик.
— Подожди, — первый раз на памяти Марика улыбнулся Лируд. — Разве можно объяснить, что такое Аилле, слепому? Подожди, когда твои глаза откроются. А слова Багди… Хороший человек — не всегда умный человек, Марик. Воинов не щадят. Щадят пленных, женщин, стариков, детей. А воинов берегут.
— Почему ты возишься со мной? — вспомнил и повторил вопрос Марик.
— Это ты возишься со мной, — не согласился Лируд. — А я делаю то, что должен. И стараюсь делать это хорошо. И отец твой поступал точно так же, поэтому и навещал тебя редко, и ты должен поступать точно так же. Делай то, что должен. И делай хорошо.
— Но что я должен? — в отчаянии воскликнул Марик.
— А вот это самое сложное, — вздохнул Лируд. — Некоторые до смерти так и не смогли этого понять. Поэтому доставай-ка свиток с текстом о свойствах камней, да и не слишком сетуй на память, уверяю тебя, те зернышки, что я разбрасываю, обязательно всходят. Да поторопись, год еще остался, не больше. И снимай порты. Надо покрыть татуировкой еще и ноги, чтобы они не подводили тебя.
Год прошел, как один день пролетел. Весна накатила стремительнее, чем обычно. Аилле едва растопил снег, а на взгорках уже поднялась трава, да и деревья поторопились одеться в светло-зеленую дымку клейкой листвы. В чащах засвистели птицы, а на перекатах речушки засверкала чешуей нерестящаяся рыба. Багди, наконец, уговорился со старейшинами и колдуном насчет обряда, приказал обновить краску на тотемных столбах, и точно в полдень колдун собственноручно запалил заранее сложенный костер. Вся деревня собралась посмотреть на обряд, и стар и млад окружили поляну плотным кольцом. Даже дети замерли неподвижно, младенцы притихли на руках. Четыре года не было посвящений в деревне, с той самой зимы, как сайды осквернили священный храм, оттого и выстроились теперь у столбов четыре десятка молодых баль, готовых стать воинами. За спиной каждого стоял или отец, или дед, или мать. В руках старших тускло сверкали мечи. Только за спиной Марика никого не было. Да и сам он, стоял в стороне; ни среди толпы, ни среди ровесников, одетый в обычную куртку и холщевые порты, а не в кожаные штаны и праздничную рубаху до колен. Кое-кто из его недавних соперников косился на него с торжеством, но Марик не замечал ничего. Он стер с лица свою обычную улыбку и просто смотрел на огонь.
Деревенский колдун затянул весеннюю песню, закружился, обрызгал медовым настоем толпу, а потом побежал вдоль столбов и посвящаемых с широкой кистью, касаясь попеременно то резных деревянных, то румяных живых ликов, оставляя капли хмельного напитка на скулах. Сомкнувшись в кольцо за молодыми теперь уже почти воинами, вслед за колдуном медленно двинулись зрители, подхватывая горловым гудением размеренный ритм бега. Выпятил живот и расправил грудь староста, готовясь высыпать в огонь перебитую с солью хвою из заповедного, оставленного баль за Мангой леса. Понеслось гудение к небу, забилось в ушах ритмом, но не прибило к земле, а словно приподняло над ней. Каждое слово из тех, что выкрикивал колдун, Марик знал наизусть. Сотни раз шептал их про себя, но лишь теперь ему показалось, что Единый, которого поминали баль перед каждым делом, пусть даже походом за водой к реке, слышит его. Не может он не слышать, или не говорил Лируд, что, как не оставляет детей своих мать Оветта, из которой родится все — и деревья, и трава, и зверь, и человек, и горы, даже моря вытекают из Оветты плотью широких рек, так не оставляет их Единый, который не только несется над головой с ветром, не только сверкает в искрах небесного и земного огня, но и составляет существо каждого, кто видит и слышит? Слышит и отвечает. Ни словом, ни жестом, а судьбой каждого, кто жаждет отзвука.
— Умм! — зарычал в небо колдун. Замер в полуобморочном состоянии круг. Староста шагнул вперед и высыпал в костер приготовленную смесь. И одновременно с ним шагнули из-за спины молодых воинов их старшие, срезали по пряди волос и бросили их во взметнувшееся пламя, воткнув перед каждым претендентом в землю меч.
— Умм! — снова закричал колдун. Прокашлялся Багди, готовясь гаркнуть что-нибудь торжественное и утереть единственной рукой стариковскую слезу, но вместо этого выпучил глаза и ухватил самого себя за толстую губу. Замер и колдун, с трудом удержавшись, чтобы не упасть. Круг жителей деревни разорвался и в освещенном вечерними лучами Аилле прогалке встал Лируд, старый и ветхий, как высохший можжевельник, с которого вот-вот осыплются иглы. Ветхой казалось его одежда, просвечиваемая лучами насквозь, ветхой казалось его борода, потому как ветер колыхал ее, словно она была слеплена из древесного пуха, ветхим был он сам, потому что выглядел мертвее мертвого. Выглядел мертвым, но пока еще был живым.
Поймав изумленный взгляд старосты, Лируд удовлетворенно кивнул и на дрожащих ногах двинулся к Марику. Тишина нависла над поляной. Только костер потрескивал за спиной старика, когда он остановился перед подопечным и вытянул из-за пояса кожаный кисет. В тишине Лируд распустил шнур и вытащил из кисета прямой и темный локон. Поднял его над головой.
— Баль! — голос Лируда был глухим и слабым, но Марик был уверен, что каждое слово ловится ушами зрителей, как сверкающая песчинка в долбленке пальцами мойщика золота. — Баль. Это локон с головы Лиди, лучшего воина нашей деревни, отца вот этого парня. Когда он уходил последний раз, то попросил меня об одолжении. Лиди попросил меня, чтобы я представил Единому будущего воина — Марика из рода Дари.
— У него нет меча! — выкрикнул староста.
— Он добудет себе меч, — сказал Лируд.
— Только воин может добыть себе меч, тот, кто только собирается стать воином, должен получить оружие при посвящении! — не унимался староста. — Меч должен быть подарен старшим рода или выкован заново! А кузнеца у нас в деревне нет. А в соседней деревне кузнец не возьмется, а…
— Замолчи, Багди, — поморщился Лируд и староста вдруг испуганно замычал, пытаясь расковырнуть сомкнувшиеся губы толстыми пальцами. — Хотя бы до завтрашнего утра избавь достойных жителей нашей деревни от глупых слов. Или ты не знаешь, что даже десятилетним мальчишкам не требовалось посвящение в воины, чтобы стать ими, когда на деревни баль накатывались сайды или риссы? А много ли посвященных воинов было среди тех бальских женщин, что обороняли сторожевые башни баль в прошлые годы? Ты–то хоть объясни это нашему умнику! — раздраженно обернулся Лируд к оторопевшему колдуну. — Ладно.
Старик махнул дрогнувшей рукой и бросил прядь волос Лиди в огонь. Не заметил Марик колдовства. Ни губы у старика не шевельнулись, ни пальцы не щелкнули, а только пламя на мгновение взметнулось едва ли не выше окружающих поляну сосен. Судорожным вздохом ответила толпа жителей деревни. Заерзали с ноги на ногу молодые воины.
— У меня нет меча, парень, — сказал Лируд. — Но реминьский кузнец Уска из рода Барида сделает для тебя меч. Должен он мне. Не денег, но дело должен. Скажи, что я попросил. Найдешь его в четырех дня пути от впадения Мглянки в Ласку. Вверх по течению пойдешь. За желтым утесом он живет, поднимешься на него и крикнешь.
— Мне… — Марик судорожно сглотнул. — Мне нечем заплатить.
— Есть чем, — улыбнулся Лируд и Марик вдруг почувствовал, что старик умирает. Остаток жизни, растянутый мудрецом на последние четыре года, истончился до толщины волоса. — Отработаешь. Уска не берет работников, скажешь, что обет возьмешь на себя, дело, которое он назначит. А если упрется кузнец, попроси Анхеля слово замолвить.
— Кто это, Анхель? — не понял Марик.
— Тот, кто может уговорить Уску, — с трудом выговорил Лируд, почти закатывая глаза и кусая губы. — Он тоже мне должен….
— Когда мне идти? — прошептал Марик.
— Теперь и иди, — ответил старик и умер.
Глаза его закатились, под оханье женщин и крики детей кровь побежала из ноздрей и уголков рта, но Лируд удержался на ногах и, качнувшись, двинулся к костру уже знакомым многим, внушающим ужас шагом. Сотни глоток выдохнули одновременно, раздался плач, но уже через мгновение толпа повалила прочь. Никогда еще живой человек не превращался в движущегося мертвеца на глазах целой деревни, не валясь с ног. Никогда еще мертвец сам не всходил на погребальный костер.
«Он оказался сильнее даже этого колдовства»! — подумал Марик, оглянулся на замерших у тусклых клинков растерянных ровесников и побежал к избе, чтобы собраться в далекий путь. Не ощутил он радости от обряда, только ветер почувствовал. Ветер перемен.
Глава вторая. Речной дух
— Ну и как, рыбачок? — ровно через две недели словно ударом хлыста обжег голос. — Все разглядел?
Марик вздрогнул, обернулся, чувствуя, как краска заливает щеки и сердце выпрыгивает из груди, но тут же замер вновь, как стоял, окаменев, долгие мгновения, когда, высматривая под кустами рыбу, увидел на мелководье танцующий речной дух. Именно дух, вряд ли кто-нибудь смог бы разубедить баль в пришедшей на ум догадке, хотя никогда Марик не встречал ни только духа или иной колдовской твари, но даже и магии никакой не видел, исключая легкий дождичек, на который у деревенского колдуна пота уходила вдвое от влажного прибытка с неба. Дух, кто же еще, ведь не может человек летать над водой, едва касаясь ее пальцами ног, не может изгибаться в неминуемом падении, но не падать, не может так двигаться, что движения сливаются в неразличимые вихри. Тут и деревенский староста речи бы лишился и вовсе не по предсмертному велению мудреца Лируда. А уж если бы враг подобрался в такое мгновение, тут бы и закончился поход будущего воина за полагающимся ему мечом.
Вот только не походил незнакомец на врага. Хотя, кто может угадать врага или друга в незнакомце? Мгновением раньше за спиной, а теперь уже перед лицом Марика стоял воин ремини и презрительно улыбался. Настоящий ремини — ростом ниже среднего, с темными с зеленой искрой длинными волосами, черными большими глазами, в темно-зеленых рубахе и портах. Воин, а не охотник, пусть даже румяный, невысокий и полный, почти толстый, потому что, кроме лука в руках, на поясе у него висел то ли короткий меч, то ли тесак в кожаных ножнах, а копья или дротика не было вовсе. Кто же охотится с мечом? Без копья в лес вовсе соваться не следует, и ту добычу, что с луком добудешь, от крупного зверя не убережешь. Другое дело, что добыча разной бывает. Не самому ли Марику пришла пора в учет пойти? И хоть вполсилы натянутая тетива тугого реминьского лука насмешливо подрагивала и стрела смотрела в воду, но твердый взгляд толстяка ясно давал понять — явный недостаток удачи случился у его встречного. Как он сумел подойти так близко? Ни один зверь не мог подобраться неслышно к Марику!
— Такушки-такушки, — нараспев продолжил воин, неуловимо коверкая бальские слова. — Судя по перьям и меховым лоскуткам, украшающим одежду, ты, дорогой мой, с юга, хотя личина и стать у тебя сайдские. Старшим в доме стал четыре года назад, значит, потерял отца, успел взять трех медведей, чему я никогда не поверю, а так же пяток волков, в чем позволь мне также усомниться, и другого зверя без счета, но все еще не воин, хотя лет тебе уже полторы дюжины. Впрочем, ты ведь не убил ни единого врага? Или у баль в воины посвящают без испытаний? Да-да. Припоминаю. Танцы вокруг костра…. Значит, еще и не муж? Детей, выходит, тоже нет? И плоти девичьей отведать тоже не успел? Или как? По хвосту белки, который ты прицепил над правой ключицей, надо думать, что нет. Голову сломаешь, пока все эти бальские мозаики выучишь. Лучше бы ты, парень, грамоте обучился, чем столь никчемному ремеслу. Лоскутки к курткам, если блажь такая мужчине в затылок вдарит, должны женщины пришивать. Пришивать, да колдуна деревенского кликать, дабы мужа от недоумства излечить. Хотя, ведь нет у тебя никого? И колдуна позвать некому? Нет, все-таки не понимаю я, зачем каждому встречному являть собственную подноготную? Можно было бы еще и имя выкрикивать на ходу. Или у тебя язык к нёбу присох? Ну, что делать с тобой, блуждало чужеземное? Получается, сразу скажу, постыдная история. Ведь ты — сын погибшего воина, сам почти воин, но, тем не менее, позволяешь себе подглядывать за купающейся женщиной. Или куртка на тебе чужая, лоскутки все эти и шкурки не твои и ты не почти воин, а малец — хоть и горячий, но неразумный?
Марик, чувствуя, что на лбу выступили капли пота, судорожно дернул подбородком, оглянулся. Словесные кружева, что неторопливо и с наслаждением выписывал толстячок, сплелись в его голове в неразличимый узор, отчего в висках застучала недостойная бальского воина злость. Между тем утренний Аилле уже начал разгонять тени среди кустов, далекие Сеторские горы окрасились розовым, мель блеснула рябью ярких лучей, но от речного духа уж и всплеска не осталось. Сгинул он, исчез, растаял, как колдовской морок. Или его этот розовощекий спугнул? Как он смеет насмехаться над незнакомым человеком? Эх, не заберись Марик за последние две недели так далеко на чужие земли, не вытерпел бы, наказал за насмешку, тем более что как бы ни был тих и удачлив этот упитанный ремини, не может он оказаться быстрее сына Лиди! Не стоит ли отнять лук, да тетиву на нос ему намотать? А вдруг он из нужной деревни? По всему выходит, что недалеко уже до реминьского поселка осталось. Не нужный ли утес возвышается в отдалении над заросшим кустами берегом? Или поостеречься? Обидишь местного — все тогда кувырком полетит!
— Потерял что-нибудь или представление не понравилось? — ехидно осведомился ремини.
— Я смотрел на речного духа! — напряг скулы Марик. — Женщины не танцуют в воде. Они купаются. Женщины вообще не танцуют… так.
— Разбираешься? — отпустил стрелу ремини, чтобы почесать нос.
— В чем? — презрительно усмехнулся Марик, тут же передумав наказывать глупого и неосторожного лучника.
— В женских танцах! — снова ухватил стрелу ремини. — Часто ли женщины для тебя танцевали, что ты так уверен в их неумении? Наверное, только в сладких снах?
— Да я… — положил ладонь на поясной нож Марик.
— Вижу-вижу! — сделал шаг назад воин. — Ну, точно. Хвост белки. Полоски волчьей шкуры на плечах. Взрослый парень,… судя по куртке. Ладно. Речной, как ты говоришь, дух, хм, рассеялся, так что давай, выкладывай, что забыл на землях ремини? Баль не должны пересекать реку Ласку. Ваши земли южнее, наши севернее.
— Река общая? — гордо выпрямился Марик.
— Общая, — с интересом кивнул воин.
— Тогда, что пристал? — Марик раздраженно отбросил выдавший его хвост белки на плечо. — Я еще не ступил на ваш берег.
— Ну, так ступишь ведь? — расплылся в улыбке ремини. — Или обратно поплывешь? Сапоги-то, зачем тогда к поясу подвязал? Оставил бы их на том берегу! И мешок тоже! Слушай, а может быть, ты сам речной дух?
— Нет, — отрезал Марик, с досадой оглядываясь. Мель заканчивалась уже на трети реки, а дальше, вплоть до южного берега, не меньше чем на сотню локтей шумел плес. До переката, по которому он перебрался на этот берег, возвращаться придется пол-лиги вниз по течению. Да и не хотелось обратно топать, рядом была нужная деревня, рядом!
— Что молчишь, отрок-переросток? — ухмыльнулся ремини. — Только, если думаешь, что можешь отнять лук и хорошенько меня поколотить, лучше не пытайся. Не успеешь.
Сказав эти слова, толстячок мгновенно отправил стрелу в струящиеся между босых ног баль речные волны. Марик хмуро бросил взгляд на тут же появившуюся на клееном изгибе новую стрелу и подхватил подрагивающее над водой оперенное цевье. Отраженным лучом Аилле блеснула пронзенная серебристая рыбина.
— Пошли, — беззаботно развернулся к берегу ремини. — Перекусить нам с тобой хватит. А то проголодался я, пока за твоей рыбалкой наблюдал. Не рыбак ты, парень, не рыбак. Пошли, не бойся, я тебя приглашаю на наш берег. Ты ведь к кузнецу Уске рода Барида идешь?
— А об этом как ты узнал? — удивился Марик, ступая в прибрежный ил. — Тоже по куртке?
— Сообразил! — хихикнул ремини, раздвигая кусты и выбираясь на берег. — Ну, ведь не за невестой же ты к ремини пожаловал? Мы наших девчонок пришлым не отдаем. Нет, куртка твоя, парень, тут мне не помогала. Дело в другом. Сколько себя помню, баль приходили к ремини только по одному поводу — за оружием. Особенно в прошлые времена молодые баль частенько по течению Ласки поднимались. Правда, с отцами. И то понятно, никто лучше нас с железом не управляется!
— Так уж и никто? — скривился Марик.
— Точно тебе говорю! — невозмутимо кивнул ремини и продолжил. — Теперь ходоков за мечами стало меньше. Или отцы повывелись, или оружия много освободилось. Или и то, и другое. Ты первый за последний год. Меча у тебя нет. Так? Так. А баль, вставший на путь воина, но не имеющий меча, это непорядок. Ваши-то кузнецы, я слышал, почти все за Мангой полегли? Беда беду за собой тащит. Меня Насьта зовут. Я, кстати, сын кузнеца. Лучшего кузнеца ремини, заметь! Я уже говорил, голубоглазый, что ни один иноземный меч не сравнится с мечами, что способны выковать реминьские кузнецы? Говорил или нет?
«Вот демон! — выругался про себя Марик. — Хорошо, что не попытался наказать наглеца. Хотя, накажешь его, как же. Ловко с луком управляется!»
— Только вот что скажу тебе еще, невезунчик, не примет отец у тебя заказ. Четыре года уж, как ни одного заказа не принял. Правило такое. Ремини не воюют. Никогда. И как война где по соседству начинается, оружие для чужих не делается. Нам на себя чужую обиду тянуть — интереса нет. Никто еще не пытался ремини завоевать, так зачем злить чужих богов? А сейчас большая война будет, хенны ведь могут и через Мангу перейти. Особенно, если Борские башни сковырнуть не удастся! Впрочем, что я тебе рассказываю…
— Как же вы раньше мечи ковали? — зло прищурился Марик. — Война с сайдами у баль то и дело и раньше вспыхивала, а с риссами из Суррары так вовсе не прекращалась! Те войны, выходит, не мешали вам оружием торговать?
— Разве то были войны? — отмахнулся ремини и присел на траву, чтобы натянуть сапоги. — Ни сайды, ни риссы на этот берег не собирались, а хенны могут и перемахнуть через речку-то! Да и чего от риссов теперь ждать, только Единому известно. Хорошему колдуну сказать, когда меч выкован, все равно, что до ветру сходить, тем более что каждый кузнец знак на меч ставит. Тебе какой меч-то нужен?
— Настоящий, — упрямо дернул подбородком Марик. — Бальский! Но именно такой, которого ни баль, на сайды, ни дучь сотворить не могут! Чтобы панцири сайдские рубил!
— И камни, — с умным видом кивнул Насьта. — И гвозди в пучках. А также, чтобы ямы копал и смолу на смолокурнях размешивал. По вечерам отправлялся прогуляться во вражеские крепости, а по утру с докладом и добычей к владельцу возвращался. Как зовут-то?
— Марик, сын Лиди из рода Дари, — скупо обронил баль, отвязывая с пояса обувь.
— Подожди, — нахмурился Насьта. — Так ведь делал когда-то отец меч для Лиди из рода Дари! Я-то, конечно, тогда еще вовсе не родился, но все отцовские мечи по заказчикам наперечет знаю!
— Отец погиб при разорении сайдами Храма Исс! — гордо произнес Марик.
— Понятно, — уважительно кивнул Насьта и подхватил все еще трепещущуюся добычу. — А как баль рыбу едят? Сырьем или готовят на огне?
— А ремини как? — прищурился Марик.
— А сейчас увидишь! — усмехнулся Насьта и погрозил баль коротким пальцем. — И попробуешь! Ну-ка, устрой-ка костерок!
Костер запылал быстрее, чем ремини приволок с берега плоский речной камень. Однако и толстяк оказался шустрым, тут же выпотрошил рыбу, выдрал ей жабры и, засунув внутрь пучок колючей травы, на этом же камне и испек. У Марика еще порты от колен высохнуть не успели, когда он с опаской принял из рук Насьты глянцевый лист речного холщевика со своей частью завтрака, но уже через мгновения баль тщательно обсасывал тонкие кости. Утренний голод не растворился полностью, но надежно притаился до обеда в отдалении, и даже новый курносый знакомец перестал казаться Марику вздорным шутником. Баль вытащил из мешка мех с медом, глотнул сладкого напитка и бросил мех ремини.
— Отчего не боишься меня? — спросил Марик, вытирая пальцы об траву. — Отчего есть со мной сел?
— Это просто, — махнул рукой Насьта и, чмокнув губами, скривил уморительную рожу. — Отец мой тебе бы лучше объяснил, но и я попробую. Пойми, парень, когда человек ест, он не врет. Понял?
— Нет, — насторожился Марик.
— Поймешь, — хихикнул Насьта, поднимаясь. — Хочешь узнать врага, пригляди за ним, когда он не врет. Когда ест, спит, когда любит женщину. Все о нем поймешь. Но ты не дуйся, это ведь и друзей касается. Хотя, насчет женщины в твоем случае я погорячился. Ну, ладно, ладно! — замахал руками ремини в сторону вспыхнувшего Марика. — Речной дух, значит речной дух. Не злись! Нам, сотрапезник мой, дружить придется. Ты же за меч кузнецу отрабатывать собирался? Конечно, если у тебя кошелек не набит золотом!
— А если набит? — нахмурился Марик.
— Золотом? — расплылся в улыбке Насьта.
— А хоть бы и так! — обозлился Марик.
— А ну-ка достань, — сорвал ремини с баль суконную шапку и забросил ее на куст.
— Смеешься? — разъярился Марик, упершись злыми глазами в подбоченившегося толстяка, но тут же вспомнил о том, что тот сын кузнеца и, едва не выбранившись, одним прыжком снял шапку с ветки.
— Ну вот, — еще шире улыбнулся Насьта и перечислил. — Не звякнуло ничего! Ни золота, ни серебра, ни меди, если только не спрятана где-нибудь одна монетка под стелькой сапога или в поясе. В мешке два-три ломтя валенного мяса. Деревяшка с солью. Огниво. Плащ или тонкое одеяльце. Медная жестянка в чехле с водой и пяток луковиц. Мех с медом вот еще. Был! Да и из оружия — то ли копье, то ли рубило, чтобы верхушки ореховых кустов подрубать, да два ножа. Один за поясом, второй в сапоге. Вот и все твое богатство. Угадал?
— Как узнал? — поразился Марик.
— Услышал, — потрепал себя за ухо Насьта и тут же дернул за нос. — И унюхал. Ты мне лучше скажи, что за заступ на твою оглоблю насажен?
Марик хмуро переложил копье за спину. И так уж замучили насмешками в деревне. И что с того, что оно короче обычного не меньше чем на два локтя, а наконечник длиннее раза в три? Кому как удобно, тот так и приспосабливается.
— Не обижайся, — пожал плечами Насьта. — Вины твоей в том нет, только твое оружие дрянь. Не по балансировке, я смотрю, ты изрядно заклепок на комель налепил, по железу дрянь. Ни упругости в нем нет, ни твердости. Один вес.
— Зато его о любой камень поточить можно! — в запальчивости повысил голос Марик.
— Или затупить, — кивнул Насьта и причмокнул. — Нет у тебя денег, богатенький Марик, а хороший меч дорого стоит. Год придется работать за него. Или два. Готов?
— А что мне готовиться, если отец твой меч ковать не станет? — нахмурился Марик.
— Тут, светлолицый, дело такое, — Насьта поскреб подбородок толстым пальцем. — Оно ведь как — я то сам не кузнец. Нет у меня такого таланта, понимаешь ли. Поэтому за отца тебе говорить не стану, хотя предполагать могу. Он сам тебе отказать должен! А ему, знаешь ли, отказать легче, чем окалину обстучать!
— Что ж, тогда с отцом твоим я и буду говорить, — оборвал ремини Марик. — Заодно и спрошу у него, отчего, если я нарочных к Уске не посылал, сын его меня на краю реминьских земель ждал?
— Есть такая странность, — согласился Насьта. — Я и сам, когда встречать тебя вышел, не верил, что встречу. Так не отец меня к тебе навстречу послал.
— А кто же? — удивился Марик.
— Захочет — сам скажет, — подмигнул Насьта. — А не захочет, так и я не скажу. Вот такушки, копейщик бальский!
Поморщился Марик. Привык он уже сам с собой разговаривать, но на беседу с болтливым ремини, который загадками изъясняется, никак не рассчитывал. С непривычки даже голова заболела.
— Выходит, надо идти в вашу деревню, чтобы только отказ получить? — уточнил баль.
— Только, да не только, — пожал плечами Насьта. — По-всему выходит, что не должен отец за твой заказ взяться. Но тут вот какая канитель приключается, человек, который меня на встречу с тобой направил, сказал, что не откажет отец тебе. С одной стороны — не верю я в это. Ведь точно знаю, что откажет. А с другой — я ведь и во встречу эту не верил. Можно сказать, что глаза вытаращил, когда на указанном месте указанную личность застал. Так что, давай сначала, как у нас говорят, веточек сухих наломаем, потом будем кресалом щелкать. Одно скажу, отец мой и вправду лучший кузнец по эту сторону Манги, но упрямец он тоже главный с этой стороны.
— Неужели? — усмехнулся Марик. — Может быть, удастся все-таки его переупрямить?
— Ну, тебя я не испытывал, а отец… — Насьта хитро прищурился. — Сам увидишь. Ну, ты идешь, или будешь речного духа дожидаться?
— А далеко ли до вашей деревни? — спросил Марик, возвращая на потухшее кострище срезанный кусок дерна. — И почему мне никто из наших стариков толком и объяснить не смог, что за деревни у ремини? И почему вас иногда называют болотными людьми? А еще говорили, что троп в ваших лесах нету?
— Тропы есть, — одобрительно кивнул Насьта на скрытый след от костра. — Только не на всякий глаз. Насчет болота поговорим еще, но болото я тебе обещаю. А до деревни ни далеко, ни близко. Да и не деревни у нас, хотя того тебе и знать не положено. Тебе какая разница? Все одно, в наши селения чужаков не пускают. И до околицы не дойдешь. И те, кто золотом платил, и кто по году за мечи в былые годы отрабатывал, никто в селения не заходил.
— Заплывал, что ли? — усомнился Марик. — Или по деревьям скакал?
— Может, и скакал, — легко согласился Насьта и двинулся в сторону от реки. — А может, в сеторских горах в штольнях руду кайлом колупал. Тебе что больше подходит?
— Увидим, — огрызнулся Марик.
Не понравились ему последние присказки Насьты, да и не хотелось болтать на ходу. На ходу, да еще в чужой стороне слушать надо было, а не болтать. К тому же, как-то слишком уж с этим Насьтой везением начало попахивать, а насчет везения еще отец во время коротких встреч присказывал — везенье, что конь, узды требует. Впрочем, пока о везении говорить не приходилось — то, что проводник отыскался, хорошо, конечно, так ведь он в чащу Марика повел, а, по словам деревенских стариков селение, где знаменитый реминьский кузнец Уска по наковальне стучал, строго вверх по течению Ласки достигать следовало. Да и что за человек такой, что сумел приход Марика к отмели предсказать?
— Ты головой не верти, ушами слушай, да жмурься, а то сучок зрачком словишь, — остановился перед стеной хмельной колючки Насьта. — Глазами все равно ничего не увидишь. Ну, не хмурься! Баль, конечно, к лесу привычны, но для баль лес, что одёжа, а для ремини, что кожа. Тем более что ты и по виду не больно на баль похож. Наверное, когда по лесу идешь, треск веток за лигу слышен?
— Отойди на лигу, да послушай, — сузил глаза Марик.
— Если я на лигу отойду, ты не только меня никогда не найдешь, но и отца моего, — усмехнулся Насьта.
— Кузню не спрячешь, — твердо сказал Марик. — Кузнец в нору не заберется, а на равнине его молоточек выдаст. Я, кстати, еще слышал, что ремини в дозоры не ходят, магия, говорят, их селения охраняет? Правда, что ль, что без приглашения никто подойти к ним не может? О какой околице ты толковал?
— Интересно, — буркнул Насьта и продолжил, уже скользнув между колючими кустами. — Насчет молоточка интересно. И насчет магии. Что ж ты-то без приглашения в путь отправился?
— Есть у меня приглашение, — не согласился Марик. — Только я о нем не с тобой говорить буду, а с отцом твоим!
— Так и я о том, — буркнул через плечо Насьта.
— Почему же от реки уходим? — снова окликнул проводника Марик, когда тот к старой заросшей мхом болотине свернул. — И откуда купальщица в глухом месте, если до околицы вашей через колючки продираться надо?
— Ты слышишь, как кузнец работает? — разозлился Насьта.
— Нет, — прислушался Марик.
Только птицы щебетали в листве, да пока еще близкая река шелестела за спиной.
— Ну, так иди за мной. Тут река петляет. С непривычки заблудиться можно. А уж о купальщицах вообще разговора нет, — речной дух, значит, речной дух. Пуганый ты какой-то, парень! Зачем тебе меч?
— Пуганый — не руганный, — огрызнулся Марик и дальше пошел молча.
Глава третья. Арг
О том, что Насьта петляет если не на одном месте, то уж в пределах полутора десятков лиг, Марик понял уже к полудню, но не сказал ремини ни слова, тем более что ни свернуть в сторону, ни даже идти рядом с проводником по причине узости тропы не было никакой возможности. Спутники то пробирались через зловещую топь, то шли вдоль болотистой речушки, стараясь не разодрать одежду о тянущийся из непроходимой чащи колючий кустарник, то снова приближались к топи, то прорубались через заросли обжигающей травы, то петляли звериными тропами через буреломы и сухостой. В пасмурный день Марик, пожалуй, заблудился бы уже к вечеру, но Аилле пробивал весенними лучами даже самые густые кроны, и когда Насьта дал команду разжигать на крохотной полянке костер, баль уже примерно знал, что болото протянулось с севера на юг на десяток лиг, но перейти его можно только в двух местах. Хотя и переходить его особой нужды не было, потому как чащи к западу от болота действительно ни путнику, ни охотнику доставить удовольствие не смогли бы, а топкая речушка, что вытекала из этого самого болота, через десяток лиг обязательно должна была привести к спокойному течению Ласки. Насьта, вгрызаясь в протянутый Мариком кусок вяленого мяса, попытался шутками да прибаутками разговорить баль, но тот сказался уставшим, что было не так уж далеко от истины, насторожил вокруг полянки шерстяную нитку, намотал ее на палец и крепко уснул.
— Чем от мошек спасаешься? — удивленно воскликнул поутру Насьта, явно ожидая увидеть покусанную и опухшую физиономию спутника.
— Чем и раньше, — пожал плечами Марик, сматывая поблескивающую каплями росы нитку. — Это что за травка?
Он вытащил из-за пазухи глянцевые листья.
— Заметил, — покачал головой Насьта. — Я такой же куст печальника еще до полудня на пути вырвал. А больше он и не попадался нам. Где нашел?
— Далеко отсюда, или ты думаешь, что я до тебя в лесу мошек кормил? — усмехнулся Марик. — Нет, оно конечно, для баль-то лес что одёжа, а не кожа, как для ремини, вот комары одежду-то прокусить и не могут. У нас этот кустик мухобоем называют. Есть будешь?
— Пойдем, — удивленно хихикнул ремини. — С утра хорошо идется, Аилле согреет, тогда перекусим. Только не трещи сучьями, как медведь с недосыпа.
Насьта действительно двигался не в пример тише и ловчее Марика. Ни разу ни сучок, ни шишка не хрустнули у него под ногами, порой баль казалось, что и колючие ветви кустов сами расходятся в стороны, чтобы пропустить в неприкосновенности розовощекого крепыша. Вот только зря ремини рассчитывал, что рано или поздно выведет чащобными кругалями терпеливого баль из себя, не знал он, что такое придирки однорукого старосты, колкости и насмешки ровесников и скрупулезность старика-опекуна. Скорее из себя постепенно стал выходить сам ремини. И то верно, ведомый Насьтой светлокожий и светловолосый баль не сказал со времени разговора на берегу Ласки ни единого лишнего слова. Вот только Марик словно не замечал недовольного пыхтенья проводника. Баль было чем заняться, он старательно копировал и заучивал движения и жесты Насьты, и чем дольше продолжался странный поход, тем лучше у него это получалось. Вскоре он и сам смог идти бесшумно и легко. Насьта даже все чаще стал оглядываться, не отстал ли от него Марик? На середине очередного перехода через болото ремини остановился, раздраженно фыркнул, потянулся и снял с почерневшей коряги фляжку.
— Когда догадался? — с интересом вгляделся в Марика.
— Вчера еще, — серьезно ответил баль.
— А чего ж не сказал? — поднял брови Насьта.
— Так ты проводник! — поймал брошенную фляжку Марик, вытащил пробку и сделал глоток воды. — А что если ты не меня путаешь, а еще кого?
— Кого здесь еще путать? — разочарованно махнул рукой Насьта. — Испытываю я тебя! Или уже себя? Эх! А если бы мы не вернулись этой тропой? Не жалко было посудинку бросать?
— Так нет другой дороги, — объяснил Марик. — Через болота два пути, на той стороне бурелом непролазный, там хоть обрубись шиповки лесной — все одно не пройдешь, и ко второй переправе мы по берегу никак выйти не сможем, а обходить болото с юга — значит надо через ту речку перебираться, что вдоль колючек петляет. Вряд ли ты меня туда поведешь. Во-первых, туда еще возвращаться больше десяти лиг, а потом место уж больно приметное. Никак мы не могли эту корягу обойти, хотя она с той стороны и по-другому выглядит, мхом покрылась. На это рассчитывал? Так ты всякого баль за слепца держал бы, или только мне такое уважение?
— Демон тебя задери! — плюнул в ноги Насьта. — Издеваешься, выходит? Да если бы ты сразу все выложил, мы бы еще вчера же вечером похлебку горячую черпали! Эх…
— Так и сегодня не поздно, — хмыкнул Марик. — Отсюда ведь до околицы твоей лиг пять, не больше?
— С чего ты взял? — не понял Насьта.
— А вон, — показал Марик на серенькую пичужку, усевшуюся все на ту же корягу. — Это ж тенька лесная? У нее сейчас птенцы. Она белки боится, поэтому домики свои только под крышей в деревнях лепит. А когда птенцов кормит, дальше, чем на пять лиг от гнезда не улетает.
Словно подтверждая его слова, птичка сорвалась с ветки, нырнула в зеленый мох и, выхватив оттуда стрекочущего жучка, полетела над трясиной к северу.
— Вот такушки, значится? Умник, выходит, отыскался на мою голову? — выпятил нижнюю губу Насьта, едва не подобравшись ею до округлых ноздрей, щелкнул сам себя по лбу и, развернувшись, бросил через плечо. — Пошли тогда, что ли. Хотя, белка белке рознь, но до околицы нашей и в самом деле недалеко, но вот есть тут еще одно дельце….
До дельца пришлось плестись те самые пять лиг. Болото, наконец, осталось позади, Насьта нырнул в неприметную ложбинку и Марик с удивлением начал замечать, что в высокой траве обнаружилась оленья тропка, вокруг встали древние деревья такой толщины, что целый дом можно было бы спрятать за стволом каждого, а подбирающийся к зениту Аилле вовсе потерялся в высоких кронах. Когда впереди зажурчал невидимый ручей, засверкала алыми каплями ягод укромная полянка, Насьта с прищуром оглянулся и поманил к себе Марика пальцем.
— Ну что, следопыт? Так ли ты ловок, как кажешься? Найдешь дорожку?
Марик остановился, поправил мешок, положил на плечи копье и, раскинув руки на древке, зажмурил глаза. Косые лучи Аилле пробежали по щекам теплом, ветер шевельнул на лбу прядь непослушных волос. Смолкнувший было птичий гомон вновь заполнил небо и кроны лесных великанов. Марик открыл глаза и огляделся. За спиной низиной искрила лучами гигантская роща, по правую руку в тени могучего черного дуба темнели заросли засохшей иччи, слева полянка съезжала крутым склоном в затянутый зонтиками трубочника овраг, а впереди горизонт перегораживал редкий лиственный лес.
— Направо придется идти, — обернулся Марик к Насьте.
— Непонятно, — почесал нос ремини. — Слева — трубочник в рост человека, сейчас весна, волдырями не обойдешься, горло можно пыльцой сжечь — хода туда нет. Справа — колючка непролазная! Прямо — открытое место, а ты говоришь направо.… Ну, так справа же ичча сухая! У нее шипы с палец! В нее даже медведь не суется!
— Ну, так я ж не медведь, — пожал плечами Марик.
— Ты бы хоть следы на траве поискал! — возмутился Насьта.
— Кто же поляну поперек пересекает? — удивился Марик. — Ты, парень, петлять, конечно, мастер, только если хотел меня запутать, к потаенной тропе напрасно вывел. Справа она.
— Но почему справа? — начал терять терпение Насьта. — Ты выкладывай, баль, как угадал! Может быть, ты мне слабое место крепости нашей подскажешь!
— Так крепости или околицы? — поднял брови Марик и почесал напомнивший о себе пустой живот. — Я не воин пока еще, чтобы слабые места у крепостей выискивать. Да и какая тут крепость? Так…. Воротца. Засадка человечка на три-четыре. Один должен в самой ичче хорониться, второй на дубе, остальные — где угодно. Хоть справа, хоть слева, хоть впереди. Хотя, я бы одного поодаль спрятал. Ему же по-всякому в деревню реминьскую бежать придется, кричать, что не сумел сын кузнеца Уски — Насьта потаенную тропу от врага спрятать! Ты не смотри так, ремини, я с твоим племенем тягаться в знании леса не стану, о вас слава по всей Оветте идет, только вот заросли иччи просто так сухими не бывают. Даже если и померзнут кусты в крепкую зиму, об эту пору зеленые побеги уже на локоть от корня ветвятся. Опять же птицы шумят, а над дубом ни взлета, ни посвиста. Вот и стрекотунья над поляной вьется, а она днем по коре ползает, жучков собирает. А прямо… Больно уж дорога открытая…. Мне мой наставник говорил, что распахнутые ворота опасней запертых. Не поскупились, думаю, твои сородичи на прямой тропе на ловчие ямы и хитрые западни? Но и это не главное.
— А что же главное? — прищурился Насьта.
— Гнилью могильной из-за иччи тянет, — жестко сказал Марик. — Неспроста это, парень.
Когда еще птиц баль слушал, подумал, что падаль лесная в кустах призрела, но ветром повеяло, и запах подсказал — другой мертвечиной пахнет, той, к которой живность земляная полакомиться уж не поспешит.
— Ну, веди тогда меня сам, коли такой чуткий, — побледнел Насьта.
— Ну, пошли… тогда, — бросил через плечо Марик, проходя мимо толстяка.
Трех десятков шагов не дошел Марик до раскинувшего ветви дуба. Уже разглядел, как можно колючку у ствола миновать, когда у самых ног блеск какой-то глаз резанул и захотелось немедленно развернуться. Направо ли, налево, только уйти в сторону, словно лихо какое путника впереди поджидало. Остановился баль. Руку раскрытой ладонью протянул за спину, дал знак ремини замереть. Уронил на носок копье, прижал его к траве поперек хода, повернулся к дубу, поклонился по вдолбленным Лирудом в память реминьским обычаям невидимому наблюдателю, поочередно коснулся ладонями лба, плеч, скрестив руки на груди, коленей и, не выпрямляясь, присел. К траве пришлось голову наклонить, чтобы снова блеск разглядеть. Полоса протянулась поперек поляны. Сначала баль подумал, что обрывок паутины повис между травинами, потом пригляделся — нет. Ни паутины, ни какой другой лесной снасти в траве не было. Скорее прошел по упругой траве незнакомец и протянул за собой веревочный конец, смоченный сверкающим зельем. Вот чудак! Ему бы с таким настоем зеркала из плоских камней да деревяшек ладить, а он траву красит, да настроение путникам портит!
Протянул Марик ладонь перед собой, за четверть локтя от полосы почувствовал, как пальцы закололо, подал руку вверх и перестал иголки ловить в двух локтях над травой. Что ж, опасности никакой. А полосу сильный чародей ставил, от амулетов, что деревенский колдун заговаривал, не щипало, так, пальцы чуть-чуть зудели, а когда внук старосты выпросил у колдуна сильнейший наговор на хромоту, да в сапог Марик — недругу своему засунул, тот только чихнул пару раз. Зато потом, когда злоумышленник в собственный сапог заговоренный кусок кожи заполучил, тут же внук старосты сам ногу сбил, месяц потом босиком ковылял. Не на это ли намекал Лируд, когда чутье подопечного упоминал?
— Чего там? — недовольно осведомился из-за спины Насьта.
— А кто его знает, — пожал плечами Марик. — Я ж не колдун, чтобы насторожи чужие расплетать. Полосу кто-то по траве провел. Зачем, не скажу, но чтобы сигнал охране не дать, на два локтя прыгать придется. Или это для отвода глаз наколдовано?
— Полосу говоришь? — засопел Насьта. — Прыгать придется? Нет там никакой полосы, а если и есть, глазом ее не возьмешь! Тот, кто ставил, и то не разглядел бы глазом! А ты увидел, и не колдун при этом?
— Сомневаешься? — понял Марик. — Что ж. Сомневайся. Только я-то ни развеять, ни подтвердить твои сомнения не могу. Ты лучше спроси об этом у того, кто тебя на встречу ко мне послал. Или он полосу эту и ставил?
— И спрошу! — сжал губы ремини и заторопился к дубу, напролом, через полосу, только крикнул на ходу кому-то. — Ситка! Что там у тебя? Чем воняет? Опять, что ли….
Ичча начиналась не от самого ствола, а за полтора локтя, но темная кора могучего дерева создавала ощущение, что прохода нет. Впрочем, его и в самом деле не было, потому что, перешагнув бугрящиеся над землей корни, Марик попал в узкий, шириной в два локтя коридор, который явно только что перегораживался несколькими срезанными и связанными между собой кустами все той же иччи.
Впереди открылась поляна, но сразу за ней во все стороны раскинулась низина, над которой, за чахлыми кустами висело какое-то мутное марево. Между тем вонь усилилась и шла она не от топи. Какая-то слизь висела на шипах иччи, пятна покрывали траву, а дальше, там, где начинались кусты, стояли трое ремини и темная груда лежала у их ног.
— Иди-ка сюда! — оглянулся Насьта. — Взгляни-ка, дорогой ты мой «неколдун», что это? У вас такая погань водится?
Марик подошел ближе, окинул быстрым взглядом троих незнакомцев, уверившись, что хоть ремини действительно невысоки ростом, упитанность Насьты правилом среди них не является, и взглянул на сваленные в кучу тела.
Издавая зловоние и изгаживая траву черной слизью, перед ним лежали более чем странные создания. Судя по силуэтам, это были люди, но вид их был столь ужасен, что не тошнота поднималась к горлу, а сами внутренности были готовы выползти через глотку. Казалось, каких-то несчастных зашили в черненую кожу, да так, что не осталось не только швов, но и отверстий для глаз, для носа, для рта, и, обрядив в этаких кукол, выгнали в дикий реминьский лес. Отправили в дальний путь, поскольку ноги у мерзких созданий были стерты так, что выступающая из ран слизь, запеклась как вываленная в пыли древесная смола, а стебли травы и молодые листья густо облепили то, что у нормальных людей называлось бы руками и ногами. Все пять тел были пронзены стрелами и посечены мечами. Головы лежали отдельно, напоминая вываленные в золе горшки.
— Нет, — пробормотал Марик, чувствуя, как ужас начинает щекотать ребра. — Такой пакости у нас не водится. У нас только мертвецы. Обычные покойники. Собственные мертвецы или идущие мимо. Они все отчего-то к западу стремятся. Вот уже четыре года. А эти, если и мертвецы, так только те, что не только померли, но и из-за смертного полога возвратились. В болоте каком-то отлежались, да наружу выбрались.
— Ну, — Насьта потеребил ухо, — из-за полога, не из-за полога, а наши мертвецы и тут по-особому себя ведут, но об этом после. Нам такие твари не в новинку, но до этого они по одиночке наведывались, теперь же…. Ты, парень, посмотри пока вокруг себя, мне переговорить тут надо.
Толстяк озабоченно кивнул, махнул рукой в сторону и перешел на торопливый, звонкий говор. Марик не знал языка ремини, поэтому он еще раз окинул взглядом троих воинов, ран на которых на первый взгляд не было, если не считать вымазанных все той же слизью простейших доспехов из грубой кожи и явно обескураженного вида, и огляделся. Заросли иччи разбегались от дуба в обе стороны широкими полосами, уже через полсотни локтей взрывались зеленью свежих побегов, и обогнуть их даже поближе к болоту явно бы не удалось, тем более что и лиственный лес истаивал на его краю. К тому же на толстых ветвях могучего дерева стоял еще один ремини, вооруженный луком и толстым тулом со стрелами, которого, по всей видимости, Насьта и окликал Ситкой. Марик повернулся к низине, но марево сгустилось и вовсе обратилось туманом. Он шагнул вперед, вошел в заросли болотника, которого и возле родной деревни встречалось немало и почувствовал чавканье под ногами. Впереди лежала непролазная трясина. Ни деревца, ни куста не торчало из нее вплоть до мутной стены мрака. Ни тропы, ни дороги не могло быть в мертвую топь. Вот только запаха у нее не было. Весь запах из-за спины шел, от черных кукол. «Это как же? — удивился баль. — В самом деле, что ли болотный народ? Опять магия? Или голова у меня кругом идет? Может быть, от голода? Не пора ли перекусить, а то похлебки не дождешься от толстяка!»
Подумав об этом, Марик действительно почувствовал нешуточное урчание в животе, но, вместо того, чтобы вытащить последний кусок мяса из мешка, оперся на копье, закрыл глаза и начал осторожно приподнимать веки, стараясь смотреть не на клубящийся впереди туман, а сквозь него. В висках застучало, Марик прошептал всплывшую в памяти присказку от морока, и неожиданно разглядел тропу, вот только не в топь она вела, а словно висела над ней!
— Ну, — подошел к Марику, отплевываясь, Насьта. — Видишь, какая мерзость к нам повадилась? Воины, конечно, порубили гостей непрошенных, но не так все просто с ними. И не то в них страшно, что трепыхались они, пока головы им не отсекли. И даже не то, что ни зубов, ни оружия у них нет, хотя одного нашего прихватили хорошо. Так вроде кукла и кукла, а как схватит — словно угольями из костра обложит. Ожогов достаточно у ребят. Ничего. Я им сейчас смену пришлю. Другое страшно, невидимы эти твари!
— Разве? — удивился Марик.
— В том то и дело, — сплюнул Насьта. — Невидимы, только шелестят, когда движутся, да слизь с них каплет. Ну, это от иччи, от шипов…. Хорошо еще Ситка на слух стрелу пускает, вот как стрела насквозь пронзает эту пакость, так стража сразу гостя видит!
— И часто у вас такие гости? — поинтересовался Марик, ловя плечами невольную дрожь.
— Столько — в первый раз, — зло бросил Насьта. — По одному появлялись, но одиночных легко брали, они в колючках застревали по одному. Тут недавно еще одна мерзость наведывалась, пришлось порубить ее. Мурра брал когда-нибудь?
— А чего его брать? — поморщился Марик. — Кровосос он и есть кровосос. Встречается, где сыро, да тепло, но его собаки давят. Да и росту в нем пол-локтя. Сапогом можно приткнуть.
— Пол-локтя? — зло усмехнулся Насьта. — А четыре-пять локтей не хочешь? Я как увидел эту змеюку с лапами, день слова сказать не мог! Думаю, что теперь меня удивить уж не получится. На лазутчиков даже лук не поднимаю. Мы их без драки отваживаем. Против них как раз та полоса помогает…. Но так ведь только против них и все! А ты говоришь — магия, нет дозоров! Какая магия? Как этой мерзости глаза отвести, если у нее глаз нет? Ты, парень не обижайся, но мне глаза тебе завязать придется. Уж больно ты ловок да глазаст!
— Надо, так надо, — пожал плечами Марик. — Выходит, что мне даже и реминьской околицы разглядеть не удастся? Не утопишь меня в трясине-то? Копье тоже заберешь?
— Не, — отмахнулся Насьта, снимая пояс. — Сам тащи! У нас тут медведей не бывает, а против другого зверья да и пакости этой приблудной мечами и стрелами обходимся. Такую жердину таскать — себя не любить!
Они успели пройти не больше чем пару сотен шагов. Насьта шел впереди, то ли насвистывая простенькую песенку, то ли подражая какому-то пернатому певуну, а Марик шагал следом, напряженно пытаясь понять, отчего он не слышит хлюпанья под ногами и почему поднимается вверх? Или же ремини вымороченными тропами как твердой землей пользуются? И куда может завести такая тропа? Все эти мысли захватили баль без остатка, к тому же Аилле ощутимо припекал спину, поэтому, когда ее обдало холодом, Марик подумал, что ветерок еще выискивает в глубинах леса зимнюю свежесть, но Насьта неожиданно замолчал, а сзади защелкали луки и донесся истошный крик:
— Арг!
Ремини постарался. Когда Марик все-таки содрал с глаз накрепко завязанный пояс, неведомый зверь, напоминающий окутанную клоками шерсти и искрами или хлопьями сажи огромную собаку, уже преодолел полосу иччи. Он пробил ее грудью, не прижимаясь к дубу, и вряд ли пострадал при этом. Стоявшие на ветвях два воина выпускали в него сверху стрелу за стрелой, но с таким же успехом они могли обстреливать корни древесного гиганта. Стрелы отскакивали от шкуры едва ли не с металлическим звоном, те же, что оставались в ней, скорее запутывались в шерсти, чем достигали плоти.
— Арг! — вновь истошно завопили ремини, оставшиеся внизу и ринулись вперед, взметнув короткие мечи. Насьта что-то выкрикнул за спиной Марика, но тот не шелохнулся, даже когда первая стрела просвистела у него над ухом и отскочила от плеча неведомой твари. В следующее мгновение зверь сшиб одного из ремини ударом в грудь, а второй лишился руки с зажатой в ней мечом от одного лишь поворота уродливой морды. Новая стрела просвистела над Мариком и со стуком отскочила от тупой морды. Лучники на ветвях дуба продолжали осыпать чудовище стрелами сверху, но ни одна из них так и не нанесла чудовищу вреда.
— Такушки, выходит? — почему-то почти завизжал за спиной Марика Насьта. Очередную стрелу он выпустил с задержкой, и она должна была пронзить один из вспыхнувших на мгновение желтым огнем ужасных глаз, но огни погасли, и стрела вновь отскочила от морды, словно попала в покрытый железом щит! «Эх, — скользнула в голове Марика предательская мыслишка. — Если охотник гибнет на охоте — это говорит только о дурости охотника. Не лезь на зверя, которого не можешь взять». Именно эти слова произносил однорукий староста все три раза, когда, покрытый кровью и ссадинами, Марик приходил в деревню за помощью, чтобы принести из леса медвежью тушу. Правда, и после этого никто в деревне не признал Марика настоящим охотником, даже добытых медведей списали односельчане на ставшее уже привычным упрямство «звереныша» и на его же необыкновенную везучесть. Но и везучести, как говорил отец, может наступить предел. Если не взнуздывать ее, как необъезженного коня. Тут, главное не медлить. Да, ни один из добытых Мариком медведей не двигался так быстро, но каждый из был значительно крупнее неизвестного чудовища,. Конечно, дурацкая медвежья привычка вставать на задние лапы изрядно облегчала охотнику задачу и вряд ли подобной привычкой обладал гигантский волк или пес, но так и свернуть в сторону, набрав ход, он вряд ли смог бы. Перестал бы уже зря выпускать стрелы ремини, или это и хорошо, что зверь не открывает желтые глаза? Только бы не промахнуться. Только бы не оплошать!
Сколько раз на деревенской поляне Марик бегал с дубовой бочкой¸ изображая медведя? Сколько раз сам приседал с копьем, приготовившись попасть в коричневый треугольник, похожий на отметину на горле зверя? Тысячи и тысячи! Уж и вспоминать не надо, тело само знает, как распределить два или три мгновения, за которыми будет или полог смерти, или грубое, но одобрительное ворчание старосты. Марик привычно опустил копье, присел на одно колено, сунул вспотевшие руки в пыль, ухватился за древко и одним движением загнал пятку оружия в траву, в землю, пусть даже она выморочена колдовством неизвестного колдуна, надеясь, что не вырвет копье от удара, что упрется оно в корень или в глухой дерн, но спасет охотника, не даст разметать на части его податливую плоть, и в последнее мгновение перед унесшим его во тьму ударом разглядел несущуюся на него ужасную тварь и почувствовал благодарность однорукому придире, что докучал его упражнениями больше, чем других учеников.
Глава четвертая. Кузнец
Марик проснулся так, как просыпался в детстве. Только в детстве ощущение гнетущего одиночества перехлестывалось упоением свободой. Отец пропадал за рекой, где пытался отстоять от врагов почти уже утерянную родину, или, может быть, чуждался Марика, словно его, похожий на собственную мать, сын одним видом навевал болезненные воспоминания. Марик жил с чужим стариком и вовсе не задумывался о том, Лируд ли приютил сироту при живом отце, или отбывший в очередной поход отец дозволил бросившему колдовство мудрецу встретить под крышей рода Дари дряхлость и смерть. Так или иначе, но Лируд еще держался молодцом, за мальчишкой приглядывал и не сразу отдал его в истязание однорукому ветерану. Он словно позволял Марику насладиться детством, и оно казалось тому прекрасным, особенно по утрам, когда переставали ныть полученные за день синяки и царапины, и очередной день только разгорался над густыми кронами мглянских чащ и еще не успевал ни огорчить, ни разочаровать мальчишку. Теперь все повторялось. Где-то в отдалении постукивал молот кузнеца, над головой пели птицы, а на щеках играли утренние лучи Аилле. Нет. Все-таки не лучи, а пальцы.
Никогда ничьи пальцы не касались его лица; ни очерчивали профиль, губы, ни щекотали скулы, ни гладили щеки. Никогда запах женщины ни наполнял его ноздри столь явно, ни скользил невидимыми нитями у висков, ни накапливался на языке. Никогда ни одна женщина не приближалась к Марику, потому что жил он с Лирудом на отшибе, в деревне появлялся не часто, да и не принято было у бальских матерей привечать чужих мальчишек, тем более замирающих перед ними со счастливой улыбкой. Ладно бы просто сиротой считался, так он же коротал ночи в одном доме со стариком, которым бальки детей пугали! Деревенские девчонки рассыпались с визгом при одном появлении Марика! Иногда, как правило, на деревенских сходах или праздниках, когда разгоряченная толпа ненароком прижимала к нему какую-нибудь юную бальку, Марик успевал втянуть дурманящий запах, пока та с возмущенным криком не отскакивала в сторону, но прикосновения…. Он не знал, что это такое. Но пальцы скользили по коже, гладили ее и делали это с нежностью… «С нежностью», — подумал о непривычном Марик и начал всплывать в явь, надеясь на то, что когда сон пройдет, то прикосновения останутся. Потому что так касаться лица могла только мать. И он прошептал едва слышно — «Мама», — и пальцы услышали, потому что оставили покрытый юношеским пушком подбородок мгновенно, и, открыв глаза, Марик увидел удивительно милое лицо. Милое и незнакомое. Девушка была светлокожа и добра. Доброта сквозила и в струнах полных губ, и линии чуть великоватого носа, и в румянце на нежной коже, и в приподнятых тонких бровях, и, главное, в больших, но вовсе не реминьских глазах. «Нет», — она смешно покачала головой, потом быстро подалась вперед, прижалась губами к его губам, вскочила и убежала.
Сердце Марика замерло, затем забилось в груди, как брошенная в траву серебристая рыба, и он не провалился обратно в темноту только потому, что тут же высунул язык и слизнул запах с губ. Где-то в отдалении послышался знакомый голос, Марик зажмурился, отгоняя накатившую слабость, сел, но оглядеться не успел, потому что грудь пронзила боль, а когда он схватился за стянутые тугой повязкой ребра, то боль вцепилась и в руку.
— Эй, не спеши, парень!
Насьта откинул полог, затем сдернул ткань с кривого окна и лучи Аилле заставили Марика зажмуриться. Он заморгал, огляделся и потянулся за одеждой, которая висела на бечеве, натянутой поперек крохотной, шесть на восемь локтей, хижины, сплетенной из стеблей болотной травы.
— Ну, что ты будешь делать? — сцепил пальцы на округлом брюшке Насьта. — Говорил я ей, что этого парня к ложу веревками прикручивать надо! Тебе еще неделю, дурень, лежать!
— Отлежимся еще, — буркнул Марик, попытался встать, чтобы натянуть порты, но голова у него закружилась, и он едва не упал. — Сколько я без памяти был?
— Три дня, — с готовностью сообщил Насьта и тут же добавил, присев на край постели, устроенной почти на уровне земляного пола. — Вот такушки, дорогой мой «неколдун»! Вижу, что нанижу, куда следую, не ведаю? А зелье-то, заморочь меня поперек, должно было тебя неделю еще смурить!
— Какое зелье? — нахмурился Марик. — Какую неделю? Ты, стрелок, и о трех днях не завирайся! Хотя, честно говоря, есть я хочу так, словно вторую неделю уже без крошки во рту.
Он уже успел влезть в порты и теперь с недоумением разглядывал тугую повязку поперек груди и какой-то странный травяной компресс на левой руке, примотанный к предплечью высушенной плетью лесного вьюна.
— И чего бы мне тут лежать три дня? — Марик почесал затылок здоровой рукой. — Судя по всему — перелома ребер нет, хотя грудь ломит, на руке ссадина или неглубокая рана. Так? Наверное, эта зверюга крепко засадила мне по ребрам, и я действительно вылетел из яви? Это ведь вчера было? Ну-ка, посмотри мне в глаза, парень? Кто ходил за мной? Эта девчонка?
— Она, — кивнул Насьта, не оставив места насмешке даже в уголках глаз. — А зелье тебе давали, чтобы беспамятство твое сном обернуть. Во сне болезни легче сходят. Другие болезни, та, что тебя зацепила, жизнь твою по-любому должна была без остатка высосать…
— Три дня? — словно не слыша слов Насьты, еще раз уточнил Марик и почувствовал, как жар охватывает и тело его, и лицо. — Она…. Она ходила за мной?
— Могу повторить еще раз, — не отвел взгляда Насьта. — Ходила, сидела, омывала, подтирала, убирала, поила. Девчонку, кстати, Орой зовут. Да не в ней дело. И в ней, конечно тоже, но…. Ты здорово меня удивил, Марик. И не только меня. Хотя… ладно. Только потому ты здесь! Стоять можешь?
— Не сомневайся, — огрызнулся баль, с трудом поднимаясь на ноги.
— А вот не должен стоять-то, — серьезно ответил Насьта и шагнул к выходу. — Хотя я-то отчего-то был уверен, что встанешь. Пошли, раз уж стоишь, значит, и шагать сумеешь, самое время бросить чего-нибудь в рот. Неделю, не неделю, а три дня кроме древесного сока в тебя ничего не вливали…. Ну так и выхода из тебя особого не было. Или был? Ладно, захочешь, у Оры спросишь. Чего ждешь то? Так идешь или нет?
Скрипнув зубами, Марик сунул ноги в сапоги и, затягивая на груди шнуровку, вышел наружу и замер. Никакого болота вокруг не оказалось. Аилле светил прямо в глаза, поэтому баль заморгал, поднял ко лбу ладонь, но разглядеть сразу что-либо не смог. Только понял, что стоит он на лесистом гребне напоминающей огромную чашу зеленой котловины и не видит впереди не только какого-нибудь жилья, но даже и намека на опушку, просеку или узкую стежку. Ни дымка не поднималось над лесом, наполнившим котловину зелеными волнами удивительных крон, и звон молота, который в хижине казался близким, отчего-то теперь сгинул в птичьем гаме. Марик оглянулся, удивился, что и его хижина растворилась в густом орешнике и неразличима даже вблизи, но Насьта явно не собирался любоваться кудрявыми кронами, потому что спустился по склону и начал призывно махать рукой. Баль недоуменно пожал плечами, тут же отметил гримасой пронзившую грудь и руку боль и заковылял следом.
Лес, который через полсотни шагов принял Марика под развесистые ветви, не только отличался от чащи близ родной деревни, но ничем не напоминал те заросли, по которым водил его ремини как будто бы еще вчера. Деревья в нем стояли нечасто, но их ветви начинали множиться не где-то над головой, а почти от земли, отчего ни в какую сторону дальше, чем на десяток шагов, бросить взгляд не было возможности. И вместе с тем лучи Аилле пронизывали лиственное богатство до самой земли, отчего тут же зеленела густая трава и раскидывал глянцевые ладони странный голубой папоротник. Да и сами деревья показались Марику незнакомыми. Кора их больше всего напоминала хорошо выделанную оленью кожу, меняясь от белого к желтому цвету, а заостренные листья не шелестели на неведомо как забредшем в заросли ветре, а шуршали, словно старательно терлись друг о друга.
В папоротнике обнаружилась узкая стежка, но ноги скоро перестали слушаться Марика. Он споткнулся один раз, другой, потом вовсе остановился, потеряв Насьту из вида, сделал несколько глубоких вдохов и пошел дальше, стиснув зубы, почти точно так же, как ходил в вечерних сумерках деревенский староста, употребив внутрь изрядный объем хмельной настойки. Боль начала ползти от руки к сердцу, верно, чтобы встретиться с болью в помятом боку, но, сбавив шаг, Марик пока с ней справлялся и даже начал замечать и скрытые травой ответвления дорожки, и мелькающие в кустах внимательные взгляды, и какие-то гибкие силуэты над головой, и даже аппетитные запахи, доносящиеся то с одной, то с другой стороны, но только почти уткнувшись в какое-то препятствие, сквозь застелившее глаза марево разглядел, что стоит на круглой зеленой поляне перед вросшим в землю огромным столом из красного дерева, за которым на отшлифованных временем и, вероятно, седалищами множества ремини чурбаках сидели сразу два Насьты. Марик поморщился, тряхнул головой и только тогда понял, что второй ремини похож на Насьту, как отражение в мутном ручье. Он был явно старше и румянец на его щеках замещал загар, который случается от жара горна и летящих из него искр. Марик тут же приметил и крепкие руки с толстыми, покрытыми ожогами и шрамами пальцами, и фартук из грубой кожи, также прожженный в нескольких местах, сопоставил все это с умолкнувшим молотом и уверился, что перед ним кузнец Уска. Впрочем, все это пока не имело большого значения, как не имело значения и то, что на столе стояли несколько горшков, из которых поднимался такой запах, что Марик был вынужден судорожно сглотнуть, чтобы слюна не потекла по щекам. Сейчас главным было — не упасть. Марик поклонился кузнецу и постарался не бухнуться на один из свободных чурбаков, а все-таки сесть.
— Упрямый паренек-то! — заметил кузнец.
— Такушки-такушки, как я и говорил, — согласился Насьта и подвинул Марику глиняный кубок. — Глотни, дорогой. Упрямство тоже поддержки требует.
Марик стиснул шершавый сосуд, глотнул и неожиданно почувствовал, что стоявшая в горле тошнота проходит. В кубке оказалась обыкновенная вода, правда, присутствовала в ней легкая горчинка, но Марик не стал задумываться об этом, допил воду и, следуя примеру ремини, молча придвинул к себе один из горшков. Под накрывающей глиняные края рыхлой лепешкой обнаружились переложенные какими-то овощами куски оленины, вкус которых вполне соответствовал удивительному запаху.
— Что скажешь? — спросил кузнец, когда Марик наконец отодвинул горшок, спрятал в кулак отрыжку и тяжело оперся на здоровую руку.
— Кормят у вас хорошо, — вздохнул баль. — Праздник, наверное? Родился кто-нибудь?
— Родился, — кивнул кузнец. — Мой сын и родился. Этот самый, — дернул подбородком в сторону Насьты Уска. — Заново. Да и ты, можно сказать, если и не родился, так уж чудом не помер. А вот двум хорошим парням повезло меньше…. Правда, если бы не ты, так не только Насьта сейчас сумеречную тропу отмеривал, но и многие из нашей долины, в которую ты все-таки пробрался. Ловок ты, парень, оказался. Что, часто приходится на такое зверье охотиться?
Часто ли? Марик зажмурился и вспомнил мчащегося навстречу зверя. Что же это было? Огромный пес? Волк? Или странным образом поздно выбравшийся из берлоги исхудавший медведь? Нет, на медведя он явно не походил. Что за искры мелькали над ним, когда стрелы отскакивали от шкуры? Явно, явно не обошлось тут без магии. Да и не водится ничего подобного на берегах Ласки. Как ремини назвали его? Аргом?
— Что молчишь? — спросил кузнец.
— Нет у нас таких зверей, — разомкнул губы Марик. — Я никогда не охотился на… арга. Брал его, как медведя.
— И взял! — выпрямился Уска. — И спас мне сына. Только поэтому ты в городе ремини. Поэтому я говорю с тобой, парень.
— Я в городе? — недоуменно оглянулся Марик.
— А ты думал, что в лесу? — усмехнулся кузнец. — Или на околице реминьской деревни, как тебе Насьта обещал? В городе, парень, в городе. Или в долине, как у нас говорят. И то, что ты не видишь домов, и то, что ты не видишь жителей, и то, что ты не слышишь удары молота, не значит, что ты в обычном бальском лесу. Ты в городе, дорогой мой, и священные белые деревья — одры мы их зовем — первое, что всегда и везде должно говорить тебе — здесь живут ремини, и мне сюда ходу нет.
— Я запомню, — кивнул Марик. — Красивые деревья. У нас таких нет, как и нет таких зверей и прочей нечисти, что наведывается к вам в гости. Только ведь не сам я забрел под кроны белых деревьев. Правда, города не заметил, признаю. Я-то думал, что города из камня строятся, и когда жителям счета нет. Думал, что деревня у вас, как и у нас. Теперь буду знать, как город на самом деле выглядит. Пока до поляны добрел, восемь тропок в папоротник убежало, судя по запахам, которые ветерок между белых деревьев носит, на склоне и еду готовило не больше десятка хозяек, да и ребятишек за мной из травы наблюдало по-всякому не больше дюжины. Белки зеленые над вашим городом по ветвям скачут, штук пять я заметил, а белка зверь опасный, вот уж не знал, что белки в городах водятся, да еще женщины и дети их не боятся. Верно, вместо собак они в городах? А уж по ударам молота город ни с чем не спутаешь! Ну, если только с деревней. Что стучать-то перестал? Увидел, что гость незваный из шалаша выбрался?
— Вот такушки, — брякнул в повисшей тишине Насьта. — Глазастый и ушастый он оказался. А я почти всю дорогу оглядывался, думал, а не придется ли мне гостя на плече тащить?
— Значит все-таки гостя! — постарался выпрямиться Марик.
— Гость не враг, однако, и не приятель, — оборвал баль кузнец. — Насьта мне рассказал, зачем ты пришел. Помочь тебе не смогу. Меч тебе ковать не стану. Ни за золото, ни за работу.
— Почему так? — напрягся Марик.
— Правило такое, — ударил ладонью по столу Уска. — Когда война начинается, ремини в грязь не лезут. Никогда ремини не воюют.
— Такушки оно растакушки, да ведь только пока враг через Мангу не перебрался! — вставил ехидно Насьта, но тут же был оборван еще одним ударом тяжелой ладони по столу.
— Молчи щенок, когда отец говорит!
— Молчу, — покорно согласился Насьта, но ухмылку с лица не стер.
— Я даже говорить с тобой не могу! — повернулся к баль Уска. — Если бы ты этому паршивцу жизнь не спас, я бы….
— Не только я ему, но и он мне, — твердо сказал Марик. — Если бы твой сын, Уска, стрелами веки этому зверю, которого ваши воины аргом окликали, не щекотал, вряд ли бы он дал себя на мою жердину насадить. Только ведь я в торге с тобой схватку ту не учитываю и скидки за хороший клинок не прошу.
— О схватке правильные слова говоришь, — кивнул Уска, опустив взгляд вниз. — Но торга все равно не будет. Не возьмусь я.
— Понятно, — Марик тоже опустил голову, вздохнул и спросил. — А если бы не война? Сколько стоит хороший бальский меч?
— Я плохих не делаю, — скупо обронил кузнец. — Всякий мой меч хорош, и всякий новый лучше, чем тот, что я делал перед ним. Меч стоит половину своего веса золотом или два года работы в доме кузнеца, в его кузне или год работы в штольнях, но я работников давно не нанимаю, с тех пор как кузню в долину перенес. Если бы миром ты пришел без золота, отправил бы я тебя еще севернее, не один я кузнец из ремини, есть мастера, что и за наем в помощники за меч берутся.
— Есть, наверное, — кивнул Марик и добавил. — Вот только о реминьских мечах многие говорят, а о мечах Уски слава идет.
— Мне слава не нужна, — отрезал Уска. — Славу в печь не бросишь, на лепешку не положишь, рану ей не прижжешь. Я работу золотом оцениваю, но не за блеском его гонюсь. Всякая работа свою цену имеет, цену не давать, значит, в лицо мастеру плевать. Насьта попросил, я с тобой переговорил. Угощение на стол сын мой правил, ему за то спасибо, тебе за смелость и удачу твою, но на мне твоя удача не прорастет. Сказать мне тебе больше нечего, да и ты мне уже все сказал. Прощай.
— Подожди, Уска, — сказал Марик.
Тихо сказал, но таким тоном, что кряжистый ремини, который уже оперся о стол руками, вновь на чурбак опустился и к кубку потянулся, чтобы воды бодрящей в глотку плеснуть.
— Подожди, Уска, — попросил Марик. — Дай договорить. Я вот, когда твоего сына встретил, едва не поколотил его…
— Попробовал бы! — хихикнул Насьта. — Хотя сомнения свои о медведях и волках назад беру!
— Он над моей курточкой насмехался, — отмахнулся от молодого ремини Марик. — Мол, на ней лоскутками да шкурками все обо мне выписано так, что и соглядатая вслед посылать не нужно. Потом, когда он по болоту меня закруживал, додумался я, что прав он. Да, принято так у баль, что всякий охотник издали уже знать дает; кто он, чего он стоит, что может, из какого рода и какие доблести за ним числятся. Другое дело — воин, ему нашивки эти ни к чему, но так я и не воин пока. Вот только то, что в бальской деревне глаз не слепит, в реминьской и вправду или хвастовством, или придурью показаться может. Ведь не может же добрый скорняк подметками одежду свою обшить? Да и хороший кузнец гвоздями полы курки не закалывает. Вот я и вспомнил слова моего отца, когда он уходил за Мангу… в последний раз. Он сказал, что настоящий воин живет, словно по лестнице поднимается, но каждую ступень, на которой стоит, сколько бы не прошел перед этим, должен считать самой первой и самой трудной. Как ты думаешь, умолю я доблесть свою, если лоскутки да шкурки с курточки срежу?
— Что ты хочешь этим сказать? — нахмурился Уска. — То, что ради мудрости готов отказаться от обычая своего народа? Мудрость выше обычая, конечно, если обычай окостенел от времени, так ведь реминьские правила как раз мудростью прописаны. Мы доблесть шкурками не отмечаем. Она здесь и здесь.
Ударил кузнец себя ладонью по лбу и по груди, но подниматься из-за стола обождал.
— А если я обет на себя возьму? — сморщил лоб Марик. — Какой скажешь обет, такой и возьму.
— Я подвиги не выторговываю, — усмехнулся Уска. — И обеты мне твои не нужны. Мне мудрость моего народа важнее кажется.
— А что может оказаться сильнее мудрости? — спросил Марик.
— Сильнее мудрости может оказаться только честь, — поднялся Уска и пошел прочь от стола.
— Лируд просил за меня, Уска! — крикнул вслед кузнецу Марик.
Остановился Уска, словно на стену наткнулся. Опустил плечи так, что руки почти до колен свесились. Медленно обернулся, склонил голову и крикнул хрипло:
— Есть кое-что и посильнее чести, баль. К примеру, смерть. Не буду я меч для тебя ковать. Пусть нас рассудит мудрейший!
— Кто это, мудрейший? — спросил Марик, глядя, как скрывается в пологе леса спина кузнеца.
— Мудрейший — это главный среди мудрых, — пояснил Насьта, задумчиво теребя ухо.
— Колдун? — спросил Марик.
— Не обязательно, — пожал плечами ремини. — Магия — это ремесло. Так ведь и кузнечное дело — ремесло. И бортничество, и скорнячество, и пошив одежды, и охота. А мудрость — это дар времени и богов. Но нынешний мудрейший — колдун. Тебе так и так придется с ним встречаться, мудрейший заинтересовался чужаком, которому удалось убить арга и остаться живым, но теперь эта встреча нужна и тебе. Надеюсь, что мудрейший разрешит отцу взяться за работу. Скорее даже заставит его. Иначе отцу придется умереть.
— Почему? — не понял Марик.
— Потому что, на самом деле, сильнее чести действительно ничего нет, — сказал Насьта. — Смерть всего лишь часть ее. Правда, не всякая смерть.
Глава пятая. Ора
Через неделю Марик чувствовал себя в зеленой долине почти как дома. А может быть и лучше, чем дома, потому что родная деревня оставалась для него чужой, и наполнившая его в последние дни легкость раньше проникала в сердце только тогда, когда он оказывался где-нибудь в светлом лесу, в котором прямые, как стебли болотной травы, сосны тщились воткнуться в голубое небо. Вот только ощущение безмятежности не могло радовать Марика, несмотря на то, что встреча с мудрейшим откладывалась и, значит, пребывание в чудесной долине продолжалось. Опущенные плечи кузнеца не давали ему покоя. Насьта объяснил новому приятелю, что с приходом мудрейшего судьба Уски разрешится независимо от желания кузнеца. Баль подобное предположение не понравилось, он уже был готов отказаться от собственной просьбы, поэтому каждый день приходил к кузне, расположенной на противоположном краю долины в зарослях молчальника, что должен был поглощать узкими листьями звуки и запахи горячего ремесла. Марик стоял у входа, но отец Насьты не появлялся. Баль уже знал, что войти в жилище ремини можно только по приглашению, поэтому утро за утром упорно ждал встречи на расстоянии положенных десяти локтей от входа, но Уска либо стучал молотом в глубине недоступного взгляду двора, либо негромко переругивался о чем-то с хозяйкой, либо что-то рубил, пилил, резал, только увидеть его Марику так и не удалось. Кузнец не появлялся даже на круглой поляне у стола, возле которого ежевечерне собирались старики и воины ремини с деревянными кубками, наполненными бодрящим древесным соком, и Марик каждое утро снова отправлялся к кузне. Но заканчивались его походы всегда одинаково — из-за полога появлялась миловидная женщина средних лет, подарившая лет двадцать назад Насьте черные глаза и полные губы, с поклоном протягивала Марику завернутый в тонкую лепешку сладкий корень, и баль с таким же поклоном отправлялся восвояси. Предложенное угощение ясно давало понять, иди, парень, тебя и сегодня не хотят видеть даже у порога. Впрочем, Насьту это изрядно забавляло. Он даже предлагал Марику приходить к кузне три раза в день, чтобы снять с него всяческие заботы о пропитании, но баль только отмахивался. События подчинялись только собственному течению, и Марика это изрядно раздражало. Правда, надолго его раздражения не хватало. Стоило Марику по одной из узких троп углубиться в заросли белоствольных великанов, как его тут же окружали два или три десятка детей в возрасте от трех до восьми лет и наперебой зазывали к себе домой на угощение, требовали сражаться с ними на деревянных мечах в высокой траве, прятаться в папоротниках и рассказывать, если и не старинные сказания и страшные охотничьи истории, то хотя бы петь бальские песни. Так и получилось, что уже к середине недели Марик перебывал в десятке уютных бревенчатых домов, а уж из полусотни юных озорников не меньше половины знал по именам. Вот только радушие реминьских хозяек казалось ему напускным, а безразличие седых старцев — раздраженным. Да и к самодовольным мордам зеленых белок, которые возлежали на низких кровлях жилищ, никак Марик не мог привыкнуть. Мороз пробирал по коже, когда видел страшные когти, выползающие из передних лап. И даже треньканье беззаботных тенек, которые жили в узких дуплянках у каждого дома, не заботясь об опасном соседстве, не приносило Марику обычной радости.
Зеленая долина была застроена довольно плотно, по прикидкам Марика число дворов переваливало за две сотни, но если бы жители решили и в самом деле притаиться в своих жилищах, баль, пожалуй, пересек бы долину по одной из тропок насквозь, даже и, не задумавшись о том, что пересекает реминьский поселок. Конечно, если бы смог пройти мимо чудесных деревьев, не прижавшись щекой к теплой коре, не сорвав глянцевого листа, не вышелушив ни одной шишки. Да, городом Марик потаенное селение не назвал бы, но и обычной деревней тоже. Хотя здесь точно так же, как и в покинутом Мариком селении на берегу Мглянки, мужчины по утрам уходили из жилищ, чтобы вернуться под родной кров только вместе с темнотой и не всегда в тот же самый день. Ремини занимались охотой, бортничеством, рыболовством, собирали смолу, корни, орехи, грибы и ягоды. Женщины и подростки умудрялись добывать оленье молоко и яйца лесных кур и, судя по редкости в рационе оленьего и птичьего мяса, им удавалось это делать без особого вреда для лесных обитателей. Впрочем, после явления прирученных зеленых белок, все остальное можно было считать забавным и любопытным, но уж никак не чудом. Одно не давало Марику покоя, он смотрел по сторонам и не замечал богатства. Да, ремини не просто властвовали над лесом как баль, они срослись с ним в одно целое, но быт их показался парню простым и скромным, достаток ни в одном доме не оборачивался роскошью, а скромность одежды и украшений вполне можно было принять за бедность. Куда же делось золото Храма Исс? Или есть в сеторских лесах другие поселки, жители которых живут богаче? Именно об этом спросил Марик Насьту, когда после очередной отлучки того за пределы зеленой долины поймал приятеля у его домика, который, так же, как и хижина Марика, был сплетен из упругих стеблей болотной травы, только стоял не на гребне долины а в самой гуще одров.
— Сколько таких городов или поселков в сеторских лесах?
— Десятка два, хотя таких больше нет.
Насьта устало присел на низкий лежак и принялся стаскивать с ног сапоги.
— Я понимаю, Марик, о чем ты спрашиваешь, — ремини откинулся на спину и принялся жевать вываренный с медом стебель щавеля. — Нас мало. Конечно, ремини живут не только в поселках, похожих на наш, достаточно и поселений в один или два дома, но ремини очень мало. Нас всегда было мало. В семье ремини редко бывает больше двоих детей.
— Почему? — не понял Марик.
— Такушки принято, — хмыкнул Насьта. — Двоих прокормить легче, чем троих. Мы не раним землю лопатами и мотыгами, берем только то, что лес сам готов нам отдать. К тому же нас и не должно быть много, иначе не мы будем жить в лесу, а лес будет расти между наших домов.
— Послушай, — Марик недоуменно почесал затылок. — Вот у меня был мудрый опекун. Он говорил, что никакая семья не может себе позволить иметь мало детей. Дети умирают от болезней, иногда от голода, детей воруют работорговцы, они могут погибнуть от нападения дикого зверя, наконец, дети возмещают убыток народа после войн. Ни одна семья не может себе позволить иметь мало детей. Всякий род может угаснуть из-за бездетности.
— Вот поэтому мы и не воюем, — кивнул ремини. — Хотя, я считаю, что нам просто повезло. Почти весь правый берег Манги покрыт непроходимыми болотами! Пробраться что в наши земли, что теперь и в ваши — можно только по течению Ласки, но это сумеет не всякий, пороги на реке опасные, а те, кто их знает — те же рептские кузнецы, сами не хотят открывать дорогу кому бы то ни было к Сеторским горам. Но если кому-то ремини попадутся на зуб, то я сочувствую этому зубу. Правда, к сожалению зубов много, а ремини мало.
— Почему вы пустили баль на свои земли? — спросил Марик. — Из-за золота?
— Ах, вот ты о чем, — нахмурился Насьта. — И много ты видел золота в домах ремини? Или думаешь, что мой отец озолотился, изготавливая мечи? Он, мой драгоценный, каждый меч по полугоду между ладоней тянет. С таким выходом не разбогатеешь. Нет, парень, золото в домах ремини редкий гость. Золото — зло, парень. На себя зло тянет и со злом готово слиться неразделимо. И не выкупал Эмучи за золото долину Мглянки. Договор золотом баль скрепили, это было. Баль оказались первым народом, который пришел к ремини с просьбой. Да и немного было в вашем Храме золота. Считай, что пошло оно на доброе дело. К тому же по цене земли, хотя бы той, что платят теперь за меру земли вокруг Дешты, того золота и на десятину от занятых баль лесов не хватило. Да и не Эмучи это был, если уж на то пошло, Эмучи храм не покидал, другой человек… приходил. Ну… заплатил, да.
— Почему же вы отдали земли? — не понял Марик.
— Так кто же их отдавал-то? — взмахнул руками Насьта. — Соседство мы отдали, а не земли! Или ты думаешь, что вся Сетора под ремини? Человек ваш обошел все сеторские земли от моря до южных гор, увидел, что долины Мглянки ремини не жалуют, пришел к нашему мудрейшему и попросил убежища для баль. Сказал, что рано или поздно захлестнет Оветту грязью и кровью, надо будет остаток лесного народа сберечь. Вот и все. Разве мог мудрейший ему отказать? Или ты бальскую же поговорку не слышал? Не откусывай кусок, что не вместится в роток.
— Не понимаю! — заупрямился Марик.
— Одры там не растут! — громко прошептал Насьта. — Почва вдоль Мглянки глинистая, не принимаются там саженцы, а ремини без одров не могут. Это как дышать! Сайды не могут без моря, хенны без степи, баль без родных лесов, а ремини без одров. Ремини в пустыне сможет жить, если одр в ней корни пустит, лишь бы родник из-под корней бил, да было что в рот бросить. Понимаешь?
Не понял тогда Марик, да рукой махнул. Не его дело, с каким злом и как золото сливается. Не его дело, отчего ремини к чудесным деревьям как грибы приросли. Сок их и вправду не хмелил, горчил даже, но потом, после глотка слаще вина казался. Голову яснил так, словно водой черепушку изнутри ополаскивал. А так-то, какой толк от одров? Да, ни мошек, ни гнуси какой хворой в ветвях белоствольных гигантов и вправду не водилось. Шишки, правда, с них сыпались такие, что с каждой можно было орехов горсть вытрясти, а саму шишку потом в очаг бросить, где три или четыре штуки их всю ночь жар давали. Но ведь и ни ветки сломать, ни листочка сорвать, как оказалось, со священного дерева ремини не могли! Только что жертвы деревьям не приносили. Хотя, вроде бы, как и баль, верили в Единого? Демон их разберет…
— Когда мудрейший придет? — спросил Марик. — Не могу я больше тебя объедать! Или дай мне работу какую!
— Когда надо, тогда и придет, — пробурчал сквозь сон Насьта. — Работу я тебе не дам, а то и от тебя ко мне как-нибудь молодец придет с требованием долга. А объесть меня не бойся, у меня семьи пока нет. И щеки мои пока круглее всех ремини, что ты встречал. Ты сегодня руку уже перевязывал? Иди, дорогой мой, к Оре, дай поспать. Мне вечером опять в дозор отправляться. Ей помогай, у нее забот больше, чем у меня…. Да не суетись зря! Придет мудрейший, скоро придет. И человек, что на встречу с тобой меня послал, тоже придет…. Потерпи….
С тем Марик от Насьты и ушел, чтобы отправиться, как он это делал неизменно около полудня, к дому, где жила Ора, потому что именно она и наполняла его грудь радостью. Мог ли он думать об этом, когда отправлялся в путь? Мог ли он думать об этом, когда впервые разглядывал долину с ее гребня? Несколько холмов соединились вершинами, обнажили наружу обрывы, а внутрь обратили пологие склоны, словно для того, чтобы бьющая из полудюжины холодных родников чистая вода, могла соединиться в крохотное озерцо, перехлестнуть через темные валуны и побежать единственным оврагом через орешник и иччу к Ласке. Река и в самом деле закладывала широкую петлю вокруг поселка ремини, вот только Марик едва речи не лишился, когда в первый же день, покачиваясь от слабости и вышагивая вслед за озабоченным Насьтой, миновал и озерце, и кузню Уски, и наиболее древние одры с потрескавшейся белой корой, поднялся неприметной тропинкой на вершину желтого утеса, но оглянувшись, никакой долины не обнаружил за спиной, а только топь во все стороны — бескрайнюю и гнетущую.
— Не удивляйся ничему, — довольно ухмыльнулся Насьта. — Всякий как может, так свое жилье и кроет. Я тебе вот еще что скажу, если кто по неразумению это болото разведать решится, то в болоте он и окажется.
Не стал Марик ничего выспрашивать, повернулся к реке и увидел внизу не просто заворот искрящейся вечерними лучами Аилле реки, но ту самую отмель, на которой он впервые встретился с Насьтой и где ему привиделся танец речного духа.
— Неплохо вы устроились, — озадаченно протянул тогда Марик. — Мало вам морока колдовского, так и кроме него с трех сторон рекой прикрылись, с четвертой болотом, да и со всех четырех еще обрывом огородились! Я уж про отворотную магию не говорю! И как это только к вам дорогу всякая нечисть находит!
— Ну, не так уж давно она стала ее находить, — недовольно пробурчал Насьта и поторопился свернуть на узкую, едва заметную среди каменного вьюна тропку. — Ты, приятель, будь осторожней. Шею себе не сломай здесь или еще какой ущерб не устрой.
Шею Марик умудрился не сломать, хотя пару раз с трудом удерживался на ногах и не единожды ухватывал в горсть упругие стебли, ползущие по выщербленному известняку. Узкий берег на излучине реки образовывал мысок, густо заросший вековыми соснами, которые рядом с ордами показались бы карликовыми деревьями, и среди желтоствольных красавиц прятался каменный дом. На первый взгляд он ничем не отличался от обычного каменного дома, похожий, пусть и маленький дом Марик сам видел в соседней деревне, когда еще семнадцати лет ходил к тамошнему кузнецу выкупить за стертую серебряную монету и тушу кабана заказанный диковинный наконечник для копья, но этот дом кроме всего прочего поражал и очевидной древностью. Сложенный из грубо отесанных речных валунов, он не врос в землю только потому, что стоял на огромной плоской известняковой глыбе, которая вместе с соснами надежно скрывала удивительное жилище со стороны реки. У подошвы фундамента стелились тысячелетние голубые мхи, а забитый в щели минерал за долгие годы сам окаменел и превратил стены сооружения в монолит. Издали дом казался пожилым крепышом, но вблизи являл собой насупленного верзилу. Следуя узкой тропкой, Марик обошел вслед за Насьтой диковинное жилище вокруг и разглядел в каждой стене по паре высоких узких окон, в которые не протиснулась бы и голова, и крепкую, обитую железом дверь, к которой вели узкие ступени, и тяжелые серые плиты, прикрывающие жилище сверху вместо древесной коры и тростника.
— Однако, крепость, — уважительно заметил Марик.
— Всякий дом должен быть крепостью, если он не реминьское жилище, а этот домик как раз не реминьское жилище, он здесь стоял, когда еще ни одного одра в долине не было, да и о ремини в округе еще и не слышали, — проворчал Насьта, вытирая пот со лба, но повел парня еще ниже к воде, где перед полосой прибрежных кустов вскоре обнаружился и навес из толстых жердей, и уличный очаг с попыхивающим паром котлом, и несколько грубых лежаков, на которых под ветхими одеялами лежали люди. Тяжело дышала реминька средних лет, смахивая слабой рукой со лба капли пота. Морщился уже знакомый Марику воин с перевязанной рукой, на свое счастье встретивший арга на ветвях дуба. Ковырял нос темноглазый подросток. Всхрапывал крючконосый незнакомец, закутавшись одеялом под горло.
— Вот, — оглянулся по сторонам Насьта и разочарованно вздохнул. — Садись, парень, на лежак, и жди лекарку свою. Ору, то есть. Здесь она где-то. Теперь, пока мудрейший в селении не появится, каждый полдень тебе сюда. Конечно, пока болячки не залечишь. И то сказать, болячки! Арга прикончил, а сам только оцарапался! Ладно, некогда мне с тобой прогуливаться, пошел я. Еду тебе я в шалаше твоем оставлю, копье твое и ножики у меня в шалаше, тебе кто угодно дорогу покажет, но ты не смотри, что я в травяном доме живу, дома у нас строят только, когда жену берут, а на зиму я к отцу перебираюсь. Да ну тебя, заболтался я тут с собой…
Словно рассердившись на самого себя, Насьта раздраженно замахал обеими руками и засеменил обратно в гору. Марик огляделся, присматриваясь к берегу, очагу, грубой ткани, подвязанной к навесу, готовой прикрыть лежаки от ветра, пучкам трав, висящим на жердях, но едва устало присел на серый войлок, одеяло на ближнем лежаке шевельнулось и из-под него показалась седая голова, напоминающая лесную луковицу, как если бы ее начали шелушить от белесой чешуи, да так и бросили, даже не оторвав пук тонких корешков, отходящих от самой узкой части. Голова внимательно присмотрелась к Марику, горестно вздохнула и снова нырнула под одеяло, испустив в мнимом уединении разочарованный вздох.
— Ты, что ль, юррга убил? — пропел тонкий скрипучий голосок.
От неожиданности Марик едва не подпрыгнул, обернулся, снова обернулся, и успокоился только тогда, когда понял, что непривычную в реминьском лесу сайдскую речь извлекает из себя как раз эта самая лукообразная голова.
— Какого юррга? — Марик вздрогнул еще раз и раздраженно сплюнул на утоптанный пол. — Ты, дед, хоть знаешь, что такое юррг? Я его, конечно, сам не видел, да и как его увидишь, если не водятся они с этой стороны Манги, но старики у нас в деревне рассказывали об этом звере. Он ведь ростом, мало, что не с медведя, но его ни с кем не спутаешь! Он же словно громадный древесный еж! Иголки у него во все стороны и каждая в половину локтя! Да он даже если только мимо пробежит, может мясо до костей содрать! Хвостом махнет, насквозь иглами прошибет вместе с самым прочным дубленым доспехом! А уж если он зубами хотя бы вскользь кого цапнет, то все, сгребай хворост на последний костерок, сам превратишься в полузверя и зарубят тебя свои же деревенские, как поганца неизлечимого. Вот такой зверь, юррг. И убить его можно, только если вдарить по хребтине тяжелой дубиной, потому как меч его шкуру не пробивает. А тут я проткнул копьем какого-то арга. Тоже не без магии зверюга, но так-то большая собака с виду, и больше ничего. Хотя, шкура у нее прочная!
— То-то и оно, — пропел из-под одеяла дедок, шевельнулся, поскреб желтым ногтем голую впалую грудь и добавил. — Собака и есть. Только на колдовство рисское надломленная. А ежом она в двух случаях становится — когда толпу на части рвет, и по молодости. Молодой юррг часто иглу топорщит, вместо того, чтобы зубами орудовать. А вот когда он прижимает ее, вот тут и в самом деле ни мечом, ни стрелой его не возьмешь. Ты бы спросил приятеля своего, как эта зверюга, что ты завалил, по-сайдски, а не по-реминьски зовется.
— Подожди, — Марик напрягся и даже уперся в лежак руками, не обращая внимания на пронзившую предплечье боль. — Так ты хочешь сказать, что меня юррг зацепил?
— Выходит, — зевнул дедок, явно собираясь снова задремать на свежем ветерке. — И ты при этом, парень, прости уж меня старого, не сдох. Хотя должен был. Правда, одно объяснение у меня этому чуду пока есть.
— Это какое же? — растерянно пробормотал Марик, потому что мысль, что он собственноручно уложил юррга, никак не вмещалась у него в голове.
— Самое верное, — закряхтел дедок. — Удача дураков любит.
— А-а, — разочарованно протянул Марик и тут же раздраженно засопел. Что же это он тут прохлаждается, когда нужно срочно бежать в родную деревню, выпросив у Насьты, конечно, какое-никакое подтверждения совершенного им подвига! Да после такого не он будет стараться ровней воинам становиться, а они станут к нему примазываться!
— Загордился уже? — пропищал из-под одеяла дедок.
— С чего бы это? — задрал подбородок Марик.
— Действительно, — закашлялся дед. — Подставил дурень копье, зверь на него пастью и налетел. Гордиться нечем.
— Так уж и нечем? — стиснул зубы Марик, потому что тут же понял, что с таким же успехом он мог бы явиться в родную деревню с телегой, груженной золотом, — славы много, а дружбы еще меньше, чем было, потому, как и ту, что появится, на просвет проверять будешь. Да и не он ли только что втолковывал Уске слова Лируда, что настоящий воин каждую ступень, на которой стоит, сколько бы не прошел перед этим, должен считать самой первой и самой трудной. Куда уж ему, Марику, добычей хвастаться, если он даже еще и не воин? Нашил тут лоскутов на куртку. Я убил трех медведей! Волков без счета! Тьфу!
— Чего замолчал-то? — проскрипел дедок.
— Ладно, — примирительно проворчал Марик, осторожно стянул с больной руки куртку и начал заворачивать разодранный рукав. — Я о гордости и не заговаривал вовсе. Ты бы не теребил меня зря. Чего с дурнем языком чесать? Сегодня повезло, завтра удача в кусты прыгнет. Знаешь, как бывает? Старик один мне так говорил, если петь хочешь, пой в голос, если пить хочешь, пей вдосталь….
— А если плыть хочешь, не торопись, да остерегись, пока дальнего берега не разглядишь, — продолжил присказку дедок. — Петь в голос хорошо, конечно, только вот как бы голос не сорвать. Удача-то как белка зеленая. Приручить такую зверюгу — тяжкий труд, но уж если приручил — не отстанет от тебя, пока не сдохнет. Но тут дело ведь в чем: дурень ты, не дурень, а юррга взял и от яда его не сдох. По уму задуматься следует, за что тебя боги любят.
— Как это? — не понял Марик.
— Прикинуть надо, куда ты шел, — хихикнул старик. — Тут ведь как, удача может и в помощь явиться, а может и в яму глубокую заманить. Понять следует, дальше топотун продолжать или в обратную сторону развернуться!
— Дед Ан! — раздался юный голос со стороны реки. — Чего пристал к парню? Ладно, мне голову туманом застишь, а молодца-то что смущаешь?
Замер Марик. С утра встречи ждал, хотя даже подумать о ней боялся, а вдруг и эта девчонка маревом окажется, как речной дух на близкой отмели, а как увидел, только что не задохнулся от оцепенения. От самой реки Ора поднималась. Ведро деревянное в одной руке тащила, другой волосы мокрые поправляла, а как взгляд Марика поймала, платье длинное одергивать начала, за пояс подоткнутое.
— А и вовсе не нужно его смущать! — вытянул тонкую шею дедок. — Он и без меня смущенный! Вон, посмотри-ка. Только голосок твой услышал, а уж лицом пятнами красными покрылся! Эх, жаль, что подруги твоей востроглазой нет, она бы мне скорей помогла, но так и у тебя пальцы добрые! Даже, как бы не добрее, чем у нее. Жду не дождусь, когда ты мне спину мою старую поправишь. Вот ты бы молодца за водой посылала, а сама бы больными занялась. Смотри-ка, тут у тебя и без него пяток немощных. Со мной конечно, без меня четыре выходит.
— Да я бы с радостью, — Ора прошлепала босыми ногами к котлу, опрокинула в него ведро и устало поправила мокрую прядь на лбу. — Я бы с радостью, да уж больно рана у него тяжела была. По уму-то сейчас как раз его следовало бы в землю закапывать или на костер мертвенького класть, а он, смотрю, гарцует, как камень по склону. Как я могу его за водой посылать?
— Да ты уж пошли, — пропел дедок. — Заодно и посмотрим; и насчет мертвенького, и насчет раны. Ну, ты что, парень, окаменел или как?
Чуть было бегом не помчался Марик вниз по склону. И помчался бы, если бы грудь болью не пробило, когда он ведро за ременную петлю ухватил. Ничего, в родной деревне и больней бывало. Стиснутые зубы и не от таких ран помогали. Нашел тропку в прибрежных кустах, выбрался на берег, набрал воды, смочил голову, чтобы огненные пятна из глаз выгнать и обратно отправился. Да, раны ранами, а силенок-то за три дня поубавилось, иначе, отчего бы все как туманом застилало? Тут, главное, до места добраться, ведро возле котла ровно поставить, и не упасть на лежак, а сесть. Тем более и на остальных лежаках народ расчухался. Мальчонка черноглазый нос в покое оставил и выставил замотанную тряпицей руку. Женщина с бледным лицом попробовала сесть. Воин с ожогом приободрился и с залихватским видом начал щелкать орехи. Прилаживая поверх одеяла перемотанную с жердями ногу, зашевелился крючконосый чужак. А дедок уже не лежал на войлоке, а блаженно улыбался, натягивая на худое тело серую рубаху. И запах от него шел знакомый. Марик как в полусне носом втянул, точно определил — и хвою давленую, и сок цветочный, и вар смоляной, и яд пчелиный. Вот только Лируд в состав яда добавлял больше, хвою не давил, а настаивал, да и варом не увлекался. Да, лучшее средство для старых костей.
— Денька на два, на три хватит, а потом опять приду, — старательно запихивая ноги в серые сапоги, бормотал дед. — А может и того раньше. Ты тут, парень, девчонку нашу не обижай. Она хоть и не из ремини, а все одно, как родная нам. У нее в руках всякая болячка сама собой проходит. К нам сюда со всей Сеторы ремини бредут с неизлечимыми хворями, а то, что мало их теперь, не твоего разума дело. Ремини вообще редко болеют! Зато смотри, даже репт не гнушается у нашей девчушки сломанную ногу править. Так, Вег?
— Замучил ты уж болтовней, — поморщился крючконосый. — Ничего не скажу, руки у Оры как птицы, вот только не лечиться я к ней плыл, а с делом в горы. Другое дело, что со сломанной ногой я там попутчикам моим не помощник, а обуза. Ничего, товарищи мои обратно проходить будут, и меня заберут, а то и девчонку вашу, если уговорить ее успею.
— И не надейся, Вег! — махнула рукой Ора, вливая какой-то отвар в рот женщине. — Зачем мне в Ройту? Тут я одна из немногих, а в Ройте вашей потеряюсь, как песчинка на морском берегу, да и не рептка я…
— И что с того? — сразу стало ясно, что старую песню затянул крючконосый. — Сейчас народу в Ройте втрое против прежнего! Кого только нет! Тех же ваших дучь много, а уж с учетом того, что хенны Радучу уж не оставят, так и соплеменники твои Репту не покинут!
— Не нужны мне соплеменники, — тихо, но твердо произнесла Ора, прислонив ухо к груди затихшей женщины. — Не поеду я, Вег. Сердце мое молчит и разговаривать его бесполезно, если само не заговорило. К тому же меня здесь… доля моя держит. Ты лучше скажи, что ж ты на подружку мою не заришься? Ведь и ногу она тебе вправляла, и умения у ней куда как больше моего, если все что я знаю, это малая толика, что я у нее ухватить успела? Да и на лицо она куда как меня краше. Не просто краше, где бы ни оказалась, первой бы красавицей слыла! Или не так?
— Так, — с досадой махнул рукой Вег.
— Так, — мечтательно откинулся на спину воин с перевязанной рукой.
— Ага, — расплылся в глупой улыбке мальчишка.
— Точно так, — кашлянул дед и, почесав затылок, поднялся. — Хотя никак это, дорогуша, нашей симпатии к тебе не отменяет. Однако пойду я, болезные. Ты, парень, — он погрозил Марику пальцем. — Ты, Ору не обижай. Или я это говорил тебе уже? Ладно. Умные слова и повторить можно. Эх, был бы я моложе хотя бы лет на сто….
— Так, — повторил крючконосый, когда старик уже проковылял вверх по склону с полсотни шагов, а Ора занялась ладонью мальчишки. — Все так ты говоришь, только вот подружка твоя, хоть и красавица, которых я и не видел никогда, но только всякий раз, как она по делам каким тебя покидает, мне прямо как стержень железный из сердца выдергивают. Ты пойми, что твоя красота нутро греет, глаз радует, а ее красота, словно молния, если ударит и не увернешься, то уж никакое лекарство не поможет. Да и глаз у нее….
— Хороший глаз, — улыбнулась Ора. — Оба глаза хорошие.
— Да, — кивнул Вег. — Как посмотрит, так тут же хочется бежать, куда глаза взглянут. И не оборачиваться!
— Вот видишь, — Ора ловко приложила к рассеченной ладони мальчишки какой-то вар и проворно начала перематывать ее чистой тряпицей. — А что если это только на тебя так и действует, чтобы нога твоя быстрей заживала? Бежать-то — здоровая нога нужна!
— Быстрей, не быстрей, а все одно, две недели еще проваляюсь здесь, — буркнул Вег. — Как раз и Рич твоя вернется, а там уж и товарищи мои заберут меня.
— Не обижайся, Вег, — улыбнулась Ора крючконосому так тепло, что в сердце у Марика вдруг зашевелилось что-то колючее и жадное, но она уже обернулась к баль. — Теперь ты. Ну-ка, показывай, что тут у тебя?
— Почему «Рич»? — хрипло спросил Марик, наблюдая, как умелые пальцы осторожно снимают тугую повязку с его ребер. От Оры пахло мазью, которой она натирала деда, а так же рекой, медом и еще чем-то неведомым, но сжимающим сердце сладостной болью.
— Я знаю, что по-бальски «Рич» — значит, дочь, — проговорила Ора. — Так ведь подруга моя не балька, она сайдка. Кто знает, может быть у сайдов это слово в именах ходит? Так, что у нас здесь?
Она осторожно коснулась огромного кровоподтека, расплывшегося у Марика на левом боку. Марик поморщился от боли, но не издал ни звука.
— Ребра целы, остальное — ерунда, — улыбка тронула ее губы. — Повязку носить не следует больше, но и резких движений в ближайшую неделю не советую. Теперь рука.
Под травяным компрессом Марик с удивлением увидел ровный шов, как будто рассеченную ткань сшивала мелкими стежками какая-нибудь деревенская умелица. Рана, которая тянулась от кисти до локтя, потемнела, пропитавшись соком тугих коричневых листьев, и почти не болела, только отозвалась покалыванием, едва Марик попытался разогнуть руку.
— Юррг рассек тебе руку не зубами, — прошептала Ора. — Игла с его шкуры вошла тебе под кожу, повезло, что одна, а то бы руку я тебе не спасла. Но ты был весь в крови зверя, так что должен был стать юрргимом и погибнуть. Я бы не спасла тебя. Рич научила меня обрабатывать и зашивать раны, но я не знаю, как остановить яд юррга. Не успела узнать, а Рич ушла как раз за день до твоего прихода. Но ты не умер. Не знаю почему. Тут моей заслуги нет. Ты был горячим, словно тебя трясла болотная лихорадка, а потом холодным как лед, я только смазывала тебе раны и вливала в рот настой папоротника. Ты выкарабкался сам.
— Откуда выкарабкался? — хрипло спросил Марик.
— Вот Рич вернется, и мы узнаем, — улыбнулась Ора и вновь затянула ленту на прижатых к руке Марика свежих листьях. — Она редко уходит надолго. Вот пока и все. Завтра в полдень я сменю повязку.
Марик посмотрел на Вега, перевел взгляд на ремини. И тот, и другой смотрели на Марика с досадой. Однако Ора легко избавила их от недовольства, всего лишь улыбнувшись каждому.
— Пойдем, — она поманила Марика рукой. — Я скоро буду кормить больных, но у меня кое-что есть для тебя.
Не чувствуя под собой ног, Марик добрел до каменного дома, поднялся по узким ступеням к двери и ступил на пол, выложенный из отшлифованного камня и засыпанный свежей травой. От стеблей и цветов в прорезанном узкими окнами зале пахло лугом, и Марику даже показалось, что ноги у него подкашиваются, когда Ора шагнула к одному из тяжелых сундуков, стоявших вдоль стен, и луч Аилле пронзил ее платье насквозь.
— Возьми, — она подняла тяжелую крышку.
— Что это? — Марик взял в руки сверток.
— Одежда, — она смотрела на него твердо. — Рубаха. Порты. Ткань на ноги. Исподнее. Возьми, потом, когда твои раны пройдут, и ты продолжишь путь, — она произнесла последние слова с некоторым усилием, — я дам тебе кое-что посущественней.
— Почему я должен брать это?
Марик почувствовал, как дыхание перехватывает в груди.
— Я не возьму!
— Послушай, — она взяла его за руку. — Этот юррг приходил, чтобы убить именно меня. Это точно. Я знаю.
Ора смотрела на Марика спокойно, но за ее спокойствием стояла и усталость, и воля, и такая уверенность в собственной правоте, что Марик только и смог пробормотать.
— Ты мне ничего не должна.
Она что-то поняла, потому что улыбнулась уголками губ и спросила.
— Не трудно было сходить за водой?
— Справился! — гордо выпрямился Марик.
— Каждый день после полудня будешь помогать мне. Работы много. За неделю уж одежду-то отработаешь.
«Каждый день!» — запело в груди Марика и он судорожно кивнул.
— Только не болтай при них, — она улыбнулась, глядя, как Марик, прижав сверток к груди, пятится к двери. — При больных, да и в селении не говори лишнего. И не переспрашивай никогда ни о чем. Ты никогда не станешь ремини. Ремини никогда не станут баль, дучь или сайдами. Мы всегда будем здесь чужими.
— А тебя я могу спросить? — неожиданно буркнул Марик.
— Да, — она замерла.
— Там, в тот же день, когда приходил юррг, — он запнулся. — Там были такие уродливые создания, похожие на людей. Эти твари тоже приходили, чтобы убить тебя?
— Нет, — она вздохнула. — Те твари приходили, чтобы убить Рич. Но у них ничего бы не вышло, даже если бы друзья Насьты пропустили их. Рич справилась бы даже и с юрргом.
Глава шестая. Рич
Неделя промелькнула так быстро, что Марик не успел оглянуться, как миновала и середина следующей. Кровоподтек на его боку рассосался полностью, а вскоре, озабоченно сдвигая брови, Ора сняла и повязку с руки. Она явно была обрадована выздоровлением подопечного, но радость смешивалась с досадой, словно столь быстрое исцеление Марика не совпадало с ее ожиданиями. А Марик тут же начал разрабатывать все еще побаливающую руку, точнее делать это не скрываясь, тем более что теперь компресс не соскакивал с предплечья, и ему не приходилось, поминая лесных духов, перевязывать ее каждое утро. Впрочем, время если не для перевязок, то для раздумий у Марика еще оставалось, потому что каждое утро он продолжал выстаивать у дверей Уски. Кузнец так ни разу и не почтил его встречей. Остальную часть дня Марик проводил у Оры. Он даже перетащил от Насьты копье и тощий мешок, сложил все это в каменном доме, а сам пристроился ночевать на одном из лежаков под навесом, тем более, что весна торопилась к лету, ночи были прохладными, но дышалось легко, да и костер под котлом почти не гас, и Ора не жалела теплых одеял для больных, которых не собиралось больше двух-трех человек. Да и не они занимали большую часть времени девушки, хотя с реминькой, которая страдала неведомой Марику хворью, Оре пришлось провести несколько бессонных ночей, пока именно дед Ан не посоветовал одно, как он сказал, верное средство. Правда Марику показалось, что главным в средстве был не состав сложного отвара, а особый обряд, который тому же Марику для памяти пришлось выцарапать на куске коры, но уже на следующий день больная уснула без стонов, а еще через три дня, благодарно кланяясь, ушла домой. Зато дед Ан, увидев, как Марик управляется с диковинными знаками, проникся к нему уважением и стал появляться у Оры в два раза чаще, чтобы то ли переброситься с удивительным баль лишним словом, то ли полюбоваться, как тот таскает воду, подсушивает выловленный из Ласки хворост, добывает рыбу или сортирует принесенные Орой лечебные травы.
— Первый раз вижу баль, который так много умеет и знает так много вещей, которые неведомы молодым ремини, — частенько повторял дед. — Насьте следовало бы поучиться у тебя, парень. Хотя, если уж он отказался стать кузнецом, что может уместиться в его голове и его руках? Всякий ремини должен быть воином, но ни один ремини не может быть только воином и больше никем.
— Разве Насьта не хороший охотник? — удивился Марик. — Да и не он ли днями и ночами пропадает в дозорах вокруг поселка?
— Все так, — грустно закивал дед. — Но вот знать бы, кого он там высматривает, в этих дозорах. Поверь мне, когда Рич вернется, он дозор перенесет к этому навесу и будет здесь главным дозорным.
— Неужели Рич нуждается в охране? — удивился Марик, но тут же взглянул на суетящуюся у котла Ору и продолжил не слишком уверенно. — Я слышал, что она может в одиночку справиться даже с юрргом?
— Кто ее знает? — пожал плечами дед. — Но с Насьтой она справилась. Впрочем, она не прикладывала к этому никаких усилий. Я, честно говоря, даже не уверен, что она помнит, как его зовут, и вообще замечает потерявшего покой парня. Честно говоря, именно это меня и успокаивает.
— Разве не Уску это должно успокаивать? — не мог понять Марик.
— Уска слишком упрямый ремини, — зажмурил слезящиеся глаза дед. — Он никогда не позволит себе управлять сыном, как бы не оговаривал его на людях. А жена кузнеца похожа на упрямую тень упрямого ремини. Да и Насьта такой же упрямый, хотя, может быть, не упрямее тебя. Пойми, парень, иногда лучше ничего не делать. Как бы ты ни старался изменить что-то в свою пользу, сделаешь только хуже, чем могло бы все завершиться естественным путем.
— Значит ли это, что лучше всего вообще ни во что не вмешиваться? — удивленно поднял брови Марик.
— Я же сказал — иногда, — тонким голосом отчеканил дед. — Во всех остальных случаях вмешиваться не только полезно, но и необходимо! Правда, следует признать, что отличать это «иногда» от всех остальных случаев человек чаще всего выучивается, когда все это ему уже не очень и нужно.
Марик терпеливо выслушивал болтовню деда, предполагая, что в собственном доме тот уже смертельно надоел потомкам и от него отмахиваются как от надоедливой мухи, и подумывал уже не столько о том, когда же, наконец, появится неведомый ему мудрейший, а о том, сможет ли он когда-нибудь оказаться с Орой наедине. Для чего ему это нужно, Марик толком и не знал, скорее всего, он собирался замереть с подветренной стороны наподобие кривого тотемного столба и жадно вдыхать сводящий его с ума тонкий девичий аромат, но даже такой малости у него никак не получалось. То с дальнего поселка приносили малыша, рассекшего себе сухожилие на маленькой ручке. То кто-нибудь из подростков долины объедался сырых грибов. То нужно было принять тяжелые роды. Эти заботы не слишком утомляли Ору, но они почему-то отнимали те самые мгновения, когда Марик мог прислушаться к ее дыханию и запаху. В остальное время постоянно кто-то топтался поблизости. Прогуливался по берегу, опираясь на палку и недовольно косясь на Марика, освобожденный от жердей Вег. Торчала у навеса реминьская малышня, требуя, чтобы Марик показал им, как он сумел поразить арга и как бы он это сделал, если бы встретил ужасного зверя с мечом. Появлялся встревоженный Насьта, чтобы с тоской окинуть взглядом каменный дом и оставить овощи или орехи. Скрипел голосом и суставами дед Ан. Поговорить с Орой удалось лишь однажды, когда оставшийся к вечеру единственным больным Вег уже захрапел на своем лежаке, огонь, укрытый в яме под наполненным горячей водой котлом, начал угасать, и девушка сама присела рядом с Мариком.
— Ведь ты не понял? — она смотрела на тлеющие угли, но Марику казалось, что она смотрит на него.
— Чего я не понял? — спросил он и потянулся к ковшу с холодной водой, чтобы смочить внезапно пересохшее горло.
— Многое, — она оставалась спокойна. — Почему не следует болтать лишнего, почему мы чужие для ремини, сколь бы добры и гостеприимны они ни казались, почему, наконец, юррг приходил за мной, где Рич, и почему мудрейший никак не призовет тебя к себе.
— Да, — кивнул Марик. — То есть нет, не понял. Но я терпелив.
— Я заметила, — она говорила ровным голосом, и Марик вдруг почувствовал, что ее спокойствие настораживает его. — Ты упрям, но терпелив, это хорошо.
— Для кого? — спросил Марик.
— Для тебя, конечно, — Ора бросила на угли сухую ветку, и та изогнулась и истлела, не успев вспыхнуть. — Прежде чем я расскажу тебе кое-что, ответь сначала на один вопрос. Зачем ты пришел в долину?
— За мечом! — твердо сказал Марик, хотя сердце его требовало совсем других слов. — Мне нужен меч. Я должен стать воином.
— Зачем? — снова спросила Ора.
— Зачем? — недоуменно закашлялся Марик и снова глотнул воды. — Разве нужна какая-то причина для этого? Или мужчина может хотеть чего-то иного?
— Я из Радучи, — она продолжала смотреть на огонь. — Из чудесного Бевиса, что поднимает или поднимал розовые стены при впадении широкой Лемеги в море. Сейчас там хенны. Но когда… все было по старому, мужчины дучь хотели разного. Конечно, все их желания определялись богатством и силой рода, но они были понятны. Сын торговца мечтал стать более удачливым торговцем, чем его отец. Сын горшечника надеялся научиться делать такие горшки, звон которых будет подобен звону чаш, выточенных из хрусталя. Сын кузнеца хотел перещеголять отца в умении придавать куску железа изящные формы. Сын воина рассчитывал превзойти отца в воинском умении. Каждый хотел стать кем-то, чтобы добиться исполнения каких-то желаний, хотя порой сын горшечника становился воином, а сын кузнеца искусным ювелиром. Но каждый из них стремился к собственной маленькой победе, которая позволила бы ему вкушать ее плоды до самой смерти. Почему ты хочешь стать воином?
— Мой отец был воином, — пробормотал Марик. — Правда, я не задумывался о победе….
— Ты убил юррга, — проговорила Ора, словно размышляла вслух. — Но ты еще и отлично разбираешься в травах. Ты мог бы стать лекарем или травником. Смеси, которые ты готовил по моей просьбе, действовали лучше тех, которые составила бы я.
— У меня был наставник, — пожал плечами Марик. — Он научил меня множеству бесполезных вещей.
— Только мудрец станет учить бесполезным вещам, — рассмеялась Ора. — И все-таки, белолицый баль Марик, почему ты хочешь стать воином? Или ты как мальчишка мечтаешь, чтобы деревенские девушки провожали тебя взглядом? Чтобы другие воины склоняли головы, проходя мимо, встречали тебя как равного? Чтобы лучи Аилле сверкали на клинке твоего меча, когда ты как бы случайно вытащишь его из ножен на ладонь?
— Нет! — почти крикнул Марик, потому что вдруг понял, что именно этого он до сих пор и хотел. Треснул в костре уголек. Ударила хвостом в отдалении шальная рыба, отчего словно вздрогнули звезды в ночном небе. Недовольно заворчал во сне Вег и перевернулся на другой бок.
— Нет, — уже тише повторил Марик и облегченно вздохнул, потому что в следующее мгновение понял, что Ора угадала и не угадала. Все перечисленное действительно занимало его, но не было главным. Он с тоской поднял глаза к небу, на котором сияла полная Селенга, чтобы ухватить мысль за хвост. Эх, как легко подбирал нужные слова Лируд!
— Ты говоришь правильные слова, но в них не все, — Марик с досадой поморщился. — Они часть правды. Малая часть, которая развеется от ветерка. Всякий, натягивая на плечи новую куртку, радуется тому, что она красива. Но глупец радуется тому, что его одежда привлекает восхищенные или завистливые взгляды, а мудрец тому, что куртка тепла, прочна и удобна. Это не мои слова, так говорил мой наставник.
Марик вновь потянулся к ковшу, но затем махнул рукой.
— Конечно, я еще не мудрец, и меня занимает и то, и другое, но я становлюсь мудрее с каждым прожитым днем!
— В самом деле? — Ора рассмеялась. — Ну, за те десять дней, что ты живешь в поселке, глупее ты, во всяком случае, не стал. Дед Ан, до того, как ты появился, изводил разговорами меня, так вот он частенько повторял, что мудрость испытывается старостью. Настоящий мудрец умирает на пике собственной мудрости. Недостаток мудрости в старости приводит к слабоумию и старческой глупости. Мудрость способна высыпаться из человека так же, как сыплются орехи из дырявой корзины.
— Что тут сказать? — Марик вдруг почувствовал, что тепло разливается по его груди. — Вряд ли это должно меня тревожить. Ты неплохо залатала дыру в моей руке, так что пока моей мудрости ничего не грозит.
— Хочешь? — она протянула ему медовый корень, который он сам принес от Уски еще с утра.
— Нет, — Марик замер от прикосновения и про себя произнес имя своей целительницы, но вслух сказал другое. — Я думаю. О том, почему хочу стать воином. Я умею кое-что. Могу работать в поле. Могу охотиться. Приходилось добывать мед. Не боюсь никакой работы. Мой наставник научил меня читать и писать. Вбил мне в голову множество разного и непонятного. Но я буду воином. Буду воином потому, что в любом другом случае не стану никем. Сначала надо выжить, помочь выжить своим родным, а уж потом задумываться об остальном.
— Но ведь у тебя нет родных? — спросила Ора и поправилась после паузы. — Мне кажется, что у тебя нет родных.
— Почему ты так решила? — напрягся Марик.
— Когда ты… бредил, — она медленно подбирала слова, — ты не произнес ни одного имени!
— Все так, — выдавил сквозь стиснутые зубы Марик и опустил голову.
— Мудрейший скоро призовет тебя, — вздохнула Ора. — Он тут… недалеко. Присматривается к тебе. Думает, как выпутаться из истории с Уской. Думает, как отказать тебе и не потерять кузнеца. Знаешь, почему ремини мало? Не из-за того, что у них мало детей, хотя это важно. Ремини слишком горды. Они никогда не отступаются. Ты знаешь, что не бывает ремини рабов? Даже если ребенка ремини украдут, весь его род отправится вызволять несчастного, а если не вызволит род, поднимется все селение. И пусть они все найдут смерть, но ремини не будет рабом! Кто еще из народов Оветты может похвастаться такой стойкостью? Но стойкий гибнет чаще, чем слабый. Пусть даже он не сдается. Если бы не эти болота на западе, репты или сайды давно бы уже истребили лесных гордецов. И никакая магия бы их не спасла. Всюду, где ремини сталкиваются с обычными людьми — они гибнут. Гибнут, когда выходят к северному побережью, когда спускаются вниз по течению Ласки, когда отгораживаются от всего мира ловушками и магией. Гибнут везде, кроме заповедных рощ, но рано или поздно гибель настигнет их и здесь.
— Но почему? — не понял Марик. — Кому они могут принести зло? Разве мало несчастных, безропотно влачащих рабскую долю? Разве земли ремини, скрытые в болотах и чащах дикого леса кому-то нужны? Это земли баль рвали на части их соседи, а сеторские леса всегда слыли непроходимыми и непригодными для жизни!
— Одры, — коротко произнесла Ора. — Ремини не живут без одров. Они верят в Единого, но служат священным деревьям, как служат друг другу члены одной семьи. Но под белой корой гигантов скрывается прочнейшая древесина огненно-красного цвета. Если кому-то из лесорубов удается срубить одр, то иногда он и его потомки на несколько поколений становятся богаты. Излишне говорить, что срубить одр возможно только тогда, когда срублены все ремини, живущие под его кроной.
— Ничего не слышал об этом! — удивился Марик.
— Еще бы ты услышал! — прошептала Ора. — Утварью или отделкой жилищ из древесины одра могут похвастаться только короли и богатеи, но даже они не могут быть уверены, что однажды их жилище не займется пламенем и их собственная жизнь не оборвется по нелепой случайности. Поэтому изделиями из одра не хвастают. А уж удачливый лесоруб должен скрываться до конца своих дней. Только не думай, что ремини с обнаженными мечами врываются во дворцы Оветты. Золото способно на многое. Золото помогает узнавать тайны. Золото подкупает убийц. Золото поддерживает на рынках Ройты, Дешты и Скира уверенность, что на западном берегу Манги всякого ждет смерть. Ремини не только стойки, но и расчетливы.
— И все-таки они бедны… — пробормотал Марик.
— Ну почему же, — девушка тихо засмеялась, потом произнесла с горечью. — Скорее они умны и скрытны. Поэтому и не стоит болтать лишнего в их присутствии. Следует быть скрытным со скрытными, хитрым с хитрыми, осторожным же следует быть всегда. Лишнее же вообще не стоит болтать. Тот, кто много говорит — становится подобен сосуду, из которого выплеснуто содержимое.
— Разве я похож на болтуна? — вскипел Марик. — Я всего лишь спрашивал!
— Вопросы иногда говорят больше, чем ответы, — усмехнулась Ора.
— Кто-то научил тебя этой мудрости? — спросил Марик.
— Мой отец был купцом, — вздохнула Ора. — Он говорил, что купцом быть опаснее, чем воином. Нужно знать не меньше мага и книжника, уметь не меньше лучшего ремесленника, терпеть не меньше воина, и при этом видеть вперед не только на лигу, но и на день, а то и на год.
— Я вижу только то, что видят мои глаза, — пробурчал Марик. — А глаза видят, что ремини пусть и не голодают, но они бедны.
— Так помоги им разбогатеть, — печально рассмеялась Ора. — Ведь ты не откажешься за меч отправиться в реминьские копи и добыть за год или два несколько самородков? Они очень пригодятся народу, который сидит под кронами чудесных деревьев, ненавидит всех, кто, как им кажется, претендует на алые деревяшки, и ничего не делает, чтобы изменить свою жизнь, хотя бы засеять зерном или овощами маленькое поле. Вот и поможешь им разбогатеть или еще больше отгородиться от остальных детей Оветты. Только вряд ли это их спасет. Оветта уже окровавлена. Но будет залита кровью как дождем. Сейчас никому нет дела до одров и ремини. Но рано или поздно о них вспомнят. И тогда все закончится. И для них. И для нас.
— И что же делать? — растерялся Марик.
— Не знаю, — Ора поежилась и двинула ногой в огонь пару поленьев. — Жить.
— Здесь? — Марик бросил взгляд в сторону сосновой рощицы, которая без остатка утонула в сгущающей тьме.
— Это не мой дом, — вздохнула Ора. — И не дом Рич. Хозяева этого дома теперь далеко. Надеюсь, что они живы. Или кто-то из них жив. Мы с Рич присматриваем за домом. Лечим ремини, зарабатываем этим на еду. Но остаемся чужими для ремини, потому что мы не такие как они. Мы гнемся, а не ломаемся. Наша гордость меньше, чем желание жить. И мы всегда приводим с собой беду.
— Юррг? — прошептал Марик.
— Вся эта пакость из-за нас, — спрятала лицо в ладонях Ора.
— Но почему? — не понял Марик.
— Почему? — Ора замолчала, уставилась на потемневшие поленья, по которым уже карабкались языки пламени. — Прошлое идет за нами. Мы с отцом бежали из Риссуса. Правда, сначала мы уходили из Бевиса, спасаясь от серых, затем ждали чего-то в Деште, а потом оказались в Риссусе и только там поняли, что попали в западню. Риссус никого не отпускает просто так. Всякий, вошедший в его пределы, рано или поздно становится рабом золотого города. Но боги послали нам удачу, нам удалось бежать, правда, отдельно друг от друга. Мы встретились с отцом на окраине бальского леса, наняли корептов для охраны и отправились в Ройту. Но не добрались. Нас хватились и послали по следу юррга. Надо было сразу уходить за Мангу. Мы шли по берегу, когда юррг нагнал нас. Корепты отбились от зверя, потеряв шестерых, но и мой отец погиб. Когда все закончилось…. горцы бросили меня. Они забрали почти все и бросили меня. И я была благодарна им уже за то, что они не убили меня, не надругались надо мной. Через месяц я встретила семью беженцев, вместе мы соорудили плот и отправились вниз по течению, а потом наняли репта с лодкой. Там, в устье Ласки и теперь, верно, стоят их лодки. Они берутся доставить всякого до Сеторских гор. С этой стороны есть деревни. Но репты берут дорого. Очень дорого. Говорят, что за Сеторскими горами дикие земли, и там нет ни хеннов, ни сайдов, ни Суррары, но туда нельзя пройти. Но можно зацепиться и с этой стороны. Я отдала лодочнику почти все, что у меня осталось. И вышла вот на этом берегу. И встретила здесь Рич.
— Давно это было? — спросил Марик.
— Полтора года назад, — Ора помолчала. — Когда я оказалась здесь, пошел снег. Рич приняла меня как родную сестру.
— И ты думаешь, что юррг пришел за тобой? — произнес Марик.
— Рич сказала, что это может произойти, — Ора снова спрятала лицо в ладонях. — Она ходила к дозорам, смотрела, когда начали приходить эти… куклы. Потом появились какие-то мурры, потом опять куклы. А несколько дней назад со стороны топи пришли риссы. С ними был маг. Колдун с искрящимся глазом. Не все это видят, но я видела таких… раньше. И Рич заметила. Колдун приходил за мной. Рич проследила нить его поиска. Она сумела отвести ему глаза. Но предупредила, что этим дело не кончится. Обещала помочь, поэтому и ушла, чтобы увести эту погань, но, видно, не сумела. Это страшно. Если риссы послали юррга, это значит, что маги Суррары не отстанут от меня.
— Почему? — Марик с трудом ворочал языком, потому что вся легкость, что поселилась в его сердце в зеленой долине, растаяла в один миг. — Почему же ремини терпят вас здесь?
— Для ремини честь больше жизни. Точнее их жизнь и есть честь, — Ора вдруг улыбнулась. — Ты не поверишь, но эта земля, эта долина принадлежит не им. Сотни лет назад, когда они пришли сюда, этот дом уже стоял здесь. И тот, кто его построил, разрешил поселиться ремини в долине. Поселиться и посадить саженцы одров. Он поставил только одно условие; он сам, его дети и его гости будут жить в этом доме, на этом мысу и ремини не будут препятствовать им.
— И кто же хозяин дома? — не понял Марик.
— Меня пригласила сюда дочь хозяина, — пожала плечами Ора. — По крайней мере, мудрейший сказал, что она дочь хозяина. Дочь того, кто построил этот дом.
— Так сколько же ей лет? — удивился Марик.
— Она молода, — улыбнулась Ора. — И не думай, что я могу это объяснить. Мудрейший очень хитер, но он не лжец. А что касается тебя….
— И я не лжец, — нахмурился Марик. — Но и не мудрейший.
— Вопрос времени, — усмехнулась Ора. — Мудрость — вопрос времени и испытаний. Ты убил юррга. И еще одно. Рич сказала, что ты придешь…
— Так вот кто послал Насьту навстречу мне! — понял Марик.
— Не знаю, — Ора смотрела на огонь. — Просто Рич сказала мне, что к ней идет баль.
— Я? — поразился Марик.
— А что, разве пришел еще кто-то? — подняла брови Ора.
— Но почему я? — не понял Марик. — И почему к ней?
— Так сплела судьба, — раздались бальские слова из сумрака.
Марик вскочил на ноги. Темный силуэт приблизился и баль разглядел незнакомку. Она была ниже ростом и тоньше, чем Ора, но двигалась так, словно шла по залу принадлежащего ей дворца. Хотя, что мог Марик знать о дворцах кроме рассказов дряхлеющего Лируда? Одно было ясно, не ходят по дворцам девушки в сайдских охотничьих костюмах, не заговаривают первыми с мужчинами и не носят за спиной мечи.
— Рич! — воскликнула Ора, и тут гостья щелкнула пальцами и светильники, подвешенные на жердях, распустили язычки пламени.
И Марик окаменел. Но не от красоты гостьи, хотя в другое время сердце его бы затрепетало, столь совершенны были ее черты, несмотря на царапины на щеках, стянутые лентой черные волосы и впалые скулы. И не от магии огня, которую, не считая предсмертной ворожбы Лируда у костра, видел впервые в жизни. Марик смотрел на рукоять меча над ее плечом. Он никогда не видел этого меча, но знал его наизусть. Рукоять была чуть длиннее обычной, расширяясь в окончании на полпальца, орех потемнел от времени, но на серо-коричневом фоне отчетливо выделялись пятна гари. Древней гари, въевшейся в дерево, сглаженной тысячами бальских ладоней, отшлифованной до блеска зеркала.
— «Кровью закален и кровью храним», — омертвевшими губами вымолвил Марик затверженные наизусть слова.
— Точно так!
Рич одним движением выдернула синеватый с серебряной жилой клинок и шевельнула им над огнем лампы. Темная надпись вспыхнула отраженными искрами.
— Меч Зиди, — растерянно прошептал Марик. — Колючка. Мой отец три раза выходил к ступеням Храма Исс, пытаясь победить Зиди, но так и не сумел стать лучшим воином баль. А потом махнул рукой. Сказал, что пока Зиди жив, никто не сможет одолеть его. Так и случилось. А потом Зиди и колючка исчезли.
— Зиди мертв, — медленно проговорила Рич, нервно скривила губы и мгновенно вернула клинок на прежнее место.
— Но как у тебя оказалась колючка? — воскликнул Марик.
— Колючка? — по спокойному, словно выточенному из светлого камня лицу Рич снова скользнула холодная улыбка. — Это меч Сето, баль. Он не оказался у меня. Я взяла его во время обряда.
— Какого обряда? — сдвинул брови Марик.
— Я была смертным слугой Эмучи, — отчеканила она слово за словом.
— Рич? — раздался шорох из темноты.
— Насьта, — развела руками Ора и, действительно, к огню шагнул ремини.
— Опять ты? — развернулась к обескураженному сыну кузнеца Рич, и Марик узнал ее тут же! Узнал по тонкому профилю, по взметнувшимся прядям волос, по изгибу бедра, движению рук — узнал! Именно она была речным духом! Она танцевала на мелководье! Она скользила над водой как прядь летучего пуха в порывах теплого ветра!
— Вот, — растерянно хлопнул себя по бокам Насьта. — Дождался. Ты цела, хвала богам.
— Боги тут не при чем, — оборвала ремини Рич и повернулась к баль. — Как тебя зовут?
— Марик, — подобрался тот. — Марик, сын Лиди из рода Дари.
— Меня зовут Кессаа, — ответила Рич.
— Вот такушки, обухом по затылку! — крякнул Насьта.
— Ну, сколько можно? — заворчал по-сайдски Вег, натягивая одеяло на голову. — Мне дадут поспать или нет?
— Не слушай, — щелкнула пальцами Кессаа. — Что услышал, забудь навсегда. Спи сладко.
Глава седьмая. Знаки и слова
Наутро Марик не пошел к кузнецу. Насьта сказал, что ходить никуда не надо. Он появился в хижине с первыми лучами Аилле и посоветовал баль отдохнуть, хорошенько перекусить, прогуляться, спуститься к ручью, вытекающему из озерца, ополоснуться и вообще провести время в свое удовольствие, потому что вечером мудрейший, наконец, будет с ним говорить. Марик хмыкнул, он не очень хорошо понимал, как проводить время в свое удовольствие, потому как спать уже не хотел, а трапезу не мог растянуть на целый день при всем желании. Да и не до отдыха было, вчерашняя встреча занимала его мысли с самого утра. Привычка впитывать каждое слово, воспитанная в нем Лирудом, требовавшим внимательности и собранности, теперь едва не послужила причиной головной боли. Все, сказанное Орой и то немногое, что сказала Рич, или Кессаа, до того, как она сослалась на усталость и потребовала, чтобы баль отправлялся восвояси до утра, распирало голову до состояния внутренней немоты, но поверх этого утреннего недоумения сиял синеватый с серебряной жилой клинок. Марик развернул сверток, который принес Насьта, удостоверился, что нюх его не обманул — в тонкую лепешку действительно были завернуты печеные грибы, и, прихватив с собой и сверток, и неизвестно зачем взятое вчера из каменного дома копье, отправился к Ласке. Миновав круглую поляну и озерцо, Марик поднялся на вершину утеса, привычно оглянулся на возникший за спиной морок болота, но не пошел по тропе к каменному дому, а сполз между известковых валунов к ручью, продрался через орешник и заросли можжевельника и выбрался к Ласке на четверть лиги ниже по течению. Спустись он еще на пол лиги вслед за прохладными струями реки, так точно попал бы на то самое место, где почти две недели назад разглядывал почудившегося ему речного духа. Хотя, почему же почудившегося? Вполне осязаемого, пусть и обернувшегося странной девицей, управляющейся со священным мечом баль так, словно она родилась, сжимая в ручонке его рукоять. Интересно было бы посмотреть, вдруг подумал Марик, как бы однорукий Багди по своей всегдашней привычке ущипнул подобную девушку за мягкое тело, уж верно, в то же мгновение разучился бы самостоятельно развязывать тесьму портов, последней руки лишился бы! Эта мысль отчего-то развеселила Марика, он хмыкнул и не пошел дальше, чтобы не столкнуться с дозорным ремини, а то и с самим Насьтой, и стащил с плеч рубаху.
Последние дни баль не терял времени зря. Морщась от боли, он разрабатывал и тело, и руку, хотя Ора всякий раз придирчиво качала головой, потому что хоть рана и заживала на нем, как на деревенской собаке, но подсохшая кровь подсказывала — тянет парень израненную плоть, не дает ей зарубцеваться, выуживает из немощи былую легкость. С другой стороны, дучке было чему дивиться — за десять дней рана сомкнулась, уже через неделю пришлось жилку выдергивать, что края стягивала. А вот Марику и по сей день казалось, что на месте осталась жилка, что не дает руке воли, но, как говаривал тот же Багди, чтобы разогнуть — перегнуть надо, и тот же Лируд похоже отмеривал — чтобы тяжелое поднять, неподъемное ворочать надо, поэтому хочешь, не хочешь, а раны трудить придется.
Ощупал баль пожелтевший бок, который о себе только при касании напоминал, размял ставший багровым шов на руке. Повезло ему все-таки. О яде и задумываться не стоило, а игла, которую Марику так разглядеть и не удалось, ни кости не задела, ни сухожилия не порвала. Насьта еще потом заикнулся насчет доспеха, который и от такой малости мог воина оборонить, но баль о доспехе и раньше не помышлял. Что толку с пустых слов? Еще Багди на Марика орал, что тот на медведя без доспеха пошел, что может косолапый, даже будучи на копье насажен, одним взмахом лапы или плечо вывернуть, или шапку вместе с волосами смахнуть, да вот только заткнулся тут же, едва Марик спросил однорукого — дай мне доспех, всего медведя деревне оставлю. Промолчал Багди и правильно сделал, все одно ни шкуры, ни мяса Марик не взял, вот только и доспеха так и не заимел.
Присел Марик на сырую с утра траву. Повертел в руках копье, положил его перед собой. Нет у него теперь оружия. Когда очнулся, да пришел к Насьте за ножами и рубилом своим, сразу неладное заметил. Сожрала кровь юррга сталь. Впрочем, какая там сталь? Так, железо. Только и осталась ржа на оголовке древка, почистить пытался, но сразу понял, что до деревяшки счистит, оставил, так хоть упражняться с копьем можно.
Руки опустил Марик на колени, глаза закрыл. Было время — уши от насмешек Багди, да ровесников вяли, когда вот так же замирал загодя до схваток или тяжелых упражнений. Староста по-всякому не мог понять, зачем мозги перед нудной работенкой чистить, все одно, пакость приключится какая, присесть не удастся. Однако Марик и тут всякий смешок переупрямил. Если о чем и спорил он с Лирудом, так только не об этом. Тут и его отец еще успел присоветовать, освобождай, парень голову от шелухи, как добрая хозяйка зерно от кожуры лущит, иначе на зубах скрипеть будет. Вот и теперь, стиснул Марик зубы, затем расслабился, выкинул из головы все; и Ору, и Кессаа, и Насьту, и мудрейшего, и клинок Сето. Даже о ближней ступени — стать воином, все мысли рассеял. Ушами, ноздрями, каждой пядью тела обратился наружу и словно дым от шаманской трубки растворился на ветру. Улетел к небу, к тяжелым и сырым облакам. Приник к зеленой траве, дал пронзить собственную податливость ее стеблями, впитался ее корнями, повис каплей нектара на брюшке молодой пчелы, сорвался и разбился о прибрежный валун. Смешался со светлыми струями, расплел ленты речной травы и сплел их снова. Разлетелся во все стороны, растаял как летний снег и высох, взмыл паром и увидел сразу все — и далекие пороги на Ласке, гремящие бурунами, как ворота к великой топи. И белые шапки Сеторских гор. И зеленые пласты Холодного моря. И золотые купола молчаливой Суррары за дремучими чащами, изгибом Манги и частоколом брошенных сторожевых башен. И далеко на западе блеск еще одной великой реки, через жидкую плоть которой ползли и ползли тысячи плотов, тысячи узких лодок и десятки тысяч лошадиных морд. Расплылся, рассеялся Марик надо всей Оветтой и увидел сразу все — и разоренные селения, и бегущих людей, и дымы пожаров, и пульсирующее пламенем или мглою темное пятно на севере, на вытянутом пальцем между двумя морями куске земли.
Остановился Марик. Прислушался к шуму близкой реки, как к путеводной нити и вернулся туда, откуда и не исчезал и на мгновение. Ни разу он не забирался так далеко, только и удавалось раньше сверху родную деревню глазом окинуть, только ни удивления, ни оторопи не испытал. С чего ему недоумевать или шарашиться? Чай не колдун, и не быть ему колдуном, значит и нечего из полетов этих чудо сплетать. С другой стороны и не воин пока, а когда время придет воинскую долю вьючить, прибытка от полетов все одно не будет, если спокойствия не считать. Того самого, которое позволило ему и медведей брать без ущерба особого, и юррга на копье насадить, и всякое другое испытание без дрожи терпеть. Ерунду, конечно, Багди плел, не зря ему Лируд рот прикрыл, что толку с пустотой спорить, если она чужое по сторонам расплескивает, вовсе не нужно перед каждой схваткой на землю садиться. Это ж все равно, как флягу перед каждым глотком водой полнить. Спокойствие не просто набирается, но и тратится не в раз, конечно, если на невмоготу не напорешься.
Марик открыл глаза, уже вскочив на ноги. Бывшее копье словно само легло на руку, скользнуло по плечу, обернулось вокруг туловища, загудев на излете, и запело, заиграло тело, не исполняя команды умельца, а подчиняясь неслышимому ритму, который возник ниоткуда, но захватил и заворожил каждую пядь разгоряченного тела, заставляя мышцы то твердеть в камень, то растягиваться и наливаться огнем. Сколько раз еще три года назад, будучи угловатым неуступчивым подростком, он повторил эту тысячу движений, сколько раз перетасовал ее из связки в связку, пока появился ритм, пока тело не начало упиваться легкостью и свободой, не потому ли только и сумел взять третьего медведя, который вылетел с лежки в десяти шагах и не стал громоздиться на задние лапы? Ведь не на упор он его взял, на взмахе глотку рассек! Как только успел? Тело само все сделало, правда и корчилось потом в рвоте тоже само, и в порты не наложило от ужаса чудом, тут уж Марик к воле своей вернулся, не дал сам себе опозориться. Все-таки не зря посмеивался над ним худощавый одноглазый дучь, на котором шрамов было больше, чем морщин. Не зря заставил окоротить шест до четырех локтей. Не зря нудил, когда Марик неправильно ставил ноги, неправильно держал плечо, неправильно дышал. А как самые начала парню дал, стал к шесту груз вертеть. Тот сначала не понял ничего, а потом языку волю дал, зачем, да для чего. Одноглазый сначала засопел от злости, но потом все рассказал, да и куда бы он делся, от ловкости Марика хороший прибыток его новой семье шел. Оказалось, что не к копью он парня приучал. Не уважал одноглазый копье, объяснил, что в битве копейщик сила почти главная, но ценен он не один, а в куче, в строю, который не всякая конница опрокинет, не всякая рать затопчет. Если же копейщик со своим шестом заостренным против умельца с мечом или еще каким быстрым рубилом один на один схватится, то на том его копейная участь и угаснет. Тут одноглазый и расчертил на куске коры то, к чему Марика приучал. Древко на три локтя да рубило на полтора шириной в ладонь. Глевией оружие обозвал и начал расхваливать его.
Долго тогда Марик над картинкой сидел. И так, и так прикидывал, но никак не мог эту глевию в охоте употребить. До того третьего медведя ему еще два года пыхтеть следовало. Никак оружие, владению которым он уже год обучался, под медведя заострить не получалось. По-всякому выходило, что — либо согнется лезвие от тычка, либо скользнет по шкуре зверя в сторону, а значит ложись охотник и улыбайся медведю, пока он улыбку твою клыками соскабливать будет. Махнул рукой на незадачу Марик и продолжил науку одноглазого постигать, правда, то и дело подумывал, как ему перед медведем извернуться, пока через полтора года не вычертил нелепый лепесток-наконечник, который был длиннее обычного едва ли не в пять раз и годился не только для рубки, но и для тычка. Одноглазый долго смеялся, выпытывая, что это Марик себе измыслил — лопату ли, секиру какую сдвоенную или весло, чтобы поперек Мглянки выгребать, а Марик лоб хмурил и на своем стоял, что ему не только врага рубить надо, но и медведя в лесу без опаски встречать. Разозлился тогда одноглазый, орал, что такая мотня жесткость должна иметь, а значит весить будет, как кувалда, и ей не только тыкать не сподручишься, но и рубить не сможешь, силенок не хватит! Найдутся, — сузил глаза Марик и отправился делать заказ в соседнюю деревню к кузнецу, которому все равно было, во что сырое болотное железо плющить, лишь бы прибыток от каждого удара шел. Зато уж почувствовал Марик в последний год упражнений, как тяжело управляться с железным веслом, а иначе в деревне его копье никто и не звал. Пожалуй, на ладонь в плечах раздался, Багди даже охнул, когда Марик кабана на плечи взял и за пяток лиг до деревни дотащил. Вот тут-то придирки да насмешки окончательно из негромких в тихие обратились. Хорошо еще дучь махнул рукой и продолжил подсказывать да советовать, что изменить, что подправить, как поменять шаг да жест, чтобы игру глевией к этакому «веслу» приспособить. А потом вовсе пришел и признался, что все, что знал, он упрямому баль передал, а что передать и не мог, пусть баль на стороне вовсе не ищет, потому, как у Марика собственная башка на придумки горазда, а где башка упрется, упрямство свое выдолбит.
К тому времени Багди вовсе от молодых отстал, да и что с него было брать, он и сам толком ничего не умел. Да и деревне пользы от охоты больше было, чем от деревянного стука на поляне, да синяков и ушибов у собственных сыновей. К тому же и молодые не особо рвались кости ломать да сухожилия рвать, они уже к тому времени тайком вытаскивали отцовские или дедовские мечи, мерялись длиною и остротой клинков и мечтали о посвящении в воины, да о победах над врагами, кои должны были происходить быстро и без сильного вреда для их здоровья. В этих заботах у них времени и на насмешки над ненормальным «зверенышем» вовсе не осталось. Тут и привел одноглазый к Марику однорукого корепта из соседней деревни, который то ли заинтересовался чудаком, что лопату вместо наконечника на древко насаживал, то ли прибытка для семьи своей в сеторских лесах обретенной искал. И то дело, одноглазый-то за годы обучения не меньше трех оленей общим весом поимел с Марика, с полбочонка меда, да фазаньих яиц за тысячу. Уж на что его глаз-то недостающий добычу и умение не половинил, и то одноглазый в прибытке от ученика оставался, так что однорукому прямой резон прибыток урвать был.
Свардом корепта звали. С хмыканьем он смотрел, как Марик крутит и тычет своим «веслом», потом взял в левую руку палку и встал напротив молодого баль. Встал и так и не сдвинулся с места, если только шаг ногой в сторону сделал, но и этого хватило, чтобы и весло железное остановить и синяков на бедрах да боках у зазнавшегося «мастера бальской глевии» наставить. Так и появился у Марика новый учитель, а значит и новые подопечные, в числе которых оказалась молчаливая улыбчивая балька с двумя старшими детишками и двумя мелкими уже от Сварда прижитыми. Новый наставник хоть и случился одноруким как Багди, но калекой был на правую сторону, и отличался от ветерана всем, начиная с того, что предстал, несмотря на увечье, веселым и молодым. Ох, нелегко было его выкрутасы мечом левой рукой Марику на правую перенимать, а потом и левую в том же порядке разрабатывать! Опять же и Сварду с одной рукой попотеть выпало, когда Марик в ответ учил его ставить силки и ловушки, плести верши для рыбы, разыскивать подлиственные грибы да медовые корни, воровать соты у диких пчел и ореховые запасы у лесной мелочи. По весне же Марик помог Сварду вскопать кусок земли за его хижиной и тот посадил семена желтой репы. Вот тут как раз два прибытка вышло — и репа, которая свардовское семейство в достаток вывела, и кабаны, которые к огородику как к солончаку шли. Тогда Марик себе новые сапоги справил. Свард хотел ему и сыромятный доспех сладить, да до посвящения в воины не успел. Зато успел обучить парня не только, как говорил сам, очень неплохому владению мечом, но и всякого другого умения в парня добавил, для чего обошел всех пришлых да и бальских ветеранов и из каждого по совету, а то и по учению в день-два за десяток семян репы вытребовал. Чего уж говорить, что Свард и по-корептски болтать парня приучил. Один он и провожал Марика в путь. Вот только меча он не смог дать ученику-приятелю своему, у самого меча не было, только умение да зимние боли в потерянной на войне с хеннами руке.
— А лодка где? — раздался насмешливый голос.
— Утонула, — ответил спокойно Марик и, опустив копье, присел на траву.
Знала бы девчонка, сколько раз он слышал шутку насчет железного весла, придумала бы чего лучше. Пот катился с Марика градом, заливал глаза, но он только смахнул капли со лба и приятно удивился, что не почувствовал боли в заживающей руке. Кессаа стояла напротив, словно хотела что-то сказать, но замерла на полуслове. Серое домотканое платье прилипло к ее телу, и Марик разглядел и то, чего увидеть не думал — и девичьи грудь и талию, и крепкие плечи и бедра, которые скорее подошли бы молодой бальской матери, жизнь в которой бурлит родником, а время не успело еще растереть ее молодость между каменными ладонями. Вот только глаза у Кессаа были не молодыми. Именно не молодыми, словно передавались они с лица на лицо, и каждый предыдущий хозяин ничего кроме горя и боли этими глазами не высматривал.
— Я тебя не вижу, — сказала Кессаа негромко, и голос ее был таким усталым, что Марик почти разуверился, что именно она танцевала на мелководье.
— Ослепла? — не понял Марик.
— Нет… пока, — она прищурилась и покачала головой. — Должна видеть, а не вижу. Должна чувствовать, а не чувствую. У тебя есть амулеты? Впрочем, я и представить такой амулет не могу.
— Нет у меня ничего, — Марик выдохнул, успокаиваясь. — «Весло» от кузнеца неумехи, да и то — после юррга едва держится, конец ему пришел. Рубаха и порты от Оры. Сапоги от деревенского скорняка. Колпак от опекуна моего, но магии в нем нет, точно говорю.
— В оружие против юррга нужно или магию, или нитку серебряную вплетать, — она все еще жмурилась. — Ты и магию видишь? Да, видишь. Насьта сказал. И про мой отворот, и про реминьскую выморочь вокруг долины. Видишь, но сам не плетешь. Отчего же я тебя не вижу, а ну-ка.
Она шагнула вперед, опустилась на колени рядом и, пока Марик млел от смешанного с запахом реки запаха женского тела, прижалась щекой к его щеке, зачем-то лизнула его в лоб, провела ладонью и удивленно вскрикнула.
— Что такое? — не понял Марик, выныривая из захлестнувшего его блаженства.
— Да ты сам… амулет, — восхищенно прошептала Кессаа. — И заряжаешь себя сам.
— Не понимаю, — Марик нахмурился.
— Смотри, — она прошептала что-то в ладонь и резко ударила Марика по предплечью. Баль недоуменно вскрикнул, но тут же замер. На покрасневшей коже выделились черные знаки. Их было множество, буквицы перемежались линиями и точками, казалось, что тысячи мелких червячков избороздили плоть Марика, словно он был дубовым грибом.
— Это Лируд, — отчего-то поторопился объяснить Марик. — Он накалывал эти… значки четыре года. Сказал, что они должны были меня защитить.
— На всем теле? — уточнила Кессаа.
— Да, — покраснел Марик.
— И как же ты это выдержал? — Кессаа смотрела на баль так, словно он только что выпил Ласку до самого дна.
— Ну, так не в один же день, — Марик сморщил гримасу. — Так, опухало немного, но мошкара больней кусает. Да и не видно же ничего, он какой-то древесный сок брал!
— Ты не понимаешь, — Кессаа удовлетворенно кивнула, словно непонятливость Марика все объясняла. — Чтобы я защитилась так, как ты, я должна была бы повесить на себя лучших амулетов столько, сколько не увезти на подводе, запряженной двумя лошадьми. Да и то… не была бы столь защищена. Но ни один человек не может выдержать той ворожбы, что на твоем теле. Она должна высосать тебя без остатка за полдня. А если тебе придется защищаться от могучего мага, и того раньше.
— Вряд ли, — отмахнулся Марик и встал на ноги. — Лируд бы такого не допустил. Он был… мудрым, хоть и старым. Да и я не столь слаб. Вон, меня юррг зацепил, и хоть бы что!
— Юррг, — кивнула Кессаа, медленно обходя Марика. — И не в первый раз?
— Да, — согласился Марик, медленно поворачивая голову вслед за Кессаа. — Откуда знаешь?
— Догадалась, — прошептала Кессаа и раскрыла ладонь.
На крайних фалангах пальцев замерцали голубоватые огоньки, и вдруг из центра ладони выстрелила ветвистая молния и оплела колено Марика. Баль охнул, отпрыгнул в сторону, но уже через мгновение понял, что боли не ощутил, хотя тут же с подозрением стал осматривать подаренные Орой порты. Кессаа снова подошла к нему и, как ни в чем не бывало, поймала его лицо в ладони.
— Так, значит? — удивленно расширила она глаза. — Подпитываемся извне, но тварь живую не трогаем. Кровушку да силу у животинки не отсасываем. Довольствуемся лучами Аилле, ветром, огнем, водой, солью земли и соком древесным. Интересно. Боюсь, что мне нужно твою кольчужку невидимую по точечке разобрать!
— Ну, не стоит заморачиваться, — покраснел Марик. — Никакой надобности…
— Как ты говоришь, звали этого умельца? — сдвинула Кессаа брови.
— Он… умер, — буркнул Марик, которому начала надоедать быстрая, ослепительная, но холодная красавица. — Лирудом его звали.
— Я не знаю такого мага, — Кессаа с досадой прикусила губу. — А он был великим магом, я никого не знаю, кто бы мог сравниться с ним. Если только… сами боги? Сето, Сади или Сурра?
— Боги не умирают, — скривился в усмешке Марик. — Ну, если сами не захотят. Нет. Лируд богом не был. Он даже не был великим. Он сам мне говорил, что великим суждено быть не всем. Он говорил, что не только шапка к голове подходить должна, но и шея, чтобы голову держать. И чем голова тяжелее, тем шея должна быть крепче. А уж если и шапка велика…. Тут уж лучше вовсе без шеи…. Вот только без шеи по сторонам смотреть трудно.
— Вероятно, — она почему-то согласилась и отпустила его лицо.
Марик невольно отшатнулся и вспомнил.
— А еще говорили, что Лируд был учителем самого Эмучи!
— Все верно, — Кессаа словно говорила сама с собой. — Эмучи и написал мне, что ты придешь. И поможешь.
— Как написал? Когда? — поймал дрожь плечами Марик. — Он же уже больше четырех лет, как мертв.
— Он приходит иногда сюда, — Кессаа постучала себя по лбу и рассмеялась так, что у Марика похолодело в груди. — И пишет у меня на руке. Видишь?
Она медленно оттянула к локтю рукав платья и Марик увидел вычерченное багровыми сайдскими рунами слово «Суйка».
— Демон меня задери, — пересохло во рту у Марика, потому что вспомнил похожие буквы на руке Лируда. — Это вытравлено? Или выжжено?
— Спроси Ору, — сбросила рукав на место Кессаа, глядя на Марика исподлобья. — Как-то по моей просьбе она караулила мой сон и видела, как буквы сами появляются на руке.
— Почему? — прошептал Марик омертвевшими губами. — Почему же он просто не скажет тебе, чего ему надо?
— Он не может говорить, — Кессаа смотрела в глаза Марику, не отрываясь, и ее взгляд казался баль взглядом безумной. — Сайды зашили перед казнью ему рот. Он и пишет-то неровно. Посмотри, как разъезжаются буквы. Трудно написать ровно левой рукой, да еще обрубком левой руки.
— Почему же левой? — почти прохрипел Марик.
— Потому что правой он держит собственную голову, — прошептала Кессаа.
Глава восьмая. Совет
Насьта нашел Марика у навеса. Тот уже успел натаскать воды, нарубить хвороста и даже пройти вместе с почти оправившимся Вегом вдоль прибрежных кустов с волосяной сеткой. Улов оказался небольшим, но двух десятков рыбешек хватило на аппетитное варево. Большой котел с горячей водой по этому случаю перекочевал в приготовленное для него углубление, а над огнем повис котел поменьше, который как раз и служил источником соблазнительного запаха. Насьта пошевелил ноздрями и даже потянулся к сапогу, за голенищем которого торчала вырезанная из дерева ложка, но, столкнувшись с возмущенным взглядом Оры, виновато раскланялся.
— Не готово, значит не готово, — пробурчал он с досадой и, оглянувшись, добавил. — Однако, как с мудрейшим переговорим, пробежаться придется, а то хромой репт полкотелка в одно хлебало сольет!
— Грибов печеных пообещаешь ему, не сольет, — ответил Марик, удовлетворенно осматривая только что зачиненный сапог, и тут же успокоил разрумянившегося ремини. — Ладно, ладно. На грибы покушаться не будем. Что там с твоим мудрейшим? Как бы не вышло, что ушицей прощание мое с долиной заедать будем.
— Заедать, не заедать, а голодать я не согласен, — зевнул Насьта и одобрительно кивнул, глядя, как Ора управляется с ножом, нарезая корни для заправки варева. — Пошли, что ли? Разговор у мудрейшего будет долгим или коротким, не знаю, а перемениться может многое. Мудрейший полторы недели твое дело обдумывал.
— Вот и проверим, — нахмурился Марик.
— Что именно? — не понял Насьта.
— Мудрейший он или вроде нашего старосты, — буркнул Марик, запихивая ногу в сапог и притоптывая им по пожухлой траве. — Как ты говорил мне? Человек не врет, когда ест? Может быть, ушицы ему отнести?
— Это ты зря, — крякнул Насьта. — Мудрейшего на палец так просто не насадишь. Да он, если захочет, так придурком прикинется, что тебе потом сто человек скажут, что он мудрейший, а ты все одно придурком его считать будешь!
— Я вот сейчас не пойму, — удивился Марик, — ты похвалил его или наоборот?
— А… демон его знает, — замахал обеими руками Насьта. — Пошли уж! Не мастер я слова частить. Ты сейчас одно запомни. Язык вперед мудрейшего не тяни. Спросит — отвечай, а если кто еще чего спросит, на мудрейшего сначала посмотри. Там и увидишь, раскрывать кисет или потуже бечеву затянуть!
— Какой еще кисет? — не понял Марик.
— Тот самый! — раздраженно скривился Насьта. — И вот еще что помни. Я, конечно, насчет меча понять тебя могу, но никакая железка поперек того, что в груди твоей стукает, выситься не должна. Хитрее нужно быть, если хочешь знать! Неужели думаешь, если бы ты веслом своим разбойника какого укоротил, да с мечом его в деревню вернулся, кто-то против твоего права на воинское звание поднялся?
— Вот такушки, значит? — передразнил Насьту Марик. — Ты бы, парень, перехлестывал, да не перехлестнул бы. На себя слова свои завернуть сможешь? О чести не ты ли поминал, когда отец меч ковать отказался?
— Так это… — засопел ремини.
— Вот-вот, — кивнул Марик и поднялся. — Пошли, говорят, на ходу глупость быстрей выветривается.
— Эх! — взъерошил волосы Насьта. — Вот скажи, кто тебя учил языком шевелить? Говоришь мало, а как скажешь, так прямо по лбу отщелкивает!
Марик не ответил. Ора обрезала сладкие корешки, но на мелькающий в руках нож не смотрела, с баль глаз не спускала, и ему самому хотелось замереть и не спускать с нее глаз.
На знакомой поляне за столом, который, как уже понял Марик, был сделан как раз из древесины одра, сидел Уска и, неожиданно для баль, — Кессаа. Они молчали и не двинулись с места, когда Марик и Насьта подошли к столу, только кузнец, на лице которого вроде бы как морщин прибыло, ответил кивком на поклон баль. Кессаа не шелохнулась, лишь сплела пальцы и крепче оперлась об отшлифованную поверхность. Со стороны озерца выкатился дед Ан и, покряхтывая, водрузил на стол кувшин, который, судя по темному боку, только что окунули в родник, и громыхнул корзинкой с посудой. Насьта тут же подскочил к старику и расставил перед каждым по глиняному кубку. Никакого угощения кроме воды явно не предвиделось, но Насьта на удачу поворошил солому, оставшуюся в корзинке, и присел на место с разочарованным видом.
Марик огляделся, но из-под окружающих поляну деревьев не вышел больше никто. По-прежнему молчали Уска и Кессаа, ерзал на чурбаке Насьта, ковырял в зубе шипом иччи дед Ан. Баль снова окинул взглядом свободные чурбаки и уже совсем было собрался, полузакрыв глаза, подремать, как дед отбросил в сторону шип и, чмокнув губой, начал говорить.
— Сегодня слов будет мало, потому как, хоть и касаются дела наши многих, но гомоном их не решишь, поэтому те, что есть здесь, те и будут говорить, разве только кроме Насьты, потому как хоть он и лучший лучник долины, а то и всей Сеторы, но веса против отца своего не имеет.
Насьта недовольно шевельнулся и получил в ответ неожиданно тяжелый взгляд деда и присказку:
— А если он не против отца молвить хочет, а за него, тем более нечего язык тянуть, мы тут все за отца его складываемся.
«Вот это да! — поразился Марик. — Неужели дед мудрейший и есть? Засоси меня в болото, я ж о чем с ним только языком не тряс? И что же выходит? Если они все за отца Насьты складываются, то и против меня, выходит? Но так и я же не против него!»
— Дочь сайдская здесь не потому, что случаем или по умыслу со спором между кузнецом Уской и молодым баль Мариком связана, а потому, что боль наша, что через Марика нас захлестнула или пресеклась им, на нее прицел держит. Так я говорю?
Не шелохнулась Кессаа, словно не мудрейший с ней говорил, а летний ветерок висок ее щекотал.
— Начнем с заковырки, — почесал дед затылок. — Баль Марик пришел в долину, чтобы заказать меч у кузнеца Уски, ковать который Уска отказался, потому как признано и принято ремини в год войны ни оружия, ни плеча своего под чужую руку не править. Так оно, Уска?
— Так, — буркнул кузнец.
— Если бы так, — сморщился дед. — Однако вышло так, что имел Марик поручительство старое, по которому Уска отказать Марику не мог. Так оно, Уска?
— Дед, поперек тебя… — раздраженно хлопнул ладонью по столу кузнец, но в ответ услышал еще более громкий хлопок.
— Отвечай, кузнец, если спрашиваю, а то, как в былые, годы ухо-то отверчу! — заорал дед.
— Так, — зло проскрипел кузнец и зыркнул в сторону Насьты, который скорчил зловещую рожу и бешено вращал глазами.
— Вот! — глубокомысленно протянул дед и повернулся к Марику. — Что делать-то будем, убивец?
— Кого ж я убил-то? — растерялся баль.
— Юррга, трех медведей, волков без счета, прочей живности полно, — перечислил дед и, согнувшись, чихнул на собственные колени. — Да не в том дело! Ты ж, болезный, кузнеца нашего под расход подвел. Отказать тебе он не может, за дело взяться не может тоже. Ни работа ему твоя ни нужна, ни обет твой. Тебе вот меч понадобился, а нам кузнец-то все дороже твоего меча!
— Я вот, что скажу, — сдвинул брови Марик, потому как хоть и давился по соседству Насьта проглоченным смешком, но чем дальше, тем меньше самому баль казался разговор смешным. — От меча я отказаться готов. Не своей головой я думал, когда в долину пришел. Чему учили, тому учился, какие слова подсказали, такие говорил, но не по неразумению, а потому, что ни язвы какой, ни ловушки ни в делах своих, ни в словах не видел и не замышлял.
— Уф, — выдохнул у плеча Насьта, а сам Марик смахнул рукавом пот со лба. Хоть и не давал ему Лируд сладко спать зимними вечерами, а все-таки одно дело слова на коре или доске вощеной сплетать, другое — на язык их друг за другом выкладывать.
— Поэтому вы сами определяйтесь. Еще раз говорю, от меча отказаться готов, вот только откажется ли Уска от того, что пообещал? Мне теперь уж по-всякому меч добывать в другой стороне придется, так и вы уж сложите все так, чтобы Уска жив остался и урона не потерпел.
Замолчал Марик, снова пот со лба смахнул, да поверх головы окаменевшего Уски на север уставился. Туда ему придется теперь идти, хотя, что толку сговорчивого ремини искать? А не сговориться ли с Вегом, да не двинуться в Ройту? Прицениться к мечу у какого-нибудь рептского кузнеца, да найти ремесло или работу какую, чтобы не ратным трудом, а мозольным напрягом нужную сумму составить? Вот так и сделать, а там уж как сложится, так и пойдет. Эх, жаль с ножом по лихим дорожкам долго не прогуляешь, копье-то вовсе рассыпалось, одна жердина осталась!
Замолчали все, вот только Кессаа словно глаз на него скосила. Показалось или нет?
— Сложить-то можно, — озадаченно распустил между кривыми пальцами бороденку дед. — Только подождем-ка мы пока складывать. Мыслю я, что надо все кости на стол бросить, потом уж за склад браться. Вот ты, Рич, скажи так, чтобы все услышали, с чего это пакость разная к нам зачастила? Когда хозяин вместе с дочерью своей привел тебя сюда, пообещал он, что беспокойства от гостей его долине нашей не будет. Пятый год ты здесь, Ора полтора года, как с весточкой от дочери хозяина явилась, и вот уж с полгода, как покоя нам нет. Двух ребят мы уже потеряли, а если еще юррг придет, так, боюсь, и десятью не обойдемся. А ведь ты уже говорила как-то, когда риссы с колдуном вокруг рыскали, что отведешь беду от долины. Что скажешь? Говорила?
— Говорила, — почти безучастно произнесла Кессаа.
— Ну? — скорчил обиженную рожу дед, отчаявшись услышать продолжение. — Спору нет, умение твое лекарское, Рич, достойно той славы, что о тебе идет среди ремини, но нам-то как быть?
— Как были, так и будете, — произнесла Кессаа и выложила на стол короткую палку. — Видишь это, Анхель?
«Анхель!» — Марик чуть не подпрыгнул на чурбаке, когда имя деда услышал. Так вот кто Лируду второй долг крыть должен! Вот так дед Ан…
— Вижу, — раздраженно бросил мудрейший.
— Это жезл, как ты говоришь, дочери хозяина. Его принесла Ора. Здесь и здесь, — Кессаа приподняла палку над столом, и Марик заметил искры на торцах жезла, — метки Золотого города. Именно их искал тот жрец с воинами, которому мне удалось отвести глаза. Но теперь Риссус ищет что-то еще, потому что жезл этот я не выпускала из рук, а в моих руках его найти невозможно.
— Что толку мне от твоих слов? — взвился дед. — Какая мне разница, что они ищут? Отчего я опять тебе верить должен? Разве ты забыла, как появилась здесь, и мертвецы, не пережившие зиму, поднимались на ноги и стояли у ступеней каменного дома? К тебе они рвались, к тебе! Что тогда говорил твой гостеприимный хозяин? Забудь о маленькой боли, Анхель, потому как большая боль накатывает на нас, как сель с Сеторских гор! Так с Сеторских или с Молочных пиков Скира? А может быть от золотых куполов Суррары? Или еще ближе? Уж не выглядывает ли она из окон каменного дома? А!?
В тишине старческий крик повис. Замолчал старик, вглядываясь в спокойное лицо Кессаа. Замер, дух переводя. Только жилка продолжала подрагивать у него на виске, да средний палец на левой руке дробь о столешницу выстукивать начал.
— Понятно, — усмехнулась после долгой паузы Кессаа. Такой долгой, что Марику уже начало казаться, что им вовсе не будут заниматься сегодня, забудут и уйдут, оставив непутевого баль сидеть на гладком чурбаке. И то, что за дело — какой-то заказ на меч, когда такая пакость осаждает зеленую долину!
— Понятно, — повторила Кессаа. — Как же у тебя все гладко складывается, Анхель, хотя ты и склада еще никакого не объявлял. Думаешь, что вытравишь иноземную заразу из каменного дома и долину спасешь? Только ведь отсидеться здесь все равно ни тебе, ни племени твоему не удастся. Победят хенны — прокатятся до гор, топи их не остановят. Победит Скир, не успокоится скирский конг, пока последнего баль не порешит, опять же сюда тропу проложит. Победят риссы — сам знаешь. У магов из Суррары много целей, но главная, пусть они и не кричат об этом, вывести под корень всякое колдовство, что не от золотых куполов исходит. И ты в этом списке одним из первых будешь.
— Может быть, — кивнул Анхель, отставив в сторону и недавний гнев, и чмоканье старческими губами, и всегдашнюю дурашливость. — Только мнится мне, что в этом списке ты повыше меня стоишь.
— О том и речь, — непонятно кивнула Кессаа и снова взяла в руки жезл неведомой Марику дочери столь же неведомого хозяина дома. — Уж не знаю, велика ли беда, что подкрадываться начала к долине, но решить ее можно. И я решу ее, если ты выполнишь мое условие.
— Условия начала ставить? — побагровел Анхель.
— А ты как думал? — повела подбородком Кессаа. — Ты что ли мне условия ставить будешь? Или забыл, что сказал хозяин дома, когда уходил с дочерью? «Она в моем доме, как я»!
— Вот в доме и распоряжайся! — прошипел дед.
— Так ли? — вдруг улыбнулась Кессаа, и от тона ее голоса Марик понял, почему дед поставил девушку выше себя. Она и стояла выше и сильнее его, хотя и сам Анхель уже не напоминал придурковатого болтливого дедка, что торчал вечерами под навесом на берегу реки.
— А может и вправду в доме запереться, да посмотреть, как ты гостей моих разгребать станешь?
— Что хочешь? — через силу произнес дед.
— Малость, — спокойно сказала Кессаа. — Сущую малость. Мне в каменном доме схорониться труда не составит, вот только мерзость, что ко мне или к Оре движется, через долину хлынет. Кому будет хуже? А я за ту малость, что ты сделаешь, отведу беду от долины. И уйду отсюда. Хотя бы до тех пор, пока Оветта не уляжется.
— В землю она уляжется! — зло бросил дед и, оглядев почти окаменевших Уску, Насьту и Марика, снова выдавил. — Чего хочешь-то?
— Ору спрячь в долине, — попросила Кессаа. — На полгода, на год, как получится. Ты же видел, она в тягость не будет. Переступи через замшелый обычай. Спаси и ее, и долину свою.
— Нет, — коротко бросил дед.
— Мне ее не вытащить, — продолжила Кессаа. — В пекло придется лезть, чтобы дорожку к долине отжечь, не выдержит она там.
— Нет, — повторил дед. — Только ремини могут засыпать под кронами одров. Насьта хижину для Марика и то на гребне сплел, хоть баль и в беспамятстве был.
— Не получится, Анхель, — улыбнулась Кессаа, и от улыбки ее словно что-то оторвалось в животе у Марика, холодом спину и грудь обдало. — Только кроны одров могут укрыть Ору от магов Суррары, когда она будет засыпать. Во сне маги Суррары зовут своих жертв, и те откликаются… во сне. Будь я здесь, не просила бы, сама бы справилась, а мне уйти придется, хотя дочь хозяина просила меня за Орой присмотреть. Да и не пойдет Ора никуда, поклялась она дождаться здесь хозяйку, значит, дождется, только мертвой ее можно отсюда вынести. Подожди говорить «нет» в третий раз. Подожди на мост ступать, рухнуть может!
Замер дед. Стиснул кулаки, но слова «нет» не сказал, хотя бурлило оно у него в горле.
— Вот и хорошо, — постаралась снова улыбнуться Кессаа. — Дай договорить, не спеши. Ты у себя дома, я в гостях, что ты теряешь? А сказать мне есть что. Хорошую компанию ты собрал за столом. Уска здесь, кроме него ведь некому тебя сменить? Ни теперь, так после. Только он сможет мудрейшим стать, он уже мудр, а был бы еще мудрее, если бы не обычаи ваши. Для чего Насьта здесь, не сразу я догадалась, но поняла, когда глупость эту с мечом поняла. И вправду, мудрейший ты, Анхель. Нашел выход, что и говорить. Затем и баль здесь. Так чего ты с меча не начал, ведь хотел поразить меня?
— Всему время свое, — скупо разомкнул губы дед.
— Ну, конечно, — кивнула Кессаа. — Но, когда мудрость в хитрости нуждаться начинает, тут ли задумываться о незыблемости обычаев? Не сам ли себя ты пытаешься обмануть?
— Что ты можешь знать? — воскликнул дед.
— Ничего больше того, что вижу и о чем догадываюсь, — медленно проговорила Кессаа. — Я о ножичке у тебя за поясом. О маленьком ножичке, которым ремини надрезают священную кору одров, чтобы набрать чудесного сока. Теперь-то о другом речь идет? Сбереги этот ход для Оры, а с Мариком я подскажу выход, чтобы твоего гордого кузнеца сберечь. Что скажешь?
Поднялся дед Ан на ноги. С усмешкой на Кессаа глянул, спесиво помотал головой, наслаждаясь тенью, набежавшей на ее лицо, гордо вытянул из-за пояса и положил на стол нож, рот уже открыл, чтобы отказ молвить, да вот только Марик не выдержал. Голос подал, хотя и помнил наказ Насьты.
— Мудрейший! Слово Лируда прилагаю к просьбе Рич — укрой Ору!
Замер дед Ан. Согнулся, словно и спесь, и гордость, если это она спесью прикинулась, ветром из него выдуло. Медленно опустился на прежнее место, вытянул перед собой руки, пальцы сплел, голову опустил. Долго так сидел, Марик уже успел дыхание успокоить да с прищуром попытался на лице Насьты что-нибудь кроме недоумения разглядеть, да если что и разглядел, так только искры веселые, что все жарче и жарче разгорались. Наконец поднял Анхель голову, ткнул кулаком в направлении безучастного кузнеца, выговорил зло:
— Что же это за честь такая, если она против собственной воли идти вынуждает? Говорил я тебе, Уска, когда тот колдун приходил насчет мглянской поймы, что не нужно было плату за бросовые земли брать. Тогда бы и помощь его еще в тот расчет пошла!
— Нужно — не нужно, — неожиданно подал голос Уска и ответил Анхелю, вовсе не поворачивая головы. — Одры засыхать начали. Ты бы мошку вывел?
— Так может, он сам ее и подослал? — прошипел дед.
— Тогда ты другое молвил, — равнодушно пожал плечами Уска. — Сам же сырое лето клял, ветер северный поминал, да баль этому кланялся. Или нет? Не ты ли сказывал, что не можешь магию на одры повернуть, потому как вся наша магия от одров и появляется? Он ведь не просто деревья вылечил, еще и состав тебе для лечения оставил. Ни одно дерево у нас не погибло, а в других поселках в тот год до трети корней засохло. Я уж о прибытке за тот состав не говорю. Сколько старост к нам за ними приходили?
— Ну что ж, — поджал губу дед. — О магии ни к чему болтать было, а в остальном… Честь есть честь. На том и решим. Зови, Рич, Ору. Побратаем ее с Насьтой. Дочерью будет Уске. Только так под крышу ее сможет Уска принять. Возьмешь ее, кузнец?
— Возьму, — кивнул Уска. — Отчего ж не взять. Жене и в радость, и в помощь. Опять же, меня не будет, Насьта умчится глаза, куда не следует, пялить, жена одна не останется.
— Не спеши, Уска, — проговорила Кессаа. — Будешь ты. И теперь, и после. И долго будешь. Мое слово не слабее реминьского. Вот.
Она сунула руку в вырез платья и достала черную прядь.
— Вот локон Оры.
— Подготовилась! — покачал головой Анхель. — Сирота она?
— Сирота, — кивнула Кессаа. — Отца юррг убил. Мать и сестер хенны порубили, когда перерезали переправу через Лемегу. На глазах Оры порубили. Одна она.
— Насьта! — гаркнул дед. — Живо сюда!
Мгновение ремини со столбняком боролся, затем подбежал к Анхелю и тут же и сам лишился пряди волос со лба. Вздохнул дед, сложил два локона, ладонями смял и бросил на стол. Только не долетели локоны до стола. В воздухе жарким пламенем вспыхнули, а на красные доски только пепел просыпался, и ни запаха, ни дыма едкого — ничего от этого пламени не приключилось.
— С сестрой тебя, пень сосновый! — ехидно посмотрел на Насьту дед и перевел взгляд на Кессаа. — Ну? Давай, выкладывай теперь, как ты мне кузнеца сохранишь и меч его выковать заставишь. Не может ремини третьего ребенка в семью взять, иначе как выносив его. А ведь мог Уска меч выковать Марику, мог! Как сыну приемному он бы его выковал! Что теперь делать? Да и про то, как пакость эту от долины отгонять будешь, расскажи!
Замер Марик. Понял, что теперь и его судьба к разрешению подошла. Хотя, к какому разрешению? Купит он себе меч. Неужели не сможет тяжким трудом монетой карман пополнить?
— Ты о другом думай, Анхель, — бесстрастно ответила Кессаа. — Парень ведь мог слово Лируда и на себя обратить. Да и плохо ты баль знаешь. Почтение от них всякий старик получить может, а вот в отцы-матери вряд ли кого баль возьмут.
Ни слова не сказал Марик деду, но поймал его взгляд Анхель и зубы стиснул.
— Лучший выход — самый простой, — повернулась к кузнецу Кессаа. — Берись за меч, Уска. Сделай для этого парня бальский меч. Так как умеешь только ты. Но не отдавай его Марику. Пока война, что работе твоей мешает, идет, не отдавай. Дай прикоснуться к рукояти, дай прижаться щекой к клинку, и оставь на хранение у себя. Подтверди клинком, что стал он воином, ему это слово для нутра нужно, не для обороны. А придет сеча и смута к концу, тут меч и отдашь. Что скажешь, Марик?
— Я согласен, — прошептал баль и поймал взгляд кузнеца. И хоть стальным цветом заволокло глаза его, все одно, разглядел Марик облегчение в зрачках.
— Вот такушки, — неожиданно брякнул Насьта, и Кессаа позволила себе улыбнуться.
— Вот ведь! — сгреб со стола ножичек Анхель. — Тебе, девка, прямо свары купеческие на дештском рынке разводить доверить можно! О пакости что мне скажешь? Придумала что?
— Не будет пакости, — поднялась Кессаа. — Через неделю не будет. Уведу я ее. Унесу след из долины. И след Оры, что лихо из Суррары сюда гнало, и собственный след, который мертвечину приманивал. А куда унесу — не важно, сюда не вернется. А вернется — не от меня, и не за мной придет, а на всю Сетору мерзостью накатит. Но это вряд ли скоро случиться может…. Не думай об этом. Вот только Оре тихо сидеть придется. Реминьское платье носить. На берег в светлое время не выскакивать. Если и врачевать кого, так только своих, в долине. Ну, это я ей сама расскажу.
— А как хозяин дома вернется? — сдвинул брови дед.
Долго молчала Кессаа, Анхель уже ерзать на чурбаке начал, когда открыла рот сайдка.
— Не вернется. Оттого и насторожи и отводы его таять начали. Оттого и пакость дорогу разнюхала. Нет больше хозяина. Что и как случилось с ним — не знаю, но уверена — мертв он.
— А дочь его? — нахмурился Анхель.
— Нет, — мотнула головой Кессаа. — Не чувствую я ее, но чтобы ее убить, постараться нужно. Не так-то это просто. Да и чего тебе волноваться, Анхель? Дом еще крепок, за разор с тебя никто не спросит, замки на дверях тяжелые.
— Что они искали? — прищурился дед. — Ведь не за сайдским же жезлом ученическим четверть Оветты до Сеторы мерили?
— Если вернусь — расскажу, — усмехнулась Кессаа и к Насьте обернулась. — Ты вот что, стрелок. По тому берегу лазутчики какие-то бродят. Постарайся, чтобы их дозорные твои не спугнули. Мне нужно, чтобы увидели они, что ушли мы из долины. Понял?
— Понял! — расплылся в улыбке Насьта.
— Пока все, — шагнула Кессаа в сторону, но Анхель остановил ее.
— Подожди, красавица. Не решили мы еще, как Марик за меч отрабатывать будет? Или тоже после войны отработает?
— Мне работник не нужен, — поднялся Уска.
— Что ж ты хочешь, чтобы я на заработки его отпустил? — возмутился дед. — Нет уж. Я обет с него возьму.
— Какой еще обед? — заинтересовался Насьта.
— Цыц, лучник, — отмахнулся от толстяка дед. — Слышишь меня, Марик?
— Да, — замер между чурбаком и столом баль.
— С Рич пойдешь. Проследишь, чтобы она пакость от долины отвела. Проследишь и расскажешь, мне или Уске, а если не отведет, считай, что провалил ты свой обет. Смотри, парень, чтобы волос у нее на голове не посекся, пока она дело не свершит! Понял?
— Понял, — кивнул Марик и добавил, разом забыв и красноречие Лирудом вдолбленное, и слова через одно. — Принимаю… я… как его… обет этот!
— Ох, Анхель! — рассмеялась Кессаа. — Он и так бы со мной пошел!
— Это почему же? — подбоченился старик.
— Судьба у него такая, — бросила Кессаа через плечо.
Скрылась сайдка в зарослях, тяжело поднялся Уска и молча зашагал в сторону кузни. Поплелся за ним Анхель, разом обратившись в маленького и дряхлого деда Ана.
— Что ж за судьба это такая? — тревожно уставился на Марика Насьта.
— Брось ты, — отмахнулся Марик и плюхнулся обратно на чурбак. — Разве это судьба? Это работа. Судьба — это когда работа за спиной и ты можешь обернуться и рассмотреть ее.
— Да, парень, — усмехнулся ремини. — Что ж за наставник у тебя был? Говоришь редко, но как скажешь, заучить хочется!
— Ох уж и помучил он меня в свое время, а сейчас кажется мне, что я и еще бы помучился с ним, — вздохнул Марик и вдруг улыбнулся. — А ведь будет у меня меч, Насьта, будет!
— Меч-то у тебя будет, а вот ухи нам вряд ли хватит, — пожаловался Насьта. — Этот хромой репт ужас сколько ест! И ведь не толстеет!
— Не расстраивайся, — пожалел ремини Марик. — Ора нас голодными не оставит. И не пинай собственную полноту. Она ж тебе ловкости не убавляет?
— А ведь ты мог бы стать моим братом! — вздохнул Насьта. — Ничего. Если Единый тебя раньше времени к своему трону не вызовет, станешь мне свояком.
— Кем-кем? — не понял Марик.
— Мужем моей новой сестры! — отчеканил Насьта. — Веришь? Только сегодня о ней узнал! Вот такушки! Красавица! Да и глаз с тебя не спускает! Хочешь, познакомлю?
Глава девятая. Сборы
Переночевал Марик вновь в травяной хижине на гребне, на ноги поднялся вместе с Аилле, умылся из деревянного ведра, которое сам же принес с вечера из родника, и, спускаясь под кроны одров, вновь нырнул в сумрак, потому что утренний свет не успел наполнить долину. У озерца баль встретил с дюжину ремини, которые, судя по тонким дротикам и плоским корзинам, уходили в лес. Марик поклонился охотникам, но ответные поклоны показались ему злыми. Из-за стен дома Уски уже поднимался дымок, но кустам молчальника ни к чему было глушить удары молота, за железо кузнец еще не взялся. Затем Марик миновал двоих дозорных, которые теперь коротали службу и на склоне над каменным домом. Они сидели на нижних ветвях раскидистой сосны вместе со столь огромной зеленой белкой, что баль невольно передернул плечами. Худощавый ремини почесывал зверя за ухом, белка блаженно жмурилась и выпускала из вытянутых лап длиннющие когти. Баль из таких когтей ладили мотыги, а в ближней деревне, куда Марик ходил к тамошнему кузнецу, он видел слепца, которого изувечил зверь, пожалуй, в три раза меньше этого.
На берегу Вег растирал худую белую ногу каким-то вонючим снадобьем и на поклон Марика неожиданно расплылся в улыбке. Ни Оры, ни Кессаа видно не было, но Насьта, сидевший за горячим котлом на вытащенном из воды черном обломке дубового бревна, и радостные крики за прибрежными кустами не оставляли сомнений — девушки поблизости. Ремини теребил в руках трубку с дырочками и время от времени выдувал из нее удивительно чистые звуки.
— Играешь или придуриваешься? — удивился баль, который до сего дня видел только свистульки да бальские пищалки.
— Это как посмотреть, — бросил ремини и пробежался пальцами по отверстиям, неожиданно выпустив над речной гладью светлую мелодию.
— Мастер! — восхитился Марик, но Насьта только вздохнул и спрятал дудочку за пазуху.
Баль присел рядом, толкнул ремини в плечо, но тот мотнул головой, не переставая вглядываться в сторону прикрытого утренней дымкой дальнего берега.
— Вернул бы я тебе, Насьта, твои же слова насчет подглядывания за купальщицами, но больно кустарник густ. Ни демона не разглядишь через него. Тут не приглядываться, а прислушиваться надо. А уж прислушиваться лучше к твоей дудочке!
— Четверо их там, — прошептал ремини, не переставая жмуриться.
— Да ты что? — не понял Марик. — Никак ваши неприступные девушки из долины соизволили в реке омыться?
— На том берегу четверо, — разомкнул губы Насьта.
— Подожди! — Марик сузил глаза, но кроме темной полосы кустов и серой дымки не разглядел ничего. Только шальная рыба плеснула на середине, а дальше… демон его разберет. Аилле почти в глаза светил, да и Ласка разбежалась на изгибе в ширину, все не уже трех сотен локтей.
— Сиди, — придержал Насьта баль за плечо. — Сиди и головой не верти. Мы их не видим.
— Но ты-то видишь? — дернулся Марик.
— Я их не только вижу, но и одного из четырех мог бы стрелой снять! — прошипел Насьта. — Рич… Кессаа велела, чтобы мы виду не подавали. Она их уводить от долины собирается, хотя и неизвестно еще — кто это, сайды или рисы. Тем более что с того берега дома не видно, только навес этот, да котел. Можно их заморочить, можно. И магии особой не потребуется. Впрочем, это Кессаа решать.
— Стой! — Марик похолодел. — Если уж ты можешь снять одного стрелой, так и они тоже? Ора знает?
— Нет, — почесал кончик носа Насьта. — Да сиди ты! Кессаа смотрит за ней. Сейчас уж купальщицы выбираться будут. Гляди, чтобы при хромом ни слова!
— Да прибереги ты свои советы, знаешь для кого? — обозлился Марик.
— И то дело, — кивнул Насьта. — Подскажи уж, кому советовать? Кессаа? Она сама и тебя, и меня советами засыплет, если только нужным посчитает. Вегу? Ему только один совет можно дать, чтобы на дучку не засматривался, не по его зубам ягода. Оре? Ей не советы нужны, а кое-что другое.
— Что — другое? — нахмурился Марик.
— Вот ты у нее и спроси, — вскочил Насьта на ноги, потому что от реки, отдергивая платья от влажных тел, уже поднимались Ора и Кессаа. Девушки громко смеялись, но приблизившись к бревну, возле которого Марик при виде Оры замер, как тотемный столб, Кессаа тихо и отрывисто бросила.
— Насьта, костер разожги ярче. Ора с тобой. У котла будет возиться. Вегу ни слова. Марик. Выжди пару десятков ударов сердца и неторопливо… иди к дому. Не спеша!
Марик, который с трудом оторвал взгляд от облепившего грудь Оры платья, едва не захлебнулся от тепла, что хлынуло на него из глаз дучки. Растерявшись, баль зачем-то поднял жердину с огрызком наконечника, снова положил ее в траву, опять поднял, схватился за грудь и, отчаявшись разобрать отдельные удары в суматошном громыхании под ребрами, махнул рукой и пошел к дому. Чужие взгляды жгли затылок и поэтому все вокруг; и зеленая долина, и изгиб реки, и желтые сосны показались Марику островом в бушующем море, точно так же, как казалась островом родная деревня, когда с запада потянулись израненные воины и редкие беженцы. Вот только моря никогда еще Марик не видел и представлял его в виде громадной реки, которая складывается вдоль берега плещущимися слоями и заполняет ими весь мир до горизонта.
Узкие, сбитые за сотни лет ступени приняли Марика безразлично. Снова в глаза бросились древние камни и странная весть о хозяине дома, который построил его в незапамятные времена, но умер так недавно, заерзала в голове. Марик потянул на себя тяжелую дверь и из утренней прохлады неожиданно попал в тепло. В закопченной печи источали жар угли, холодные стены были завешены пусть ветхими, но яркими тканями, в узких окнах-бойницах сияли неровными кусками прозрачного минерала почерневшие от времени и сырости деревянные рамы, а на полу лежали шкуры. Одна из них, что занимала дальний угол, выделялась размером и поблескивала иглами.
«Юррг»! — с тревогой подумал Марик, но Кессаа словно разгадала его мысли.
— Это не твой трофей.
Она сидела на одном из сундуков и разглядывала округлую пластину, выточенную из дерева.
— Ну-ка, взгляни!
Пластина оказалась зеркалом в деревянной оправе. Вот только выполнено оно было из стекла, а не из бронзы, в темной глубине которой юные бальки из родной Марику деревни частенько пытались разглядеть собственную красоту. Лируд рассказывал про стеклянные зеркала, которые умельцы в городах изготавливают с помощью серебра, но до сего дня все стекло, которое Марик видел, помещалось на толстой шее старостовой жены, да и то в виде грубых бус.
— Что там?
В зеркале отразилось обветренное лицо молодого парня с широко посаженными глазами, крепкими скулами и узким подбородком. Оно показалось Марику нелепым и уродливым. Он неуклюже дотянулся рукой до лба, подергал себя за кончик носа, поскоблил пушок под ноздрями и нижней губой и даже открыл рот, чтобы разглядеть собственные язык и зубы, но тут же покраснел и торопливо протянул зеркало обратно.
— Не похож ты на баль, — задумчиво проговорила Кессаа.
— Моя мать — сайдка, — объяснил Марик. — Из Дешты она… была.
— Спросить хочешь о чем?
Кессаа пристально посмотрела ему в глаза, и Марику захотелось спрятаться, согнуться, забиться в угол, зажмуриться, чтобы только не видеть пронзающий его взгляд. Он отвернулся в угол и пробормотал.
— Чей это трофей?
— Мой, — спокойно ответила Кессаа. — Я взяла этого юррга в тот же день, что и ты. И второго не пропустила бы, который на тебя вышел, но зацепил меня первый. Еле успела забраться на дерево. Второй шел в сотне шагов.
— Ты? — невольно хмыкнул Марик. — Одна? Без копья? С мечом? Да за то время, что второй юррг пробежал бы сто шагов, ты и выдохнуть не успела бы!
— Успела забраться на дерево, — устало повторила Кессаа и потянула к плечу рукав. Марик с нервно сглотнул. На правом плече сайдки багровел шрам размером с ладонь. Не от иглы шрам, а от зубов.
— Если не веришь, считай, что меня цапнула белка. Не попала по глазам.
— Ты… тоже переносишь яд юррга? — хрипло спросил Марик.
— Нет, — Кессаа мотнула головой и повторила. — Нет. Я только знаю, как выгнать его из крови. Но это очень трудно. И очень больно. Как ты этому научился? Ора не смогла бы спасти тебя.
— Мать, — слова отчего-то стали даваться Марику тяжело. — Юррг разодрал ей руку до моего рождения. Я родился уже после. И выжил.
— Понятно, — Кессаа опустила голову, словно отдых ей требовался теперь, немедленно, но когда она через мгновение снова посмотрела на Марика, в ее глазах не было и тени усталости. — Спрашивай, потом я не всегда буду объяснять тебе то, что потребую выполнить. Спрашивай, пока я готова отвечать. Еще два вопроса. Я отвечу еще на два вопроса, затем будем собираться. У нас мало времени.
— Что за судьба? — Марик сдвинул брови. — Ты сказала вчера, что судьба у меня такая, идти с тобой.
— А разве нет? — она усмехнулась. — Обзывай, как хочешь, но ты идешь со мной. И будешь со мной, пока я заразу эту от поселка не отведу. Конечно, если не сломаешься раньше.
— Раньше чего? — нахмурился Марик.
Кессаа медленно потянула вверх второй рукав. На предплечье по-прежнему багровела надпись — Суйка.
— Нужно идти так… далеко? — растерялся Марик.
— А ты как думал? — Кессаа стряхнула рукава к запястьям. — Может и дальше. Если волчица повадится в деревню ходить, разве охотники тропы перекапывают? Они логово ищут.
— А те, которые из Суррары? — почесал затылок Марик. — У них ведь логово в другой стороне?
— У них логово там, где привал разобьют, — она поднялась на ноги. — Это все?
— Я не сломаюсь, — твердо сказал Марик.
— Увидим, — спокойно кивнула Кессаа. — Потому что если сломаюсь я, то сломаюсь последней.
— Когда уходим? — нахмурился Марик. Обидными слова Кессаа ему показались. Это еще он посмотрит, кто сломается первым.
— Завтра, — откинула крышку сундука Кессаа. — Не будет недели. Веговских рептов заметили дозорные выше по течению. Уже к вечеру они будут здесь. Вег пока не знает, но на плес то и дело поглядывает. Пойдем с рептами.
— Зачем нам репты? — не понял Марик. — Уходить скрытно надо! Или ты хочешь….
— Хочу, — кивнула Кессаа, вытаскивая из сундука свертки и скрученные в мотки ремни. — Хочу, чтобы о нашем уходе знали не только лазутчики с того берега, но и репты. Хочу, чтобы вся Ройта знала, что нет больше целительницы у холма в среднем течении Ласки. Собираться будем по-настоящему. Сегодня останешься здесь. Будешь ночевать у костра.
— А если они нападут ночью? — спросил Марик. — Ну, те, которые на том берегу?
— Не нападут, — Кессаа задумалась. — Они боятся меня. На таких, как я, не нападают близ их жилища. Если и нападут, то не здесь. Да и не уверена я, что нападут. Уж больно они старались попасться нам на глаза…. Выкуривают, скорее всего. Ну и пусть. Пойдем с рептами. Я уже переговорила с Вегом. За хорошую плату троих в лодку возьмут.
— Троих? — напрягся Марик. — Значит, Уска все-таки отказал Оре? А как же обряд? Вот отчего Вег сверкает, как луч Аилле?
— Не спеши, парень, — усмехнулась Кессаа, но на краях ее усмешки Марику почудилась боль. — Все будет, как надо. Сейчас перекусим, потом пойдешь к Уске, он хочет переговорить с тобой. А пока снимай рубаху. Смену тебе подберем, и доспех приладим. Хоть ты и не воин. А без войны никак нам не обойтись. И поторопись, пора бы уже и перекусить с утра. Да не бойся ты, никуда не денется подарок Оры! И не съем я тебя!
К концу завтрака притопал дед Анхель, выскреб из котла остатки похлебки и присел обсудить что-то с Кессаа. Вег не спускал довольного взгляда с Оры, которая нарядилась в беленое платье, повязала платок на рептский манер и, закатав рукава, просушивала и выбивала мешки, шкуры и прочий скарб, который Марик начал вытаскивать из нутра каменного дома. Насьта, как он умел это делать в совершенстве, незаметно исчез, но Марик был уверен, что ни противоположный берег, ни серебристая гладь реки не остались без пригляда. Хотя, уже к полудню Марику начало казаться, что пригляда скорее требует Вег, который, увиваясь вокруг дучки, безостановочно описывал радости возможной семейной жизни в столице рептского королевства, рассказывал, какие деньги зашибает знаменитый сайдский целитель, ведущий прием знати в одном из особняков главного города, хвалился собственным крепким домом на улице кузнецов и сетовал на раннюю смерть жены, сделавшую его незаслуженным вдовцом. Ора участливо кивала, распаляя репта все сильнее и сильнее, и довела его до того, что капризный хромой присел возле огня и принялся послушно чистить грибы и овощи, понемногу заполняя закопченный котел.
— Эй, Рич! Не слишком ли велика посудинка? — громогласно поинтересовался Вег у сайдки, когда дед Ан, покряхтывая, отправился восвояси. — Я смотрю, Ора затеялась накормить сразу три десятка ремини? Или уж не менее двух десятков, конечно, если каждый из этих недомерков будет есть так, как это умеет делать Насьта!
— Почему не спросишь у нее сам? — переждав довольный хохот репта, отозвалась Кессаа.
— Она слишком взволнованна! — снисходительно объяснил Вег. — Пойми, переезд из леса в большой город происходит не каждый день. К тому же в городе надо устроиться, пока поймешь, что добрые советы и помощь не валяются под ногами, иногда насобираешь столько тумаков! Но ничего, до Ройты путь не близок, надеюсь, я сумею объяснить и Оре, да и тебе, Рич, как следует начинать дела. Больных-то за Мангой побольше, чем здесь. Неужели хороший кузнец или торговец пожалеет серебра за собственное здоровье? Одно непонятно, — Вег прокашлялся и перешел на рептский говор, — зачем тащить с собой этого бальского безусого юнца-остолопа? Плечи у него конечно широки, но не похож он на воина, плохой из него охранник. Или собираешься сделать из него землекопа? Так весь город сбежится посмотреть, как он надрывается со своей железкой! Хочешь, я поговорю со Смаклом, нашим головой, и он разрешит парню ею грести? И плыть будем быстрее, и пару монет сбросим с цены? Хотя, похоже, он уже сточил ее до огрызка!
Марик едва не выронил шкуры, которые развешивал на кустах! Вот ведь змей болотный, в глаза улыбается, а за спиной гадости говорит! А если бы Марик языка корептского, на рептский похожего, от приятеля Сварда не знал? Кровь закипела в жилах, хотел тут же под глаз крючконосому засветить, вот только Кессаа как холодом обдала, по-бальски Марика окликнула, собраться заставила:
— Работай, парень, нечего ладонями хлопать, если гнусь над чужой головой жужжит!
Замолчал Вег, насторожился, а Кессаа улыбнулась, да по-рептски ему пожаловалась.
— Может и остолоп, ну так мне не голова его нужна, а сила, а силы у него в избытке. Еще бы лени убавить, чтобы подгонять, да вразумлять не пришлось, я бы и грести ему доверила. А пока только копать. Или не понадобятся больше могилы рептам? Не дойдут хенны до Ройты?
— Это вряд ли! — замахал руками Вег. — Что же они до сих пор не дошли? Уж больше двух лет за Лемегой стоят. Да и риссы не дадут. У нас говорят, что риссы с ними договор заключили. Да, да! И с нашим королем тоже. Подожди. Пройдет время и с сайдами заключат. А куда деваться? Без Скира все равно толковой торговли не будет, а из-за борских башен сайдов даже хенны выцарапать не смогут!
— Время рассудит, — Кессаа поднесла ладони к вискам и прошелестела, понизив голос. — Будет война. И не потому, что камень, что с горы катится, сам по себе остановиться не может, а потому, что я вижу и слышу. Веришь мне, Вег?
— Тьфу на тебя, — замахал руками репт. — Вот ведь, зараза. Говорили мне, что дуркует целительница. Нет, нужно Ору от тебя забирать!
— Не веришь? — усмехнулась Кессаа, опуская руки. — А если скажу, что нынче же вечером ладья ваша вернется? Поверишь? Или ты думаешь, Ора сама решила котел полный похлебки парить? А?
— Тьфу, тьфу, тьфу, тьфу! — отплевался на четыре стороны репт, бросил нож и рассерженно заковылял к собственному лежаку.
Отсмеявшись, Кессаа повернулась к Марику.
— Иди к Уске. Он ждет тебя. Я тут присмотрю. Да и Насьта здесь рядом. Не волнуйся, Смакл — репт строгий, Ору бы он не обидел. Если бы она отправилась с нами, конечно.
Не без робости подступил Марик к порогу кузнеца. Все-таки занозой сидело в сердце, не воин он все еще, так, переросток, как окликал его тот же староста. И здесь, в уютной долине между белыми стволами странных деревьев не было ему места. Детишки реминьские забавлялись с ним, как с игрушкой, а вот родители их, хоть и раскланивались с ним и старательно растягивали губы в улыбке, все одно, замолкали, едва приближался к ним чужестранец. И ладно бы продолжали болтать по-реминьски, все равно не понимал Марик ни слова, так нет, словно медом губы склеивали, да так крепко, что у самого баль не улыбка ответная на лицо выскакивала, а гримаса. С другой стороны и родная деревня годилась только на то, чтобы показаться в ней при мече, да в хороших кожаных доспехах, а то и в кольчужке, чтобы увидеть завистливые рожи сверстников и восхищенные бальских девчонок. Впрочем, сверстники любую зависть с неприязнью смешают, а девчонки…. Какие уж там девчонки, если сердце при одной мысли об сироте-дучке дрожью заходится? Что же это такое творится-то? И не так ли отец его к его же матери на дештской ярмарке пристал? Увидел, поймал жар в груди, пригляделся, да собственную жизнь на порог выложил, чтобы перешагнула красавица, в дом входя, да выйти уж не могла? Так нет еще у Марика ни порога, ни дома, ни меча, только жар тот самый, который жжет сладостно и тревожно. А ну как утихнет в разлуке? А ну как глаза у Оры погаснут, пока бродить будет неведомо где безусый полу-баль, полу-неизвестно кто, ни воин, ни охотник, а так, юнец, приученный к лопате, а не к копью? Или рано он о доме задумался? Что там пригрезилось ему на берегу реки? А ну как не только умоется Оветта кровью, но и искупается в ней? А ну как смоет этой кровью и Кессаа, и Насьту, и Ору и самого Марика? Что ж, выходит, что тогда нарушит он слово, Анхелю данное? Ну, так не нарушил пока?
— Заходи уж, — послышался мягкий голос.
Словно очнулся Марик, понял, что дергает он за медное кольцо, болтающееся над косяком, будит где-то в глубине дома протяжный звон и видеть не видит, что стоит перед ним мать Насьты и приглашает его в дом. Вытер Марик некстати вспотевшие ладони о рубаху, поклонился реминьке и перешагнул через порог. За ним оказался длинный коридор, охвосток которого была заложен короткими связками хвороста. По правую руку коридор обрезал плетеный полог, а слева тянуло дымом и запахом жареных орехов. Женщина поклонилась в ответ и протянула руку перед собой, показывая, иди туда, парень. Кивнул ей Марик, в очередной раз поразившись тому, как милые черты жены Уски отразились в бесшабашной физиономии Насьты и прошел во двор. Окинул взглядом хозяйство Уски и не поверил, что в кузню попал. И не в том дело, что крыши над двором не было, знал уже баль, что ремини с помощью дикого вьюна и обрешетки из ореховых жердей за неделю могут любую крышу сладить, чистота его удивила. Земляной пол кузни был чисто выметен, угольная куча огорожена речными валунами и накрыта глянцевыми листьями речной кувшинки. Тут же лежали шишки одров, горшки с самородным железом выстроились в ряд, крицы и оковицы дерюжкой прикрылись, щипцы, щипчики, молотки и молоты и какие-то иные, незнакомые Марику инструменты либо висели на вкопанных в землю тут же столбах, либо лежали на добела выскобленной колоде. В отдалении высился горн, рядом на жердях обвис складкам мех. В другом углу была выложена из камня и глины странная приземистая печь, опять же соединенная с мехами, а вся стена дома, который примыкал к кузне или служил ее частью была увешена разнообразным оружием. Марик даже рот открыл — мечи всех размеров и видов, ножи и топоры, щиты и части каких-то доспехов, копья и стрелы, чего там только не было! Так бы и стоял и рассматривал, если бы покашливание за спиной не услышал. Посередине двора на огромном, раскинувшем мертвые корни пне темнела причудливая наковаленка и возле нее сидели на низких чурбаках дед Анхель и Уска.
— Заходи, парень, — бодро окликнул Марика старик и тут же с опаской покосился на кузнеца, не в своем доме ведь, не зря ли поперед хозяина голос подал?
— Садись, — как ни в чем не бывало, кивнул Уска и показал рукой на свободный чурбак.
Присел Марик, не забыв склонить голову. Кто его знает, как и что у ремини принято, не все успел рассказать Насьта, да и не было времени на долгие разговоры, поэтому Марик вел в гостях себя так, как учил его Лируд — не следует ни спешить и ни медлить, не следует бояться выразить излишнее почтение, потому как почтение излишним не бывает, если только в почитание не обращается. Не следует заводить разговор первому, но и поддерживать его тоже не следует, иначе как отвечая на вопросы, но говорить не более того, о чем спрашивают у тебя. Не следует отказываться от угощения, но в еде следует проявлять сдержанность и аккуратность. О еде к месту поучения Лируда вспомнились, потому как на том же самом пне вокруг наковаленки стояли блюда с овощами и мясом, горкой сияли поджаренные орехи, а в глиняных чарках поблескивал какой-то напиток.
— Ешь и пей, — просто сказал Уска и, подавая пример, оторвал кусок тонкой лепешки и макнул ее в блюдо с тягучим соусом. — Новую работу начинаем, а всякая новая работа как праздник.
— Сегодня? — удивился Марик.
— А когда же? — в ответ поднял брови дед. — Работа как дорога, пока не шагнешь, убывать не начнет. Я хоть и не кузнец, а скажу, всякое дело так начинать надо. Убраться в доме или во дворе, омыть тело, одеться в свежее, посидеть, выпить меда или сока древесного, перекусить, помолчать или поговорить о чем, и тут же начинать. Но не спеша, а с расстановкой и с разумом!
— Это если он есть, — постучал каменным пальцем себя по лбу Уска и сквозь прищур Марика начал разглядывать.
— Ну что ж, вроде, как и я делом заниматься с завтрашнего дня начинаю? — согласился со словами деда Марик, оторвал кусок лепешки поменьше, опустил в ту же чашу и отправил в рот. Огнем полыхнуло по языку и глотке! Слезы навернулись на щеки! Глаза едва не выкатились за ними вслед!
— Запей, запей! — поспешил с кубком дед.
— Вот, — кивнул он же, когда Марик с превеликим трудом залил пожар во рту и, отдышавшись, с подозрением окинул взглядом прочие яства. — Ты, парень, где бы ни оказался, знакомое блюдо ешь. Хотя в некоторых домах, не про нас речь, даже дышать следует с опаской. Но и в любом трактире опаска не помешает. Не все, что в рот смотрит, глотке на пользу. Это ж жгучий корень! Его не всякий жалует, хотя если распробовать, он как жар в бане. Дыхание прочищает, да и кишкам покоя не дает. А уж как хорошо после такой трапезы, да сразу после облегчения седалищем в холодную воду присесть!
— Ну, до облегчения еще дотерпеть надо, — усмехнулся Уска и вытер губы тем же куском лепешки, после чего отправил ее в рот. — Разговор у меня к тебе есть, парень.
— Это насчет чего же? — закашлялся Марик, потому что пламя словно выплескивало из нутра при каждом слове. — Насчет меча или насчет Оры? Или обет мой еще каких наставлений требует?
— А ты не ершись, — посоветовал дед. — Опять же, кто сказал, что мы тебя морить наставлениями станем? Может быть, ты сам к мудрости припасть хочешь?
— Подожди ты, — отмахнулся от деда Уска. — Сам то хоть понимаешь, о чем говоришь? Много ли ты сам припадал к мудрости в полторы дюжины лет?
— Много ли, мало ли, а все одно, начерпал, что не расплещешь, — гордо задрал нос дед.
— Не расплещешь, если нагибаться не станешь, — съязвил кузнец и снова повернулся к Марику. — Тут такое дело, парень. Меч участия твоего не требует. Дай срок, будет тебе меч. Конечно, магии, которая из ножен меча на спине Кессаа рвется, в нем не будет, а вот сталь слажу лучше. Но о том потом сам судить будешь. Работа долгая. Насчет Оры мне тебе тоже сказать нечего. Точнее, все сказано уже. От слов своих отступаться я не буду. Мой дом — ее дом, а уж то, что глаз ты на нее положил, ни тебе, ни мне о том перемалывать не стоит.
— Кто это сказал? — растерялся Марик, чувствуя, что жар из живота на щеки его перебрался.
— А и говорить ничего не надо, — хмыкнул с набитым ртом дед. — Ты ж зацветаешь при ее виде точно так же, как теперь зацвел!
— Не тереби парня! — оборвал деда Уска. — Или и Ора не цветет точно так же? У ремини, кстати, женщина решает. Выбор парень делает, а уж женщина решает, соглашаться с его выбором или в девках остаться. Одно скажу, хорошо, что ты уходишь. У нас молодой парень, если на девчонку глаз выцелит, да еще и ответный взгляд получит, уходит из поселка на год. Тот самый срок, чтобы хмель из груди выдуло, да с глаз смахнуло, так что уходи с чистым сердцем, что останется — твое, а что смоет — о том жалеть не следует.
— Да я! — попытался вставить Марик, но Уска только рукой в его сторону махнул.
— Наставления по обету твоему дед тебе скажет, если не все сказал еще, а я о другом тебя просить стану. За Насьтой присмотреть.
— Не понял я, — выпрямился Марик. — Как же я присмотрю за ним? Или идет он с нами?
— Идет, — скривился в гримасе Уска и с хрустом сжал кулачищи. — И ведь сам понимает, что не на его зуб орешек, и разгрызть не пытается даже, а все равно идет, затем лишь, чтобы любоваться на него вблизи!
— На нее, — поправил кузнеца нахохлившийся дедок.
— Да… — топнул ногой Уска. — Ладно б хоть смысл какой в этом был! С другой стороны в молодости смысл в самой молодости и заключается. Я сам таким был, вот только ведьмы такой не встретил.
— На твое счастье, — с ухмылкой ввернул дедок.
— О счастье болтать не стану, — отрезал Уска, — но и о несчастье забывать тоже. Пригляди за ним, парень. Не прошу тебя обет твой нарушать или указывать что Насьте…
— Он сам кому хочешь укажет, — зло хихикнул дед.
— Просто, не оставляй его, понял?
Сказал кузнец эти непростые слова и глазами как горящими углями в Марика уставился, а того только что не вывернуло от этих слов. Не сиди он сейчас в чужом доме, не прими он угощение толику времени назад, встал бы и молча ушел, а тут, что хочешь делай, а отвечать надо.
— Спасибо, Уска, — кивнул кузнецу Марик после долгой паузы, затем еще раз кивнул, собираясь с духом. — Спасибо, что просишь меня об этом. Может быть, и я так просить кого буду, когда по воле Единого детей выращу? Вот только мнится мне, что в мои, пусть еще небольшие годы, всякое слово как стрела. Если сердце принять его может, так и нечего целить — ранишь. А если брони на том сердце холодные, так ты хоть обстреляйся, толку не будет!
— Слышишь, парень? — зашевелился Анхель. — А может, вернешься когда, ко мне в ученики пойдешь? Уж больно ты слова складно лепишь…
— Тихо, — оборвал старика Уска. — Не о том сейчас речь!
— Да знаю я, о чем речь! — вскочил на ноги старик. — Ты ж по этому парню, как по отливке молотом стучишь и слушаешь, есть в нем раковина или нет! А по нему стучать не надо, хотя бы потому, что другой раз перелить все равно не успеешь! Его предупреждать надо! И не о том, что Насьта твой разум потерял, поумней твоего сына еще поискать в нашей долине, а в том, что девка эта, Рич или Кессаа, демон ее разберет, — сумасшедшая!
— Сумасшедшая? — удивился Марик.
— Именно так! — рявкнул тонким голоском дед, плюхнулся на чурбак и добавил. — Но не дура, совсем не дура…
— Так что же… — удивился Марик. — Что же ты полагаешься на нее?
— А на кого еще полагаться? — взвился дед, но тут же опять остыл. — Я вот что тебе скажу, парень. Ты все то, что слышал от меня, помни, но запомни и главное. И Насьта о том тоже знает. Ты помоги ей. Ты ее не оставляй, потому как Насьта ее точно не оставит, и не по причине слабости какой, а по иному делу. Красота красотой, а есть в ней что-то такое…. Она как Аилле! Сжечь может, но темно без нее и холодно, понимаешь?
— Это ты о чем, дед? — недоуменно повернулся к Анхелю Уска.
— А! — махнул рукой старик и отвернулся.
— Ладно, — сплюнул кузнец. — Разговоры разговорами, но и дело надо знать. Ты это, куда… лопату свою дел?
— Нет ее больше, — вздохнул Марик. — Кровь юррга железяку мою сожрала. Жердину на берегу положил.
— Там и оставь, — кивнул Уска и, поднявшись, пошел к горну, наклонился и выудил оттуда длинный сверток. — Вот. Времени у меня было немного, но было кое-что под рукой. Сладил я тут для тебя. Это не меч, так что воином себя не считай. Но и с лопатой твоей я тебя за Мангу не отпустил.
Хотел было Марик огрызнуться, что и лопатой можно юррга положить, но тут холстина сползла с того, что он в руки принял, и язык у парня отнялся. Только и прохрипел через силу.
— Что это?
Странное что-то обнаружилось в свертке. Палка, ли древко ли, посох ли, неизвестно, но выполненный из красного дерева, да еще сеткой проволочной прошитый, которая сквозь осмолку как нитка серебряная, да черненная поблескивала. Один конец толще оказался, другой чуть тоньше. Тонкий в трубку стальную в локоть длиной был вставлен, толстый окатышем стальным да заостренным окован. Всего удовольствия на три локтя. Рядом ножны серой кожи лежали, похожие на те, что на поясе Насьта таскал, только шире в полтора раза, да из ножен оголовок рукояти виднелся, а под ним сама рукоять, снаружи полоской кожаной, на вар посаженной оплетена.
— Что это? — не понял Марик, поймал на предплечье палку, удивился легкости ее, но тут же почувствовал, что тянет оголовок вниз, едва ли не на четверть длины надо середину рычажить, чтобы ожил посох в руках!
— А демон его знает, — сдвинул брови кузнец. — Приглядывал я за тобой, парень, когда ты по утрам ветер перекопать с железкой своей пытался. Понять все не мог, как ты в одном котле замесить глевию с копьем пытаешься, а потом махнул рукой. Отчего я думать должен? Получается и ладно. С другой стороны — с глевией ты бы юррга не взял, смял бы он лезвие, а для рубящего удара никак бы ты мгновения не выискал. С копьем бы взял, но опять же, будь у тебя копье в руках, а не лопата твоя, не застряло бы оно у юррга в глотке, а проткнуло его до хвоста, а значит и тебе, парень, синяком на ребрах отделаться не удалось бы. Или не видел, как ребра хрустели у одного из дозорных?
— Видел! — кивнул Марик. — Да вот не пойму только, чем мне эта палка помогла бы?
— Ну, не палка, а древко, — крякнул кузнец. — Да не из простого дерева, а из одра!
— Из одра? — удивился Марик.
— Из одра, — кивнул старик, с которого вдруг всю его спесь да немощь как рукой сняло.
— Ну-ка, потяни за рукоять, — предложил кузнец.
Смахнул Марик клапан с ножен, вытянул странный меч, перебросил его из руки в руку. Коротковат, едва ли больше полутора локтей, но не тяжел. Лезвие тонкое и непривычно широкое — с ладонь, но по оси на треть длины утолщенное, если сточить грани пальца на три с каждой стороны, почти эсток получится. Или огрызок от эстока. Видел такое оружие Марик у одного воина в соседней деревне, но так тот меч втрое длиннее был, им, как его хозяин говорил, даже кирасу проткнуть можно, а этим что делать? Тоже доспех тычком пробивать? Так куда ж с такой длиной? Да и непросто к нему приноровиться будет, балансировка непривычная. Впрочем, с эстоком он погорячился, на две трети клинок плоский, хотя жесток тем не менее. Странное оружие, а металл хорош. Если приглядеться, словно изморозь на клинке выступает!
— Ну? — уставился на баль кузнец.
— Не понимаю, — пожал плечами Марик, взмахнул мечом, сделал один шаг, другой. — Не сталкивался с таким оружием никогда. Лезвие от острия на четверть длины расширяется, на последней четверти так же сужается. Словно лист этого самого вашего одра. Гарда странная, на крюки больше похожая. Такой не руку защищать, а чужой клинок ловить. Ребро по оси на треть клинка. Зачем оно? Такой меч только если в частом лесу или в узком коридоре для схватки годится. Твоя работа?
— Не совсем, — кивнул Уска и в улыбке расплылся. — Все правильно говоришь, а главного не увидел. Для тебя все это собирал.
— Для меня? — удивился Марик, опустив меч. — Это древко и этот клинок для меня?
— Думаешь, что цену себе набиваю? — усмехнулся кузнец. — Для работы над бальским мечом полгода тяну, а непоймичто за две недели выстучал?
— Хорошая сталь, — осторожно похвалил металл Марик.
— Хорошая, — кивнул Уска. — В оголовок на древке я еще и серебра добавил, да и клинок от юррговой крови не поползет. Заложена в эту сталь прочность от колдовства. Правда, до того меча, что буду ковать для тебя, этой стали куда как далеко, но хорошая. Рисской работы. Из свежих запасов, из бальских лесов. Не просто риссам бальская земля далась, много они там оставили оружия. Вот, плывут мимо долины беженцы, останавливаются возле утеса, меняют чужое оружие на хлеб или соль. Или ты думал, что я без благодарности тебя оставлю?
— Но… — Марик растерянно оглянулся на Анхеля, который присел у пня и сосредоточенно продолжал набивать живот.
— Понятно, — усмехнулся кузнец. — Смущает, что молотом мне пришлось постучать? Не нарушил я обычаев наших. Не своей работы оружие тебе даю. Я его только переиначил чуть-чуть. Посмотри-ка сюда.
Шагнул кузнец в сторону, снял со столба меч в ножнах, вытащил клинок. Взял странный меч у Марика поднял оба клинка к глазам.
— Видишь?
— Вижу! — охнул баль.
Из двух коротких клинков широкий был собран. Не знал Марик кузнечных хитростей, а знал бы, все одно не заметил бы, где один в другой перетекал. Правда, ребро по оси на треть длины широкого лепестка все одно лишним казалось. Замер кузнец, на баль уставился, улыбку в уголках рта спрятал.
— Да не мучь ты парня! — пробубнил наконец с набитым ртом Анхель.
— Ладно, — кивнул Уска.
Принял из рук баль кузнец диковинный меч, свернул ладонью головку, подхватил древко и насадил на него клинок полой рукоятью. Щелкнул потайной замок, и задрожало в крепких руках удивительное оружие. Глевия — не глевия, копье, не копье, но уж никак не лопата и не весло. У Марика даже дыхание перехватило. Без слов принял подарок, отошел на пару шагов, подхватил древко на предплечье, развернулся, замер.
— Не оставляй Насьту, — только и сказал кузнец. — Тебе идти теперь надо, встречать рептов пора. Прощаться не будем, а за Ору не беспокойся.
— Подожди его спроваживать, — поморщился Анхель, прихлебывая из кубка и поглаживая набитый живот. — Может он спросить что хочет?
— Хочу, — сам себе удивился Марик. — О хозяине каменного дома спросить хочу. Не вмещается он у меня в голове. Неужели может человек столько лет прожить?
Задумался Анхель, вновь на чурбак уселся, почесал жиденькую бороденку, но увиливать от ответа не стал. Вместо этого руками в стороны развел, сам себя хлопнул по тощим ляжкам, глаза удивленные выкатил.
— А демон его знает. Нет у меня ответа на этот вопрос, но когда я был еще помоложе чем ты, то я сам спрашивал у него об этом, так в ответ много тумана заполучил. Говорил он мне и то, что кому многое дано, с того и спросится многократно. Говорил, что всякий дар тяжел, и чем дар больше, чем тяжелее его нести. А вот кто его сим даром нагрузил, так и не сказал.
— Что же, выходит, надорвался этот хозяин, если уж умер он, как Кессаа говорит? Или убил его кто?
— Не знаю, не знаю, — проворчал Анхель, — но одно скажу, если кто-то сумел остановить жизнь хозяина каменного дома, я бы от такого умельца бежал далеко-далеко.
Глава десятая. Прощание с долиной
Смакл оказался крепким широкоплечим рептом. Ростом он едва достигал Вегу до плеча, но весил раза в два больше, и не объемистый живот тому был причиной, а непомерной толщины ручищи и плечи. Рептская ладья скользнула по глади Ласки уже в сумраке, с кормы, употребив не самые приличные выражения, зычно окликнули Вега, а затем и плюхнули в воду якорь. Мелковато было у правого берега для рептского кораблика, поэтому оставшиеся полсотни локтей до берега команда, состоящая из пяти бородатых и смуглых мужчин, брела по колена в воде. Уж неизвестно, планировал ли Смакл долгую стоянку, но аппетитный запах вара из закопченного котла раздумий ему не оставил. Один из матросов заполучил в руки полный горшок похлебки, накрыл его реминьской лепешкой и, ворча, отправился к ладье, а остальные четверо, включая капитана, да и Вег, явно присмиревший при виде вожака, сели вокруг костра.
Трапеза длилась долго. Насьта что-то выспрашивал у рептов, но Марик слышал не все. Кессаа сказала ему держаться в отдалении, и поэтому он присел на вросший в траву камень и только приглядывался к мелькающей в отблесках огня фигуре Оры, на которую, как он явно понимал, не отрываясь, смотрели сразу все мужчины, кроме, разумеется, Насьты и Смакла, который внимательно облизывал и оглядывал собственную ложку, всякий раз, как доставал ее изо рта, время от времени бросая изучающие взгляды на Кессаа. Репты бодро работали челюстями и косы, в которые были заплетены волосы каждого, подрагивали на их спинах, как хвосты у бальских собак, упражняющихся над кабаньими костями. Сайдка сидела тут же, но говорила негромко, а по отрывистым возгласам Смакла, которые больше напоминали урчание голодного зверя, понять ничего было нельзя. Впрочем, судя по тому, что время от времени что-то вставить пытался и Вег, речь шла о совместном путешествии вниз по Ласке. Наконец, Кессаа удалось до чего-то договориться. Так или иначе, но она окликнула Марика, и он подошел к костру с тяжелым свертком.
— Этот, что ли третьим будет? — недовольно окинул Смакл взглядом Марика и вытер жирные пальцы о поднесенную Орой тряпицу. — Безус еще, а у нас, знаешь, как говорят? Безус — значит и безмозгл. А справится с охраной двух девиц?
— А от кого охранять? — нехорошо улыбнулась Кессаа. — В ладье твоей нам никто не угрожает, а плату я такую дам, что до самой Ройты оберегать нас станешь. Вот и Насьта твое согласие засвидетельствовать готов. Или ты последний раз по Ласке скатываешься? А что касается приблуда всякого…. Река не лес. Да, по берегам тут много гнуси бродит. Только отойди от реминьских селений, загребешь горести, что не выплыть. Но тебе ли бояться береговых крыс, Смакл? А что касается мозгов — так тут ведь какое дело, если их нет с юности, то уж выросла борода, не выросла, мозгов не прибавится.
— Так, значит? — зычно рыгнул репт и расправил жирными пальцами окладистую бороду. — Грубишь, девка. Давно тебя уж знаю, а то ведь отписал бы по одному месту десяток плетей.
— Ну, об этом мы с тобой тоже не в первый раз говорим, — зевнула Кессаа. — И разговор этот пустой. Ты-то ведь сам-то понимаешь, что от твоей команды я и без защитника отобьюсь?
— Вот я и думаю, — вздохнул Смакл. — Зачем мне змею в собственную ладью запускать? Да еще и терпеть ее за неведомо какую плату до Ройты? Или ты меня за придурка портового держишь?
— Я не в мытари к тебе нанимаюсь, и не в гребцы, — расплылась в вежливой улыбке Кессаа. — И уж тем более не затем, чтобы в твоей команде придурков выискивать. Я хочу попасть в Ройту. Так попасть, чтобы ни в Ройте обо мне никто языки не чесал, ни по дороге вопросов лишних не задавал. Надоело мне в лесу жить. За это готова заплатить. Ты все понял?
— Все, — отрезал Смакл. — И то, чего не сказала, тоже понял. Боишься ты кого-то. Уж не знаю, кого, но в устье Ласки у красной скалы рисские дозоры стоят. Нас пока не трогают, но кого-то выискивают. Не так просто их миновать будет!
— Рисские не хеннские, — без улыбки ответила Кессаа.
— Пока не хеннские, — буркнул Смакл, — однако ладью отнять могут.
— Я тебе такую плату дам, что и ладью окупит, и железо твое, — ответила Кессаа.
— Никак золото нарыла? — поднял кустистые брови Смакл. — Или не ты в прошлом году за каждый медяк торговалась, когда я одежонку и кое-какие камешки тебе привез?
— Именно, что одежонку, — рассмеялась Кессаа. — А камешки были не кое-какие, а специальные. Именно те, что для целительства пользу приносят. Или ты не заработал на них вдесятеро против рептской цены?
— Не в том дело, — цыкнул прорехой в крепких зубах Смакл. — Торговаться не хочу с тобой. Голова потом неделю болеть будет. Платить чем станешь?
— Ну-ка, — обернулась к Марику Кессаа, и тот распустил узел на бечеве.
С шелестом и тихим звоном развернулась тяжелая шкура юррга. Словно войлок кудрявилась короткая серая шерсть, но поверх нее искрами топорщились иглы. Замолкли не только шуточки и звяканье ложек, но и дыхание прекратилось. А Смакл приподнялся на кривых ногах, да так и замер, глаза выкатив.
— Вот она, золотая жила, — сузила глаза Кессаа. — По золотому стрела идет с таким наконечником. И на тот год твоя ватага может в сеторские горы не собираться и руду там в печах не осаживать.
— Хитра, — наконец покачал головой Смакл. — И отказаться не откажешься, и риссам тебя не сдашь. С такой шкуркой мимо них скрытно проходить надо. Ведь их зверек-то?
— А я откуда знаю? — изобразила улыбку Кессаа. — Если и их, так нечего скотинку так далеко от дома отпускать. Даже корепты иск за убитую свинью не чинят, если посекли ее в лиге от хлева.
— И много окрест подобных свинок? — зябко поежился Смакл.
— Хватает, — пожала плечами Кессаа и окликнула Насьту. — Покажи.
Потянулся Насьта за спину, перекинул на колени туго набитый тул, вытащил пук стрел. Свежей смолой блеснули оголовки, но вместо знакомых наконечников Марик увидел матовые иглы. Так вот, куда пошла шкура убитого им юррга!
— Все, — ударил по колену ладонью Смакл. — Торг закончен. Но уж и ты, девка, правил моих не нарушай. Грести не заставлю, но чтобы не в свое дело не лезла!
— Давай уж лучше так, — исподлобья ухмыльнулась Кессаа. — В твое дело не полезу. А остальное — как сложится.
— Эх! — выпрямился Смакл. — Двух девок в лодку сажаю, хотя уж сколько раз говорено, что девка в лодке, что мышь в кладовой. Да и юнца с ними. Ну да ладно. Грузится с утра по первым лучам. Барахла много не набирайте. Столько, сколько каждый унести на себе может, и так на локоть лодка просела. Железо это не шкурки какие.
— Некоторые шкурки как железо весят, — не согласилась Кессаа.
Смакл хотел что-то сказать, шумно втянул воздух, глядя, как Марик аккуратно сворачивает бесценный трофей, затем махнул рукой, поклонился опустевшему котлу и затопал в сторону реки.
Полночи Марик привыкал к новому оружию. Приучался загонять на место клинок, снимать его, нажимая на нужное место, ловил ощущения, ждал, когда глевия частью руки покажется. Легче новое оружие было, чем та железка, что ржой рассыпалась, много легче, но легкость все никак поймать не удавалось. Не потому ли, что Ора не выходила из головы? Сразу после того, как репты удалились вместе с раздувшимся от собственной важности Вегом на ладью, девушка шагнула к баль, обняла его за плечи и прижалась к нему так крепко, что если и хотел что-то сказать Марик, так забыл все слова накрепко и надолго. Прижалась, постояла мгновение, сама сказала что-то и тут же убежала в темноту, словно постыдное выболтала.
Кессаа из столбняка парня вывела. Щелкнула его по носу пальцем, толкнула ногой сверток.
— Присматривай за шкуркой. С утра будь готов. Мешки собраны. Забыть уже ничего не удастся.
— Разве Ора плывет с нами? — выдавил из себя нужные слова Марик.
— Смакл так думает, — бросила через плечо Кессаа. — И пусть думает. Ты не удивляйся ничему. А Ора… она уже попрощалась с тобой.
— Что она сказала? — почти прохрипел Марик.
— Это по-дучски — «Я буду ждать. Возвращайся».
— Я вернусь, — твердо сказал Марик.
— Я ей передам, — без тени смешка ответила Кессаа и скрылась в темноте.
— Все, — пробормотал Насьта, подходя к Марику.
— Сказать что хочешь? — не понял баль.
— Все, — повторил Насьта, словно итог подводил. — Что было, то было, а что будет только Единому известно.
— Увидимся еще? — прищурился в полумраке Марик. — Переживешь разлуку-то?
— Увидимся? — не понял баль Насьта. — О какой разлуке ты говоришь? Или ты…. Ну, парень, ты чудить горазд! Папенька что ль мой тебе наговорил что-то? Ты меня видишь? А ее? — ремини кивнул во тьму, в которой исчезла Кессаа. — Кто ж лук в ножны для бальского меча запихивает? Или ты думаешь, что меня любовное томление с ума свело?
— Да, — простодушно брякнул Марик.
— Это тебя оно свело, — отмахнулся Насьта. — Или я не вижу, как вы с Орой взглядами друг о друга искры высекаете? А меня…. Меня другое гложет. Знаешь, что сказала мне дочь хозяина каменного дома? Береги ее. Береги девчонку сказала, но не потому что претерпела она уже столько в своей жизни, что и мертвым, порубленным при жизни на куски не снилось, а потому, что впереди ее ждет еще большая боль, и большие испытания. Помоги ей, она сказала. А как ей помочь, если она делает, что хочет, идет туда, куда хочет?
— Охотится… вот, — пнул Марик ногой тяжелую шкуру.
— Да, — кивнул Насьта и задумался, а потом прошептал. — В ее ладонях вся Оветта, понимаешь?
— Нет, — насторожился Марик и невольно посмотрел в темноту, в которой исчезла сумасшедшая сайдка.
— И я не понимаю, — кивнул Насьта, но приблизился к Марику еще на шаг и прошептал. — Но верю. Чувствую я это! И ты верь! Пообещал я ей, понимаешь?
— Кому? — не понял Марик, ошарашенный серьезностью ремини, который сейчас ему казался сумасшедшим, как и Кессаа.
— Дочери хозяина каменного дома, — раздельно произнес Насьта. — Айра ее зовут. Пообещал я ей приглядывать за Кессаа. Так вот, если Кессаа — как свет Аилле, то Айра — как ураган. Пальцем щелкнет, у такого как Смакл голова сразу слетит!
Покачал Насьта головой, собственную шею с опаской потрогал и тоже в темноте скрылся, а Марик, прежде чем за новое оружие взяться, еще долго пальцами щелкал, пытаясь понять тайный смысл безусловно глупых слов ремини.
Ночь показалась Марику длинной. Он успел не только согнать с себя несколько потов, пока не уловил слабые отголоски будущей ловкости, но и подремать, заткнув под голову все тот же тяжелый сверток шкуры юррга. Утром, когда небо уже посветлело, но Аилле еще карабкался по невидимой стороне Сеторских гор, баль искупался в реке, опрокинул туда же остывший котел, а когда выбрался на берег, быстро расколотил навес и вместе с лежаками свалил деревяшки в костер. Пламя затрещало, пожирая подсушенные жерди, и под этот треск появилась Кессаа. За плечами у нее висел мешок, а поверх него торчала все та же ореховая с пятнами рукоять колючки.
— Готов? — придирчиво осмотрела она Марика.
Он кивнул и подхватил шкуру юррга, опираясь о древко глевии. Клинок уже висел у него на поясе.
— На спину потом перекинешь, — прищурилась Кессаа. — Клинок короткий, так ловчей будет, — и, обернувшись, позвала, — Ора!
Марик услышал невнятный отклик, или это эхо пронеслось над просыпающимися просторами Ласки, но Кессаа поторопила его и вскоре они уже шагали по колена в воде к темному силуэту ладьи. Марик вспомнил было привидевшийся ему две недели назад речной дух, но тут же отвлекся. За спиной послышалось шлепанье босых ног.
— Вовремя! — не дал ему обернуться зычный голос Смакла. — Не бойся, девка, не уплыл бы без вас! А чего костер-то запалили?
— Прожито — забыто, — отрезала Кессаа. — Зачем память оставлять за спиной?
— Как знаешь, — пробурчал вожак, встал над почерневшим бортом глубоко ушедшей в воду ладьи и протянул руки к шкуре юррга.
— Давай уж, парень, все одно с таким грузом не заберешься, — пустил он усмешку в спутанную бороду.
Кессаа перемахнула через борт так легко, словно и не было у нее на спине объемистого мешка, а Марик шагнул в промоину, вымок до пояса, и едва не упустил по течению древко. Только когда под хохот команды он неуклюже все-таки перевалился через борт, то разглядел в десятке локтей от ладьи Ору.
— Здесь ваши места! — довольно рявкнул Смакл, ткнув толстым пальцем в сторону скамьи у кормы. — По кораблю не шастать. Сидеть смирно. Все ясно?
— Сообразим, — нахмурилась Кессаа, сбрасывая с плеч мешок. — Иди сюда, парень. Да стяни с себя порты, просушить надо одежду.
— Вот-вот! — оскалился Смакл. — Когда такая девка просит снять порты, отказываться последнее дело!
Марик растерянно остановился, но команда хохот Смакла не поддержала. Репты, явно успевшие перекусить до прихода пассажиров, одобрительными окликами приветствовали Ору. На ней было все то же серое платье, волосы скрывал платок, вот только мешок она тащила такой, что показался бы впору и самому Смаклу, да и ростом стала ниже, или это тяжесть вдавливала ее в песчаное дно? Марик пригляделся к уже ставшей привычной улыбке на губах девушки, почесал затылок и вдруг понял, что не ходит так дучка. Не переваливается с бока на бок, не морщит скулы, не пытается смахнуть пот со лба предплечьем. Он уже собирался пробормотать присказку на отворот морока, но за спиной услышал жесткий шепот Кессаа.
— Не надо.
Репты с радостными криками приняли у Оры тяжелый мешок. Крепкие руки подхватили ее из воды и поставили на укрытые дерюгой крицы, сложенные у мачты. Ора замахала руками, неожиданно легко подхватила мешок и, отпихнув Марика в сторону, бухнулась на скамью рядом с Кессаа.
— Вот такушки, — услышал Марик знакомый голос и тут только разглядел под мороком страдальческий взгляд Насьты.
— Ничего, — скривила губы в улыбке Кессаа. — Потерпишь. А не нравится, так я не держу!
Насьта только вздохнул.
— Эй! — заорал Смакл Марику, выволакивая из-за борта якорь. — Парень! Ну, ты будешь скидывать порты или нет? Публика ждет!
Первые лучи Аилле блеснули над серой водой. Хлопнул на мачте грубый короткий парус. Заскрипели, упираясь в дно, весла. Ладья вздрогнула, шевельнулась и начала разворачиваться по течению. Бросив на дно ладьи камень с прилаженным к нему железным брусом, Смакл заторопился к рулевому веслу. Широкая ладонь отодвинула Марика в сторону так, словно он был соломенным чучелом. Шутки кончилось, начинался новый путь.
Баль оглянулся. Насьта в облике Оры хмуро почесывал мочку уха. Кессаа сидела, закрыв глаза, и как будто прислушивалась к чему-то. О днище ладьи терлась Ласка.
Костер ниже скрытого золотыми стволами каменного дома прогорел еще до полудня. По склону спустился дед Анхель, но к кострищу не приблизился, только обошел дом, вскарабкался к двери, с удовлетворением подергал тяжелый замок и засеменил в обратный путь.
Кузнец Уска поставил посередине кухни глиняный таз, расстелил рядом тростниковый коврик, опустился на колени и, бормоча реминьские присказки, поочередно омыл руки и лицо. Затем поднялся, повязал голову белой тканью, покрытой округлой реминьской вязью и начал закладывать в низкую печь древесный уголь и самородное железо.
Ора присела рядом с матерью Насьты, взяла в руки камень и принялась шелушить орехи. Несколько раз гримаса исказила ее лицо, затем пальцы приноровились и дело пошло быстрее. Коричневые скорлупки падали в корзину, желтые ядрышки ссыпались в горшок. Реминька сначала посматривала на дучку с ревностью, затем успокоилась и негромко, почти шепотом, запела какую-то тягучую песню.
В полдень на покрытую ярко-красной ягодой поляну, которую всего лишь две недели назад пересек разъяренный юррг, вышла женщина. Одежда ее была проста, за плечами висел тощий мешок, из-под него торчали рукояти двух мечей, но затруднительно было представить, как бы она смогла ими воспользоваться. Широкой лентой через плечо к груди был прикреплен сверток, из которого доносилось детское лопотанье. Женщина улыбнулась, смахнула со лба пот, пересекла поляну и остановилась у линии, невидимо пересекающей траву. Вздохнув, она присмотрелась к силуэту могучего дерева и замахала рукой.
— Ситка! Открывай заслон! Или не узнал? Выходи, от меня не спрячешься!
Тяжелая ветвь дуба неожиданно шевельнулась и почти над головой женщины появилась нахмуренная физиономия.
— Подожди! Айра? Где ты пропадала?
— Отчет требуешь? — усмехнулась колдунья. — Сам-то давно воином стал? Когда я уходила, еще по деревьям лазил! Анхель жив еще?
— Жив! Что ему сделается?
— Открывай проход, да беги к нему. Сообщи, что война началась. Хенны перешли Лемегу. Два месяца уже почти как.
Конец первой части
Часть вторая. Айра
Глава одиннадцатая. Дочь трактирщика

«… мерзость захватила земли от восхода Аилле до заката. Ужас гнал из дома и малого, и большого, но мало кто решался бежать, потому как все, что было плохо у дома и в нем самом, за околицей было плохо стократ…»
Хроники рода Дари, записанные Мариком, сыном Лиди.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
