
Бесплатный фрагмент - Оборванные нити исторической памяти
Л. К. Филиппов
Оборванные нити
исторической памяти
Историко-лингвистическое исследование
Р е ц е н з е н т ы :
доктор исторических наук, профессор А. И. Донин
доктор филологических наук, профессор А. М. Молодкин
На обложке:
Хуннский всадник, гуннские всадники (китайские изображения) и вид на Волгу.
В книге предпринята попытка обосновать существующую в науке хуннскую, гуннскую гипотезу происхождения чувашей и их языка.
Для научных работников, занимающихся проблемой этногенеза и этнической истории народов, а также широкого круга лиц, интересующихся происхождением и историей народов Российской Федерации.
Я считаю, что самыми вескими доказательствами происхождения того или иного народа являются те, которые основаны на его языке.
Предисловие
Хронологически книга охватывает период от конца III тысячелетия до н.э. до XX в. н.э., географически — территорию Восточной Азии, Западной Сибири, Средней Азии, Казахстана, Кавказа, Передней (Малой) Азии и Европы. В ней собраны, систематизированы, проанализированы и в строгой логической последовательности сжато изложены письменные сведения по этногенезу и этнической истории хуннов, гуннов. Содержащиеся в них этнонимы и географические названия, непосредственно связанные с этнической историей хуннов, гуннов, объяснены с точки зрения происхождения и значения. Этимология их, как правило, рассматривается на широком историко-географическом фоне. Естественно, что автор при работе над данной книгой использовал свои более ранние публикации, на которые ссылки (за некоторым исключением) не даются. Они частью уточнены, частью обновлены, частью переработаны.
Цель исследования — с той или иной степенью полноты и достоверности обосновать существующую в науке хуннскую, гуннскую гипотезу происхождения чувашей и их языка. Достижение её предполагает исследование этногенеза хуннов, гуннов, их этнической истории специально под углом зрения поисков этноязыковых элементов, связывающих чувашей с хуннами, гуннами. Такая методика исследования даёт более полное освещение затрагиваемому в книге предмету, позволяет рельефнее выделить значение тех событий этнической истории хуннов, гуннов, которые в плане настоящего исследования представляют особый интерес, установить связи между ними и привести их в единую гипотетическую систему, отражающую непрерывную этническую историю хуннов, гуннов.
На исторический процесс сложения того или иного этноса может пролить свет и этимология его подлинного имени. Подтверждение тому — происхождение и значение самоназвания хуннов (а затем и гуннов). Оно, заметим, имеет многочисленные фонетические варианты, которые сохранились в греческих, латинских, арабских, армянских и других письменных источниках, что, между прочим, подтверждает реальность их функционирования в тот или иной исторический период на той или иной географической территории. Учитывая это и территориальную принадлежность, в тексте книги самоназвание хуннов, гуннов даётся в разном написании: сыпар, сывар, сыпыр, сыбыр, сывыр, сапир, сабир, савир, сапар, савар, сувар, сепер, сепир, север и т. д. Его фонетическим вариантам отводится далеко не последняя роль в освещении этнической истории хуннов, гуннов. Сказанное в полной мере относится и к этимологически связанным с ними чувашским языческим именам, а также гидронимам, топонимам, этнотопонимам, оставленным хуннами, гуннами, енисейскоязычными кетами, аринами, ассанами, коттами, пумпоколами и до сих пор функционирующим в разных точках Азии, Кавказа и Европы.
В книге «хуннские, гуннские» слова истолковываются на материале чувашского языка. Объясняется это тем, что в науке устойчиво бытует мнение, согласно которому древнейшими предками чувашей были восточноазиатские хунны [Академик Бартольд, 1968, т. 5, с. 456; Аристов, 1896, с. 409 и др.]. Оно позволяет говорить если не о непрерывной линии развития чувашского этноса от восточноазиатских хуннов до современных чувашей, то о генетическом родстве чувашей с хуннами. Связующим звеном в этой цепи выступают кавказские, европейские гунны, одну из ветвей которых, согласно японскому исследователю С. Хаттори (р. 1908 г.), составляют «чувашские племена» [Хаттори, 1980, №3, с. 94].
К сказанному следует добавить, что чувашский язык стоит особняком среди тюркских языков [Федотов, 1980; Мудрак, 1994 и др.] и, по общему мнению тюркологов, является древнейшим из них. В. В. Бартольд (1869 −1930) возводит его к языку восточноазиатских хуннов [Академик Бартольд, 1968, т. 5, с. 38, 198, 579], а финский лингвист Г. Рамстедт (1873−1930) считает чувашский язык «единственным остатком языка древних гуннов» [цит. по: Федотов, 1980, с.31]. Эти и подобные им высказывания (а их немало) позволяют говорить если не о непрерывной линии развития чувашского языка от хуннского, гуннского до современного чувашского, то о генетическом родстве чувашского языка с хуннским, гуннским.
Третья часть данной книги как бы не связана с двумя предыдущими, поскольку в ней речь идёт о хуннских, гуннских словах в русском языке. Это так, если исходить из их названий, и не так, если исходить из их содержания, стержнем которого является мысль о генетической связи чувашского языка с хуннским, гуннским. А это значит, что все части книги подчинены единой цели и по праву носят одно название. Вместе с тем они через посредство чувашских слов проливают свет на историю гунно-восточнославянских этноязыковых контактов, о которых по поводу чего-то другого в разное время писали некоторые отечественные и зарубежные учёные. Очевидно, пришла пора говорить об этом не «по поводу» чего-то иного, а специально; тем более накопленные наукой сведения в этой области знаний вполне достаточны, чтобы всерьёз заняться указанными этноязыковыми контактами и обобщённо осмыслить их.
В тексте книги в круглых скобках даются отсылки на предыдущие части, главы, параграфы. Они не только освежают в памяти сказанное выше, но и позволяют связать его с дальнейшим развитием той или иной мысли, что облегчает её осмысление и в известной мере помогает ориентироваться в материале данного исследования. Исключительно важна в этом отношении роль подробного оглавления
Гипотеза о том, что потомками восточноазиатских хуннов, кавказских, европейских гуннов являются чуваши и что их язык по своему происхождению восходит к хуннскому, гуннскому языку, на первый взгляд кажется маловероятной или даже невероятной. Она, надо полагать, будет подвергнута критике и прежде всего теми исследователями, которые происхождение чувашей связывают с огурами, булгарами/болгарами, шумерами, египтянами, этрусками, индо-иранцами, скифами, сарматами, чудью. Хотелось бы, чтобы её оспаривали не путём критики деталей (они часто нуждаются в уточнениях), а по существу, не выдавая желаемое за действительное, не искажая реалии исторического прошлого, что, к сожалению, нередко встречается (особенно в последнее время) в работах, посвящённых этногенезу и этнической истории народов.
Автор стремился стиль изложения приблизить к устному повествованию; от этого книга не становится научно-попу-лярной: она и научная, и популярная.
Выражаю искреннюю признательность судье Верховного Суда Чувашской Республики А. В. Акимову и адвокату Чувашской коллегии адвокатов Н. П. Петрову, обеспечивавшим необходимой научной литературой, изданной в Чебоксарах.
Часть 1. ИЗ ИСТОРИИ ХУННОВ
Хунны — один из древнейших восточно-азиатских народов. В китайской истории они известны под именем хунну или сюнну. Согласно Н. В. Кюнеру, хунну представляет собой старое чтение (произношение) китайских иероглифов, обозначающих чужезем-
ное название хунну, а сюнну — современное [Кюнер, 1961, с. 25]. В работе предпочтение отдано первому фонетическому варианту.
В научной литературе на русском языке принято склонять слово хунну. Следуя этой традиции, в книге этноним хунну изменён на хунны, в связи с чем прилагательное, образованное от него, употребляется в форме хуннский (-ая, -ое, -ие).
1. Хунны в Восточной Азии
История хуннов, их предков тесно связана с историей древнего Китая. Им посвятили свои труды учёные разных стран и времён. Взгляды многих из них исчерпывающе изложены К. А. Иностранцевым, Л. Н. Гумилёвым и некоторыми другими исследователями в специальных работах. Новые разногласия учтены в книге в цитированных трудах. «Поэтому целесообразно не повторять пройденного, а дать, так сказать, двуступенчатую систему отсылочных сносок: ссылаться на последние обобщающие работы, в которых изложение источников и взгляды предшественников уже критически обработаны и проверены» [Гумилёв, 1991, с. 97]. Выше говорилось, что такие обобщающие исследования в хуннологии имеются, и их немало. Вот почему в данной книге использована и двуступенчатая система отсылочных сносок.
Список литературы о хуннах огромен, ныне о них известно многое. Но в хуннологии, как и в любой другой науке, есть и спорные, до конца не решённые вопросы. В их числе: «Как возникли хунны? Как они сами себя называли? На каком языке говорили?». Предельно кратко рассмотрим, какое освещение они получили в научной литературе.
1.1. Начальный предок хуннов
Основоположник русского китаеведения Н. Я. Бичурин (1777–1853) пишет, что «предок хуннов был потомок Дома Хя-Хэу-шы, по имени Шуньвэй» [Бичурин, 1950, т. 1, с. 39]. Н. В. Кюнер, сличая его перевод с китайскими оригиналами, вносит такое уточнение: «Сюнну, их предок. Это потомок дома Хяхэу, назывался Шуньвэй» [Кюнер, 1961, с. 307]. Вот как комментируют события, связанные с начальным предком хуннов, китайские историки: «Соинь. Чжан Янь говорит: «Шуньвэй во время Инь [ской династии] бежал на северную границу». Ещё Ле Янь в «Тодипу» говорит: «Когда при [императоре] Цзйе династии Ся не стало доброго управления, то Тан [основатель династии Шан] испустил свист ветра по древесным ветвям. Через три года [Цзйе] умер. Его сын Сюнь Юй женился на многих наложницах Цзйе, бежал жить в Северную пустыню. Следуя за скотом переселился. Китай прозвал его Сюнну». Если говорят, что он потомок государя Хя [Ся], то, вероятно, это правильно. Поэтому Ин Шао в «Фынсутун» говорит: «Во время Инь, говоря о Сюнь Юе, изменили имя на сюнну. Цзинь Чжо говорит: «Во время Яо (легендарного императора Китая. — Л.Ф.) назывались хуньюй, при Чжоу назывались хяньюнь, при Цинь назывались сюнну». Вэй Чжао говорит: «При Ханьской династии говорили о сюнну, что хуньюй их отдельное имя. В таком случае Шуньвэй их начальный предок [ши-цзу]. Вероятно, с Сюнь Юй это [Шуньвэй] одно и то же (курсив мой. — Л.Ф.)» [цит. по: Кюнер, 1961, с. 307].
Из приведённых комментариев китайских историков следует, что начальным предком хуннов был сын последнего императора династии Ся Цзе (Цзйе) и что его называли Шуньвэй, или Сюнь Юй.
1.2. Династия Ся
Была ли династия Ся в древнем Китае? На этот счёт мнения учёных до последнего времени расходились. Одни отрицали её существование, другие считали, что династия Ся была и что в древности Ся значило «Китай». Систематизировав упоминания о событиях периода Ся, содержащиеся в таких древнекитайских памятниках, как «Цзочжуань», «Гоюй» и «Чжушу», Сюй Сюэ-шэн попытался определить район, к которому относятся эти свидетельства. Выяснилось, что таких районов два: равнина близ Лояна в Хэнани (включая долину реки Иншуй, а также Дэнфэн и Юйсянь) и юго-западная часть Шэньси [цит. по: Сыма Цянь, 1972, т. 1, с. 253, прим.; см. также: Крюков, Софронов, Чебоксаров, 1978, с. 153]. В 2000 г. на основе радиоизотопного метода установления возраста материальных памятников китайские учёные пришли к окончательному выводу, что китайской цивилизации 4000 лет и что она началась с царства Ся, возникновение которого относят к 2070 г. до н. э. В честь многотысячелетней китайской цивилизации в Китае отлили и в январе 2001 г. установили самый большой в мире колокол.
* * *
Основателем династии Ся считается Юй [Сыма Цянь, 1972, т. 1, с. 150—165]. Его именуют обычно сяский по названию местности — Ся находилось в пределах современной провинции Хэнань [Там же. С. 253, коммент.]. Отец китайской истории Сыма Цянь (135 или 145 г. до н.э. — после 96 г. до н.э.) сообщает, что «Юй носил (родовую. — Л.Ф.) фамилию Сы, но его потомкам были пожалованы земли в разных местах, и они названия владений сделали своими [родовыми] фамилиями. Так появились роды Ся-хоу, Ю-ху, Ю-нань … (всего перечисляется 13 родов. — Л.Ф.)» [Там же. С. 165]. Отпочкование от большого рода (племени) сы нескольких родственных родов или племён приводило, как утверждают Р. В. Вяткин и В. С. Таскин, к расширению власти господствующего рода [цит. по: Сыма Цянь, 1972, т. 1, с. 79, коммент.]. Наименования их «были тесно связаны с географическими названиями, с местами их проживания…» [Вяткин, 1972, с. 104].
* * *
Последним правителем династии Ся, о чём говорилось выше, был Цзе (Цзйе) [Сыма Цянь, 1972, т. 1, с. 162—164]. Он проводил время в развлечениях, не заботился о народе, царстве, что, естественно, вело к его упадку. По мере ослабления Ся на востоке Китая усиливалось царство Шан. Один из его правителей по имени Тан покорил множество мелких соседних владений, затем напал на роды Вэй и Гу, уничтожил их, разгромил обширное царство Куньу и совершил нападение на Ся. Войска Цзе были разбиты [Там же. С. 165, 168—169; 1975, т. 2, с. 11, 16], сам император бежал в Куньу — к родственным племенам сы. Когда Тан уничтожил и Куньу, Цзе укрылся в горах Наньчао (провинция Аньхой) [Фань Вэнь-лань, 1958, с. 47].
Так, свергнув последнего императора династии Ся, Тан основал новую династию — династию Шан (Инь). При этом родовую аристократию Ся он оставил на прежней службе. Сыма Цянь сообщает: «Тан пожаловал земли потомкам [дома] Ся» [Сыма Цянь, 1972, т. 1, с. 165]. Что касается населения Ся, то оно стало рабами шанцев. Трудом рабов в ту эпоху пользовались довольно широко, в частности их заставляли пасти скот. «Пусть захваченные в большом количестве рабы пасут скот», — говорится в одной из гадательных надписей [Авдиев, 1970, с. 568]. Военнопленных обращали также в рабство, содержали их в заключении, в особых помещениях [Там же].
Не вызывает сомнения, что часть разбитых войск Ся и некоторых других уничтоженных Таном владений, боясь расправы, бежала за пределы своей страны. Бежал от Тана и наследник престола Ся Сюнь Юй (Шуньвэй) — сын Цзе [Кюнер, 1961, с. 307], со своей свитой, которая, согласно Г. Ю. Клапроту, состояла из пятисот человек [Klaproth, 1823].
Сколько людей оказалось в положении беглецов, неизвестно. Думается, что их количество исчислялось не одной тысячей. Для того времени такая численность была достаточно большой.
1.3. Начало новой жизни
Где же беглецы нашли себе вторую родину? В китайской истории говорится, что Сюнь Юй бежал «в Северную пустыню», т.е. в степи южной окраины Гоби. Из этого можно допустить, что и остальные беглецы скрылись в том же направлении. Другого пути у них не было: на востоке господствовали их победители — шанцы, на юге обитали исконные враги Ся — племена мяо, мань, на западе жили племена жун. Правда, северные земли тоже не были свободными (там кочевали степняки), но они были слабо заселёнными. Конечно, северная пустыня была мало пригодной для жизни, однако для беглецов она стала надёжным прибежищем.
С того времени, как беглецы осели в северной пустыне, началась их новая жизнь. Она была полна лишений. Перед беглецами возникла задача первостепенной важности: приспособиться к новым условиям жизни. Суровая пустыня требовала от них мужества, стойкости, организованности. Беглецы всё это прекрасно понимали и сообща победили пустыню. Очевидно, Сюнь Юй, организуя жизнь беглецов, проявил максимум воли, энергии и умения и тем самым заслужил всеобщую признательность. Имя его впоследствии, по всей вероятности, превратилось в титул хуннских государей — шаньюй. История знает такие факты. Так, титул русских самодержцев царь (сокращённая форма от цесарь) восходит к имени выдающегося полководца древности Юлия Цезаря. Титулы шведского, непальского, датского, афганского монархов одинаково восходят к имени Карла Великого (768—814) — могущественного повелителя франков в раннем Средневековье.
1.4. Соседи беглецов
Кто были соседями беглецов? Сыма Цянь сообщает: «До Тана и Юя [племена] шаньжунов, сяньюней и хуньюев жили на [землях] северных варваров и вслед за пасущимся скотом кочевали с места на место» [цит по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 34; см. также Бичурин, 1950, т. 1, с. 39]. В эпоху Ся они, по мнению Сыма Чжэня (VIII в. н.э.), стали называться чуньвэй, в эпоху Шан (Инь) — гуйфан, в эпоху Чжоу — яньюн, в эпоху Хань — сюнну [цит. по: Сыма Цянь, 1972, т. 1, с. 225]. Цзинь Чжо, повторимся, пишет: «Во время Яо назывались хуньюй, при Чжоу назывались хяньюнь, при Цинь назывались сюнну» [цит по: Кюнер, 1961, с. 307], т.е. хуньюй, хяньюнь и хунну «суть три разные названия одному и тому же народу…» [Бичурин, 1950, т. 1, с. 39, прим. 4]. Такой же точки зрения придерживается и К. А. Иностранцев, который утверждает, что хунны раньше назывались хуньюй, хянь-юнь, еще раньше шань-жун [Иностранцев, 1926, с. 88]. Держава их, по его мнению, получила название Хунну потому, что имя победившего рода или племени было созвучно с китайским словом хун-ну [Иностранцев, 1926, с. 90]. Отмечая, что хунь-юй, хяньюнь, как и хун-ну, — китайские слова, К. А. Иностранцев пишет: «Мы думаем также, что Хянь-юнь и Хунь-юй — такие же транскрипции, как и Хун-ну, и притом того же самого имени» [Там же]. Однако он не называет это «то же самое имя», но признает, что сказать, какое имя (хяньюнь, хунь-юй или хун-ну) ближе к истинному имени народа, трудно.
Как бы подводя итог всем этим рассуждениям, Ван Го-вэй (1877—1927) подчёркивает, что «встречающиеся в источниках племенные названия гуйфан, хуньи, сюньюй, сяньюнь, жун, ди и ху обозначали один и тот же народ, вошедший позднее в историю под именем сюнну» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 10]. Данная точка зрения, согласно В. С. Таскину, нашла сторонников среди большинства китайских историков [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 10].
Как видим, однозначного ответа на вопрос «Кто были соседями беглецов?» дать практически невозможно. Л. Н. Гумилев, однако ж, считает, что «хяньюнь и хуньюй были потомками аборигенов Северного Китая, оттеснённых „черноголовыми“ предками китайцев в степь ещё в III тысячелетии до н. э.» [Гумилев, 1960, с. 15]. Условно назовём их одним именем — хуньюй. К какому роду/племени принадлежали хуньюй, неизвестно. Не располагает наука и никакими сведениями об их языке.
1.5. Становление хуннов
Нет сомнения в том, что в начале новой жизни все силы беглецов уходили на поддержание физического существования. О нападении на царство Шан и возврате к прежней жизни они, конечно же, и не помышляли: слишком неравные были силы. С этим надо было считаться, и беглецы, как говорится, держались подальше от греха. Установив дружеские отношения с соседними степными племенами, они кочевали вместе с ними по безбрежной пустыне Гоби, всё дальше удаляясь от Китая. Во главе их, напомним, стоял наследник цивилизованного царства Ся Сюнь Юй со своей свитой, а её, само собой разумеется, представляли аристократы и аристократки, надо полагать, люди умные, образованные. И как таковые они не могли не оказать культурного влияния на своих степных соседей, что позволило им занять важное место в их жизни. С течением времени беглецы, их потомки растворились среди степняков. В результате возникли хунны. Такая точка зрения на их происхождение издавна бытует в китайской истории [Кюнер, 1961, с. 307]. Несколько иначе объясняет происхождение хуннов Л. Н. Гумилёв, о чём будет сказано ниже.
1.6. Этническая принадлежность хуннов
(Рис. 1. Хунн). Этническая принадлежность хуннов — вопрос спорный в науке. Их идентифицировали и с монголами, и с тюрками, и с кетами, или енисейскими остяками, и с иранцами; высказывались также мнения, что хунны представляли собой смесь тюрок и монголов, монголов и тунгусов, тюрок, монголов, тунгусов и финнов. Из них нас интересуют две гипотезы: кетская и тюркская.
Кетская, или енисейско-остяцкая, гипотеза происхождения хуннов связана с именами Л. Лигети (р. 1902; Венгрия) и Э. Дж. Пуллибланка (р. 1922; Англия, Канада), но впервые была изложена в общих чертах О. Менчен-Хелфеном [Maenchen-Helfen, 1944–1945, s. 222–243]. Она основана преимущественно на лингвистическом материале и будет рассмотрена в другом параграфе (ч. 1 §1.15). Пока же отметим, что кетская гипотеза происхождения хуннов нашла некоторое развитие в работах Вяч. Вс. Ивáнова и В. Н. Топорова [Ивáнов, Топоров, 1964], Г. К. Вернера [Вернер, 1969; 1973] и некоторых других исследователей. О связи хуннов с кетами свидетельствуют и такого рода высказывания (правда, ничем не аргументированные): «… имеются этимологиеские доводы в пользу того, что один из народов, известных под общим именем гуннов …, мог быть енисейского происхождения» [Ивáнов, Топоров, Успенский, 1968, с. 7]; «Более доказательным представляется предположение о присутствии предков кетов в гуннском конгломерате племён и участии их в формировании ряда южносибирских тюркских и самодийских народностей» [Гурвич, 1980, с. 243].
Наиболее распространенной является гипотеза, согласно которой хунны были тюрками. Заметим: её не поддерживают такие известные лингвисты, как Э. Дж. Пуллибланк, Г. Дёрфер (р. 1920; Германия, ФРГ) и некоторые другие. Но хунны не были тюрками; они «сделались» ими, когда термин тюрк стал наименованием языковой семьи. Скорее всего, наоборот: тюрки были хуннами, ибо они возникли из этнического смешения «пятисот семейств Ашина», говоривших между собой по-монгольски, с тюркоязычными алтайскими племенами, происходившими от хуннов, «тем более что „пятьсот семейств“ монголов были каплей в тюркском море» [Гумилёв, 1967, с. 24]. Эти «пятьсот семейств» в свою очередь возникли «из смешения разных родов» [Бичурин, 1950, т. 1, с. 221], обитавших в западной части Шэньси, которая в IV в. н.э. была отвоёвана хуннами и сяньбийцами у китайцев [Гумилёв, 1967, с. 22]. Они подчинялись хуннскому князю Муганю, владевшему Хэси (область к западу от Ордоса, между излучиной Хуанхэ и Наньшанем) [Там же]. Когда же в 439 г. тобасцы победили хуннов и присоединили Хэси к империи Вэй, князь «Ашина с 500 семейств бежал к жужаньцам и, поселившись по южную сторону Алтайских гор, добывал железо для жужаньцев» [Бичурин, 1950, т. 1, с. 221], где орда, сплотившаяся вокруг него, и слилась с местным населением, наделив именем тюрк или тюркют [Гумилёв, 1967, с. 24]. Это слияние «оказалось настолько полным, что через сто лет, к 546 г., они представляли ту целостность, которую принято называть древнетюркской народностью или тюркютами» [Там же]. Иными словами, древние тюрки возникли после того, как хунны перестали вести активную историческую жизнь. Их разделяет промежуток времени в более полутора тысяч лет! Бесспорно, между этими двумя народами было бόльше различий, чем сходств. Поэтому для утверждения, что хунны были тюрками, нет оснований. Хунны были хуннами.
1.7. Хуннское общество
Кочуя в пустыне Гоби, хунны постепенно обживали этот суровый, поистине богом забытый край, плодились и размно- жались. Двигались они, надо сказать, по земле до них почти не заселённой, не встречая сопротивления. Эти условия жизни выработали в них такую, например, черту характера, как свободолюбие, что так было свойственно хуннам. «Да, — пишет Н. М. Пржевальский, — в тех пустынях действительно имеется исключительное благо — свобода, правда, дикая, но зато ничем не стесняемая, чуть не абсолютная» [Пржевальский, 1948, с. 216].
Около 1200 г. до н.э. хунны, по данным археологии, осуществили переход через пустыню Гоби и оказались на север- ной её окраине — в Южной Сибири. Примерно к этому времени Ж. Дегинь (французский учёный XVIII в.), опираясь на Сыма Цяня, относит создание хуннского общества; эту дату принимает и Кордье [цит. по: Гумилёв, 1960, с. 30]. В ту эпоху хунны обитали в степях от Хэбэя до озера Баркуль [Гумилёв, 1960, с. 30] и уже представляли собой народ.
1.8. Этимологии слова хунну
Языковая принадлежность и значение слова хунну толкуются весьма разноречиво. Ж. Дегиь (ссылки на работы иностранных авторов даются по: Иностранцев, 1926) полагает, что хун-ну (Hiong-nou) может быть переведено по-китайски как «несчастные рабы», но считает, что оно татарское (тюркское) слово, изменённое китайцами, и тут же добавляет, что оно может быть китайское по происхождению [Deguignes, 1756—8, т. 2, p. 13]. По мнению Н. Я. Бичурина, хунну — слово монгольское и является собственным именем [Бичурин, 1950, т. 1, с. 39]. В. Томашек (1841—1901; Австро-Венгрия) выводил его из турецкого корня ön, önä, что значит «расти» [Tomaschek, 1888], а Ф. И. Эрдман (1793—1863; Россия) — из турецкого числительного оп — «десять» [Erdman, 1862, s. 112]. Л. Каён же утверждает, что хунну ни монгольское, ни турецкое, а китайское слово и очень древнее [Cahun, 1895, р. 46]. Китайским считают его и А. Ремюза (1788—1832; Франция), и К. Нейман. Первый из них полагает, что хунну может значить «дурные рабы» [Rèmusat, 1820, р. 8—9], второй — «поднимающие шум рабы» [Neumann, 1847, s. 26]. К. А. Иностранцев хун-ну тоже считает китайским словом, имеющим собирательное значение [Иностранцев, 1926, с. 90—91]. Вивьен де Сен-Мартен (1802—1897) склонен думать, что хунн — финское слово и встречается там в форме хум — «человек» [цит. по: Иностранцев, 1926, с. 82]. Г. Ю. Клапрот (1783—1835; Германия) в диалектах вогульского (мансийского) языка нашёл слово houm, khoum и koum, значащее «человек» и производил имя хунну от этого слова [цит. по: Иностранцев, 1926, с. 64, 117]. А. Вамбери (1832—1913; Венгрия), указывая на то, что куманы (половцы) назывались венграми kum, сближал с этим словом имя хунн [Vambery, 1882, s. 43]. А. П. Окладников хунну связывает с монгольским хÿн — «человек» [Окладников, 1956, с. 91—92]. И. Д. Кузнецов считает, что корень слова хун означает «размножение, распложение живого, доброго, кровно близкого» [Кузнецов, 1957, с. 126]. В.Ф Каховский полагает, что «слово хунн, возможно, выражало понятие происхождения и родства» [Каховский, 1965, с. 126].
Думается, что хунну — слово явно китайского происхож-дения. В этом смысле мы разделяем точку зрения Л. Каёна, А. Ремюза, К. Неймана, К. А. Иностранцева, но в отличие от них считаем, что слово это имеет непосредственное отношение к личности Сюнь Юя, наследника престола Ся, и является его прозвищем, о чём сообщают китайские письменные источники.
«Слово „Хун-ну“ в кит [айских] буквах [знаках] значит злой невольнк», — пишет Н. Я. Бичурин [Бичурин, 1950, т. 1, с. 111]. Однако, считая его монгольским собственныи именем, он подчёркивает, что оно значение китайских букв не имеет [Там же. С. 39]. Между тем смысловое значение этого прозвища как нельзя лучше согласуется с поведением Сюнь Юя. Несмотря на то, что аристократия династии Ся после свержения Цзе была оставлена на прежней службе [Сыма Цянь, 1972, т. 1, с. 165], он бежал «в Северную пустыню». Что явилось истинной причиной его бегства, неизвестно. Возможно, Сюнь Юй бежал боясь расправы, желая сохранить свободу и независимость или надеясь со временем возвратить потерянную отцом власть. Как бы то ни было, он оказался невольником судьбы и воли. Стало быть, шанцы не без основания прозвали его хун-ну — «злой невольник».
Попутно заметим, что прозвищем древние китайцы наделяли не только отдельных людей, но и целые племена. Шанцы и чжоусцы, например, племена жунов и ди называли как общим их именем жунди, так и гуйфан, цюаньжун, цюаньи, выражая своё презрение к ним. (Оно здесь выражено словами: гуй — «чёрт», цюань — «собака», входящими в эти названия [Фань Вэнь-лань, 1958, с. 102]).
1.9. Самоназвание хуннов
Вопрос о подлинном имени хуннов в науке освещался крайне недостаточно и не получил сколько-нибудь удовлетворительного решения. Те исследователи, которые так или иначе затрагивали его, отмечали, что хунны в разное время выступали под разными именами и что самоназвание их неизвестно. Совершенно определённо относительно подлинного имени хуннов высказался, пожалуй, только К. Нейман. Он считал, что собственное имя хуннов — хуньё, что оно, вероятно, значит «люди» и что истинное его значение «лукоеды» [цит. по: Иностранцев, 1926, с. 38—39].
Естественно, вопрос о самоназвании хуннов требует своего решения. И не столько потому, что он не решён, сколько потому, что он, возможно, прольёт свет на начальный этап формирования хуннов.
* * *
Разговор о подлинном имени хуннов начнём с напоминания о том, что беглецы, сплотившиеся вокруг Сюнь Юя, были вы- ходцами из разных владений, а следовательно, разной этнической и языковой принадлежности. Большинство среди них составляли выходцы из Ся и Куньу, где жили родственные племена сы, говорившие, по всей вероятности, на языке китайского типа. Именно они во главе с Сюнь Юем объединили беглецов в одну большую семью, которая фактически представляла собой мини-царство, если можно так выразиться.
Само собой разумеется, Сюнь Юй и собравшиеся вокруг него люди стремились установить те или иные контакты со своими соседями — степняками. Этого требовали сами условия их жизни: беглецы, безусловно, испытывали нужду в продуктах питания, одежде. Кроме того, у них, по всей вероятности, был острый недостаток в женщинах, ибо беглецы в большинстве своём были мужчины. Женщины в древнем Китае находились в бесправном положении [Авдиев, 1970, с. 575]. С ними не считались. В государстве Чжоу, например, самым тяжёлым обвинением для мужчины было обвинение в том, что он «следует советам своей жены» [Там же]. «Господство мужа и отца, порабощение женщины, усугублённое многожёнством… являются типичными чертами древнекитайской патриархальной семьи», — пишет В. И. Авдиев [Там же. С. 567]. Из сказанного следует, что от шанцев в первую очередь бежала мужская часть населения Ся и других уничтоженных Таном владений. Такое положение не могло не заставить беглецов породниться с соседями — степняками; и они, естественно, усваивали их язык, быт, культуру, называли себя, что вполне логично, *сы жэнь (сы — название племени, жэнь — «человек»), т.е. «сы человек», «сы люди», что не расходится с общепризнанным в настоящее время положением, согласно которому древнейшими этнонимами были слова, означающие «человек», «люди», «народ» [Чеснов, 1971, с. 12].
* * *
Но было ли в языке сы племён словосочетание/слово *сы жэнь/*сыжэнь? Если было, употреблялось ли оно в значении этнонима? На эти вопросы невозможно ответить ни положи- тельно, ни отрицательно. Если говорить о китайском языке, то в нём слово сыжэнь употреблялось в значении «евнухи» — так называли в Китае с периода Чжоу рабов первой категории, т.е. рабов, которые выполняли исключительно функции прислуж- ников в аристократических домах и не принимали никакого участия в производстве [Фань Вэнь-лань, 1958, с. 114].
Имеется в китайском языке аналогичное сыжэнь слово шанжэнь, относительно которого В. И. Авдиев пишет: «Возмо- жно, что слово „шанжэнь“ (торговец) обозначало купца из страны Шан и восходило к Иньской эпохе» [Авдиев, 1970, с. 567]. Этот факт в определённой степени укрепляет нас во мнении, что словосочетание/слово *сы жэнь/*сыжэнь, возможно, употреблялось в речи сы племён.
* * *
Думается, первое время беглецов соседи-степняки называли просто человек, люди, а также мужчина, мужчины, тем более что основную часть беглецов, о чём говорилось выше, составляли мужчины; да и в языках самых различных систем известны случаи, когда этноним семантически восходит к понятию «муж- чина» [Абдуллаев, Микаилов, 1972, с. 24]. Но возникает вопрос, на каком языке говорили соседи беглецов. Поскольку наука не располагает никакими сведениями о нём, предположим, что они говорили на языке, получившем впоследствии название тюрк- ского. Но древние тюрки на исторической арене появились лишь в конце V в. н.э. [Гумилёв, 1967, с. 16, 25]. Значит, от той эпохи, о которой идёт речь (второе тысячелетие до н.э.), они отделены промежутком времени в более полутора тысяч лет, о чём уже говорилось (см. ч. 1 §1.6). Огромный временнóй разрыв! И не погрешим против истины, если скажем, что язык, на котором говорили соседи беглецов (если он и был тюркского строя), во многом отличался от древнетюркского. В качестве рабочего термина назовём его пратюркским. На нём говорили не только хунны, но и дунху — «восточные ху» (дун в переводе с китайского означает «восток»), ибо хунны и дунху, по данным китайских исторических хроник, первоначально (в древности) составляли один «Дом», одну «семью», одно «царство». Очевидно, они были родственными по происхождению и языку. Во всяком случае, Г. Мэнэс выявил много общего в погребальной обрядности у хуннов и дунху, хуннов и сяньби-ухуаней/ухуаньцев (речь о них ниже) [Мэнэс, 1993, с. 29—46]. В какой-то период своей истории хунны и дунху разделились — начался самостоятельный путь их развития. И те и другие временами усиливались, временами слабели, распадались и делились. Окончательное разделение хуннов и дунху произошло в 209 г. до н.э., когда первые разбили вторых и создали свою державу (см. ч. 1 §-ы 1.16 и 1.20). К этому времени их языки, должно быть, значительно отличались друг от друга.
Вернёмся, однако, к разговору о том, что первое время степняки своих новых соседей называли просто человек, люди, а также мужчина, мужчины.
* * *
Понятие «мужчина ~ человек» в тюркских языках обозна- чается словами: ə{ˉ}р — в туркм., əр — в азерб., ēр — в алтайском, ер — в тур., кумык., к.-балк., кирг., каз., ног., каракалп., узб., уйг., тув., як., др.-тюрк., ир — в тат., башк., хакас., ар — в чув. [Севортян, 1974, с. 321; Егоров, 1964, с. 30]. В целом они имеют следующие значения: 1) «муж, мужчина» — почти во всех тюркских языках (в др.-тюрк. — «мужской»); 2) «герой, храбрец, витязь, богатырь» — в кирг., каз., ног., каракалп., алт., як. языках; «мужественный человек» — в тур., узб., як. языках; «мужественный, храбрый» — в азерб., каз. языках; 3) «муж, супруг» — в тур., азерб., караим., к.- балк., тат., башк., уйг., хакас., чув. языках; 4) «самец» — в караим., кумык., тув. языках; 5) «человек» — в койб., карагас., сойот. языках [Севортян, 1974, с. 321]. Основными и старейшими среди приведённых значений считаются значения «муж, мужчина», «герой, храбрец, витязь, богатырь» и «муж, супруг»; они образуют ядро семантического состава [Севортян, 1974, с. 322].
Анализируя качество корневого гласного слов ə{ˉ}р, əр, ēр, ир, ар, Ю. Немет (1890–1976; Венгрия) пришёл к выводу о сущест- вовании в древнетюркском языке двух форм их основы: *är и *er“ [цит. по: Севортян, 1974, с. 321], которые, согласно Э. В. Се- вортяну, имели „более первичные формы с этимологической долготой: *ēр ~ *р (точка под буквой е обозначает закрытый корневой гласный е. — Л.Ф.)» [Севортян, 1974, с. 321]. У Г. Дёр- фера — är <*ärä <*härä <*pärä [цит. по: Севортян, 1974, с. 322].
Монгольской параллелью к тюркскому ер… является еrе «муж; мужчина» [Владимирцов, 1929, с. 324; Номинханов, 1958, с. 44], эвенкийской — ур … 1) «самец», «особь мужского пола»; 2) «мужчина» [Севортян, 1974, с. 322]. В шумерском языке эре, уру — идеограмма мужчины чужой страны [Егоров, 1964, с. 30].
Не исключена возможность, что архетип тюркских ə{ˉ}р, əр, ēр, ир, ар — *ēр ~ *р — на языке соседей беглецов первоначально означал не просто «мужчина», а «чужой мужчина», «мужчина чужой страны (чужого племени, народа)». Вероятность такого предположения станет более определённой, если учесть, что психология людей доклассового общества по отношению к внешнему миру строилась по принципу свои — несвои [Чеснов, 1971, с. 12]. Об этом позволяет говорить зафиксированный этно- графами у народов, сохранивших архаическую культуру, боль- шой слой групповых названий, функционирующих по принципу разделения на своих и чужих. Вероятно, соседи беглецов — степняки, давая им имя, придерживались характерного для народов доклассового общества принципа свои — несвои. В таком случае вполне возможно, что *ēр ~ *р в глубокой древности имело значение «чужой мужчина», «мужчина чужой страны (чужого племени, народа)».
* * *
Спустя определённое время соседи-степняки стали называть беглецов *сы ēр, т.е. «сы мужчина», «сы человек», «сы люди». Произошло это, надо полагать, тогда, когда они поближе узнали друг друга, когда между ними установились более или менее тесные контакты. Они укреплялись и расширялись, чему спо- собствовали и возникшие смешанные браки, в результате «чу-жие мужчины» перестали быть чужими, и *ēр со временем утра- тило присущее ему значение «чужой» и стало употребляться только в значении «мужчина». Процесс дифференциации значе- ния, по всей вероятности, касался не только *ēр в составе *сы ēр, но и вообще слова *ēр, что, возможно, привело к развитию его нового значения — «муж; супруг».
Беглецы приняли этноним *сы ēр; постепенно он вытеснил из употребления их самоназвание — *сы жэнь, распространился также на самих степняков и стал общим именем тех и других. Очевидно, именно тогда беглецы, пройдя ступень двуязычия, перешли на язык своих соседей. А язык, как известно, сплачивает людей в одну социальную общность.
* * *
Впоследствии *сы ēр перестало осознаваться как состоящее из двух слов и превратилось в сложное слово. При этом на стыке двух корневых морфем — *сы и ēр — появился согласный звук. Его появление связано с тем, что для тюркских языков (а мы исходим из предположения, что хуннский язык был языком тюркского строя) не характерно стечение двух гласных звуков в одном слове. Если же они оказались рядом, то между ними, как правило, вставляется согласный звук.
Какой согласный звук появился между гласными в *сы ēр? Поскольку у хуннов было много родов, хуннский язык не был диалектально монолитен, напротив, он представлял собой сово- купность диалектов. Так что хунны могли произносить (и, надо полагать, произносили) своё имя не совершенно одинаково, а вставляя в *сы ēр артикуляционно сходные согласные звуки. Бесспорно, по-разному произносили самоназвание хуннов под- чинённые им иноязычные племена (в том числе, возможно, и как сыар, соар, т.е. без вставного согласного звука).
Если говорить о сохранившихся в разноязычных письменных источниках вариантах предполагаемого самоназвания хуннов, то в них интересующий нас согласный звук обозначен буквой, передающей звук [в], [п] или [б]: Σαβαροι, Σαβειρ (ων), Savir (i), савир, сапир, сабир, сывыр, сыбыр и т. д. Эти фонетические варианты подлинного имени восточноазиатских хуннов дают основание предположить, что в ходе преобразования словосо- четания *сы ēр в сложное слово между корневыми морфемами в конечном счёте появился согласный звук [в] или [п]. Если учесть, что в фонологической системе тюркского праязыка не было щелевых [в] и [ф] [Щербак, 1970, с. 192], и если допустить, что их не было и в хуннском языке той эпохи, то хунны своё имя изначально произносили как сыпар. (Полагают, что в их языке не было звонких согласных). В определённый период развития в хуннском языке появились и щелевые [в] и [ф], и хунны своё имя стали произносить и как *сывар. Возможно, какое-то время звуки [п] и [в] в хуннском языке не различались. В таком случае, было время, когда в хуннской речи *сыпар и *сывар функционировали параллельно.
Неразличение звуков [п] и [в] наблюдается и в других назва- ниях племён. Так, в орхонских (древнетюркских) надписях в одном месте встречается загадочное этническое имя пар-пурум, или апар-апурум; и в этом месте говорится о прошлой, а не современной автору надписей (VIII в.) жизни [Бартольд, 1968, т. 5, с. 34]. Если допустить, что апар-апурум — то же слово, что и авар-авурум, то надо признать, что под апар-апурум скрываются соплеменники тех авар, которые, спасаясь от древних тюрок, в середине VI в. явились в степи Каспийско-Азовского междуморья, а оттуда ушли в Паннонию. Не исключена возможность, что имя своё авары произносили и как апар. Впрочем, Ю. Немет не сомневается в том, что апар — древнетюркская форма слова авар [Немет, 1976, с. 301]. «К старым фиксациям сейчас добавлена новая, особенно важная: biz beš apar (= bizbešapar)» [Немет, 1976, с. 301; см. также Тенишев, 1958, с. 64]. Следовательно, апар — фонетический вариант авар или наоборот. Кстати сказать, в одном древнегрузинском манускрипте имя кипчаков (кыпчаков) также передано двояко: кипчаки и кивчаки [Мровели, 1979, с. 90].
Неразличение звуков [п] и [в] наблюдается и в чувашском языке [Комиссаров, 1911, с. 340; Казанцев, 1965, с. 80—81; Ашмарин, 1930, вып. 5, с. 309, 337; 1936, вып 10, с. 119, 166]. Обращение к его данным объясняется тем, что ряд исследова- телей, как было сказано в «Предисловии», полагает, что чуваш- ский язык по своему происхождению восходит к хуннскому. Впрочем, речь об этом пойдёт на последующих страницах книги.
Итак, самоназвание хуннов — сыпар/сывар. Оно возникло на базе словосочетания *сы ар, *сы ар — из гибридного *сы ēр, ибо оно — полукалька китайского *сыжэнь, что означает «сы человек; сы люди».
1.10. Выход хуннов на историческую арену
В какой-то период своей истории хунны так усилились, что перешли пустыню Гоби в обратном направлении и, оказавшись на её южной окраине, вторглись в Китай, захватили его столицу, что произошло в 822 г. до н. э. В то время в Китае царствовала династия Чжоу [Авдиев, 1970, с. 572], и событие это описано чжоусцами в одной торжественной песне, которая, как, впрочем, и другие оды этого рода, пелась в храме предков. Приведём её [цит. по: Авдиев, 1970, с. 582—583]:
В шестой месяц, какое смятение!
Боевые колесницы стоят наготове;
В каждую запряжено по четыре статных коня.
Они снаряжены, как это обычно делается.
Сюнну яростно вторглись,
Поэтому мы должны были спешно выступить.
Царь приказал выступить в поход.
Чтобы освободить столицу…
Мы победили сюнну,
Заняв Цяо и Ху,
Захватив Хао и Фэнь,
Дойдя до северной части реки Цзинь.
Наши знамёна, украшенные изображениями птиц,
Развевались своими белыми складками.
Десять военных колесниц мчались впереди…
Мы победили сюнну —
Это пример для десяти тысяч стран.
В песне воспевается храбрость чжоусцев и их победа над хуннами. С большой долей вероятности можно утверждать, что это — первое письменно зафиксированное упоминание о хуннах.
Потерпев поражение, хунны вынуждены были отступить в степь и надолго прекратить набеги на Китай. Этим, вероятно, объясняется то, что после 822 г. до н.э. они не упоминаются вплоть до IV в. до н. э. Этот период их жизни, как и период до 822 г. до н.э., остаётся в глубокой тени.
Царство Чжоу в конце своего существования распалось на независимые княжества. Они воевали не только со своими вра- гами — жунами и ди, но и вели борьбу между собой с целью захвата городов и земель. Она особенно обострилась в IV–III вв. до н. э. Ожесточённо бились такие крупные княжества, как Цинь, Ци, Янь, Чжао и Вэй [Фань Вэнь-лань, 1958, с. 204—205]. Успех в междоусобной борьбе сопутствовал княжеству Цинь. Чтобы по- мешать его усилению, в 318 г. до н.э. княжества Чжао, Вэй, Янь, Чу, Хань впервые вместе напали на него; в следующем, 317 г. до н.э., Хань, Чжао, Вэй, Янь и Ци в союзе с хуннами опять со- вершили нападение на Цинь, но были отбиты [Фань Вэнь-лань, 1958, с. 235].
* * *
В III в. до н.э. хунны стали чаще нападать на китайские земли. Особенно страдало от их набегов княжество Чжао. Где-то во второй половине III в. до н.э. его военачальник Ли Му наголову разбил хуннов, «истребив свыше ста тысяч всадников» [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 64]. «После этого в продолжение десяти лет сюнну не смели приближаться к пограничной стене во владении Чжао» [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 64].
В 222 г. до н.э. княжество Чжао было уничтожено Цинь. Пока они воевали между собой, хуннский шаньюй Тоумань (шаньюй — верховный вождь хуннского общества) занял степи Ордоса. Положение хуннов сильно ухудшилось, когда Цинь, уничтожив и другие княжества, возникшие после распада царства Чжоу, объединило весь Китай. В 215 г. до н.э. его правитель император Ши-хуан послал против хуннов 300-тысячное войско, и хунны были отброшены на «семьсот с лишним ли (ли равен 0,5 км. — Л.Ф.), после чего хусцы (т.е. хунны. — Л.Ф.) уже не осмеливались спускаться к югу, чтобы пасти там свои табуны, а их воины не смели натягивать луки, чтобы мстить за обиды» [Сыма Цянь, 1975, т. 2, с. 104—105]. Китайцы завоевали Ордос, перешли Хуанхэ и заняли предгорья Иньшаня [Гумилёв, 1960, с. 56].
В 210 г. до н.э. скончался император Ши-хуан. На китай- ский престол вступил его сын Ху хай. В его правление вспых- нули мятежи по всему Китаю. Воспользовавшись этим, хуннский шаньюй Тоумань переправился на южный берег Хуанхэ, и хунны «снова стали пасти скот на землях Ордоса» [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 22].
Ордос для хуннов имел большое хозяйственное значение: его песчаные барханы «с хорошим травяным покровом, солончаковые луга в низинах и многочисленные озёра с пресной водой создавали исключительно благоприятные условия для ко-чевого скотоводства» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 19].
1.11. Древние земли хуннов
По сообщениям китайских письменных источников, в древности «Дом Хунну в южной Монголии владел простран- ством земель от Калгана к западу включительно с Ордосом, а в северной Монголии принадлежали ему Халкаские земли к западу» [Бичурин, 1950, т. 1, с. 46, прим. 3]. Н. Я. Бичурин поясняет: «Ордос есть монгольское название страны, на юге смежной с китайскою губерниею Шáнь-си, а с прочих трёх сторон окружаемой Жёлтою рекою: почему на кит [айском] языке сия страна называется Хэ-нань и Хэ-тхáо. Первое из сих названий значит: по южную сторону Жёлтой реки; а второе: петля, или излучина Жёлтой реки» [Бичурин, 1953, т. 3, с. 43].
При шаньюе Тоумане китайцы не раз вытесняли хуннов из Ордоса, а хунны в годы политической нестабильности в Китае, не раз возвращались в его степи. И всё-таки им тогда не удалось удержаться в желанном Ордосе, и они откочевали в Халху — на северо-запад Монголии.
1.12. Хунны на равнинах Халхи
Как было сказано, хунны открыли Южную Сибирь в XII в. до н.э. и стали селиться на Алтае и в Саянах, в конце III в. до н.э. проникли в верховья Иртыша, Оби, Енисея. Там в ту эпоху обитали разные по происхождению и языку племена и народы.
Здесь необходимо вернуться к вопросу о происхождении хуннов и кратко изложить точку зрения Л. Н. Гумилёва на их этногенез. Он считает, что из смешения беглецов со степными кочевыми племенами возникли не хунны, а образовался первый прахуннский этнический субстрат. Когда же прахунны пересекли песчаную пустыню Гоби, на равнинах Халхи произошло новое скрещивание, в результате чего возникли исторические хунны [Гумилёв, 1960, с. 15]. С кем же перемешались прахунны на Алтае и в Саянах? Согласно Л. Н. Гумилёву, с динлинами [Гумилёв, 1960, с. 27]. Не только с ними, добавим от себя. В Минусинской котловине, Туве (шире — в Южной и Юго-Западной Сибири) хунны ассмилировали, «переплавили» в себе многие местные племена и племена, приходившие сюда из самых различных мест.
Вернёмся, однако, к динлинам.
1.13. Кто такие динлины?
Определённые сведения о динлинах, как и о ди, дили, сохра- нились в китайских хрониках в связи с их данными о светло- глазом и светловолосом народе «на рубеже н.э. и в последние века до неё» [Алексеев, 1969, с. 196]. Обзор этих данных про- изведён Г. Е. Грумм-Гржимайло [Грумм-Гржимайло, 1909; Он же: 1926, т. 2], и «он полностью сохраняет своё значение» до сих пор [Алексеев, 1969, с. 197].
Родина динлинов — южная окраина пустыни Гоби, «она же, согласно китайским данным, была родиной и дили, иначе чи-ди» [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 167]. Г. Е. Грумм-Гржимайло пишет (в цитате старая орфография заменена современной): «О дин- линах, как таковых, китайцы дают нам самые скудные сведения, но в „Бэй-шы“ мы находим указание, что народное название красных ди (чи-ди) было ди-ли, изменившееся в динлин по переходе их в конце IV века по Р. Хр. на северную сторону Гобийской пустыни…» [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 167]. С от- сылкой на Н. Я. Бичурина он сообщает также: «Имя динлин хотя и появляется в истории позднее чи-ди, но не в IV веке по Р. Хр., а в конце III века до Р. Хр.» [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 167, сн. 8].
Этнонимы динлин и ди, по мнению Г.Е.Грумм-Гржимайло, фонетические варианты одного и того же этнического имени [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 169]. Считаю доказанным, пишет он, что «динлины, дили и ди китайских летописей были одним и тем же народом» [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 170], и даёт им следующую характеристику: «Динлины были свободолюбивым и подвижным народом, они распадались на множество, по-види-мому, очень мелких родов и собирались для отпора врагу лишь в редких случаях и притом на самое короткое время — это говорит нам вся их история. Китайцы только потому и побеждали их, что имели обыкновенно дело не с сплочённым народом, а с отдель- ными поколениями… Что динлины не были склонны к под- чинению, выше всего ставя свою индивидуальную свободу, вид- но из того, что они без колебания бросали свою порабощённую родину и расходились — одни на север, другие на юг, туда, где ещё был простор, куда не добирались китайцы со своим госу- дарственным строем, чиновниками и правилами общежития» [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 171—172]. «Динлины имели сердца тигров и волков, говорят нам китайцы, удивлявшиеся их мужеству и воинской доблести» [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 170].
На основании сводки сведений Г. Е. Грумм-Гржимайло со- ставил как бы словесный портрет чи-ди — красных ди. Они, со- гласно ему, характеризуются следующими признаками: «рост средний, часто высокий, плотное и крепкое телосложение, про- долговатое лицо, цвет кожи белый с румянцем на щеках, бело- курые волосы, нос выдающийся вперёд, прямой, часто орлиный, светлые глаза» [Грумм-Гржимайло, 1926, т. 2, с. 34—35].
Итак, родина динлинов — южная окраина пустыни Гоби. Первое их переселение на север — в Маньчжурию, к озеру Бай- калу и в Алтайско-Саянский горный район –, по китайским сведениям, должно быть отнесено к концу V в. до н.э. [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 172—173]. Переселение динлинов на север- ную окраину Гоби имело место и в последующие эпохи, здесь с ними смешались некоторые местные племена, в том числе хунны, что произошло в Маньчжурии, на Байкале и в Алтайско-Саянском горном хребте [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 172].
О языке динлинов, как пишет Г. Е. Грумм-Гржимайло, «не имеется сведений в литературе» [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 187, сн. 96], тем не менее он склонен сближать его с языками индо-китайской группы [Грумм-Гржимайло, 1926, т. 2, с. 38].
* * *
Л. Н. Гумилёв с учётом новых (для его времени) истори- ческих и археологических материалов высказал свои сообра- жения по динлинской проблеме, уточняя, дополняя некоторые суждения о них Г. Е. Грумм-Гржимайло [Гумилёв, 1959, с. 17—26]. Признавая, что ди и дили — фонетические варианты одного и того же этнонима, он, опираясь на работы Г. Ф. Дебеца, не отожде- ствляет динлинов и ди [Гумилёв, 1959, с. 18—20].
Дили, согласно Л. Н. Гумилёву, «были, по-видимому, родст- венны ди, так как второе их название — чи-ди, т.е. красные ди» [Гумилёв, 1959, с. 18]. Они кочевали в Хэси (степь к западу от Ордоса), в IV в. н.э. перешли на север в Джунгарию [Гумилёв, 1959, с. 18].
В своё время с саянскими динлинами, согласно Л. Н. Гуми- лёву, «смешались пришедшие с юга предки хуннов (т.е. прахун- ны. — Л.Ф.)» [Гумилёв, 1960, с. 24, 27], о чём уже говорилось. «Действительно, уже за 200 лет до Р. Хр. хунны застали там (на Саянах. — Л.Ф.) несколько динлинских владений, которые и поко- рили» [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 172]. В результате воинст- венные и свободолюбивые динлины смешались с не менее воин- ственными и свободолюбивыми хуннами. Потомки их, естест- венно, унаследовали не только психические, но и физические черты своих предков.
На северной окраине Гоби с хуннами смешались не только динлины, но и предки кетов.
1.14. Кто такие кеты?
Для начала отметим, что наиболее ранние исторические све- дения о кетах относятся к началу XVII в. и что слово кет — «человек» в русском языке в значении этнонима утвердилось в 20-х гг. ХХ в.; до этого русские служилые люди, начиная с XVII в., кетов называли остяками, енисейскими остяками, енисейцами [Алексеенко, 1980, с. 122; Алексеенко, 1967, с. 4], хотя они не имеют ничего общего с обскими остяками (хантами), также как и с самодийцами, которых тоже называли тогда остяками [Ивáнов, Топоров, Успенский, 1968, с. 13]. На вопрос «Кто такие кеты?» Вяч. Вс. Ивáнов, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский отвечают так: «Без преувеличения можно сказать, что кеты являются одним из наиболее загадочных народов земного шара, изучение которого может пролить свет на целый ряд ключевых вопросов, связанных с судьбой народов и языков Сибири, Алтая и Центральной Азии» [Ивáнов, Топоров, Успенский, 1968, с. 5]. Библиография исследований, посвящённых кетам, достаточно большая — содержит несколько сот названий [Алексеенко, 1967, с. 251—259; Топоров, 1969, с. 243—283; Этногенез народов Севера, 1980, с. 249—274; Алексеенко, 1982, с. 116—117].
1.14.1. Современная территория расселения кетов
Кеты — одна из малочисленных народностей Сибирского (Енисейского) Севера. Расселены они в северной части Красно- ярского края, главным образом на территории Туруханского района — по притокам Енисея: Подкаменной Тунгуске, Бакланихе, Бахте, Елогую, Сургутихе, Пакулихе, Имбату, Турухану и Курейке [Дульзон, 1968, с. 7; Алексеенко, 1967, с. 3]. Небольшая часть их живёт в Ворогове и Ярцеве: Ворогово — самый южный посёлок Туруханского района, Ярцево входит в Енисейский район Красноярского края. Первый из них расположен на левом берегу Енисея (недалеко от устья Дубчеса — левого притока Енисея), второй — в 40—50 км выше первого по Енисею (недалеко от устья Сыма — левого притока Енисея), тоже на левом берегу.
Откуда пришли кеты на Сым и Дубчес?
* * *
Тунгусы (эвенки и эвены) называли кетов общим для всех остяков (в том числе хантов, селькупов) именем дяндри. Те из них, которые жили в бассейне Сыма, выделяли несколько групп ближайших к ним дяндри: гагишал, кеткар (кеткандяндри), нюмнякар (нюмнякан) и дюкул (дюкур, дюкундра). Все они, кроме гагишал, известны на Сыму и в настоящее время [Алексеенко, 1975, с. 215—216]. Кеткарами тунгусы называли кетов с русской фамилией Кетских и самоназванием тымдэгең (ед. число тымдэгет), в котором Тым — название реки Кети (Кеть — правый приток Оби). Согласно преданию кеткаров и этнониму тымдэ- гең — «кети люди», кеты пришли на Сым и Дубчес с Кети [Алексеенко, 1975, с. 216]. Они, возможно, представляют собой часть расселившихся там енисейцев-пумпоколов [Долгих, 1950, с. 95; Алексеенко, 1975, с. 218].
Соплеменников, ушедших на Сым и Дубчес, кеты называют юги — јогэн, југын (jogən, jugən). Этноним юги — не кетский и не остяцкий (хантыйский), его этимология неизвестна, неизвестна и этническая принадлежность югов. Пришедшие на их земли кеты, согласно фольклорному материалу, вначале враждовали с ними [Алексеенко, 1975, с. 214—215, 222]. Несмотря на это, имя юги со временем распространилось и на них. Способность этнонимов усваиваться носителями иного языка широко известна.
По предположению Е. А. Алексеенко, юги «не принадлежали к енисейскоязычным народам» [Алексеенко, 1975, с. 222]. «Мо- жет быть, — пишет она, — к лексике югов относится гидроним Сым, который не находит своего объяснения из языков народов, исторически известных для данной территории, — тунгусского, енисейского, самодийского. В бассейне Сыма, — продолжает Е. А. Алексеенко, — наряду с тунгусскими, встречаются кетские назва- ния рек, где компонент сым является субстратом: Колосим, Ал- чим, Оксым и др.» [Алексеенко, 1975, с. 222].
По месту расселения в низовьях Сыма и на побережье Ени- сея вблизи устья Сыма югов называют ещё сымскими кетами [Алексеенко, 1975, с. 211].
Подлинное имя кетов-югов — кънъс кет, что означает «свет- лый человек» (мн. число къндең, дең — «люди») [Алексеенко, 1975, с. 219; 1967, с. 3—4]. В этой связи уместно напомнить о том, что древнейшими этнонимами были слова, означающие «чело- век», «люди», «народ» [Чеснов, 1971, с. 12].
1.14.2. Откуда пришли кеты на Енисейский Север?
Енисейские кеты, или енисейцы — это не только собственно кеты, но и пумпоколы, ассаны, арины, котты, которые до прихода русских на их земли жили южнее кетов (в бассейне Среднего Енисея, в верховьях Кети) и к ХIХ в. полностью растворились в местной (селькупской, тунгусской (эвенкийской), тюркской) этнической среде и сменили свой язык. Что интересно, спустя много веков после завоевания перечисленных енисейских племён хуннами, потомки некоторых из них объявляются на Средней Волге, о чём будет сказано во второй части данной книги (см. ч. 2 §2.11.2).
По данным топонимики, енисейцы в начале нашей эры обитали в горно-таёжных районах Южной Сибири. Предположи-тельно в первой половине первого тысячелетия они перемес- тились в район Среднего Иртыша — Васюгана [см. подробно: Алексеенко, 1980, с. 118—140; Дульзон, 1962а, с. 50—84 и др.]. Ко времени прихода русских кеты обитали «по Енисею вплоть до истоков, по правым притокам Оби (Тыму, Кети) и отчасти к востоку от Енисея» [Ивáнов, Топоров, Успен- ский, 1968, с. 5].
То, что енисейцы — выходцы из Южной Сибири, признаётся многими учёными. (Данные, свидетельствующие об их южном происхождении, приведены И. С. Вайнштейном [Вайнштейн, 1951, с. 3—7]). Обобщая их точку зрения, И. И. Гохман пишет: «… переселение кетов на территорию современного их обитания из южных районов Обь-Енисейского бассейна можно считать твёр- до установленным фактом, базирующимся как на исторических сведениях о сравнительно недавнем расселении кетоязычных групп, так и на данных топонимики» [Гохман, 1982, с. 7].
Естественно, возникает вопрос: «Откуда пришли предки кетов в южные районы Обь-Енисейского бассейна?». Некоторые исследователи полагают, что появление их там связано с карасукцами и их культурой, культурами карасукского типа (1200 — 700 гг. до н.э.), которые занимали огромную территорию, в том числе Южную и Юго-Западную Сибирь. По их мнению, карасукцы на берега Енисея и Абакана пришли с востока, ибо их культура, согласно им, связана с восточными цивилизациями Внутренней Монголии и бассейном Хуанхэ [Киселёв, 1951]. Другие исследователи склонны думать, что основную массу карасукского населения составляли европеоиды, которые могли прийти в Южную Сибирь с запада; правда, они, по их мнению, могли прийти и с востока: ведь европейцы в эпоху бронзы, по предположению В. П. Алексеева, жили «и в Туве, и в Монголии, но происхождение их всё равно связано с территориями, которые, как оказывается, лежат далеко на запад от Алтае-Саян» [Алексеев, 1972, с. 250]. При этом происхождение карасукцев не сводится целиком к переселению с запада, ибо круглоголовые европеоиды могли прийти на Абакан и Енисей с юго-запада, юга или юго-востока, поскольку их ареал в эпоху бронзы доходил до Внутренней Монголии [Алексеев, 1972, с. 251—252]. Оттуда они могли переселиться в Минусинскую котловину.
1.14.3. Происхождение предков енисейских кетов
Сравнивая ареалы культур карасукского типа с ареалами кетских топонимов, а они «распространены в Туве, Забайкалье, Канской, Минусинской и Кузнецкой котловинах, в районе Красноярска, в южной части лесной полосы Западной Сибири, примыкающей к лесостепи, а также и в более северной её части — по Тыму и Енисею от Енисейска до Курейки…», Н. Л. Членова приходит к выводу, что «во многих районах ареалы культур карасукского типа совпадают с ареалами кетских топонимов…» [Членова, 1975, с. 226—227]. Более того, она утверждает: «Можно найти и ряд детальных соответствий в результатах изучения культур карасукского типа и кетских топонимов. Так, — продолжает Н. Л. Членова, — Минусинская котловина и Тува, по археологическим данным, — древнейшие районы карасукских культур, а по топонимическим данным — древнейшие районы расселения кетоязычных народов, что совпадает, кроме того, и с преданием кетов о приходе их на север «от истоков Енисея»» [Членова, 1975, с. 228].
Н. Л. Членова отмечает, что прямых связей между карасук- ской культурой и материальной культурой современных кетов мало, а имеющиеся параллели (она их перечисляет) позволяют ей предположить, что «носители самой карасукской культуры или одной из культур карасукского типа — одни из предков кетов» [Членова, 1975, с. 225]
Е. А. Алексеенко в свою очередь считает, что прямых соот- ветствий в культуре кетов и древних карасукцев ожидать не приходится, ибо между ними стоит огромный временнóй разрыв. И тем не менее к выявленным прямым связям между карасукской культурой и материальной культурой кетов она добавляет ещё другие [Алексеенко, 1980, с. 128]. Признавая этническое опре- деление археологических культур топонимическим материалом перспективным, А. Алексеенко обращает внимание на отсутствие хронологической синхронности между енисейскими топонимами и карасукскими памятниками. «Если связывать появление енисей- ского пласта топонимов с карасукскими памятниками, — пишет она, — то неясно, почему не оставили следов в топонимике носи- тели более поздних культур: Тагарской, Таштыкской, Большере- ченской, ведь именно они, а не енисейские топонимы должны были бы предшествовать тюркскому слою» [Алексеенко, 1980, с. 129]. Между тем «енисейские топонимы в Южной Сибири были повсеместно перекрыты тюркскими» [Алексеенко, 1980, с. 129]. Вопрос остаётся открытым.
Соображения о связях кетов с населением тагарской или карасукской культур, по мнению И. И. Гохмана, «остаются пока в рамках интересных научных гипотез» [Гохман, 1982, с. 7].
* * *
Существуют и другие гипотезы происхождения предков ени-
сейцев [см.: Алексеенко, 1980, с. 118—140]. В плане данной работы нас интересует участие-неучастие в этногенезе предков енисейцев так называемой «белокурой расы». В древние времена она была распространена не только в Центральной и Средней Азии, но и в Южной и Юго-Западной Сибири. К ней принадлежали динлины в Прибайкалье, кыргызы на верхнем Енисее, бома в Саяно-Алтае и усуни; все они имели голубые (зелёные) глаза и белокурые (рыжие) волосы [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 165—166; Грумм-Гржимайло, 1926, т. 2, с. 5, 51, 59; Гуми- лёв, 1959, с. 17]. Усуни обитали не в сибирском регионе, а в восточном Тяньшане [Гумилёв, 1959, с. 21], поэтому оставим их в стороне и обратим внимание на те сообщения письменных источников о кыргызах, бома и динлинах, которые дают если не прямое, то косвенное основание предположить, что они имели отношение к этногенезу предков енисейцев — кетов и родствен- ных им племён. Они следующие.
Енисейские кыргызы, по данным китайских источников, перемешались с динлинами [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 166] и надолго сохранили особенности динлинского типа. Ещё в начале IX в. они, согласно Г. Е. Грумм-Гржимайло, имели следующие характеристики: «высокий рост, белый цвет кожи, румяное лицо, рыжий цвет волос и зелёные (голубые) глаза преобладали у них настолько, что „чёрные волосы считались нехорошим признаком, а (люди) с карими глазами почитались потомками Ли-лин“; к XVII же веку, когда с ними впервые столкнулись русские, кирги- зы оказались уже совершенно иным народом — черноволосым и смуглым» [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 175].
О северных бома (были ещё и южные бома — ганьсуйские) читаем (приводим текст в переводе Э. Шаванна) [Сhavannes, 1903, т. 6]): «Они ведут кочевой образ жизни; предпочитают се- литься среди гор, поросших хвойным лесом, пашут лошадьми; все их лошади пегие, откуда и название страны — Бома (пегая лошадь). К северу их земли простираются до моря» [цит. по: Гумилёв, 1959, с. 20]. По предположению Л. Н. Гумилёва, бома были распространены «очень широко: от Алтая до Байкала» [Гумилёв, 1959, с. 21].
Динлины, как было сказано (см. ч. 1 §1.13), в Южной и Юго-Западной Сибири появились ещё в конце V в до н.э.
Одними из соседей енисейских кыргызов, бома и динлинов в Южной и Юго-Западной Сибири были предки енисейцев. Само собой разумеется, в пограничных зонах они вступали в контакты друг с другом, с течением времени они расширялись, углубля- лись, укреплялись, в результате возникли смешанные браки. Этому процессу, думается, спосбствовало и то обстоятельство, что бома, динлины (быть может, и енисейские кыргызы) жили небольшими общинами, не имея общей власти над собой [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 171; Грумм-Гржимайло, 1926, т. 2, с. 34—35; Гумилёв, 1959, с. 20]. Учитывая их умение воевать и нежелание подчиняться кому бы то ни было, можно допустить, что кыргызы, бома и динлины заняли достойное им положение среди племён Южной и Юго-Западной Сибири.
* * *
С динлинами кетов связывали, например: М. Деникер [Дени-кер, 1902], В. Г. Богораз [Богораз, 1927] и некоторые другие исследователи. Г. Е. Грумм-Гржимайло также утверждал, что ени- сейские остяки-кеты относятся к динлинам [Грумм-Гржимайло, 1926, т. 2, с 38] и что среди них «светловолосый элемент удер- жался доныне» [Грумм-Гржимайло, 1909, с. 177]. Быть может, неслучайно кеты-юги сами себя, повторимся, называют кънъс кет — «светлый человек» [Алексеенко, 1975, с. 219; 1967, с. 3—4].
Л. Н. Гумилёв отрицает участие динлинов в этногенезе кетов. Основываясь на личных физиогномических наблюдениях на Нижней Тунгуске, он пишет: «Большинство кетов оказалось монголоидами, только один старик имел орлиный нос и высокий рост, но и он ничем не напоминал европейца» [Гумилёв, 1959, с.21]. «По культуре кеты примыкают к западносибирской (угор- ской) группе, и если и была у них европеоидная примесь, то рассматривать их как осколок динлинов нет достаточных осно- ваний», — заключает Л. Н. Гумилёв [Гумилёв, 1959, с. 21].
* * *
Между тем, сказанное выше с большой долей вероятности позволяет утверждать, что кыргызы, бома и динлины (люди среднего роста с голубыми (зелёными) глазами и белокурыми (рыжими) волосами) в Южной и Юго-Западной Сибири дейст-вительно перемешались с предками енисейцев (людьми малого роста с карими глазами и тёмными волосами). В результате среди предков енисейцев появились люди среднего роста со светлыми (голубыми, зелёными) глазами и светлыми (рыжими) волосами — признаками, унаследованными от кыргызов, бома и динлинов. Для сравнения заметим: кеты, согласно И. И. Гохману, «имеют предельно малую для Сибири длину тела — 155—156 см у мужчин и 144—146 см у женщин (табл. 10)» [Гохман, 1982, с. 43].
Не исключена возможность, что блондинов с голубыми гла- зами среди предков енисейцев когда-то было немало, особенно в Минусинской котловине и Туве — древнейших рйонах расселения кетоязычных народов (по топонимическим данным) [Членова, 1975, с. 228]. В противном случае отмеченные выше физические признаки белокурой расы у кетов едва ли сохранились бы, а они сохранились. «К северу и западу от Алтая светловолосый элемент, — пишет Г. Е. Грумм-Гржимайло, — удержался доныне среди так называемых енисейских остяков…» [Грумм-Гржи-майло, 1909, с. 177], т.е. кетов. Это не только результат русской примеси, как считают, например, Г. Финдейзен [Финдейзен, 1929, №2], И. И. Гохман [Гохман, 1982, с. 10] и некоторые другие исследователи, ибо часть потомков предков енисейцев с голубыми глазами и светлыми волосами в Х в. н.э. объявилась в Нижнем Приобье, затем на полуострове Ямал под именем сиртя (сирчи, сихиртя, сихирчи, сиирти, сииртя) [см.: Лашук, 1968, с. 178—193; Васильев, 1970, с. 151—158] — там, где русских в ту эпоху и в помине не было. Фантастическое предположение! Но оно приобретает вполне реальное значение, о чём свидетельствуют изложенные во второй и третьей главах настоящей книги лингвистические и фольклорные данные в сочетании с археологическими. Весьма примечательно описание внешности сиртя, содержащееся в преданиях ямальских ненцев: коренастые, крепкие, голубоглазые, светло- волосые [Лашук, 1968, с. 190]. Чем не предки енисейцев с голубыми глазами и светлыми волосами! К тому же имя сиртя (сирчи, сихиртя, сихирчи, сиирти, сииртя) — искажённое до неузнаваемости самоназвание восточноазиатских, западносибирских хуннов — сыпар/сывар (см. ч. 1 гл. 3).
1.14.4. Внешний облик енисейских кетов
В научной литературе издавна обращалось внимание на своеобразие внешнего облика енисейцев-кетов. Ещё этнограф В. И. Анучин выделил среди них два типа: монголоидный, тёмнопигментированный (тюркоподобный — по его термино-логии), и европеоидный — светлокожий, светловолосый с серыми или голубыми глазами (арийцеподобный) [цит. по: Синельников, 1911, т. 28, вып. 1]. Засвидетельствовано и определённое внешнее сходство кетов с представителями кавказских народов и американскими индейцами (М.А.Кастрен, А. Мордвинов, Г. Н. Прокофьев, Б. О. Долгих и др.).
Кетов с европеоидами связывают такие антропологические черты, как светлый цвет кожи, светлые (голубые, зелёные) глаза, светлые (рыжие) волосы. А люди с такой внешностью среди них, согласно Вяч. Вс. Ивáнову, В. Н. Топорову и Б. А. Успенскому, встречаются часто; «… любопытно, — пишут они, — что сами кеты иногда считают таких людей представителями сохранившегося древнего типа енисейцев» [Ивáнов, Топоров, Успенский, 1968, с. 6].
И. И. Гохман, напротив, утверждает: «Никакого светлого европеоидного типа среди кетов нет» [Гохман, 1982, с. 9]. При этом он уточняет: речь, конечно, идёт не о типе, а об отдельных особях [Гохман, 1982, с. 10]. Разделяя мнение Г. Финдейзена (а он, напомним, появление светлопигментированных кетов считал результатом русской примеси [Финдейзен, 1929, №2]), И. И. Го- хман пишет: «Контрастные антропологические признаки (напри- мер, светлая пигментация в массе тёмнопигментированного на- селения) сильно бросаются в глаза, лучше запоминаются. Со временем наблюдатель обычно начинает преувеличивать как степень выраженности признака, так и его распространённость» [Гохман, 1982, с. 10].
Как бы то ни было, неправильное, с точки зрения И. И. Го- хмана, мнение о существовании у кетов двух контрастных ант- ропологических типов (монголоидного и европеоидного), по словам самого же И. И. Гохмана, «продолжает распространяться в наше время» [Гохман, 1982, с. 9].
Суммарно, т.е. по антропометрическим, соматическим, кра- ниологическим признакам, группе крови и дермотоглифике, ке- ты «могут быть охарактеризованы как монголоиды с несколько ослабленным комплексом степени выраженности монголоидных признаков и рядом специфических особенностей» [Гохман, 1982, с. 78].
Г. Ф. Дебец енисейский антропологический тип включает в уральскую расу [Дебец, 1958, с. 14]. Её народы, по И. И. Гохману, «выделяются среди своих соседей небольшим ростом — до 160 см» [Гохман, 1982, с. 43], кеты же среди них, согласно И. И. Гох- ману, занимают специфическое положение, что и вызвало про- блему их связи с гуннами (хуннами) [Гохман, 1982, с. 38].
1.14.5. Кетский язык среди языков мира
Загадочны кеты и по языку. На сегодня опубликовано много работ, посвящённых его фонетике, лексике, диалектологии, грам- матике [Топоров, 1969, с. 243—285; Алексеенко, 1982, с. 116—117].
Для изучения исторического прошлого енисейцев и собст- венно кетов большое значение имеет сранительно-историческое изучение их языка и языка их исторических и современных соседей, установление места кетского языка среди других языков мира. Таких исследований тоже немало. Они свидетельствуют о том, что кетский (енисейско-остяцкий) язык не нашёл определённого места в генеалогической классификации языков мира. Он, как было сказано, последний живой язык так назы- ваемой енисейской семьи, куда входили и такие, ныне мёртвые языки, как коттский, аринский, ассанский, пумпокольский и некоторые другие, носители которых, о чём уже говорилось, к XIX в. полностью растворились в окружающей иноязычной среде (селькупской, тунгусской (эвенкийской), тюркской) [Алексеенко, 1980, с. 118].
Лингвисты указывают на наличие элементов сходства и родство кетского (и других енисейских языков) со многими языками мира (ссылки на работы иностранных авторов даются по: Топоров, 1969, с. 243—283): китайско-тибетскими [Donner, 1916—1920, рр. 1—21; Ramstedt, 1907, s. 1—6; Bouda, 1936, s. 149—159; Bouda, 1937, s. 43—63; Дульзон, 1966а, с. 21—23; Дульзон, 1968а, с. 177—191; Tailleur, 1958, рр. 415—427; Trombetti, 1902, pp. 177—201; Trombetti, 1913, р. 1933, 279 sgg.; Trombetti, 1923; Trombetti, 1926; Simon, 1929; Lewy, 1933, s. 291—309 и др.], кавказскими [Bouda, 1936, s. 149—159; Bouda, 1937, s. 43—63; Bouda, 1939; Bouda, 1949; Bouda, 1950, рр. 140—169; Bouda, 1956; Bouda, 1957, рр. 65—131; Bouda, 1948, s. 182—202, 336—352 и др.], баскским [Tailleur, 1958, рр. 415—427; Bouda, 1948, s. 182—202, 336—352; Bouda, 1949; Lafon, 1951, рр. 59—81 и др.], языками американских индейцев [Свадеш, 1965, с. 271—322; Holmer, 1953, рр. 160—178; Austerlitz, Jakobson, Hüttl-Worth, Beebe, 1959, рр. 399—403 и др.], юкагирским [Крейнович, 1958 и др.] (юкагирский язык — единственный сохранившийся предста- витель семьи юкагиро-чуванских языков), самодийскими [Joki, 1946, s. 202—221; Hajdu, 1953, рр. 73—101; Терещенко, 1957, с. 103; Топоров, 1964, с. 117—129; Дульзон, 1970а и др.], финно-угорскими, тюркскими языками, причём в енисейских и тюркских языках выявляются существенные фонетические, морфологические, синтаксические и лексические параллели [Joki, 1952; Дульзон, 1966а; 1966б; 1971; 1974; 1975; Вернер, 1969; Сат, 1969 и др.]. А. П. Дульзон на основании изучения тюркской системы склонения [Дульзон, 1971; 1974; 1975] выдвинул гипотезу о том, что «тюркские языки сложились в результате переделки древнего языка енисейского типа» [Дульзон, 1974, с. 117]. Конечно же, они сложились не в результате переделки какого-то древнего языка енисейского типа, а совершенно независимо от этого процесса. Гипотеза А. П. Дульзона предполагает активное взаимодействие языков енисейской семьи (кетского, ассанского, аринского, коттского, пумпокольского) с хуннским, гуннским языком. Неслучайно в науке существует мнение, что какие-то группы хуннов, гуннов в своё время говорили на каком-то языке енисейской семьи (см. ниже).
Несмотря на наличие элементов сходства и родство кетского языка со многими языками мира, он, как и баскский, на котором говорят во французских и испанских Пиренеях, не имеет родственных связей ни с одним из известных сегодня языков, хотя в науке существует мнение, что кетский язык «больше похож на кавказские языки, чем на другие языки Сибири» [цит. по: Атлас языков мира, 1998, с. 38, 52].
1.15. Не говорили ли хунны на кетском языке?
Поставленный вопрос связан с кетской гипотезой про- исхождения хуннов, а она, как было сказано (см. §1.6), связана с именами О. Менчен-Хелфена, Л. Лигети и Э. Дж. Пуллибланка.
Л. Лигети сопоставил кетское sāgdi, śāgdi с дошедшим до нас в китайской транскрипции хуннским словом saγdag — «са- пог», аварским сакдак [Ligeti, 1950–1951, р. 145]. По мнению Э. Дж. Пуллибланка, хуннское saγdag — иранское заимствование, вошедшее в хуннский язык через посредство скифов [Pulleyblank, 1963]. Отмечая, что оно «в иранских языках в значении „сапог“ не встречается», А. П. Дульзон критикует гипотезу иранского происхождения хуннского saγdag с лингвистической точки зрения и утверждает, что оно заимствовано хуннами из кетского языка, в котором sāgdi, śāgdi «обозначает обувь (сапог) из крепкой кожи, в которой можно ходить (топать) без боязни, что она порвётся» [Дульзон, 1968б, с. 138].
К. Г. Менгес отмечает, что хуннское saγdag в значении «сапог» имеет параллели в чжурчженьском и маньчжурском языках (соответственно sa-bu и sabu –«обувь, тапочки») и не имеет их ни в монгольских, ни в тюркских языках [Менгес, 1979, с.129]. Оно известно только древнеболгарскому и восточносла-
вянским языкам. Согласно К. Г. Менгесу, русское сапогъ, по- скольку оно не имеет славянской или индоевропейской этимо- логии, следует выводить от проточувашского (протобулгарско- го) или древнетюркского (печенежского, половецкого) *sap-a-γ, *sap-yγ, *sap-uγ, т.е. глагольного имени от *sap-a-> sab-a- «работать инструментами» или же sap- [Менгеc, 1979, с. 129]. (О происхождении и значении слова сапог см. также [Добродомов, 1974].
Э. Дж. Пуллибланк собрал из различных китайских пись- менных источников I в. до н.э. — I в. н.э. немало, условно говоря, хуннских слов, среди них такие, как ку-тhу <коу-доу <кваh-даh — «сын», чыеh-тhу — «лошадь», чиеh (китайское киат <ка: т — «камень»), hу-jы (тюркское каүан, хаүан) [Pulleyblank, 1963, рр. 239—263]. Фонетический, семантический анализ хуннских слов привёл Э. Дж. Пуллибланка к выводу, что хунны могли говорить на языке енисейской (палеосибирской) семьи [Pulleyblank, 1963, рр. 239—263]. «Однако, — рассуждает А. П. Дульзон, — если допус- тить, что гуннский (хуннский. — Л.Ф.) племенной союз не представлял собой союза кровнородственных племён, о чём свидетельствуют различные известные факты, то можно думать, что лишь господствующая группа гуннов (хуннов. — Л.Ф.) (или соседняя с китайцами) говорила на енисейском языке» [Дульзон, 1968а, с. 142?ну, о И. ди них занимают специфическое положение, что и вызвало проблему их связи с гуннами (хуннами)]. Г. К. Вернер также полагает, что какие-то хуннские племена говорили на енисейском языке [Вернер, 1969, с. 126; 1973]. Это были предки кетов, пумпоколов, ассанов, аринов, коттов и других енисейцев.
Вернёмся, однако ж, к этнической истории хуннов.
1.16. Шаньюй Маодунь
Трудно сказать, как сложилась бы историческая судьба хун- нов, если в конце III в. до н.э. к власти не пришёл Маодунь. (Н. Я. Бичурин поясняет: «В (китайском. — Л.Ф.) тексте Мао-дунь. Лю Бо-чжуан пишет: Маодунь выговаривается Мо-дэ. Ган-му 201 год до Р. Х. Модэ близко к монгольскому слову Модэ, лес» [Бичурин, 1950, т. 1, с. 46, прим. 4]).
(Рис. 2). Маодунь (Модэ/Моде) — старший сын шаньюя Тоуманя, с его именем связано создание Хуннской державы и её слава. Уделим ему — человеку умному, смелому, энергичному и вместе с тем жестокому — должное внимание.
* * *
По смерти Тоуманя власть в хуннском обществе должна была перейти к Маодуню. Но когда от любимой жены родился другой сын, Тоумань решил возвести на престол его. Желая освободиться от Маодуня, он отправил его заложником к юе- чжам, затем неожиданно напал на них, рассчитывая, что они убьют его сына. (Ещё в IV в. до н.э. юечжи продвинулись из Средней Азии до Ордоса и обложили хуннов данью [Гумилёв, 1991, с. 74]; согласно китайской географии, в их владении нахо- дились пустынные земли между Ордосом и оазисом Хами [Бичурин, 1953, т. 3, с. 57]). Юечжи действительно хотели убить Маодуня, но он сумел выкрасть у них коня и вернуться к отцу. Оценивая храбрость сына, Тоумань назначил его «командовать десятью тысячами всадников» [Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 38; Бичурин, 1950, т. 1, с. 46].
Здесь необходимо сделать небольшое отступление и сказать, что американский исследователь Б. Лауфер с учётом особен- ностей древнекитайской фонетики восстановил слово юечжи как sgwied-di и сопоставил его с хорошо известным названием Sogdoi, т. е. Согд, причём компонент di истолковал как суффикс множественного числа по аналогии с осетинским, скифским, согдийским и ягнобским языками [цит. по: Гумилёв, 1991, с. 61]. Л. Н. Гумилёв пишет: «Соображения Б. Лауфера следует признать верными, потому что им соответствует всё, что нам точно известно о юечжах» [Гумилёв, 1991, с. 62]. Следовательно, юечжи и согды — разные названия одного и того же народа.
* * *
Маодунь с большой энергией взялся упражнять своих лю- дей в меткой стрельбе из лука, постепенно добиваясь бес- прекословного повиновения. Он изобрёл свистунку [Руденко, 1962, таблица IV, описание таблицы — с. 199]. (Рис. 3). (Свистунки — костяные просверленные шарики, прикреплявшиеся к наконечнику стрелы у места насадки и издававшие в полёте устрашающий свист, который приводил противника в страх и трепет. Раскопками установлено, что у забайкальских хуннов они встречаются нередко).
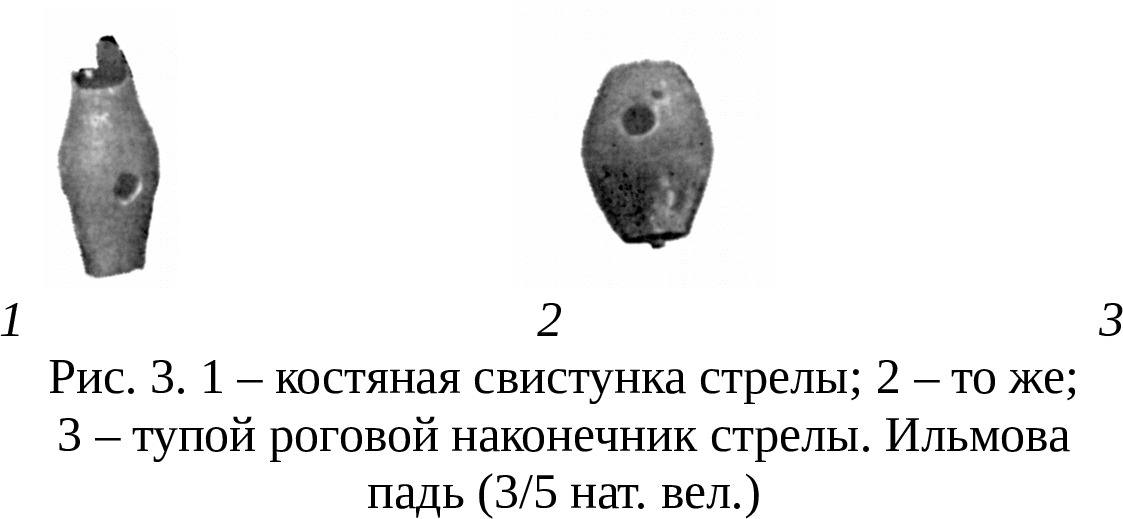
Маодунь объявил своим подчинённым: «Все, кто не станет стрелять туда, куда полетит свистящая стрела, будут обезглав- лены» [цит. по: Материалы по истории сюнну, 1968, с. 38]. И вот однажды он пустил свистунку в своего коня. Не стрелявшим вслед за ним тут же отрубили головы. В другой раз он пустил свистунку в любимую жену. Не стрелявшим в неё отрубили головы. Через некоторое время Маодунь на охоте пустил свистунку в коня отца. На этот раз все его подчинённые сделали то же. Из этого он сделал вывод, что теперь его люди безропотно подчиняются ему, и пустил свистунку в Тоуманя. Маодунь не ошибся: стрелы подчинённых посыпались на несчастного госу- даря [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 38].
Убив отца, Маодунь предал смерти мачеху, младшего брата и сановников, не хотевших повиноваться ему, и объявил себя шаньюем. Произошло это в 209 г. до н.э. [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 38; см. также Бичурин, 1950, т. 1, с. 47]. От него ведут счёт шаньюи Хуннской державы.
В то время, когда к власти пришёл Маодунь, восточными соседями хуннов, согласно китайским письменным источникам, были дунху (первое упоминание о них, как полагают, относится к 307 г. до н.э.; название дунху в переводе с китайского означает «восточные кочевые племена»: дун — «восток», ху –китайское название для кочевых племён к северу от Китая [Гумилёв, 1960, с.251]). Тогда, в конце III в. до н.э., дунху «были сильны и достигли расцвета» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 38], а хунны, напротив, слабы. Окрылённый этим превосходством, правитель дунху послал гонца к Маодуню сообщить, что он хочет получить у хуннов драгоценного коня, пробегающего в день тысячу ли (ли, напомним, равен 0,5 км). Маодунь, вопреки мнению старейшин, исполнил его желание. Затем правитель дунху запросил одну из жён Маодуня. Маодунь снова стал советоваться с приближёнными. Они с негодованием ответили: «Дунху не знают правил приличия, а поэтому и требуют яньчжи, Нападите на них». Маодунь сказал: «Разве можно жить рядом с другим государством и жалеть для него одну женщину, взял любимую яньчжи и отдал её дунху» [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 39]. После этого правитель дунху ещё более возгордился и заявил, что хочет овладеть необитаемой землёй, лежащей пограничной полосой между хуннами и дунху, но принадлежащую хуннам. Маодунь, как обычно, спросил совета у своих старейши. Они сказали ему: «Это — брошенная земля, её можно отдать и можно не отдавать» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 39]. Разгневанный Маодунь ответил: «Земля — основа государства, разве можно отдавать её» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 39]. Старейшинам, советовавшим отдать землю, о которой идёт речь, отрубили головы. Терпению и уступкам Маодуня пришёл конец, и он быстро собрал войско, предупредив, кто опоздает, отрубит голову, и совершенно неожиданно напал на дунху, разбил их наголову, убил правителя, «захватил принадлежавший ему домашний скот» и «взял в плен людей из народа» [Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 39]. (Рис. 4). Затем Маодунь немедленно напал на западе на юечжи и, прогнав их, присоединил земли, лежащие к югу от Хуанхэ, полностью вернул хуннские земли, отобранные при Ши-хуане, и «установил границу по прежней укреплённой линии к югу от Хуанхэ [расширив свои владения] до Чжаона и Фуши, после чего стал вторгаться в Янь и Дай» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 39]. Военные успехи возвысили Маодуня и его народ — хуннов. С этого времени хунны стали знаменитыми не только в Центральной Азии, но и в Южной и Юго-Западной Сибири.
После смерти императора Ши-хуана (210 г. до н.э.) в Китае началась борьба за власть, «это помогло Маодуню усилиться, у него набралось свыше трёхсот тысяч лучников» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 39].
1.17. Создание Хуннской державы
При Маодуне хунны, согласно Сыма Цяню, «небывало усилились, покорили всех северных варваров, а на юге образо- вали государство, равное по силе Срединному государству (т. е. Китаю. — Л.Ф.)…» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 39; см. также Бичурин, 1950, т. 1, с. 48, 57]. С этого времени их имя распространяется и на нехуннские по происхождению племена — призошло преобразование этнонима хунны в политоним хунны, т.е. в общее название всех племён, входящих в состав Хуннской державы.

Покорив восточных и северных соседей, Маодунь вплотную занялся Китаем. Там к этому времени была свергнута династия Цинь (206 г. до н.э.), закончилась и борьба за власть, начавшаяся с её падением. Победу одержал Лю Бан. В 202 г. до н.э. он провозгласил создание династии Хань.
(Рис. 5). Осенью 201 г. до н. э. Маодунь с большим войском вторгся в Дай, земли которого располагались по соседству с хуннами, и окружил город Маи, где пребывал один из сподвижников Лю Бана, имевший титул Хань-вана, Синь. Синь сдался хуннам, перешёл на их сторону, и хунны двинулись дальше на юг. Зимой 200 г. до н.э. против них выступил сам император с 320 тысячами воинов. Маодунь, проявив военную хитрость, завлёк авангард китайского войска во главе с императором в засаду и выпустил 400 тыс. отборных всадников, которые окружили его. «Конники сюнну, — пишет Сыма Цянь, — на западной стороне все сидели на белых [лошадях], на восточной стороне — на серых с белым пятном на морде, на северной стороне — на вороных и на южной стороне — на рыжих лошадях» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 41; см. также Бичурин, 1950, т. 1, с. 50]. Через семь дней Маодунь снял осаду, и китайское войско во главе с императором вышло из окружения.
В то время многие ханьские военачальники во главе войск переходили на сторону хуннов [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 42], а Маодунь часто нападал на земли округа Дай и грабил их. Обеспокоенный этим, китайский император послал одного из своих сановников к хуннам с мирными предложениями, пожаловав «шаньюю принцессу из император- ского рода в яньчжи (в жёны. — Л.Ф.)», обещав «ежегодно посылать в подарок определённое количество шёлковой ваты, шёлковых тканей, вина, риса и продуктов питания…» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 42]. Говоря иначе, Китай обязался платить хуннам дань [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 25, введение; Гумилев, 1960, с. 66]. «Благодаря этому, — пишет Сыма Цянь, — был заключён договор о мире, основанном на родстве, и Маодунь несколько сократил набеги» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 42].
По смерти Лю Бана (195 г. до н.э.) ханьской страной неко- торое время управляла его жена. В её правление Маодунь совершал многочисленные набеги на пограничные районы. Более того, он сделал попытку завладеть всем Китаем. В 192 г. до н. э. Маодунь «предложил императрице выйти за него замуж, рассчитывая получить всю китайскую империю в качестве приданого. Императрица ответила отказом, ссылаясь на свою старость» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 25, введение; см. также Бичурин, 1950, т. 1, с. 53–54].
1.18. Расцвет Хуннской державы
Хунны то и дело нарушали договор, основанный на родстве. В 177 г. до н.э. они вторглись в земли к югу от Хуанхэ и оттуда стали нападать «на варваров в округе Шанцзюнь, оборонявших границы, грабить их, убивать и угонять в плен население» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 43; см. также Сыма Цянь, 1975, т. 2, с. 233–234]. Когда против них выступило 85-тысячное китайское войско, хунны отступили и, по приказанию Маодуня, напали на юечжи и вытеснили их из Джунгарии и Семиречья. Где-то между 174 и 165 гг. до н.э. хунны нанесли им окончательное поражение. Тогда юечжи ушли в Бактрию (историческая область в среднем и нижнем течении Окса — Амударьи) и поселились там на развалинах разрушенного ими Греко-Бактрийского царства (141—128 гг. до н.э.). «Всё это, — пишет Л. Н. Гумилёв, — установлено с достаточной точностью…» [Гумилёв, 1991, с. 61]. В те же годы хунны в Средней Азии подчинили своей власти «лоуланей, усуней, хуцзе и двадцать шесть других соседних с ними владений, которые все стали принадлежать сюнну» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 43]. До этого они уже господствовали над степными просторами от Ордоса до сибирской тайги. Ещё в конце III в. до н.э. на берегах «Енисея и Абакана рядом с бревенчатой избой появилась круглая юрта кочевника» [Гумилёв, 1960, с. 31—32].

«Итак, — заключает Маодунь в письме к ханьскому императору, — все народы, натягивающие лук, оказались объединёнными в одну семью» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1968, с. 43]. В период наивысшего подъёма могущества хуннов их держава заняла огромную территорию: на запад её границы простирались до Каспийского моря, на восток — до Маньчжурии, на юг — до реки Хуанхэ, на север — до Енисея [Бичурин, 1950, т. 1, с. 60]. Множество больших и малых племён и народов оказалось в сфере политического влияния хуннов.
«Установление господства клана хунну над другими народами потребовало выработки сложной государственной системы управления и социальной структуры, а также создания идеологической системы легитимации власти (шаньюй как правитель „порождённый Небом и Землёй, поставленный Солнцем и Луной“)…» [Исхаков, Измайлов, 2001, с. 45]. Территориально-политическое объединение разных по происхождению, языку и культуре племён способствовало укреплению и углублению связей между ними, и они сообща, под эгидой хунны, «расправлялись» со своими врагами, расширяя и укрепляя Хуннскую державу.
1.19. Этноязыковая ситуация в Хуннской державе
Основными факторами, определившими этноязыковую ситу- ацию в Хуннской державе, явились социальные и культурные различия между завоевателями-хуннами и покорёнными племе- нами, большими и малыми, которые имели свои названия, жили раздельно, но выступали под верховенством хуннов и под их именем. Во II—I вв. до н.э. на востоке хунны славились как никогда. В. П. Васильев (1818—1900; Россия) отмечает (в данной и следующей цитате старая орфография заменена современной), что «в монгольском языке и поныне (в 70-е гг. XIX в. — Л.Ф.) человек называется хун» [Васильев, 1872, с. 115]. «Мы не хотим этим сказать, — продолжает он, — что хунны говорили монгольским языком, потому что название человека могло остаться в чужом языке по великому значению народа в своё время, и что всякий мог считать себя за честь называться хунном, как некогда на западе римлянином» [Васильев, 1872, с. 115]. Это древняя традиция. «Киммеры (так греки называли народ, господствовавший в южной части Восточной Европы до скифов. — Л.Ф.) и саки (скифы), — писал Г. Капанцян, — оставили настолько сильное влияние на местные народы и племена, что, напр., у грузин… первое имя („gimirra“) стало нарицательным словом „герой“ (по-груз. „gmiri“), а имя саков („saka“) у армян стало „ska“ (ср. „Aska-nar“, ассир. „asguza“ и пр.), что значит „великан, колосс“…» [Капанцян, 1957, с. 151–152]. Племенное название киммеры/ киммерийцы нашло своё отражение в древнерусском термине коумиръ, коумирь — «кумир, истукан, идол», осет. gumiry, gumery, gaemeri — «великан, идол», груз. gmiri — «богатырь, герой, исполин» [Миллер, 1881, т. 1, с. 125; Абаев, 1958, т. 1, с. 530]. «Здесь мы имеем, — пишет А. И. Попов, — один из образцов нередко встречающегося явления, когда собственное имя древнего племени постепенно обращается в разных языках в обозначение гиганта, исполина» [Попов, 1973, с. 11].
В то же время у кочевых народов, как известно, орда, достигшая власти, всегда даёт своё имя всем остальным подчинённым племенам. Не зная этого обычая, как справедливо утверждает К. А. Иностранцев, нельзя понять истории этих народов [Иностранцев, 1926, с. 8].
Попутно заметим: такая же картина наблюдалась в Восточ-ной Азии в средние века нашей эры. Рашид ад-Дин (1247–1318), историк монгольских ильханов династии Хулагидов, писал: «Многие роды поставляли величие и достоинство в том, что относили себя к татарам и стали известны под их именем, подобно тому, как найманы, джалауры, онгуты, кераиты и другие племена, которые имели каждый своё определённое имя, называли себя монголами из желания перенести на себя славу последних…» [цит. по: Чивилихин, 1985, т. 4, кн. 2, с. 173].
* * *
Полиэтническая Хуннская держава, естественно, была мно- гоязычной. Входившие в неё нехуннские племена говорили на своих языках, и в хуннском обществе естественным образом возникла необходимость в межплеменном средстве общения. Оно было жизненно важно для существования самой державы. Им, естественно, стал хуннский язык — язык политически господствующего и, надо полагать, более продвинутого этноса. Нехуннские племена усваивали его, тем самым усиливали его значимость. И он в Хуннской державе приобретал всё более доминирующее значение. В конечном счёте многие нехуннские племена (в том числе енисейскоязычные кеты, котты, пумпоколы, арины, ассаны и др.), пройдя ступень двуязычия, перешли на него, ибо он был социально престижен, к тому же выполнял роль языка межплеменного общения. Этому процессу способствовала и слава народа. «Неоспоримо, — писал Ф. Н. Глинка в „Письмах русского офицера“, — что слава народа придаёт цену и блеск языку его». Он же утверждал: «Во все времена и у всех почти народов слава языка следовала за славой оружия, гремя и возрастая вместе с нею» [Глинка, 1951, с. 324].
Те племена Хуннской державы, которые не называли себя
хуннами и не перешли на хуннский язык, могли заимствовать из
него отдельные слова и выражения, а хунны — из их языков.
В Хуннской державе хунны не составляли абсолютного большинства, и их язык не имел в ней привилегированного статуса. Он, хотя и выполнял определённые интеграционные фукции, не являлся обязательным языком. Поэтому его развитие, совершенствование не было делом государственной важности; и лингвисты в Хуннской державе не были просто нужны. Как следствие не описывался звуковой строй хуннского языка, не разрабатывалась система его грамматических норм, не составлялись словари.
Тем не менее хуннский язык в своё время получил широкое распространение. Он был известен за пределами Хуннской державы и взаимодействовал с языками соседних народов, прежде всего китайским. Китайский язык оказал сильное влияние на хуннский. Объясняется это тем, что он ко времени хуннско-китайских отношений был развитым языком с богатой литературной традицией, чего нельзя сказать о хуннском языке. Под воздействием китайского языка он стал развиваться более быстрыми темпами, чем раньше. Рассматривая наиболее несомненные китайские лексические заимствования в пратюркском (а мы исходим из предположения, что хунны говорили именно на этом языке), А. В. Дыбо пишет: «Сам набор заимствованных слов очерчивает определённый круг культурного взаимодействия: ремесло — в частности металлообработка, война, письменность, искусство, предметы роскоши, философские понятия. Датировки по фонетическим особенностям заимствований в совокупности указывают на III в. н.э.» [Дыбо, 2007, с. 74; см. также Шервашидзе, 1989, №2].
Со II в. н.э. хунны вошли в более тесные контакты с юечжами (согдийцами), язык которых относится к восточно-иранской подгруппе иранской группы языков, а также усунями — европеоидным белокурым голубоглазым народом смешанного происхождения (усуни смешались с юечжами (согдийцами) и саками, или скифами) [Паркер, 1903, с. 224—225; Грумм-Гржимайло, 1909, с. 166; Гумилёв, 1959, с. 21]. Прямые этнические контакты, как правило, предполагают языковые контакты.
Одним словом, хуннский язык с момента создания Хуннской державы активно взаимодействовал с разными по происхож-дению и грамматическому строю языками, в том числе языками предков кетов и родственных с ними племён.
1.20. Языковая принадлежность хуннов
От языка хуннов в китайских письменных источниках сохранились отдельные непонятные слова (глоссы). Их, по мнению О. Менчен-Хелфена, сотни [Maenchen-Helfen, 1944–1945, s. 224 и след.]. Э. Дж. Пуллибланк собрал из «Ши цзи» и «Ханьшу» около 190 хуннских слов, относящихся к периоду Ранней Хань [Пуллибланк, 1986, вып. 1, с. 30]. Согласно ему, большинство из них — собственные имена и титулы, некоторые — «слова, для которых дано значение» [Там же]. Достоянием же науки, как утверждает Г. Дёрфер, стали пока около 20 хуннских слов [Дёрфер, 1986, вып. 1, с. 72]. Г. Дёрфер отмечает, что хуннские слова записаны китайским письмом, которое «наряду с прочим не различает l и r и которому не знакомы тюрко-монгольские гласные ö и ü», и подчёркивает, что они «часто поддаются толкованию с большим трудом и небольшой долей надёжности» [Там же. С. 73].
Отдельные хуннские слова пытались объяснять на мате- риале монгольского, тунгусского, древнетюркского языков [Shiratorii, 1902, s. 01–033; Munkácsi, 1903, s. 240–253; Панов, 1916; Müller, 1918, s. 568–569; Feist, 1919, s. 98, 100; Shiratorii, 1923, s. 71–82]. Двенадцать слов из 190 собранных Э. Дж. Пуллибланк квалифицировал как кетские [Пуллибланк, 1986, вып. 1, с. 30–61 и др.]. «Материал, конечно, количественно ограничен, — пишет он, — и я не должен ни минуты претендовать на то, что я „доказал“, что язык сюнну был родствен палеосибирским» [Там же. С. 64]. И добавляет: «Есть серьёзные основания считать, что палеосибирские языки некогда были гораздо более широко распространены, чем в XIX и XX вв.» [Там же].
Выше отмечалось, что большинство из собранныхЭ. Дж. Пуллибланком хуннских слов — собственные имена и титулы. А.П Дульзон считает, что они у кетов не могли сохраниться; тем не менее он предпринял попытку объяснить некоторые из них на материале кетского языка [Дульзон, 1968б, с. 141—142].
Интерес к сохранившимся в китайских письменных источниках хуннским словам проявляют и сегодня, о чём свидетельствует монография А. В. Дыбо, на страницах которой рассматриваются и более ранние транскрипции известных хуннских слов [Дыбо, 2007, с. 82—115]. Как бы обобщая свои разыскания и разыскания других исследователей в этой области, А. В. Дыбо пишет: «Вообще же проблема языковой атрибуции записанных китайцами сюннуских (хуннских. — Л.Ф.) слов принадлежат к разряду „вечных“ … Очевидно, какой-либо прогресс в этой области может быть достигнут исключительно в связи с уточнением фонетических чтений использованных для записи иероглифов на момент записи, а также с уточнением фонетического облика слов предполагаемых языков-источников, также с соответствующими датировками» [Там же. С. 80].
Одним словом, единства мнений в толковании сохранившихся в китайских письменных источниках I в. до н.э. — I в. н.э. хуннских слов на сегодня нет. Констатируя это, следует заметить, что для их объяснения материал чувашского языка практически не привлекался. Между тем думается, что именно он является лакмусовой бумагой при определении смысла и значения, по крайней мере, отдельных слов хуннского языка.
* * *
Удовлетворительного объяснения в науке не получила и единственная, сохранившаяся до нашего времени хуннская фраза (К. А. Иностранцев). Она содержится в хронике «Цзинь-шу», предположительно относится к 310 г. н.э., представляет собой, как считает А. В. Дыбо, «прорицание, произнесённое в Лояне мудрецом Фотучэном, относительно успешности воинского похода цзеского военачальника Ши Лэ против другого гуннского военачальника Лю Яо» [Дыбо, 2007, с. 75—76], записана «фонетически трудно реконструируемым китайским письмом» [Дёрфер, 1986, вып. 1, с. 73]. Согласно А. В. Дыбо, фраза эта в общем переводе на китайский язык означает «Войско выйдет, Яо будет схвачен» [Дыбо, 2007, с. 76], согласно К. А. Иностранцеву, — по выступлении войска в поход «враг [приводится собств. его титул] будет вполне разбит» [Иностранцев, 1926, с. 142]. Её иначе называют двустишие сюнну (Э. Дж. Пуллибланк) или гуннский стишок, гуннское двустишие, сентенция оракула (И. Бенцинг, Г. Дёрфер).
Интересующая нас хуннская фраза состоит из четырёх слов [Пуллибланк, 1986, вып. 1, с. 61], в них в общей сложности десять слогов [Дёрфер, 1986, вып. 1, с. 72]. Она имеет несколько европейских транскрипций, например: 1) sieou-tchi ti-li-kang pou-kou khiu-tho-tang и 2) «сю чжи тилэй гян, Пугу тугоудан». Автором первой транскрипции является А. Ремюза [цит. по: Иностранцев, 1926, с. 96], второй — В. П. Васильев [Васильев, 1872, с. 115].
А. Ремюза не высказал ничего по поводу языка, которому могла принадлежать рассматриваемая фраза. В. П. Васильев видел в ней испорченную китайскую фразу [Васильев, 1872, с. 115—116].
Э. Дж. Пуллибланк считает, что фраза, о которой идёт речь, написана на языке цзе, который, по его мнению, «должен быть либо канцюйской разновидностью тохарского, либо собственно языком сюнну, поскольку, живя на востоке, они могли утратить свой первоначальный язык» [Пуллибланк, 1986, вып. 1, с. 61]. Кто такие цзе? Цзе, согласно Э. Дж. Пуллибланку, «входили в состав так называемых „пяти варваров“, т.е. сюнну (хуннов. — Л.Ф.), цзе, сяньби, цянов и ди» [Там же. С. 38]. Племя цзе, или цзелу, образовалось из хуннских «рабов», среди которых были и танху, и динлин, и кяны (тибетцы); имя их произносилось в древности gul, что на современных тюркских языках означает «раб»; в III в. н.э. цзе (цзелу) составили ту целостность, которую китайцы приравняли к этнической, и обитали на берегах реки Хэйшуй [Гумилёв, 1994, с. 26—27]. Они (цзе, цзелу, или кулы) говорили по-хуннски [Там же. С. 26, 50, 83].
Л. Лигети утверждает, что рассматриваемая хуннская фраза написана «не на языке сюнну, а на языке ху» [цит. по: Дёрфер, 1986, вып. 1, с. 74], а он, как считает Г. Дёрфер, «совершенно неизвестен»…» [Дёрфер, 1986, вып. 1, с. 72]. Восточные ху, по мнению Э. Дж. Пуллибланка, это ухуань (цы) и сяньби (йцы) [Пуллибланк, 1986, вып. 1, с. 32], а они, как увидим ниже, потомки дунху и как таковые говорили на языке (языках) своих предков, на котором (на которых) или на родственном с ним языке (или на родственных с ними языках) говорили и хунны.
* * *
Объяснить хуннскую фразу IV в. н.э. пытались многие отечественные и зарубежные исследователи. (Подробное описание всех предлагавшихся её толкований см. [Шервашидзе, 1986]). Так, например, Н. А. Аристов, полагая, что хунны говорили на древнетюркском языке, подгонял её смысл под содержание китайского перевода, в результате исказил саму фразу; она у него приняла такой вид: Сÿcu cуläгäн, Пугу тутgан [Аристов, 1896, с. 292]. Между прочим, В. П. Васильев несколько раньше, хотя и признал, что хуннская фраза имеет вид тюркский, заметил, однако, что никому из тюркологов не поддаётся её анализ [Васильев, 1872, с. 115–116].
Тем не менее в XX в. было сделано несколько попыток объяснить хуннскую фразу IV в. н.э. на тюркском языковом материале. Б. Карлгрен (1899–1974; Швеция) реконструировал её на основе чтения древнекитайских знаков; она у него выглядит следующим образом (рядом даётся дословный перевод китайского перевода этого текста): siôg ti{}eg t˙iei liəd kâng «войско вывести»; b‘uok kuk g‘iu t‘uk tâng «полководца захватить» [цит. по: Зарубежная тюркология, 1986, вып. 1, с. 13].
Г. И. Рамстедт (1873–1950; Финляндия), Л. Базен (p. 1920; Франция), А. фон Габен (р. 1901; Германия, ФРГ) и некоторые другие исследователи считали оригинал хуннской фразы IV в. н.э. также тюркским и соответственно её восстанавливали, но читали и толковали её различно, например (цит. по: Зарубежная тюркология, 1986, вып. 1, с. 13]: sükä talïgïn «выступай на войну» и bügüg tutan «поймай Бюгю» [Ramstedt, 1922, s. 30–31]; süg tägti ïdgan «пошлите армию в наступление» и boguγïγ tutgan «захватите полководца» [Bazin, 1948, p. 208–219]; särig tïlïtgan «ты выведешь войско» и buγuγ kötürkän «ты похитишь оленя» [Gabеin, 1950, p. 244–246].
Относительно приведённых реконструкций хуннской фразы IV в. н. э. И. Бенцинг (р. 1904; Германия, ФРГ) пишет: «Более или менее надёжным в этом представляется: t‘uk tâng, очевидно, *tugta „захватывать, арестовывать“ = монг. togta- „останавливать, задерживать“, др. тюрк. tut- „держать, брать“, ср. аналогичное фонетическое изменение: монг. agta „мерин“ = др. тюрк. at „лошадь“; можно допустить, что siôg (ti{}ěg?) имеет отношение к древнетюркскому s „войско“, но ни тюркские, ни монгольские, ни тунгусские языки не содержат материала для какой-либо стройной интерпретации остальных слов» [цит. по: Зарубежная тюркология, 1986, вып. 1, с. 13; см. также Benzing, 1959].
Аналогично мнение Э. Дж. Пуллибланка. «Ни одно из этих объяснений, — пишет он, — не может считаться очень успешным, поскольку все они в большей или меньшей степени построены на произвольном обращении с фонетическим значением китайских иероглифов, так и с объяснениями, содержащимися в сопро- вождающем двустишие китайском тексте» [Пуллибланк, 1986, вып. 1, с. 61]. Сам Э. Дж. Пуллибланк входящие в хуннскую фразу IV в. н.э. китайские иероглифы читает и переводит как сю-чжи — «войско», ти-ли-ган — «выходить», пу-гу — «варварский титул Лю Яо», «цюй-ту-дан — «взять в плен» [Там же. С. 61–62]. При этом он не восстанавливает связный текст хуннской фразы IV в. н.э. по причине нежелания «добавить что-нибудь ещё к списку предлагавшихся реконструкций» [Там же. С. 62].
Хуннская фраза IV в. н.э. до сих пор продолжает привлекать внимание исследователей. Так, например, А. В. Вовин недавно предложил своё, тюркско-енисейское, её прочтение и истолковане [Vovin, 2000, p. 87—104], А. В. Дыбо — своё, тюркское: sü-ge taλ-t-kan bökö-g göt-ök-ta-ŋ, что, согласно ей, означает «Войско заставив выйти наружу, бёке захватите, пожалуй» [Дыбо, 2007, с. 77]. Между тем рассматриваемая фраза может быть расшифрована на материале чувашского языка, не переставляя при этом ни букв, ни слогов, ни тем более слов [Филиппов, 2008, с. 278—292]. Чувашская её интерпретация имеет право на существование, особенно если учесть предполагаемое генетическое родство хуннского и чувашского языков. Во всяком случае, её можно принять к сведению рядом с другими объяснениями.
* * *
Согласно Э. Дж. Пуллибланку, хунны говорили на языке енисейской (палеосибирской) семьи [Пуллибланк, 1986, вып. 1, с. 36, 62 и др.], единственным живым представителем которой, как было сказано, является кетский язык, известный также как енисейско-остяцкий. Родство хуннского языка с палеосибирским, по мнению Э. Дж. Пуллибланка, «явно возможно, и оно более правдоподобно, чем связь его с какой бы то ни было другой известной семьёй языков» [Там же. С. 64]. Г. Дёрфер также допускает родство хуннского и кетского языков. «Нельзя исключать того, — пишет он, — что язык сюнну продолжает жить в современном енисейско-остяцком языке (возможно, лишь в качестве адстрата), но данные, свидетельствующие в пользу этого, или сомнительны, или недостаточны» [Дёрфер, 1986, вып. 1, с. 77]. И добавляет: вероятно, «речь идёт о вымершем изолированном языке» [Там же]. При этом Г. Дёрфер уверен в том, что «язык сюнну не был ни тюркским, ни монгольским» [Там же].
Из изложенного выше напрашиваетя один-единственный вывод: вопрос о языковой принадлежности хуннов остаётся от- крытым.
* * *
Как было сказано (см. ч. 1 §1.16), в 209 г. до н.э. хунны разбили дунху. Тогда одни из них, по сообщению Фань Е, укрылись «у горы Ухуань» (в современной Восточной Монголии.– Л.Ф.), от которой и приняли «своё название» [цит. по: Леонтьев, Егоров, 2012, с. 268], и положили начало этноса ухуань; другие «отдельно осели у горы Сяньби, от которой получили своё название»» [цит. по: Леонтьев, Егоров, 2012, с. 268], и положили начало этноса сяньби. Сяньби «жили рядом с ухуанями», «в округе Ляодун» [цит. по: Леонтьев, Егоров, 2012, с. 268] — на северо-востоке современного Китая, Дунбэе, частично на Ляодунском полуострове, расположенном между Ляодунским и Западно-Корейским заливами Жёлтого моря.
Фань Е подчёркивает, что ухуани (ухуаньцы) — потомки дунху, что сяньби (сяньбийцы), «как и ухуани, — ветвь народа дунху» и что их «язык и обычаи «сходны с ухуаньскими» [цит. по: Леонтьев, Егоров, 2012, с. 268]. Стало быть, ухуаньцы и сяньбийцы говорили на родственных языках, восходящих к языку (языкам) их предков — дунху, а они, как и хунны, говорили на пратюркском. Между прочим, современный китайский историк Гуй Баоли утверждает, что названия ухуань и сяньби представляют собой китайскую иероглифическую транскрипцию этнонимов огур и себир [цит. по: Леонтьев, Егоров, 2012, с. 268]. Принимая это во внимание, Н. И. Егоров, однако ж, замечает, что сяньби китайских источников — это сабиры [Леонтьев, Егоров, 2012, с. 599]. Описка? Из сказанного выше со всей определённостью вытекает, что языки ухуаньцев и сяньбийцев состояли в генетическом родстве с хуннским (хуннскими), но не с монгольским, как принято считать.
Монголов в степях Центральной Азии в конце I тысячелетия до н.э. ещё не было. Их предки «первоначально обитали в верхнем течении Амура» [Таскин, 1979, ч. 2, с. 450]. Л. Р. Кызласов уточняет: монголоязычные племена в древности расселялись «в горно-таёжной полосе между северо-восточной оконечностью Яблоневого хребта, по обеим сторонам Хингана и вплоть до северной оконечности Хэйлунцзяна (в основном по рекам Шилке, Иногде, Аргуни и бассейну Амура в его среднем и нижнем течении)» [Кызласов, 1992, 148—149]. Позднее, «а именно в первом веке н.э.», они появились в центральноазиатских степях [Таскин, 1979, ч. 2, с. 450]. «Сначала переселению монгольских племён на юг мешали тюркоязычные сюнну, господствовавшие в степных просторах, но с ослаблением сюнну продвижение монголов на юг стало приобретать всё более широкие масштабы» [Там же].
* * *
Если исходить из признания генетического родства хуннского, гуннского и чувашского языков, то языку (языкам), на котором (на которых) говорили хунны, дунху, ухуаньцы, сяньбийцы, было свойственно фонетическое явление, известное под названием ротацизм (от названия греческой буквы ρ «рота»). Суть его, как известно, заключается в том, что на месте общетюркского конечного -з в чувашском языке (в отличие от всех других живых тюркских языков) выступает -р, например (примеры взяты из [Федотов, 1980, с. 139–141]): др.-тюркс. buz ≈ чув. пǎр ≈ тат. боз «лёд»; др.-тюркс. küz ≈ чув. кěр ≈ тат. көз «осень»; др.-тюркс. gaz ≈ чув. хор/хур ≈ тат. каз «гусь»; др.-тюркс. giz ≈ чув. хěр ≈ тат. кыз «девочка, девушка, незамужняя женщина»; др.-тюркс. süz ≈ чув. сěр ≈ тат. сөз «очищать, процеживать»; др.-тюркс. tiz ≈ чув. тир ≈ тат. төз «ставить в ряд, нанизывать» и другие.
Явление ротацизма отразилось и в тюркских заимствованиях в венгерском языке, например (примеры взяты из [Федотов, 1980, с. 147–148]): чув. вǎкǎр (≈ монг. üker)> венг. ökör; — др.-тюркс. ögüz «бык, вол»; чув. йěкěр (≈ монг. еkeri, ikeri, ikere)> венг. iker; — др.-тюркс. ekiz «близнецы, двойня»; чув. çыр (≈ монг. jiru)> венг. ir; — др.-тюркс. jaz- «писать» и другие. Эти и другие с монгольским фонетическим обликом слова, по мнению Б. Мункачи (1860–1937; Венгрия), могли проникнуть в венгерский язык (в язык угров) через посредство гуннов [цит. по: Федотов, 1980, с. 148]. З. Гомбоц (1877–1935; Венгрия) считает, что источником заимствования тюркских слов в венгерском языке мог быть только язык волжских булгар [цит. по: Федотов, 1980, с. 148–149]. И. Буденец (1836–1892; Венгрия) в свою очередь утверждает, что древнетюркские слова в венгерском языке, судя по их фонетическому облику, могли быть заимствованы только из чувашского языка, который давным-давно представляет особую ветвь тюркской семьи [цит. по: Федотов, 1980, с. 148].
Признаки ротацизма хорошо прослеживаются и в языке надгробных надписей волжских булгар, относящихся к ХIII–ХIV вв., что подтверждается такими, например, словами, извлечёнными из текстов волжско-булгарских эпиграфических памятников, как (примеры взяты из [Федотов, 1980, с. 149–150], в них булгарские слова, написанные по-арабски, передаются в русской транскрипции): булг. скр> чув. сакǎр, саккǎр, но тат. сигез «восемь»; булг. тхр> чув. тǎхǎр, тǎххǎр, но тат. тугыз «девять»; булг. втр> чув. вǎтǎр, но тат. утыз «тридцать»; булг. z{ˇ}ÿр, z{ˇ}р> чув. çěр, но тат. йөз «сто»; булг. хир> чув. хěр, но тат. кыз «дочь, девушка»; булг. эрни> чув. эрне, но тат. атна «неделя» и другими.
Явление ротацизма тюркологи и алтаисты рассматривают параллельно с фонетическим явлением ламбдаизма/ламбдацизма (от названия греческой буквы λ «ламбда»), который заключается в том, что в ряде древних и современных тюркских слов на месте чувашского интервокального и ауслаутного l выступает š, например (примеры взяты из [Федотов, 1980, с. 158]): др.-тюркс. ešik ≈ чув. алǎк ≈ тат. ишек «дверь»; др.-тюркс. gïš ≈ чув. хěл ≈ тат. кыш «зима»; др.-тюркс. kümüš ≈ чув. кěмěл ≈ тат. көмеш «серебро» и другие.
Естественно, исследователей интересовал и интересует вопрос, что же было первичным: r или z, l или š. Мнения разделились: одни (Г. Рамстедт; 1873–1950; Финляндия; Н. Н. Поппе; 1897—1991; США и др.) считают, что первичными были r, l, другие — z, š.
«Природу явлений ротацизма и ламбдаизма, — пишет М. Р. Федотов, — каждый автор стремится объяснить по-своему…» [Федотов, 1980, с. 155]. По-своему толкует её и Н. И. Егоров. Согласно ему, ротацизм и ламбдацизм (ламбдаизм) развились в протобулгарском (огурском) языке, который, по его мнению, сложился в результате «наложения прототюркского диалекта на восточноиранский и полной ассимиляции последнего в некотором определённом регионе Центральной Монголии, очевидно, уже в период с XI по IX вв. до н.э.…» [Егоров, 2006, вып. 1, с. 157; см. также с. 160]. «Говоря иными словами, — разъясняет Н. И. Егоров, — те восточные иранцы, которые волею судьбы сменили свой родной язык на тюркский, при освоении иноязычных (т.е. тюркских. — Л.Ф.) слов встречающиеся в них звуки z и š в определённых позициях произносили как r и l…» [Там же. С. 158]. Выходит, в тюркском языке (тюркских языках) первичными были z, š и ротацизм, ламбдаизм/ламбдацизм возникли в нём (в них) под влиянием восточно-иранской речи. Между тем А. М. Щербак, анализируя явление ротацизма, пишет: «Очевидно, мы имеем дело с собственно тюркским ротацизмом, главным образом с чувашским, а также с некоторыми тюркскими словами ротацирующего типа в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках (курсив мой. — Л.Ф.)» [Щербак, 1997, с. 47]. Н. И. Егоров признаёт, что ротацизм, как и ламбдацизм, действительно имеет внутритюркский характер; вместе с тем, повторимся, утверждает, что восточные иранцы, осваивая тюркские слова, встречающиеся в них звуки z и š в определённых позициях произносили как r и l. Противоречивое, кажется, суждение.
* * *
В свете сказанного о хуннах, дунху, ухуаньцах (огурах), сяньбийцах (себирах) иное объяснение получают ротацизм и ламбдаизм: они — родимые пятна их языка (языков).
Тот факт, что ротацизм и ламбдаизм из живых тюркских языков сохранились только в чувашском, свидетельствует о том, что он генетически связан с языком (языками), на котором (на которых) говорили хунны, дунху, ухуаньцы, сяньбийцы. Этот же факт даёт основание предположить, что ротацизм и ламбдаизм были присущи языкам, носителями которых были хунны, дунху, ухуаньцы, сяньбийцы.
Монгольские племена по пути движения на юг не могли не встретиться с ухуаньцами и сяньбийцами. Естественно, какое-то время они жили по-соседству с ними, а это предполагает взаимодействие их языков. Именно тогда (в первых веках нашей эры) ухуаньские и сяньбийские слова ротацирующего и ламбдацирующего типа проникают в языки монгольских племён. Они могли проникнуть в них и из хуннского языка, носители которого тогда господствовали в степях Центральной Азии. Ротацирующие и ламбдацирующие слова в монгольских языках — древнейшие заимствования из языков ухуаньцев, сяньбийцев, хуннов. Из них они, как считают некоторые исследователи, проникли в тунгусо-маньчжурские языки, носители которых, как и ухуаньцы, сяньбийцы, жили в северо-восточной части древнего Китая. Более того, основное население Маньчжурии в далёком прошлом составляли тунгусы. (Маньчжурия — историческое название северо-восточной части современного Китая).
Ротацизм и ламбдаизм сближают монгольские и тунгусо-маньчжурские языки с чувашским. Сближают их с ним не только ротацизм и ламбдаизм, но и лексика, общая для чувашского и монгольских языков, для чувашского и тунгусо-маньчжурских языков. По времени возникновения она является древнейшей и сохранилась до наших дней.
Ротацизм и ламбдаизм, как известно, характерны и для корейского языка. Как это объяснить? В то время, когда хунны господствовали в степях Центральной Азии, древнекорейские племена населяли юго-запад Маньчжурии (современный китайский регион Дунбэй и восточная часть Внутренней Монголии), на северо-запад от них кочевали хунны, на запад — ухуаньцы. сяньбийцы, кидани, кумохи (или кумоси, или хи/си [Бичурин, 1950, т. 1, с. 208]), которые произошли из этнического смешения хуннов и дунху [Туголуков, 1980, с. 158]. Этот факт даёт основание предположить, что древнекорейские племена в течение длительного времени имели тесные и, надо полагать, интенсивные контакты с ухуаньцами, сяньбийцами и хуннами и что их языки взаимодействовали и взаимовлияли друг на друга. Именно в тот исторический период слова ротацирующего и ламбдацирующего типа могли войти в языки древнекорейских племён.
Ротацизм и ламбдаизм сближают корейский язык с чувашским. Ещё в 1927 г. Е. Д. Поливанов указал на соответствие корейской фонемы -л//-р в конце корня чувашским сонорным -л и -р в той же позиции [Поливанов, 1927, т. XXI, №15—17]. В. Ф. Мальков произвёл подсчёт конечных согласных в корейских и чувашских корнях структурного типа СГС (согласный-гласный-согласный). Оказалось, что в чувашском языке корни, оканчивающиеся на -р, составили 30,5%, на -л — 12,3% (в общей сложности — 42,8%), а в корейском корни, оканчивающиеся на -л//-р, составили 40% [Мальков, 1971, с. 311].
В корейском и чувашском языках звуковые соответствия имеются не только в корнях слов, но и в некоторых тождественных словообразовательных суффиксах (речь идёт о суффиксах -м, -у, -е, -ке, -анъ (чув. -ан), -мә (чув. -ма)) [Там же. С. 309—310].
«Чем объяснить подобную общность в фонетическом строе обоих языков?» — задаётся вопросом В. Ф. Мальков и отвечает: «Если она объясняется сходными типологическими особенностями обоих языков, то наличие значительного количества конечных “-л» и “-р» можно отнести к более позднему времени; если же она объясняется генетической общностью рассматриваемых языков, то это явление относится к очень отдалённому времени, когда происходило дробление какого-то древнего языка на диалекты. Оно может быть объяснено, правда, и заимствованием в один язык лексики другого языка с сохранением конечных “-л» и “-р». Все эти вопросы требуют исследования» [Там же. С. 311].
В исконной лексике корейского и чувашского языков также немало параллелей, ср., например (примеры взяты из [Там же. Мальков. С. 309—310, 313]: корейское сем «счёт» <се «считать» и чувашское сум «счёт» <су «считать», «читать», -м в обоих языках — словообразовательный суффикс; корейское пори «ячмень» и чувашское пăри «полба»; корейское иранъ «грядка; межа; борозда» и чувашское йăран «межа; борозда; грядка»; корейское –ачжи в сонъачжи «телёнок», манхачжи «жеребёнок», канъачжи «щенок» и чувашское ача «дитя, ребёнок» (оно «в остальных тюркских языках прямых соответствий не имеет» [Федотов, 1996, т. 1, с. 73—74] и другие. В обоих языках, по данным В. Ф. Малькова, «очень много звукоподражательных слов с конечными -л и -р, а подобные слова возникали в далёком прошлом и сохранились до наших дней» [Мальков, 1971, с. 311—312].
Если признать, что ротацизм и ламбдаизм были характерны для языков хуннов, дунху, ухуаньцев (огуров), сяньбийцев (сабиров), то чувашские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейские корреспонденции ротацизма и ламбдаизма получают однозначное и приемлемое объяснение. Восточные иранцы едва ли имели прямые контакты с древнекорейскими племенами, что ставит под большое сомнение взаимодействие их языков; между тем ротацизм и ламбдаизм в корейском языке — факт.
Из нашего понимания ротацизма и ламбдаизма следует, что первичными были r и l, и мы полностью разделяем предварительное заключение Л. Лигети (1902—1987; Венгрия) о том, «что чувашский (язык. — Л.Ф.) удерживал без изменений прототюркское состояние и что в других тюркских языках z и š были инновациями» [Лигети, 1971, с. 22]. Его предок отделился от них до того, как звуки r и l в словах, заимствованных из хуннского, сяньбийского или ухуаньского языка, в них в определённых позициях уступили место звукам z и š. Поэтому чувашский язык сохранил ротацизм и ламбдаизм. Сохранил он и некоторые другие архаические элементы своего предка, и это признаётся многими отечественными и зарубежными исследователями. Вот как определено место чувашского языка среди тюркских, алтайских языков в современной «Энциклопедии Британника» (1994 г.): «Чувашский язык, представляя собой индивидуальную и особую ветвь тюркских языков, более близок к вымершему тюркскому или алтайскому языку волжских болгар, нежели к т. наз. общетюркским языкам. В прежнее время учёные принимали чувашский не за собственно тюркский язык, а, скорее, за единственный живой язык, сохранивший характерные черты особой группы алтайских языков, на которой, вероятно, говорили гунны (курсив мой. — Л.Ф.)» [цит. по: Григорьев, 2012, с. 6, 43; см. также: Федотов, 1980; Мудрак, 1994].
Заканчивая разговор о языковой принадлежности хуннов, заметим, что некоторые исследователи сильно преувеличивают роль и значение огурских племён в истории. Так, например, Н. И. Егоров утверждает, что они ещё в III в. до н.э. создали свою империю [Леонтьев, Егоров, 2012, с. 313]. Здесь, вне всякого сомнения, под империей огурских племён подразумевается Хуннская держава, которая действительно возникла в самом конце III в. до н. э. Но её создали не огурские племена, не огуры/ухуаньцы, а хуннские племена, сами хунны (см. ч. 1 §1.17). Когда создавалась Хуннская держава, огурские племена, огуры/ухуаньцы стояли на более низкой ступени общественного развития, чем хунны. В этой связи С. И. Руденко пишет: «В то время как ухуаньцы (т.е. огуры. — Л.Ф.) представляли собой типичное патриархально-родовое общество с пережитками матриархата, у хуннов мы уже имеем конфедерацию родов внутри племени с образованием мощной державы, с выделением аристократических родов и сложной системой управления» [Руденко, 1962, c. 112]. Спрашивается, могли ли огуры/ухуаньцы, огурские племена, находясь на столь невысокой ступени общественного развития, создать в III в. до н.э. свою империю? Это риторический вопрос.
Чтобы как-то объяснить, что Хуннскую державу создали огурские племена, Н. И. Егоров просто объявляет, что они более известны под китайским именем хунну [Леонтьев, Егоров, 2012, с. 313], что и позволяет ему называть мнимое государство огурских племён Империей сюнну [Там же. С. 276], в которой, согласно Н. И. Егорову, общим для всех языком был огурско-тюркский [Там же. С. 265, 276, 353]. А как же быть с не мнимой, а настоящей Хуннской державой? С хуннским языком? Ведь именно он использовался в Хуннской державе в качестве языка межплеменного общения (см. ч. 1 §1.19), а не надуманный огурско-тюркский язык. Что это? Подмена терминов или понятий? И то, и другое. Делается это из желания перенести славу хуннов на огурские племена, ибо они, по Н. И. Егорову, исторические предки современных чувашей [Там же. С. 276, 312—313]. Кто бы это доказал.
Огурско-тюркский язык Н. И. Егоров называет и протобулгарским (а также прабулгарским) [Там же. С. 265, 276, 353]. Его носители (надо полагать, протобулгары), согласно ему, сложились в Центральной Азии где-то в середине I тысячелетия до н.э. в результате этнического смешения прототюрок со степняками [Там же. С. 310—311]. Тáм же примерно в тó же время сложились, по Н. И. Егорову, и огурские племена в результате этнического смешения прототюрок с «карасукцами» — тоже степняками [Там же. С. 276, 312—313]. Если сопоставить приведённые сведения о происхождении протобулгар и огурских племён, нельзя не заметить, что в них под названиями протобулгары и огурские племена скрывается один и тот же народ — протобулгарский или огурский. Но так ли это? Выше говорилось, что огуры (ухуаньцы) — это потомки дунху, осевшие у горы Ухуань, они вплоть до VII в. упоминаются в китайских летописях. А протобулгары? Авторы китайских исторических хроник, описывая происходившие в Центральной Азии события, называют десятки, сотни племён и народов, при этом не упоминают протобулгар (булгар/болгар). Не потому ли, что их просто не было среди центральноазиатских племён? Правда, в китайских письменных источниках с конца II в. до н.э. нередко упоминается племя или группа племён под названием пу-ку или бу-гу. Основываясь на этом, болгарский лингвист Б. Симеонов делает вывод, что этноним пу-ку ~ бу-гу в древности должен был звучать българ (т.е. булгар/болгар) [Симеонов, 1976, №5; 1979, №1; 1979а, №2; 1981, №1], хотя, вероятно, осознаёт, что связь между пу-ку ~ бу-гу и българ призрачна. (Современные китайцы называют болгар ба-го или бао-гуо [Димитров, 1987]). Протобулгары и огуры (ухуаньцы) — разные по происхождению племена, и центральноазиатское происхождение первых (в отличие от вторых) требует доказательств, а их на сегодня нет. Тем не менее Н. И. Егоров продолжает считать, что «… племена булгарского круга возникли где-то в центре Азии…» и что булгары «являются частью конгломератной огурской конфедерации племён» [Егоров, 2012б, с. 9].
Вообще говоря, в науке давно существует гипотеза (и она широко распространена), согласно которой булгары/болгары были частью огурского массива племён, первоначально обитавших в Центральной Азии. Но она научно не обоснована. Этот факт в корне подрывает предположение Н. И. Егорова об «огуро-булгаро-чувашском этноглоттогенезе» [см.: Егоров, 2009, с. 55—68; Егоров, 2010, №5, с. 69—103; Леонтьев, Егоров, 2012, с. 358]. Сконструированный им термин огуро-булгаро-чувашский этноглоттогенез подчёркивает его умозрительный характер.
По данным письменных источников, булгары/болгары издревле жили на Кавказе и в Европе. Полагают, что на Кавказ они пришли из Зауралья (см. ч.1 §7.5.2). Чтό подлинно известно об их жизни в Зауралье? Ровным счётом ничего. Достоверно одно: булгары/болгары жили далеко на запад от огуров (ухуаньцев) и территориально не соприкасались с ними, ибо огуры (ухуаньцы) обитали в северо-восточной части древнего Китая. Длительное время они находились в зависимости от хуннов, в середине IV н.э. их завоевали сяньбийцы, впоследствии растворились среди сяньбийцев, китайцев и других соседних племён. Между тем Н. И. Егоров пишет: «После распада империи сюнну в результате засухи в III в. н.э. огурские (? — Л.Ф.) племена рассеялись по всей степной полосе Евразии — от Большого Хингана на востоке до низовьев Дуная на западе» [Егоров, 2012б, с. 8]. На самом деле, после распада державы хуннов рассеялись не огурские, а хуннские племена, и не в III в. н.э., а в I — II вв. н.э., и не столько по причинам социально-экономического, а сколько социально-политического характера (см. ч. 1 §-ы 1.23 –1.25).
Хуннский язык должен был иметь и письменную форму.
1.21. Было ли письмо у хуннов?
На поставленный вопрос следует ответить, скорее всего, утвердительно. Было бы странно думать иначе, если принять во внимание, что Хуннская держава находилась в длительном контакте с такой страной, как Китай, издревле обладающей своей письменностью. Более того, в ней легко уживались две различ-ные системы письма: иероглифическая, заимствованная от соседей-китайцев, и руническая, заимствованная …? История знает такие факты. Например, у древних славян существовало глаголическое и кирилловское письмо, и обе эти системы письма служили для фиксации материала на одном и том же языке.
Хунны в момент создания своей державы (конец III в. до н.э.) едва ли имели какое-либо письмо. Как только оно потре- бовалось, они стали пользоваться китайским письмом. Но оно при всём богатстве своём не содержало тех знаков, которые были необходимы для передачи устной речи хуннов. Так возникла необходимость приспосабливать китайские письменные знаки к нуждам хуннского языка. Этой иероглифической системой пи- сьма пользовались, по-видимому, в канцелярии хуннских шань- юев — для ведения дипломатических переписок с китайским Двором, оформления других державных документов. Неслу- чайно восточные авторы указывают, что хунны и другие тюрк- ские народности пользовались иероглифической письменностью [Бичурин, 1950, т. 1, с. 55, 58]. Письмо китайскими иероглифами не было доступно широким массам хуннского населения. Впрочем, в этом не было никакой необходимости: основное назначение письма в государствах раннего типа — быть средством политического, межплеменного и торгового общения [Дегтерёва, 1963, с. 74]. При этом надо иметь в виду и то, что службу писцов в канцелярии хуннских шаньюев могли исполнять и, скорее всего, исполняли грамотные пленные китайцы, а их у хуннов было немало.
К сказанному выше имеют прямое отношение следующие сообщения китайских источников. Когда после смерти Маодуня (174 г. до н.э.) шаньюем стал его сын Гиюй, китайский император отправил ему принцессу из императорского рода в яньчжи — в жёны. Наставником при ней был назначен евнух Чжунхан Юэ (Чжунхин Юе). По прибытии к хуннам, он, согласно сообщению Сыма Цяня, «сразу же перешёл на сторону шаньюя, и шаньюй стал весьма благоволить к нему» [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 45]. «Чжунхан Юэ научил шаньюя посылать императору Хань письма на деревянных дощечках длиною в один чи и два цуня, пользоваться печатью и конвертом более широких, больших и длинных размеров…» [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 45]. (В период династии Хань один чи равнялся 23 см [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 142, прим. 146]). На таких же деревянных дощечках, но длиною в один чи и один цунь, писались и посылались письма императора Хань хуннскому шаньюю [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 45]. Чжунхан Юэ же «научил шаньюевых приближённых завести книги, чтобы по числу обложить податью народ, скот и имущество» [Бичурин, 1950, т. 1, с. 58; см. также Материалы по истории сюнну …, 1968, с. 45]. Речь в данном случае идёт, конечно же, о китайском иероглифическом письме.
Теперь о рунической системе письма. Чем вызвано её возникновение у хуннов? Она была необходима для аппарата государственного управления, ведения хозяйства — одним сло- вом, для удовлетворения внутренних потребностей хуннского общества. Стало быть, возникновение рунической системы пи- сьма у хуннов связано прежде всего с нуждами государственного строительства, отчасти потребностями культа, поэтического творчества. Попутно заметим: фольклор хуннов безвозвратно утерян, если не считать краткое упоминание в «Цзянь Ханьшу», что хунны, потеряв хребты Яньчжышань и Циляньшань, отра- зили это печальное событие в стихах [Фэн Цзя-тэн, 1959, с. 5]. Вероятно, они были написаны хуннским руническим письмом. Сам факт существования у хуннов своего «национального» пи- сьма должен был лишний раз подчеркнуть самостоятельность и величие их державы.
Что хунны пользовались и некитайской системой письма, косвенно подтверждает следующее сообщение китайских послан- ников, побывавших в Фунане — древнейшем царстве в Камбодже. Китайское посольство посетило Камбоджу между 245 г. и 250 г.; когда оно вернулось в Китай, один из его участников, Кань Тай, рассказывая о царстве Фунан, заметил: «Они имеют книги и хранят их в архивах, Их письменность напоминает пись- менность хуннов (курсив мой. — Л.Ф.)» [цит. по: Гумилёв, 1960, с. 97—98].
Хуннское руническое письмо вряд ли было самобытным продуктом собственного творчества хуннов. Скорее всего, оно являлось заимствованием от другого народа. А. М. Кондратов убеждён в том, что «прототипом рун для тюрков (и хуннов — добавим от себя. — Л.Ф.) не могли служить письмена согдийцев, авестийское или пехлевийское письмо. Возможно, — рассуждает он, — руническая письменность Азии обязана своим происхож- дением арамейскому письму, которое, как и финикийское, первоначально было слоговым (вот почему и в рунических письменах тюрков есть слоговые знаки)» [Кондратов, 1975, с. 168]. (Арамеи в первом тысячелетии до н.э. жили в Сирии и Двуречье, или Месопотамии). Они заимствовали своё письмо от соседей-финикийцев. Им пользовались в персидской державе Ахеменидов (? — III в. до н.э.), Парфии (III в. до н.э. — III в. н.э.), персидском государстве Сасанидов (III — VI вв. н.э.). Древнейшие надписи арамейского письма датируются IX — VI вв. до н.э. [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 42; Кондратов, 1975, с. 198—199]). И очень возможно, что буквы хуннского рунического письма отчасти развились из китайских иероглифов и когда-то носили смешанный характер.
Тем не менее хуннское руническое письмо не могло не испытать влияние согдийского письма, ибо хунны со II в. до н.э. (и раньше этого времени) были в контакте с согдийцами-юечжами. Поскольку согдийцы были народом торговым (хунны торговали с ними), а народу, занимающемуся ремёслами и торговлей письмо было жизненно необходимо. (Древнейшие памятники согдийского письма датируются II—IV вв. [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 477]). Не исключена возможность, что хуннские торговцы были не только знакомы с согдийским письмом, но в какой-то степени владели им и, быть может, вносили какие-то изменения в систему своего рунического письма — скажем, из желания совершенствовать её. Потеря хуннами своей независимости и самостоятельности (речь об этом впереди) привела хуннское руническое письмо к упадку — причины гибели письма, как известно, прежде всего политические, социальные, общественные.
На исконных землях хуннов (в степных просторах Ордоса, Западной Монголии, Южной Сибири) хуннских рунических надписей не обнаружено. Они, видно, просто не сохранились, поскольку бóлшая часть рунических текстов делалась на дереве (вспомним хотя бы письма хуннского шаньюя на деревянных дощечках китайскому императору) и истлела [Малов, 1951, с. 13; Гумилёв, 1967, с. 342]. Что их не было вообще, трудно поверить; особенно если учесть, что у хуннов «был развит культ предков, старейшин и прославившихся своими подвигами» [Руденко, 1962, с. 87]. Имея письмо, могущественные в своё время хунны не могли не оставить какие-то письменные памятники, в том числе посвящённые своим выдающимся предкам, богатырям, каменные стелы с руническими надписями, тем более что «техникой шлифовки и резьбы по камню они (хунны.– Л.Ф.) владели в совершенстве» [Там же. С. 62]. То, что они не сохранились, нельзя объяснять только фактором времени. Их, по-видимому, сознательно уничтожали враги и победители хуннов. Такое случалось и при смене религии. Чтобы не быть голословным, приведём пример из истории уйгуров.
Известно, что в последней четверти VII в. уйгуры были завоёваны голубыми тюрками. В 745 г. они освободились из-под их власти и в 747 г. основали собственный каганат [Гумилёв, 1991, с. 171]. В 766—767 гг. уйгуры приняли манихейство как го- сударственную религию [Там же. С. 180]. (Манихейство как новая религия возникло в III в. н.э.). Манихеи прежде всего расправились с каменными изваяниями тюркских богатырей. По словам Л. Н. Гумилёва, Ю. Н. Рерих рассказывал ему, что «в Монголии они все разбиты и обезображены» [Там же]. Уничтожались, вне всякого сомнения, и тюркские каменные стелы с руническими надписями. Видно, так же поступили с хуннскими письменными памятниками победители хуннов, быть может, религия в данном конкретном случае и ни при чём.
Между прочим, варварское отношение к письменным памятникам древности наблюдается и в наше время. «Бывая в Монголии, я видел, — пишет О. О. Сулейменов, — как бесценный памятник Кюль-Тегину (стоящий в голой степи, расписанный руническими знаками. — Л.Ф.) … по сути дела, превращён в мишень на стрельбище» [цит. по: Тюркология: вчера, сегодня, завтра, 1989, с. 87]. При этом «стрелки», вне всякого сомнения, руководствовались не чувством мести, ненависти, а чисто спортивным интересом и по этой причине ни во что не ставили каменный обелиск, исписанный непонятными им знаками. Но ведь от этого памятнику не становится легче — он уничтожается.
Одним словом, хунны пользовались двумя различными сис- темами письма: иероглифической и рунической. Утверждение, что у них не было письма [Бичурин, 1950, т. 1, с. 40], скорее всего, не соответствует действительности.
Письмо, как и язык, — элемент культуры. Знаменитый в своё время хуннский народ не мог не создать свою оригинальную культуру. Сравнивая её с культурой древних тюрок, Л. Н. Гумилёв пишет: «Искусство тюркютов — надгробные статуи, хотя и эффектны, но и по выдумке, и по исполнению несравнимы с хуннскими предметами „звериного стиля“» [Гумилёв, 1991, с. 147]. О культуре хуннов см.: [Руденко, 1962; Гумилёв, 1991, с. 82—84; 1994, с. 4, 16—17]. (Рис. 6).
1.22. Численность хуннов
Какая была численность хуннов в период их господства в Восточной Азии? «По моим подсчётам, — пишет ханьский учёный Цзя И (200—168 гг. до н.э.), — у сюнну приблизительно 60 тыс. всадников, натягивающих лук. Поскольку один латник приходится на пять человек, — рассуждает он, — численность народа составляет 300 тыс., что меньше населения одного большого ханьского уезда…» [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1973, вып. 2, с. 5, предисловие]. Цифры эти противоречат показаниям других источников и, вероятно, неточны. Так, говоря о событиях последних лет III в. до н.э., Сыма Цянь сообщает, что у Маодуня набралось свыше трёхсот тысяч лучников [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1973, вып. 2, с. 5, предисловие]. Напомним, что в 200 г. до н. э. Маодунь окружил авангард китайского войска во главе с императором, имея 400 тыс. всадников [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1973, вып. 2, с. 5, предисловие]. По другим данным, у него тогда было 300 тыс. воинов [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1973, вып. 2, с. 5, предисловие]. Если исходить из того, что на каждые пять жителей приходится один воин, то численность населения Хуннской державы должна равняться (400 000 воинов х 5) 2 млн. чел. или (300 000 воинов х 5) — 1,5 млн. чел. Попутно заметим, что приведённое Цзя И соотношение воинов и населения (1:5) подтверждается и на примере кочевых и полукочевых племён Западного края, о чём свидетельствует исследование японского учёного Э. Намио [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1973, вып. 2, с. 6, предисловие].
Л. Н. Гумилёв и В. С. Таскин также полагают, что всего хуннов было полтора миллиона чел. [Гумилёв, 1960, с. 79; Материалы по истории сюнну …, 1973, вып. 2, с. 6, предисловие]. Правда, по мнению Л. Н. Гумилёва, эта цифра завышена [Гумилёв, 1960, с. 79].
В китайских письменных источниках подчёркивается, что численность хуннов не может сравниться с численностью населения одной крупной ханьской области. Так, например, Хуан Куань пишет: «Ныне численность сюнну меньше численности населения большой ханьской области» [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1973, вып. 2, с. 6, предисловие]. Для сравнения: тогда численность такой ханьской области, как Инчуань, согласно Бань Гу, составляла 2 210 973 чел., а области Жунань — 2 596 148 чел. [цит. по: Материалы по истории сюнну …, 1973, вып. 2, с. 6, предисловие].
По всей вероятности, численность хуннов в период их господства в Восточной Азии составляла около 1,5 млн. чел., тогда как население ханьского Китая насчитывало 59 594 978 чел. [Захаров, 1852, с. 270—274].
1.23. Распад Хуннской державы
Известно, что для могущества и слабости — всему своё время. В середине I в. до н.э. в державе хуннов разразилась ожесточенная междоусобная война. В 57 г. до н.э. у них вместо одного стало пять шаньюев [Бань Гу, 1973, с. 33]. В этой борьбе успех сопутствовал Хуханье. Он разбил войска нескольких шаньюев. Чтобы восстановить спокойствие в стране, в 54 г. до н.э. левый ичжицзы-ван предложил Хуханье план, убеждая его признать себя вассалом Хань (Китая). Хуханье стал обсуждать этот план с сановниками. Они единодушно сказали: «Нельзя [этого делать]. По своим обычаям сюнну выше всего ставят гордость и силу, а ниже всего исполнение повинностей; они создают государство, сражаясь на коне, и поэтому пользуются влиянием и славятся среди всех народов. Смерть в бою — удел сильного воина. Ныне между братьями происходит борьба за власть в государстве, и если она не достанется старшему брату, то перейдет к младшему. Пусть один из них будет даже убит, влияние и слава сохранятся, и наши сыновья и внуки будут вечно главенствовать над всеми владениями. Хотя Хань (Китай. — Л.Ф.) сильна, она не в состоянии поглотить сюнну, и разве можно в нарушение древних установлений служить [династии] Хань в качестве вассала, позорить имена умерших шаньюев и подвергать себя осмеянию со стороны всех владений! Хотя и воцарится спокойствие, как мы будем главенствовать в будущем над всеми народами?» [Там же. С. 34; см. также Бичурин, 1950, т. 1, с. 88]. После долгих споров Хуханье принял предложение левого ичжицзы-вана и стал вассалом Хань [Там же. С. 35; см. также Бичурин, 1950, т. 1, с. 88–89]. Однако борьба за власть в стране хуннов продолжалась.
Брат Хуханье, Чжичжи, объявил себя шаньюем на востоке. В 49 г. до н.э. он повёл свои войска на запад, полагая, что брат не сможет оказать ему должного сопротивления. В пути Чжичжи вступил в сражение с другими хуннами и убил Илиму, объявившего себя шаньюем, присоединил к себе его войско численностью свыше 50 тыс. человек [Там же. С. 36]. Вскоре он понял, что не в силах выдержать борьбу с Хуханье, поддерживаемого китайцами, и ушёл со своими людьми дальше на запад, ближе к усуням, которые тогда жили на территории современной Джунгарии. Желая объединиться с усунями, Чжичжи отправил к ним посла [Там же]. Узнав, что посол убит, он напал на усуней и нанёс им поражение. Затем Чжичжи победил Уцзе, динлинов, разбил цзяньгуней и при- соединил к себе три владения, после чего неоднократно нападал на усуней и всегда одерживал над ними победу [Там же. С. 37]. Спустя некоторое время к нему пришло посольство от правителя Канцзюя (Кангюя). Он хотел с помощью Чжичжи захватить земли усуней [Там же. С. 38]. Чжичжи заключил с ним союз и направился со своими людьми в Канцзюй (нынешние киргизские степи). В дороге многие из них погибли от холода. Если верить китайским историкам, до Канцзюя дошли только 3 тыс. человек [Там же. С. 39].
Вскоре Чжичжи отправил послов в Хэсу, Давань и другие владения, требуя ежегодных подарков. Ни одно из владений не осмелилось отказать ему. Слава о могуществе Чжичжи рас- пространилась широко. Это насторожило Хань. Боясь, что Чжи- чжи, быстрый и отважный человек, склонный к военным похо- дам, станет источником бедствий для Западного края, китайцы в 36 г. до н.э. с 40-тысячным войском явились в Канцзюй, окружили город, в котором жил Чжичжи (на верхнем течении Таласа — современная Республика Кыргызстан). В переулке Чжичжи был ранен и вскоре умер. Когда китайцы ворвались в город, а затем и во дворец, нашли тело Чжичжи, отрубили голову, захватили её с собой и вернулись в Китай [Там же. С. 129, 131].
После смерти Чжичжи Хуханье водворил спокойствие в Хуннской державе. Но хунны уже были не так сильны, как прежде.
Постоянные войны, внутренние противоречия, засуха и голод, которые уносили множество людей, падёж скота до того ослабили хуннов, что в 25 г. до н.э. они разделились на южных и северных.
1.24. Южные хунны
Южные хунны подчинились Китаю, часть которых посе- лилась даже на его территории. В III в н.э. их в Китае насчитывалось около 150 тысяч (30 тысяч семей) [Гумилёв, 1991, с. 80]. Этническая история южных хуннов блестяще изложена Л. Н. Гумилёвым в монографии «Хунны в Китае. Три века войны Китая со степными народами. III—VI вв.» (М., 1974; СПб., 1994). Отсылая читателя к названной книге Л. Н. Гумилёва, приведём лишь некоторые сведения из истории южных хуннов.
Южные хунны, отстаивая свою независимость и свободу, постоянно воевали то с китайцами, то с сяньбийцами, то с табгачами, то с тибетцами.. В 330 г. они основали династию Младшая Чжао [Гумилёв, 1994, с. 76], в 350 г. её. уничтожили китайцы. Но южные хунны не сдавались и в начале V в. создали два царства: в 401 г. — Хэси (в переводе «к западу от реки» — Хуанхэ) (о Хэси см.: [Гумилёв, 1991, с. 89; Гумилёв, 1994, с. 142—145, 177—184]), в 407 г. — Ся (о Ся см.: [Гумилёв, 1991, с. 89; Гумилёв, 1994, с. 145—147, 160—162, 167—173]).
Хэси на западе граничило с Шаньшанью, на северо-западе
— Гаочаном [Гумилёв, 1994, с. 143]. Оно получило у учёных-буддистов название «бриллианта северных стран» за то, что хунны из поколения в поколение покровительствовали наукам. Основатель Хэси Мэн Сунь обладал такими глубокими позна- ниями в области истории и астрономии и таким острым умом, что его современники полагали эти качества «неестественными для человека» [Там же. С. 144].
Ся располагалась на левом берегу Хуанхэ, на западе оно
граничило с Хэси, на востоке — с Тоба Вэй. Сясцы на северо-западе Ордосской степи построили крепость (ставку шаньюя) и назвали её Тунвань, что означает «объединяющий мир». Эти южные хунны твёрдо решили вернуть себе родные степи и воссоздать великую Хуннскую державу [Там же. С. 145]. Значит, хунны-сясцы хорошо знали и помнили свою историю. Более того, судя по названию их царства, они считали себя потомками тех сясцев, которые в своё время жили в царстве Ся, уничтоженном Таном [Там же. С. 145—146]. К сожалению, им не суждено было воссоздать великую Хуннскую державу: Ся в 431 г. завоевали тогонцы; в 460 г. не стало и Хэси: его завоевали жужани [Там же. С. 170–172, 200].
Впоследствии южные хунны растворились среди китайцев,
сяньбийцев, жужаней, табгачей, тангутов.
1.25. Северные хунны
Северные хунны продолжали отстаивать свою незави- симость и свободу в борьбе главным образом с южными хуннами, китайцами, сяньбийцами, речь о них впереди. Она велась в основаном на территории современной Монголии.
В конце I в. н.э. северные хунны терпели одно поражение за другим. Так, в 87 г. их войска разбили сяньбийцы, после чего 200 тыс. человек и 8 тыс. отборных воинов перешли к китайцам [Фань Е., 1973, с. 81]. В 88 г. у них возник спор за власть, начался голод из-за нашествия саранчи [Там же]. В том же году северный шаньюй, опасаясь динлинов и сяньбийцев, «бежал далеко и остановился к западу от реки Аньхоухэ …, народ из-за борьбы за престол между братьями рассеялся в разные стороны» [Там же. С. 82]. В 89 г. северным хуннам сильное поражение нанесли китайцы. Тогда их шаньюй, потеряв 200 тыс. человек убитыми и взятыми в плен, «бежал в земли усуней», и «район к северу от пустыни (Гоби. — Л.Ф.) обезлюдел» [Там же. С. 83; 98]. В 90 г. северные хунны потерпели поражение от южных хуннов, численность которых составила тогда 34 тыс. семейств, 237 300 душ и 50 170 отборных воинов [Там же. С. 84]. В 91 г. они были разбиты китайцами, и шаньюй «бежал неизвестно куда» [Там же]. «В главе „Повествование о Сяньби“, — пишет В. С. Таскин, — сообщается, что после бегства северного шаньюя его земли были заняты сяньбийцами, а сюнну, у которых оставалось ещё свыше 100 тыс. юрт, стали называть себя сяньбийцами» [цит. по: Материалы по истории сюнну…, 1973, вып. 2, с. 153, прим. 26; см. также Бичурин, 1950, т. 1, с. 150–151]. А это (если на 34 тыс. юрт-семейств приходится 237 300 душ) составляет 700 тыс. чел. Нет сомнения в том, что эти северные хунны в своём кругу сами себя, как и прежде, называли сывар/сыпар.
* * *
Так распалась некогда могущественная Хуннская держава. Тогда непокорные северные хунны стали уходить на запад. По какой дороге? В. А. Обручев пишет: «В естественной ограде внутренней Азии имеется широкая брешь, целые ворота на запад в сторону Европы. Именно в том месте, где высокие цепи Алтая сменяются еще более высокими хребтами Тянь-Шаня, между ними и другими остаётся область сравнительно невысоких гор, разделённых тремя широкими проходами, подобными длинным рукавам, посредством которых равнины внутренней Азии удобно сообщаются с равнинами Азии внешней, западной. Северный из этих проходов идет вдоль Артвила между монгольским Алатау и Сауром; средний, самый узкий, разделяет Уркашар от Джаира и Барлыка; южный пролегает между Майли, Барлыком и Джунгарским Алатау» [Обручев, 1951, с. 386]. Сквозь эти про-ходы одни из северных хуннов ушли в Западную Сибирь, другие — в восточную часть Тянь-Шаня, т.е. в Среднюю Азию.
Быть может, ещё тогда, во второй половине I в. н.э., отдель- ные отряды северных хуннов, не задерживаясь в Средней Азии, ушли в степи Южного Приуралья, оттуда — дальше на запад, в Европу. Это предположение находит определённое подтвержде- ние в археологическом материале.
Летом 1967 г. во время работ Донзулавской экспедиции на могильнике при античном городище Беляус (в 24 км к юго-востоку от Черноморска) было обнаружено погребение, не имеющее отношение к населению, которому принадлежали городище и могильник [Дашевская, 1969, с. 52]. Основные погребальные сооружения могильника представляют собой склепы, в одном из них нашли скелет мальчика 13—15 лет [Там же]. Обследовав погребение, О. Д. Дашевская предположила, что «здесь перед нами — могила гуннского подростка» [Там же. С. 61]. Склепы датируются I в. н.э. [Там же. С. 52]. Согласно О. Д. Дашевской, «для Северо-Западного Крыма публикуемый памятник имеет значение как первое археологическое свидетельство о завоевателях, принёсших гибель античной культуре» [Там же. С. 61].
Теперь отправимся по следам тех хуннов, которые ушли в Западную Сибирь, а затем вернёмся к тем, которые направились в Среднюю Азию.
2. Хунны в Западной Сибири
В сторону Западной Сибири северные хунны уходили не только в конце I в. н.э., но и после этого времени — в связи с другими судьбоносными событиями в их жизни. А именно: после того как ушедшие в Среднюю Азию северные хунны в 50-60-х гг. II в. были разбиты сяньбийцами (см. ч. 1 §7.1), после того как сяньбийцы в первой половине IV в. разделились на южных и северных (см. ч. 1 глава 8), после того как авары в середине V в. вытеснили северных хуннов в лице савир из Семиречья (см. ч. 1 § «9.3). В таком случае, в первых веках н.э. хуннов в Западной Сибири было достаточно много.
2.1. Хунны на Иртыше и Тоболе
Жзизнь западносибирских хуннов протекала в окружении культурно отсталых племён. Письменных сведений о них почти не сохранилось. И о них мало что известно. Хунны в Западной Сибири, как и следовало ожидать, называли сами себя не хуннами, а сыварами/сыпарами. Под этим именем они и стали известны местным племенам, которым название хунны, по всей вероятности, не было известно вообще. Это лишний раз доказывает то, что хунны, где бы ни жили, сами себя называли подлинным своим именем.
В первой половине XIII в. с западносибирскими хуннами столкнулись монголы, которые в числе других «лесных народов» завоевали и их. В монгольской речи имя сывар/сыпар изменило свой фонетический облик и стало произноситься как шибир. Так называлась и местность (в смысле страна), где жили сывары/сыпары, т.е. западносибирские хунны.
Самоназвание хуннов сохранилось в устном народном творчестве местных жителей Западной Сибири, а также в топонимике, названиях родов, фратрий. С. К. Патканов, в частности, выявил предания тобольских татар о народе сывыр или сыбыр [Патканов, 1892]. Так называли тобольских хуннов завоевавшие их в самом конце ХV в. татары. Как видим, в их речи самоназвание хуннов претерпело ряд фонетических изменений. Во-первых, глухой звук [п] в сыпар озвончился: произошла ассимиляция по глухости/звонкости. Во-вторых, по закону сингармонизма (когда гласный звук первого слога повторяется и в остальных слогах, например: чувашское качака — «коза», турецкое ышылты — «блеск, сияние» и т.д.) гласный звук нижнего подъёма [а] в сывар/сыбар перешёл в гласный звук верхнего подъёма [ы] — сывыр/сыбыр, в результате чего произошло единообразное вокалическое оформление самоназвания хуннов. То, что сывыр/сыбыр — фонетический вариант подлинного имени хуннов, не подлежит сомнению.
Народ сывыр/сыбыр жил по нижнему течению Тобола и среднему течению Иртыша до появления здесь татар. Главная ставка их находилась в поселении, известном впоследствии под названием Сибир. Оно стояло на берегу Иртыша — в 16 км выше устья Тобола, там, где протекала речка Сибирка.
На берегу же Иртыша (при впадении Тобола в Иртыш) стояло другое поселение тобольских хуннов — Бицик-Тура, в 3 км вниз по течению Иртыша от которого в 1587 г. был заложен будущий город Тобольск. Бицик в названии Бицик-Тура, если исходить из предположения о генетическом родстве хуннского и чувашского языков, означает «маленький» (чувашское пěчěк — «маленький (-ая, -ое, -ие)»). Если это так (а это так), Бицик-Тура означает «Маленькая Тура», т.е. маленький город, что как нельзя лучше согласуется со статусом Бицик-Туры, ибо недалеко от неё находился большой город Сибир — так сказать, столица тоболь- ских хуннов.
***
Чтобы прокормить себя, западносибирские хунны зани- мались рыболовством, охотой, земледелием. Занимались они и коневодством. Об этом «свидетельствуют находки в курганах принадлежностей конской сбруи и многочисленные скульп- турные изображения лошадей» [Мошинская, 1953б, с. 210]. Большой интерес представляет глиняная моделька седла. «В отличие от известных по археологии кочевников Алтая плоских сёдел, это седло имеет высокую переднюю и заднюю луку. Подобного типа сёдла с высокими луками известны как будто только в материалах Китая эпохи „Шести династий“…» [Там же. С. 211].
Лошади у западносибирских хуннов, по-видимому, были такие же, как и у их предков — восточноазиатских хуннов, — низкорослые. Предположение это основано на сообщении И. Шильтбергера — участника одного из походов Едигея в Сибирь, около 1410 г. Отмечая, что владетель Сибири подарил Едигею трёх диких лошадей, словленных на какой-то горе, И. Шильтбергер пишет: «…лошади же, живущие на горе, величиною с осла» [цит. по: Алексеев, 1941, с. 52–53], т.е. низкорослые. Попутно заметим, что у тюркютов (древних тюрок) лошади, в отличие от хуннских и монгольских, были высокие, а сёдла имели низкую переднюю луку [Гумилёв, 1967, с. 68].
2.2. Хунны в Нижнем Приобье
Хунны из района нижнего течения Тобола и среднего течения Иртыша продвигались (сначала вдоль Иртыша, затем вдоль Оби) всё дальше на север и со временем дошли до Нижнего Приобья. Кстати сказать, область по нижнему течению Иртыша, согласно Д. Немету, называлась Зараr (Savar, Sabir) [Németh, 1928, s. 81–88].
2.2.1. Устьполуйская археологическая культура
В Приобье между хуннами и местными племенами уста- новились, должно быть, дружественные отношения; и они, надо полагать, поддерживали связь со своими соплеменниками, осев- шими в районе нижнего течения Тобола и среднего течения Иртыша.
В таёжной Северо-Западной Сибири с появлением какого-то «нового этнического элемента, принёсшего с собой иные, совершенно не свойственные лесной полосе навыки», возникла и начала развиваться новая археологическая культура — устьпо- луйская [Чернецов, 1953б, с. 238]. По утверждению В. Н. Чер- нецова, территория её «хорошо прослежена от Ангальского мыса, т.е. от того места, где Обь пересекает Полярный Круг, и вверх по Оби до устья Иртыша. К западу от Оби в область устьполуйской культуры целиком входит бассейн Сев. Сосьвы, до её истоков у снежных вершин Сев. Урала» [Там же. С. 221]
С приходом этого «нового этнического элемента» в Ниж- нем Приобье начинает широко распространяться железо, бронза, следов которых в предыдущих культурах пока не обнаружено» [Мошинская, 1953а, с. 106]. «Высокий уровень техники вызвал расцвет материальной культуры. Специализированное военное оружие чуждых Северу форм (клевцы, трёхпёрые бронзовые стрелы, мечи и кинжалы сарматского типа) свидетельствует о внесении новых навыков и, вероятно, более высоких форм общественного строя» [Там же]. В. Н. Чернецов утверждает, что «бронзолитейное дело находилось у устьполуйцев на весьма высоком уровне развития» [Чернецов, 1953б, с. 230]. Он обратил внимание на связи «между культурами Обь-Иртышья, с одной стороны, и Южной Сибирью раннеташтыкского времени и Китаем — с другой» [Там же. С. 241].
О связи между культурами Обь-Иртышья и Южной Си- бирью и Китаем позволяют говорить «усть-полуйские тамги, представляющие как будто подражание иероглифам и печатям, сходство с которыми усиливается тем, что некоторые тамги окаймлены картушами», «широкое распространение вытянутого Z-образного меандра, применявшегося в виде самостоятельного орнамента, или бордюра на костяных и бронзовых изделиях» [Там же]. Тамги имеются на различных предметах женского и мужского обихода, обнаруженных в Усть-Полуйском городище (оно находится на правом берегу реки Полуй — правый приток Оби, в 3 км ниже от города Салехарда) [Мошинская, 1953а, с. 103].
«Столь же близок встречающийся на устьполуйской кера- мике шашечный узор, известный как в китайской орнаментации эпохи Хань, так и в деревянной резьбе таштыкской культуры» [Чернецов, 1953б, с. 241]. «Эти параллели, — пишет В. Н. Чер- нецов, — могут быть значительно расширены, однако причины, обусловившие появление этих общностей, продолжают оставать- ся неясными, и выяснение их явится одной из задач дальнейшего изучения савырско-угорских древностей» [Там же].
Возникновение устьполуйской археологической культуры В. Н. Чернецов связывает с угорскими племенами. Он рассуждает так: поскольку «около I тысячелетия до н.э. степные и лесо- степные территории, лежавшие к югу от тогдашней границы западносибирской тайги, были населены древнеугорскими пле- менами» и поскольку «в дальнейшем на всей лесной территории Нижнего Приобья мы застаём уже полностью угорское на-селение, то естественнее всего допустить, что перелом, обус- ловивший возникновение устьполуйской и родственных ей лес- ных культур, связан с приходом на Север именно угорских групп» [Там же. С. 238]. Всё это, безусловно, логично. Но не менее логично связывать возникновение устьполуйской археологической культуры с приходом в Нижнее Приобье хуннов. Они, как известно, издавна владели искусством бронзового литья, занимались выплавкой чугуна, а из железа выковывали ножи, удила, наконечники стрел и другие предметы первой необходимости [Руденко, 1962, с. 52, 60]. Они же, надо полагать, принесли в Нижнее Приобье усвоенные им когда-то элементы китайской культуры. Кстати сказать, В. Н. Чернецов допускает, что вместе с угорскими племенами в формировании устьполуйской и родственных ей лесных культур участвовали и савыры, т.е. хунны; правда, он их сближает с угроязычными народностями [Чернецов, 1953б, с. 239–240].
Но устьполуйская археологическая культура, по В. Н. Чер- нецову, должна быть отнесена к IV в. до н.э. — II в. н.э. [Там же. С. 225–226, 228–229]. Если это так, то хунны никак не могли участвовать в её формировании, ибо они до II в. н.э. обитали в степях Восточной Азии. Между тем керамика Усть-Полуйского городища датируется ломатовско-фоминским временем, т. е. VII–VIII вв. [Грязнов, 1956, с. 133, 139–I40]. Соответственно М. П. Грязнов устьполуйскую археологическую культуру датирует VII–VIII вв. [Там же]. К этому времени хунны вполне могли обосноваться в Нижнем Приобье и быть творцами устьполуйской археологической культуры. В этой связи важно подчеркнуть, что керамика никогда не служила предметом обмена и либо производилась на месте, либо распространялась из центров ремесленного гончар- ного производства на сравнительно недалёкое расстояние [Фёдоров, 1970, с. 14].
2.2.2. Одежда хуннов и хантов
Те хунны, которые как бы растворились среди хантов, продолжали отличаться от собственно хантов. В частности они носили не совсем одну и ту же одежду с ними. Одежда, как известно, является национальной принадлежностью. Какая она была у западносибирских хуннов и хантов? Обратимся к письменным источникам.
Неизвестный путешественник (по предположению М. П. Алексеева, иноземный офицер на русской службе) оставил рукопись (она хранится в Копенгагенской публичной библиотеке) под названием «Описание путешествия в Сибирь и далее, в различные местности страны» (1666 г.) [Алексеев, 1941, с. 330]. М. П. Алексеев перевёл её (с немецкого) на русский язык и опубликовал. В разделе «О народах и племенах в Сибири, насколько я их знаю» неизвестный автор описывает и одежду остяков (хантов). Согласно ему, они «носят холщёвые одежды, сделанные из конопли, которые они закатывают до колен, в случае если они слишком свисают; их штаны и чулки составляют одно целое с их лапками (Lapkesz) или обувью, сделанной из необработанной кожи; они пришиты к чулкам, так что остяки надевают вместе штаны, чулки и обувь (курсив мой. — Л.Ф.)» [цит. по: Алексеев, 1941, с. 361]. М. П. Алексеев склонен думать, что одежда остяков (хантов) описана неизвестным автором «не вполне точно». Отсылая читателя к работам Ф. Белявского [Белявский, 1833, с. 254] и Г. Старцева [Старцев, 1930, с. 29–30], М. П. Алексеев пишет: «…остяки носили так наз [ываемые] чижи, чулки из оленьих мягких кож, длиною до колена, которые надевались шерстью к телу; сверх чижей, однако, надевались сапоги из оленьей кожи выше колена (пимы) (курсив мой. — Л.Ф.)» [Алексеев, 1941, с. 372].
Дело здесь, по всей вероятности, не в точности-неточности в описании одежды хантов, а в том, что одежду, описанную неизвестным автором, носили ханты-хунны, одежду же, описанную Ф. Белявским, Г. Старцевым, М. П. Алексеевым, — собственно ханты. Это свидетельствует о том, что в составе хантов были и не хантыйские по происхождению племена. А. Доббин (иноземный капитан на русской службе, провёл в Сибири 17 лет) [Там же. С. 390]) в 70-х гг. ХVII в. писал: остяки (ханты) «разделяются на три различных племени, из которых одно почти не в состоянии понять другое» [цит. по: Алексеев, 1941, с. 393]. Выходит, эти племена не только носили не вполне одинаковую одежду, но и говорили на разных языках (не на диалектах одного и того же — хантыйского — языка). Весьма правдоподобно, что шурышкарский диалект современного хантыйского языка, который стоит особняком среди других диалектов этого языка, по природе своей был хуннским языком, который в ходе исторического развития превратился в диалект хантыйского языка. Не случайно составлен особый букварь для хантыйских детей, живущих в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области Российской Федерации (составитель педагог В. Е. Ануфриев). Создаётся впечатление, что шурышкарский диалект хантыйского языка имеет ряд общих черт с диалектами чувашского языка. Специальное лингвистическое исследование доказало бы, так ли это на самом деле.
* * *
И предки западносибирских хуннов — восточноазиатские хунны — надевали вместе штаны и обувь. Вот как описывает эти части их одежды С. И. Руденко: «Широкие штаны (шаровары. — Л.Ф), суживающиеся книзу, собраны в сборы, обувь мягкая, с короткими голенищами незначительно выше щиколоток… Koнцы штанин… обшиты полоской светло-коричневой ткани того же типа и качества, как и ткань шаровар» [Руденко, 1962, с. 39] — рис. 7 [Руденко, 1962, таблицы Х и ХI; описание таблиц — с. 199]. К ним (к концам штанин) пришивалась «войлочная обувь с очень коротким голенищем», и она составляла одно целое с шароварами [Там же. С. 40] (рис. 8). «Поверх пришитых к штанинам полусапожек, — пишет С. И. Руденко, — надевались другие, также войлочные, полусапожки такого же покроя, но покрытые кожей, богато вышитые разноцветными шёлковыми нитками — тамбурным швом» [Там же] (Рис. 9).


Описанные части, детали одежды восточноазиатских хун- нов были обнаружены в Ноинулинском кургане №6 (III–I вв. до н.э.). («Горы Ноин-Ула… расположены в Северной Монголии примерно в 100 км к северу от Улан-Батора и в 10–15 км к востоку от дороги Улан-Батор — Кяхта» [Руденко, 1962, с. 7]).
У ненцев (самоедов) — соседей приобских хантов и хуннов — штаны и обувь не составляли одно целое. Отмечая, что они шьют свои рубашки из шкур молодых оленей, немецкий учёный и писатель Адам Олеарий (1603–1671) пишет, что у них (самоедов, ненцев) под рубашками «шаровары и над ними длинные кафтаны», «сапоги также из подобных меховых шкурок, внутри выложены мехом и доходят до колен», «и во всех их одеждах мех выворочен наружу (курсив мой. — Л.Ф.)» [цит. по: Алексеев, 1941, с. 295–296].
Одежда женщин хантов-хуннов также отличалась от одеж- ды их соседок. Тот же неизвестный путешественник ХVII в., о котором говорилось несколько выше, передаёт: «Их (хантов-хуннов. — Л.Ф.) женщины также носят холщёвые платья и повязку вокруг головы, на которой висит много медных украшений и колец, а также плоско выбитые куски олова или выплавленные из олова фигурки, которые они покупают и которые составляют их лучшее украшение; вокруг шеи носят они также несколько рядов подобных же украшений. Сходную же (заметьте: не одну и ту же с женщинами хантов-хуннов. — Л.Ф.) одежду носят женщины… вогулов (манси. — Л.Ф.); если у них есть чем, то красят они в красный цвет свои ногти (курсив мой. — Л.Ф.)» [цит. по: Алексеев, 1941, с. 361]. Украшения женщин хантов-хуннов ХVII в. напоминают сурпан (головное полотенце, покрывало в форме полотенца) или хушпу (головной убор замужней женщины) (скорее всего, и то и другое) и мǎй çыххи (девичьи нашейные украшения) чувашских женщин. «В прошлом (до начала ХХ в. — Л.Ф.) сурпан был основной и постоянной частью головного убора замужней чувашки и носился обязательно вместе с хушпу» [Денисов, 1969, с. 47].
Здесь и сейчас хотелось бы обратить особое внимание на тот факт, что женщины хантов-хуннов носили холщёвые платья. Значит, они умели ткать; следовательно, у них были ручные ткацкие станки. Ткали, вероятно, из дикой конопли, стебли которой состоят из прочных волокон и получали холст (полотно), из которого изготавливали нательное бельё: рубашки, платья, штаны и т. д. Традиции домашнего ткачества женщины хантов-хуннов, надо полагать, унаследовали от своих далёких предков — восточноазиатских хуннов, а они заимствовали его из Китая, где коноплю выращивали много тысяч лет назад. Известно, что она пришла в Европу из Азии. Быть может, неслучайно её название связывают с санскритским кана или сана, а Е. Леви кетское kitn- «конопля» сравнивает с чувашским kəńə [Lеwy, 1933, s. 291—309]. (Конопля по-чувашски кантăр). В. И. Абаев для осетинского языка восстанавливает форму *kæn (в живом языке gæn означает «конопля») [Абаев, 1983. №4, с. 78]. Фонетическая близость кетского kitn- «конопля» и осетинского *kæn/gæn — «конопля» очевидна, что свидетельствует о былых контактах носителей кетского и осетинского языков — на территории Северного Кавказа.
Холщёвую одежду носили и другие потомки восточноазиатских хуннов — европейские гунны. Византийский автор, современник вторжения гуннов в Европу Аммиан Марцеллин (род. около 330 г.), описывая их быт, нравы, образ жизни, отмечает, что «… тело они прикрывают льняной одеждой…» [Марцеллин, 1908, кн. 3, с. 237]. (В другом переводе: «Они одеваются в холщёвые одежды…» [Известия древних писателей …, т. 2, вып. 2, с. 338]). Значит, их женщины тоже умели ткать. Впрочем, А. Марцеллин пишет: их жёны «ткут им (мужьям.– Л.Ф.) их жалкие (с точки зрения византийцев.– Л.Ф.) одежды» [Там же. С. 239]. Выходит, и у них были ручные ткацкие станки.
Попутно заметим: каждая чувашская женщина в доме с малых лет умела ткать конопляное, льняное полотно и шить из него одежду, делать пояса, ленты, полотенца, занавеси и многое другое.
***
Ханты-хунны отличались от собственно хантов, других своих соседей и по причёске. Вот что пишет упомянутый выше неизвестный путешественник ХVII в. о причёске хантов мужчин: «…свои волосы, зачёсанные на лоб и затылок, они (ханты-хунны. — Л.Ф.) подстригают на два пальца над ушами, стригут также и свои бороды» [цит. по: Алексеев, 1941, с. 361]. А усы? Носили они их или нет, неизвестно. На китайских изображениях хунны мужчины запечатлены тоже без бороды или с редкой бородой, но с усами (см., например, рисунки 4, 13). Письменные же источники не содержат никаких сведений о причёске хуннов мужчин. Какая она была у них, неизвестно [Руденко, 1962, с. 44]. Известно только то, что они кос не носили [Там же. С. 89].
Косы носили сяньбийские, табгачские/тавгачские, тунгус- ские мужчины и мужчины некоторых других племён и народов Восточной Азии и Сибири [Бичурин, 1950, т. 1, с. 167; Гумилёв, 1991, с. 90]. Тюркютов (древних тюрок) М. Каганкатваци (Х в.) изображает «в образе женщин с распущенными волосами» [История агван…, 1861, с. 105; см. также Бичурин, 1950, т. 1, с. 229]. Авары тоже «носили длинные волосы, откинутые назад, связанные бечёвками и заплетённые в косу…» [Летопись ви- зантийца…, 1884–1887, с. 178]. Агафий (VI в.) сообщает: «Волосы… у турок (тюркютов. — Л.Ф.) и аваров не причёсаны, запущены» [Агафий, 1953, с. 14]. Дунайские булгары/болгары и хайландуры отличались бритыми головами, они «оставляли на голове пучок длинных волос, который иногда заплетали в косу» [Артамонов, 1962, с. 155—156]. Угры — предки хантов, манси, венгров — подстригали волосы спереди, а сзади заплетали в несколько кос [Там же. С. 156]. Кетские мужчины, парни и девушки заплетали волосы в одну косу [Алексеенко, 1967, с. 149]. И только ханты-хунны остригали волосы в кружок.
Стригли волосы и оставляли их только на макушке «вместо головного убора» и мужчины восточноазиатских хи/си (или кумохи/кумоси) [Бичурин, 1950, т. 1, с. 208]. Хи произошли из этнического смешения хуннов и дунху, однако предок их — Юй-вынь Мохуай — принадлежал к одному из родов южных хуннов [Туголуков, 1980, с. 158]. И в этом случае причёска в кружок связана с хуннами. Видимо, она и была хуннской.
Высказанное предположение находит подтверждение у греческого автора V в н. э. Приска Панийского, который в 448 г. в составе посольства восточных римлян побывал в ставке короля европейских гуннов Аттилы (речь о нём впереди). Там он встретился с «очень хорошо» одетым пленным греком, беседовал с ним, голова его «острижена была в кружок (курсив мой. — Л.Ф.)» [Сказания Приска Панийского, 1861, с. 52—53]. Надо полагать, на гуннский манер. Этот грек жил среди гуннов, «женился на варварке и прижил детей» [Там же. С. 54]. По сути дела, он превратился в гунна.
Что интересно стрижка в кружок была самой распространённой среди мужского населения Древней Руси; ныне она сохранилась только среди крестьян и старообрядцев. Её называют причёской под горшок, по-украински пiд макiтру (макiтра — «глиняный горшок»): по национальной украинской традици, на голову одевали горшок и всё, что высовывалось из-под него, срезали. Причёска под горшок, пiд макiтру восточными славянами была перенята, очевидно, у европейских гуннов, которые долгое время господствовали на территории, на которой впоследствии возникла Древняя (Киевская) Русь.
2.2.3. Самоназвание хуннов в речи хантов и манси
По данным С. К. Патканова, севернее низовьев Иртыша слово сывыр/сыбыр не встречается [Патканов, 1892, с. 130]. Но это не так: оно встречается и в Нижнем Приобье. Местные племена самоназвание хуннов, естественно, произносили по-своему, по возможности сохраняя его фонетический (звуковой) облик. В работе В. Н. Чернецова «Усть-полуйское время в Приобье» читаем: «В фольклоре хантов и манси, равно как и в названиях родов, фамилий и в топонимике, встречаемся с одним именем… Имя это: по мансийски сипыр [š’ipər], сёпыр, супыр, супра; по хантыйски себар [šebar], сопра, шабep. Б. Мункачи (1860–1937; Венгрия. — Л.Ф.) переводит его как „родовое имя“ [nemzetség neve]. К. Папай сообщает, что ему приходилось слышать в районе Салехарда (Обдорска) выражение „шабер му“ — земля Шаберов, а А. Регули, путешествовавший до него в тех местах, указывает на живущих там „шабер маам“ — народ Шабер. Можем добавить к этому наименование родов — „сопра“ — Собрины близ Салехарда, Сёпыр — близ Берёзова… Там же на Иртыше был городок, называвшийся хант. Тяпыр уш, манс. Сёпыр-ус. Имя Супра, Сопра, Сёпра очень часто встречается как название селений, речек и урочищ по всему нижнему Обь-Иртышью. Сипыр (сепыр, шапыр, шабыр) выступает как имя прародительницы фратрии мощ, моньть — одной из двух угорских фратрий. Слово „сипыр“ выступает и как синоним имени манси-вогул. Так, в хантыйском имеем: себар хул или манси хул, т.е. „себарская рыба или мансийская рыба“ (елец). В ряде песен территория, обитаемая манси и хантами, именуется как Луи вот асирм Сипыр махум унлын ма… — Северного ветра холодного Cипыр народом населённая земля» [Чернецов, 1953б, с. 238–239]. В. Н. Чернецов сообщает также: «В эвенкийском фольклоре находим упоминание и описание савыр-земли, расположенной к западу от эвенкийской территории и населённой конным народом» [Там же. С. 239]. Под конным народом здесь, конечно же, подразумеваются сывары/сыпары, т.е. хунны, да и территория, занимаемая ими, называется савыр-земля — земля сыварсыпар. Очень возможно, что эвенкийское пурта — «нож» является заимствованием из их языка (ср. чувашское пуртǎ — «топор»). И оно едва ли единственное хуннское слово в эвенкийском языке.
Нет сомнения в том, что сипыр, сепыр, супыр, супра, себар, сопра, шабёр, сёпыр, шапыр, сибыр, савыр, встречающиеся в хантыйском и мансийском языках, — фонетические варианты подлинного имени хуннов: сывар/сыпар. Нельзя не заметить, что в них преобладают варианты с глухим согласным звуком [п]. Очевидно, так — с глухим [п] — произносили своё имя сами хунны. Во многих из них отсутствует гласный звук [ы]. Вероятно, он не был характерным для языков местных племён: хантов, манси и некоторых других. Во всяком случае, в кондинском (южно-мансийском) диалекте мансийского языка гласный звук [ы] «встречается лишь в отдельных словах» [Баландин, Вахрушева, 1958, с. 9].
Искажённые формы этнонимов, топонимов, других слов, если говорить обобщённо, «возникают в процессе фонетической адаптации иноязычного слова, в результате которой происходит замена непривычных звуков чужого языка похожими своими (субституция), выпадение звуков или сочетаний, трудных для произношения (гаплология), переосмысливание незнакомого слова (ложная этимология)» [Дульзон, 1959, с. 37].
3. Хунны на полуострове Ямал
Из Нижнего Приобья часть хуннов ушла на полуостров Ямал. Ямальские ненцы не смешивают их с «хаби», т.е. хантами [Лашук, 1968, с. 189]. Память о ямальских хуннах сохранилась в устном народном творчестве ненцев. В.Н.Чернецов пишет: «…в фольклоре ненцев, распространившихся, как можно полагать, в приобских тундрах около X в. н.э., находим многочисленные предания о народе „сирти“, который они застали, придя в Приобье. (Ненцы воевали с ним [Васильев, 1970, с. 152]. — Л.Ф.). Название этого народа, — продолжает В. Н. Чернецов, — сохрани- лось в топонимике в виде многочисленных „Сиирти-яга“ — река сирти, „Сиирти-мяды“ — селище сирти, „Сиирти-надо“ — яр сирти и т. д. Александр Шренк (I пол. XIX в. — Л.Ф.) указывает на встреченный им параллелизм в названиях „сирти“ или „сирти-та“ и „сибер-та“. В последнем варианте совершенно отчётливо выступает близость с именем „сипыр“… По всей вероятности, — заключает В.Н.Чернецов, — часть аборигенных арктических пле-мён, быть может, тех, территория обитания которых была наиболее близка к Усть-Полую, оказалась также в какой-то степени ассимилированной уграми-савырами, почему и стала впоследствии известна ненцам под общим именем савыров» [Чернецов, 1953б, с. 241].
Название сиирти/сииртя — ненецкое s’ihirt’a’, у Шренка, siirté — состоит из двух отдельных компонентов: s’ihir и t’a’ [Там же]. В -t’a’конечный гортанный смычный заменил собою ранее бывший здесь n, в соответствии с закономерным переходом, наблюдаемым в ненецком языке, как, например: n’enec’a’ <n’enec’an (*n’ene-t’an) самоназвание ненцев; n’an — coon’а «рот» и т. д. [Там же]. Основываясь на этих лингвистических фактах, В. Н. Чернецов заключает: «Исходная форма этого (сиирти/сииртя. — Л.Ф.) наименования таким образом может быть восстановлена как s’ibir-t’an, где t’an, как установлено Г. Прокофьевым (1896 или 1897–1942. — Л.Ф.), есть общее самоназвание аборигенных арк- тических племён, по всей видимости, со значением люди, аналогичное кетскому d’еŋ, юкагирскому t’in, вошедшее и в целый ряд северо-самоедских самоназваний, как-то: n’ene-c’an „ненцы“, ŋаnа-san „нганасаны“ (таймырские самоеды), еnе-с’еn „энцы“ (енисейские самоеды) и т.д.» [Там же]. Первый компонент в s’ihirt’a’– s’ihir — является лишь переогласовкой s’ibir [Там же]. Что касается среднего согласного [в/б], то он на ненецкой почве перешёл в призвук h.
Одним словом, под именем сирти (так называют ненцы носителей устьполуйской археологической культуры) скрыва- ются те же самые хунны, и их высокая для того времени культура «с её развитой техникой не могла не оказать глубокого влияния на соседние приморские арктические племена…» [Там же].
По преданию ненцев, сирти исчезли с северной части по- луострова Ямал лишь в сравнительно недавнее историческое время [Чернецов, 1935; Мошинская, 1953а, с. 105]. Ещё в XIII в. страна, где они обитали, называлась Сибур. Так, в сочинении «О существовании Великой Венгрии, обнаруженной братом Рихар- дом во время господина папы Григория IX», со слов монаха Юлиана, путешествовавшего в 1237—1238 гг., записано: «Когда мы были ещё в Баскардии (в стране башкир. — Л.Ф.), пришёл некий посол из страны Сибур, которая окружена Северным морем» [цит. по: Исторический архив, 1940, с. 93]. Под Северным морем здесь, конечно же, подразумевается Карское море, воды которого омывают полуостров Ямал. Значит, страна Сибур была расположена на полуострове Ямал, и жили в ней сибуры (т.е. хунны), по имени которых названа и их страна. К сибурам мы ещё вернёмся, а пока выясним, что известно о сиртя в научной литературе.
* * *
Начнём с названия сиртя. Оно бытует в различных фоне- тических вариантах: сиртя, сирчи (краткие формы), сихиртя, сихирчи (полные формы) [Лашук, 1968, с. 190]. «Ямальские ненцы, — пишет Л. П. Лашук, — перевода этого этнонима не дают, поясняя, что сиртя — люди, живущие под землёй, боящиеся дневного света» [Там же]. Согласно Л. В. Хомич, слово сиртя «является причастной формой от глагола сиць — «сделать дыру, отверстие» и связано с представлением о сихиртя как о людях, живущих в пещерах (си — дыра, отверстие)» [Хомич, 1964]. Л. П. Лашук подвергает критике предложенную Л. В. Хомич этимологию слова сиртя. «В данном случае, — рассуждает он, — можно согласиться, что «сиртя», «сихиртя» имеет ненецкое происхождение, но возведение его к основе си или сиць не соответствует морфологическим нормам ненецкого языка. Предполагаемой основой этого слова должно было быть сир или сирць. Так, ненецкое ертя — «ловец рыбы» имеет корневое соот- ветствие с ёрма — «ловля», а видовое понятие ханём-пэртя — охотник, «занимающийся охотой», связано с глаголом пэрць — «заниматься чем-либо». Иными словами, — заключает Л. П. Ла- шук, — этимология имени сиртя нуждается в более основательном лингвистическом анализе» [Лашук, 1968, с. 191].
Сведения о носителях названия сиртя (сирчи, сихиртя, сихирчи, сиирти, сииртя) сохранились в преданиях ямальских ненцев [см.: Лашук, 1968, с. 178—193; Васильев, 1970, с. 151—158]. В них об аборигенах Ямала, т.е. о сиртя, говорится: «Сиртя — лю- ди очень низкого роста, но коренастые и крепкие, жившие тысячу лет назад. Во всём они отличались от ненцев: домашних оленей не держали, охотились на оленей-«дикарей», носили иную одежду: например, ягушек (распашная женская одежда из оленьей шкуры), как ненцы, не имели, одевались в шкуры выдры (намёк на глухую верхнюю одежду)» [Лашук, 1968, с. 190]. По словам ямальских ненцев, сиртя были голубоглазые и светлово- лосые. Физические черты сиртя живо напоминают предков ени- сейцев с голубыми глазами и светлыми волосами (см. ч. 1 §1.14.3). Часть их, охуннизированная ещё в период жизни в Юго-Западной Сибири, вместе с хуннами и под их именем — сывар/сыпар — прошла длинный исторический путь и дошла до полуострова Ямал. Борьба с трудностями в условиях суровой природы сделали ямальских хуннов и енисейцев с голубыми глазами и светлыми волосами выносливыми, терпеливыми, мало требовательными к благам жизни. Она учила их выживать.
В ненецких преданиях говорится также, что однажды появилась большая вода, она затопила все низменные места на Ямале; что с тех пор жилищами сиртя (сииртя) стали «недра возвышенных сопок — „седе“»; став подземными жителями, «сиртя впредь опасались выходить на дневной свет, от которого у них лопались глаза»; что сейчас (в 60-70-х гг. ХХ в. — Л.Ф.) сиртя осталось мало, и всё реже выходят на поверхность; под землёй они ездят на собаках и пасут мамонтов («я хора») и что только шаман «может определить, в какой сопке сиртя есть, а в какой их нет» [Лашук, 1968, с. 190; см. также Васильев, 1970, с. 151—152].
Обобщая предания ямальских ненцев о сиртя, Л. П. Лашук пишет: «Реалистическая основа в этих преданиях бесспорно есть и подтверждается научными данными, но конкретного ответа об этнической принадлежности сиртя сказания не дают» [Лашук, 1968, с. 190]. К аналогичному выводу, анализируя сюжеты ненецких преданий, связанные с сииртя, пришёл и В. И. Васильев [Васильев, 1970, с. 152].
Какова же этническая принадлежность сиртя? В науке распространено мнение об их палеоазиатском происхождении, но оно, согласно Л. П. Лашуку, «научно не обосновано» [Лашук, 1968, с. 191; см. также Васильев, 1970, с. 157]. Л. П. Лашук выдвигает свою гипотезу, основанную на археологическом материале. Суть её в следующем.
За устьполуйской археологической культурой (на нижней Оби) «хронологически следуют оронтурская культура в лесном Приобье и тиутейсалинская — в тундровой полосе» [Лашук, 1968, с. 191]. Л. П. Лашук пишет (важность цитаты принуждает нас привести её в полном объёме): «Изучение этих культур, несмотря на имеющиеся лакуны, позволяет поставить вопрос не только об их хронологической, но и в определённой степени генетической преемственности. Во всяком случае создавались эти культуры в среде населения, причастного не к „палеоазиатскому“, а к „уральскому“ этногенезу. Движение уралоязычных групп на Север, в низовья Оби, на Ямал, вероятно в низовья Таза и в Большеземельскую тундру, отмечено памятниками позднего бронзового века. Однако мы ещё не в состоянии точно назвать этих „уральцев“ по имени» [Лашук, 1968, с. 191]. По мнению Б. О. Долгих, в низовьях Оби это были самодийцы, поглощённые со временем уграми [Долгих, 1964, №4; см. также Сибирский этнографический сборник, 1962, вып. 4]. В. Н. Чернецов считает их пралопарями, сохранившимися под именем летописной «печеры», сиртя, «борандайцев» Ламартиньера [Чернецов, 1964].
Отмечая, что любое из этих мнений может быть принято в качестве рабочей гипотезы (поскольку неясны многие моменты этногенеза обских угров, самодийцев и саамов), Л. П. Лашук за-ключает: «Но, кажется, обских угров следует определённо связать с оронтурской культурой, распространившейся по всему Нижнему Приобью позднее IV в. н. э. Севернее, в тундровой полосе, располагались сиртя — носители тиутейсалинской культуры, этнически отличавшиеся как от предков хантов, так и самодийцев. Заманчиво видеть в сиртя нечто родственное саамам (лопарям), но такой взгляд нуждается в серьёзном обосновании» [Лашук, 1968, с. 192].
Под конец заметим, что арабские авторы IX—X вв. сообщают о народе, обитавшем на побережье Северного моря, отгоро- женном от всего мира непроходимыми горами и занимавшемся морским промыслом [Ковалевский, 1950]. В работе Б. Н. Заходера об этом народе сказано: «За (страною) иура (находятся) береговые люди; они плавают в море без нужды и цели. Далее находится Чёрная земля, а в море водится рыба, клыки которой употребляются на различного рода поделки: ручки для кинжалов и т.д.» [Заходер, 1962, с. 29]. «Любопытно, — пишет Л. П. Лашук, — что сказание „О человецех незнаемых“ как бы подтверждает арабскую версию: „На восточной стране, за Югорской землёю… над морем живут иная Самоедъ такова: линная словёт; лете месяц живут в море, а сухе не живут того для“» [Лашук, 1968, с. 179].
О сиртя знали не только нижнеобские, ямальские ненцы, но и ненцы, живущие в низовьях Енисея. Один из этих ненцев на вопрос автора статьи «Сииртя — легенда или реальность?» Васильева В. И., слышал ли он о сииртя, ответил, что сииртя — «это такой белый, как известь, человек» [Васильев, 1970, с. 152].
Вопрос об этнической принадлежности сиртя остаётся открытым. Настоящее исследование с большой долей вероят-ности позволяет утверждать, что сиртя — это потомки нижне- обских хуннов, среди которых были и с незапамятных времён охуннизированные потомки предков енисейцев, в том числе предков кетов с голубыми глазами и светлыми волосами. Впоследствии они растворились среди ненцев, и неслучайно некоторые исследователи отмечают схожесть кетов с ямальскими ненцами [Шлугер, 1941; Аксянова, 1976],
Вернёмся теперь к сибурам Ямала, которые представляют собой тех же самых сиртя.
* * *
Сибуры Ямала, кажется, были известны волжско-камским булгарам/болгарам ещё до X в. Попытаемся обосновать выска- занное предположение.
В составе посольства багдадского халифа Джа‘фара ал-Муктадира, отправленного в 921 г. к царю волжско-камских булгар/болгар Алмушу, кроме самого посла, секретаря по-сольства Ахмеда ибн-Фадлана, сопровождающих их лиц, был и Текин, или Тегин — среднеазиатский тюрк, который жил прежде у царя Алмуша, затем в Хорезме, потом служил при дворе халифа Джа‘фара ал-Муктадира, занимая «привилегированное положе-ние гуляма, или „отрока“, доверенного слуги халифа» [Ковалевский, 1956, с. 13–14]. Ещё до отправления посольства к Алмушу Текин рассказал ибн-Фадлану, что «в стране царя (Алмуша. — Л.Ф.) [есть] один человек чрезвычайно огромного телосложения» [цит. по: Ковалевский, 1956, с. 14].
Когда арабское посольство прибыло в страну волжско-камских булгар/болгар (921 г.), ибн-Фадлан спросил об этом великане у царя Алмуша. Алмуш ответил, что раньше он был в его стране, что он не из числа её жителей, да и вообще не из числа обыкновенных людей [цит. по: Ковалевский, 1956, с. 138]. Сo слов Алмуша, история его такова.
Однажды купцы царя Алмуша рассказали ему, что по Волге (Атылу; Атǎл — чувашское название Волги) приплыл один огромный человек. Алмуш вместе с ними поехал верхом к Волге (Атылу), увидел его — великана, рост которого был «двенадцать локтей» (локоть — древнерусская мера длины), т.е. 5 метров 52 см — 5 метров 64 см (считается: один локоть равен примерно 46—47 см). Начали говорить с ним, а он ничего не говорил, только смотрел на окружавших его людей [цит. по: Ковалевский, 1956, с. 138]. Великана доставили в местопребывание царя Алмуша, он же «написал жителям страны Вису… спрашивая о нём», а они жили от волжско-камских булгар/болrap на расстоянии «трёх месяцев [пути]» [цит. по: Ковалевский, 1956, с. 138]. Вису написали ему, извещая, что этот человек-великан из числа йаджудж и маджудж, которые живут от них на расстоянии трёх месяцев пути, на том берегу моря, которое разъединяет их [цит. по: Ковалевский, 1956, с. 139]. И далее: « [Лежащее] между нами и ими море [находится у них] с одной стороны II, а горы окружают их с других сторон» [цит. по: Ковалевский, 1956, с. 139].
В персидском пересказе ибн-Фадлана у Наджиба Хамадани (ХII в.), отражающем, как считает А. П. Ковалевский, более полную, утерянную редакцию сочинения ибн-Фадлана, о волжском (атылском) человеке-великане и что связано с ним, сообщается то же самое, что несколько выше было сказано о нём, откуда он и какого рода-племени. Но есть там ответ вису: «Его (волжского (атылского) человека-великана. — Л.Ф.) принесла вода из такого-то острова (какого? — Л.Ф.) … Из людей ни один человек не может отправиться в ту область» [цит. по: Ковалевский, 1956, с. 152]. Из-за труднодоступности? Видно, в начале 20-х гг. Х в. вису, не говоря уже о волжско-камских булгарах/болгарах, мало что знали о стране человека-великана и её жителях.
Рассказ о волжском (атылском) человеке-великане приводится и в книге М. П. Алексеева «Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей» (Иркутск, 1941). В ней читаем, что царь волжско-камских булгар /болгар Алмуш написал к народу disur (дисур), чтобы получить от них сведения о нём. После слова disur (дисур) М. П. Алексеев в скобках недоумённо замечает: «Wisu?» и продолжает пересказ. От народа disur (дисур) царь Алмуш узнал, что волжский (атылский) человек-великан «принадлежит к племени яджуджей и маджуджей, которые жили от них на расстоянии трёх месяцев пути, отделённые морем…» [Алексеев, 1941, с. XXXIII]. По ибн-Хаукалю (X в.) и ал-Истахри (Х в.), пишет М. П. Алексеев, страна яджуджей граничит на севере с океаном, по Идриси (XII в.) и ибн-Эль-Варди, её ограничивает цепь гор, которые тянутся от океана до пределов возделанной земли [Там же]. Анализируя сообщения арабских авторов, М. П. Алексеев приходит к выводу, что яджуджи «оказываются совершенно точно приуроченными к северной Сибири» [Там же].
В самом деле, если горы, тянущиеся от океана до пределов возделанной земли, принять за Уральские горы (что, видимо, так и есть [Алексеев, 1941, с. XXXIII; Пантусов, 1909, с. 101]), то море, являющееся северной границей страны яджуджей, — это Карское море. Теперь достаточно посмотреть на физико-географическую карту Сибири, чтобы убедиться, что яджуджи жили на полуострове Ямал. В таком случае, под мифическими яджуджами и маджуджами скрываются реальные сибуры, или сирти, т.е. хунны, обосновавшиеся на полуострове Ямал. Круг сомкнулся.
Кто такие disur (дисур)? Disur (дисур) — это вису, иначе говоря, летописная весь — народ, живущий на севере около Белоозера, с которым торговали купцы волжско-камских булгар/болгар [Ковалевский, 1956, с. 29, 61, 205]. Согласно А. П. Ковалевскому, в восточных рукописях такое искажение (вису вместо весь. — Л.Ф.) данного имени обычно» [Там же. С. 279]. Не случайно disur (дисур), как и вису, жили от яджуджей и маджуджей на расстоянии трёх месяцев пути. Содержание того, что написал царь волжско-камских булгар/болгар Алмуш, будем говорить, к народам вису и disur (дисур) в принципе совпадает, совпадают в принципе и ответы, полученные им от них. Выходит, disur (дисур) и вису (весь) — разные названия одного и того же народа (племени).
Имя disur (дисур) отдалённо напоминает название страны Сибур монаха Юлиана (ХIII в.). По-видимому, оно представляет собой искажённое до неузнаваемости слово сибур. Если это так, можно допустить, что ещё в X в. до арабских авторов доходили какие-то сведения о сибурах, т.е. хуннах, осевших к этому времени на полуострове Ямал.
* * *
Среди памятников устьполуйской археологической культуры до сих пор не обнаружено ни одного могильника; в связи с чем трудно говорить об антропологическом типе носителей устьполуйской археологической культуры [Чернецов, 1953б, с. 233]. Изложенный выше материал позволяет предпо- ложить, что ими были хунны — далёкие потомки восточно-азиатских хуннов. Очевидно, им принадлежали прямоугольные бляхи, украшенные бугорками и уплощёнными полушариками. Две такие пластинки найдены на Ямале. В. Н. Чернецов пишет: «Совершенно аналогична ямальским и близка к усть-полуйским бляха из Ишимского клада и четыре прямоугольные бляхи из тюковского кургана близ Тобольска. Бляхи, близкие по орна- менту с усть-полуйскими, имеются и в материале кургана №15 на Потчевашском мысу (что около Тобольска. — Л.Ф.)» [Чернецов, 1953а, с. 134]. По данным В. Н. Чернецова, такого рода бляхи в Западной Сибири встречаются нередко [Там же].
4. Потчевашская археологическая культура
В результате взаимодействия хуннов — сывар/сыпар — с местными племенами сложилась и другая археологическая культура — потчевашская. Территория её на севере доходит до устья Иртыша, на юге — до низовий Вагая и Ишима, района Тары и Саргатки; восточная и западная границы остаются пока неясными [Мошинская, 1953б, с. 218]. Единства в датировке этой археологической культуры также нет. По мнению В. Н. Чернецова, она «едва ли восходит далее V в. до н.э.» [Чернецов, 1953б, с. 241]. Потчевашская археологическая культура, как установлено, существовала синхронно с устьполуйской. Близость их «совершенно несомненна» [Там же. С. 221]. Согласно М. П. Грязнову, культуры, сходные с устьполуйской, надо датировать VII–VIII вв. [Грязнов, 1956, с. 137–138].
Но потчевашская археологическая культура древнее устьполуйской. Она возникла несколькими веками раньше и была «исходной при формировании усть-полуйской» [Чернецов, 1953б, с. 241]. Иначе и быть не может: хунны — сывары/сыпары — пришли в Нижнее Приобье из района нижнего течения Тобола и среднего течения Иртыша, уже освоенного ими; а это значит, что они обитали там достаточно долго. И только спустя определённое время часть их ушла в Нижнее Приобье.
«Объяснение сходства и различия усть-полуйской и потчевашской культур, — пишет В. Н. Чернецов, — следует искать в том, что хотя они и создавались племенами, родственными между собой, но базировались на достаточно отличных формах хозяйства — охоте и рыболовстве на севере, земледелии и скотоводстве и лишь отчасти охоте и рыболовстве — на юге» [Там же. С. 222].
Среди памятников потчевашской археологической культу- ры встречаются вещи, хорошо датируемые временем до нашей эры. Например, в числе предметов Истяцкого клада (на Иртыше, в районе рек Тобола и Вагая) оказалось бронзовое литое ки- тайское зеркало периода династии Цинь (249–206 гг. до н.э.) [Чернецов, 1953а, с. 164]. Такое же зеркало обнаружено в Савин- ском кургане (на левом берегу Иртыша, напротив Тобольска) [Мошинская, 1953б, с. 218]. Но значит ли это, что потчевашскую культуру, среди памятников которой найдены эти зеркала, следует датировать III в. до н.э.? И да и нет. Нет, потому что хунны могли принести в Западную Сибирь не только усвоенные ими когда-то элементы китайской культуры, но и изготовленные китайскими мастерами предметы украшения, туалета и т.п., которые передавались из поколения в поколение. Вещи эти «попадали затем в погребения, клады или жертвенные места» [Грязнов, 1956, с. 137]. Китайские зеркала, правда, раннеханьского времени, находили и далеко от Западной Сибири — в джетыасарских курганах кочевников нижнего течения Сырдарьи, заметим, наряду с посудой хуннского типа [Боталов, Гуцалов, 2000].
Китайские зеркала находили в хуннских могилах Забайкалья и в Северной Монголии [Руденко, 1962, с. 91]. «Все они, — пишет С. И. Руденко, — представлены половинами, а одно из них даже обломком зеркала» [Там же]. «Зеркало в жизни китайцев, — продолжает он, — играло роль не только обычной туалетной вещи, оно в их представлении имело магическую силу и наделялось известным символическим значением. Так, „разбитое зеркало“ было символом расставания супругов. Не этим ли объясняется отсутствие в могилах хуннов целых китайских зеркал, ибо вместе с китайскими зеркалами хунны воспринимали и особое отношение китайцев к зеркалам», — заключает С. И. Руденко [Там же].
Особый интерес представляют и бронзовые котлы. Их находили в разных местах Западной Сибири [Талицкая, 1953, с. 253–254; Чернецов, 1953б, с. 221–222, 226], в том числе в Тобольске (в местности Тырковка в 1894 г. при рытье ямы на глубине 1,77 м) [Талицкая, 1953, с. 268]. Бронзовые котлы, согласно В. Н. Чернецову, «имели культовое значение» [Чернецов, 1953б, с. 222]. Но в плане данной работы важно не это, а то, что они обнаруживают почти полное сходство по форме с хуннским бронзовым котлом из Ноинулинского кургана №6 [Руденко, 1962, с. 36] (Рис. 12). Один из таких бронзовых котлов, найденный близ Сургута В. Ф. Казаковым, имеется в Тобольском музее [Талицкая, 1953, с. 250]. Надо думать, сходство их по форме не случайно. К сожалению, мы не располагаем исследованиями химического анализа бронзы этих котлов. Имеются ли они вообще?
Кроме того, наблюдается «близость ушастых кельтов то- больского типа с северокитайскими, относящимися к поздне-чжоускому и ханьскому времени», «сходство потчевашских прорезных блях с китайскими ханьского времени» [Чернецов, 1953б, с. 241]. Все эти элементы китайской культуры в Западную Сибирь принесли, очевидно, те же самые хунны — сывары/ сыпары.
* * *
Из памятников потчевашской археологической культуры «особенно замечательно Чувашское городище на Чувашском мысу близ Тобольска» [Краткий путеводитель.., 1918, с. 64] (Рис. 13). «Название Чувашский мыс, — писал М. С. Знаменский, — некоторые приписывают тому, что будто во времена Кучума на этом мысу жили Чуваши» [Знаменский, 1901, с. 17]. П. А. Словцов (1767–1843) — самое крупное после Г. Ф. Миллера имя в сибирской историографии — не разделял этого распространённого мнения, утверждая, что чувашей не было видно в бытиях сибирской истории [Словцов, 1834, с. 29]. Чувашское городище на Чувашском мысу (речь идёт о хуннском поселении Бицик-Тура) называется также Потчеваш, а мыс — Потчевашским. Согласно П. А. Словцову, под чуваши на остятском (хантыйском) языке значит «селение прибрежное» [Там же]. По мнению В. И. Мошинской, название Потчеваш следует понимать как Печвож — «Олений город» (из хантыйского: печ~пеш — «оленёнок», «вож» — «город» [Мошинская, 1953б, с. 189]. И всё же с лингвистической точки зрения название Потчеваш, скорее всего, восходит к русскому
под чуваш (и) (в произношении потчуваш, потчеваш). Оно образовано по модели «предлог под плюс существительное или прилагательное»: Подкаменка, Подгорное, Подлесное и т. д. Если это так, то возникновение названия Потчеваш естественно связывать с этнонимом чуваш, тем более что его носители (вопреки П. А. Словцову) и во времена Кучума жили в районе Тобольска [Миллер, 1937, то. 1, с. 229; Димитриев, 2011, №6].
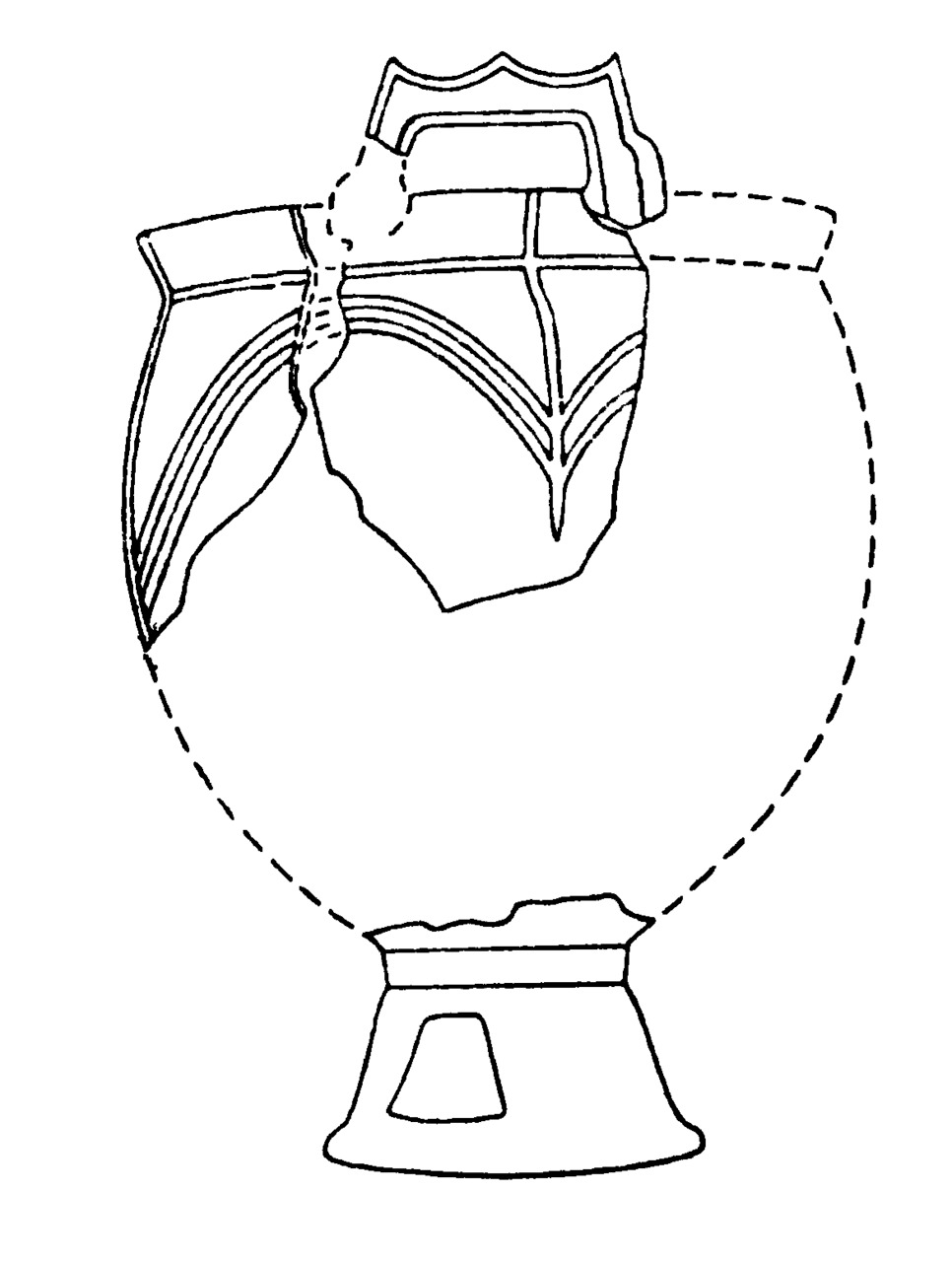
Рис. 12. Бронзовый котёл из Ноинулинского кургана №6 (реконструкция)
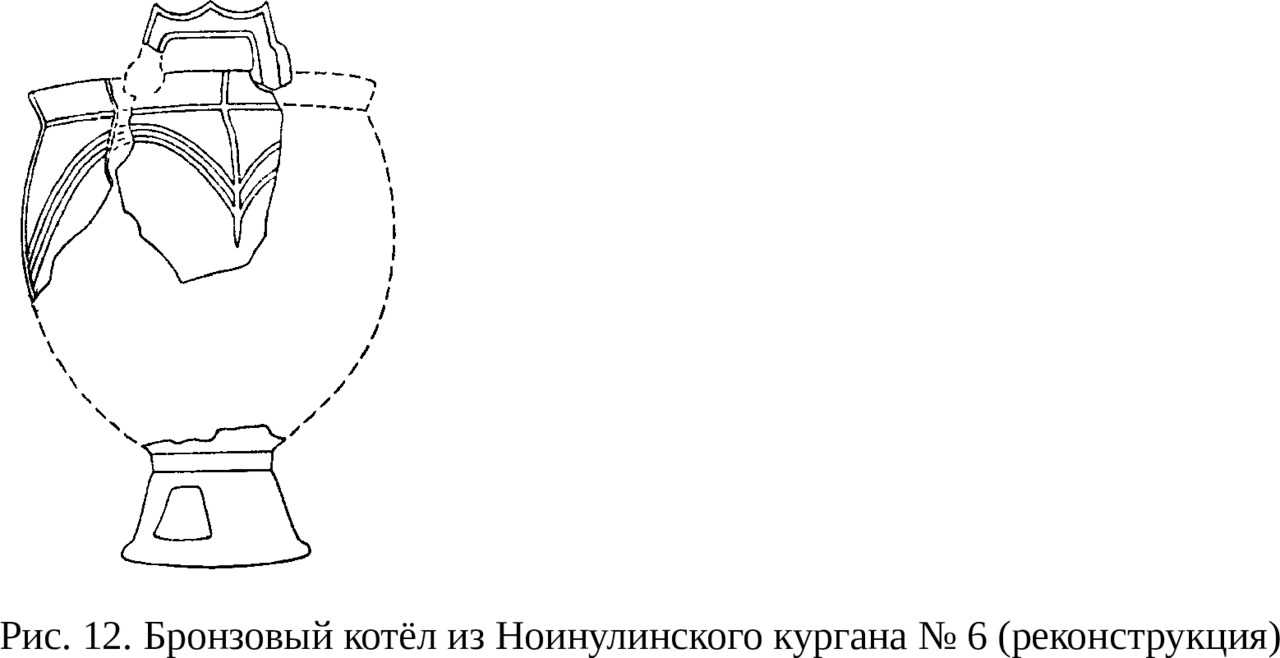
Этот факт засвидетельствован Кунгурской летописью. В ней сообщается: «Ст. 24. Во второе лето ехав Кучюм в Казань (а власть он захватил в 1563 г. — Л.Ф.), и дочь казанского царя Мурата взял в жену и с нею многих чюваш (курсив мой. — Л.Ф.) и абыз и русскаго полону людей, и приехав на Сибирку, пребываше славно» [Краткая Сибирская летопись…, 1880].
У Кучума было много жён. В той же Кунгурской летописи читаем: «Ст. 25. Розсадив царь Кучюм жён своих больших во близких местах, взял дочь у Давлетима мурзы и пребывав ей устроив близ градского места, на Паньине Бугре; другой же на Сузгунском мысу, именем Сузге. По той жене и город зовом Сузга; ныне же словет Сузгун то место (в 6 км от Тобольска. — Л. Ф.), и ездиша к ним по пятницам» [Там же].
Вполне возможно, что дочь казанского царя Мурата, одну из своих жён, и чуваш, привезённых с нею, Кучум определил жить на мысу, получившем впоследствии название Чувашского, и где жили потомки тобольских хуннов — сывары/сыпары; а к тому времени, когда струги Ермака вошли в воды Иртыша (октябрь 1582 г.), на Чувашском мысу уже мог стоять укреплённый чувашский городок, о чём и сообщают письменные источники.
Чуваши и после разгрома Сибирского татарского ханства бывали в Тобольске. Так, в 1661–1662 гг., т.е. через сто лет после того, как Кучум привёз в Сибирь чувашей из Казанского ханства, из 34 пришедших в Тобольск торговых, служилых и прочих людей 10 были чуваши [Вилков, 1968, с. 65, табл. 2].
С известной долей вероятности можно допустить, что тор- говые связи чувашей с западносибирскими народностями суще-ствовали и до 1661 г. и после 1662 г. Более того, есть основание полагать, что предки чувашей — волжские сувары (речь о них — впереди) — и племена Западной Сибири (в том числе хунны, т.е. сывары/сыпары, задолго до образования Сибирского татарского ханства торговали между собой, а что Волжская Булгария/Болгария, в состав которой входили и сувары, торговала с западносибирскими племенами, известно истории [Томские губернские ведомости, 1888, №10, 11, 14, 15, 16, 18; 1889, №2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17; Журн. Министерства Народного Просвещения, 1891].
Ещё арабский автор X в. Нару-дин-Мохамед Ауфи сооб- щает о торговле Волжскй Булгарии/Болгарии с Югорской землёй [цит. по: Бояршинова, 1960, с. 19].
* * *
Историки, археологи отмечают, что потчевашская и усть- полуйская культуры очень близки к кулайской (по правобережью Иртыша, в Тарском районе (Омская обл.) и восточнее по Чулыму, вплоть до Ачинска) и верхнеобской (от реки Томи до верховьев Оби) археологическим культурам [Чернецов, 1953б, с. 223, 240]. М. П. Грязнов пишет: «Начиная примерно со II в. н.э. весь внешний облик археологических памятников на Верхней Оби резко изменился, появилась и начала развиваться культура, принесённая извне (курсив мой. — Л.Ф.)» [Грязнов, 1956, с. 99]. Не связано ли возникновение верхнеобской, или большереченской археологической культуры с теми же восточноазиатскими хун- нами — сыварами~сыпарами? (Кулайская археологическая куль- тура — названа по месту находки характерных для неё вещей на горе Кулайке; большереченская (Верхнее Приобье и При- томье) — по названию села Большая речка (Верхняя Обь)).
* * *
Как было сказано (см. ч. 1 §1.23), в конце I в. н.э. северные хунны терпели одно поражение за другим. Напомним: в 91 г. они были разбиты китайцами, и их шаньюй (верховный вождь) «бежал неизвестно куда» [Фань Е., 1973, с. 84]. Тогда часть северных хуннов подчинилась сяньбийцам, часть ушла в Среднюю Азию, какая-то часть могла уйти в Верховье Оби (из степей Северной Монголии). Когда в 50–60-х гг. II в. сяньбийцы овладели «всеми землями, бывшими под державою хуннов, от востока к западу на 14000 ли, со всеми горами, реками и соляными озёрами» [Бичурин, 1950, т. l, с. 54], часть северных хуннов также могла уйти в Верховье Оби.
Если это так, то во II в. хуннов в Верховье Оби было достаточно много. Заняв земли до реки Томи, они могли принять участие в формировании верхнеобской археологической куль- туры. С их приходом, надо полагать, и наступил переломный момент в истории древних племён Верхней Оби, о чём пишет М. П. Грязнов [Грязнов, 1956, с. 99].
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.