
Бесплатный фрагмент - О себе, о нас, о жизни
Повести и рассказы

Об авторе
Гниляков Владимир Николаевич (литературный псевдоним Владимир Дулга), родился на Урале в семье военнослужащего в мае 1948 года. На это время приходятся первые детские впечатления, маленькие житейские трудности, добрые соседи, верные друзья и коварные недруги. Происходящее глазами маленького человека, познающего себя и окружающий мир.
Переезд с родителями воинским эшелоном в далёкое Забайкалье. Прекрасное озеро Байкал, суровая тайга, хрустальные ручьи и быстрые реки. Школьные друзья, первая влюблённость, и настоящая мальчишеская дружба послужили сюжетами первых книг — «За озером Байкал» и «Трое на плоту» — вышедших в издательстве «Ридеро».
После окончания Благовещенского танкового командного училища, офицерскую службу и семейную жизнь начинал на Монгольской границе, далеко от крупных городов и культурных центров, в Туве, за несколько сотен километров от ближайшей железной дороги. В городе, название которого положено в название книги «Чадан». Затем была служба в Хакасии, Германии, Омске, учёба в Бронетанковой академии. Нелёгкой службе сослуживцев — танкистов, посвящены повести «Низина» и «Воскресенье», вошедшие в книгу «Витязи в ребристых шлемах».
В восьмидесятых годах прошлого столетия, непредсказуемая военная судьба забросила на Ближний Восток, в Сирию, втянутую в Ливанскую войну. Позже в Дамаске произошла попытка государственного переворота, с целью свержения президента Хафеза Асада. Трилогия «Хубара» — повествование о жизни советских военных советников — офицеров, оказавшихся в чужой стране, с иным менталитетом, верой и обычаями.
Писать начал уже в зрелом возрасте, после увольнения с военной службы. Вероятно, мотивом и желанием послужили юношеские годы, прожитые в военном городке на севере Читинской области. В ту давнюю пору, там не было ни интернет, ни телевидения, но в Доме офицеров была прекрасная библиотека. Любимыми писателями стали Джек Лондон, Фенимор Купер, Александр Беляев, Лев Толстой, Иван Тургенев, Борис Васильев.
Мастера — писатели деревенской прозы, — Василий Шукшин, Валентин Распутин, Виктор Астафьев являются истинными кумирами автора.
Скромной попыткой пробы пера в жанре фантастики, стали — повесть «Блуд» и рассказ «Реинкарнация», вошедшие, вместе с повестью «Секс символ», в книгу «Блуд», — «он запутался в своей ответственности перед этими женщинами, как бестолковый кузнечик, в необдуманном прыжке попавший в умело расставленную паутину в отношениях, пространстве и времени».
В предлагаемом сборнике повестей и рассказов — «О себе, о нас, о жизни», герои представленных работ — соседи, сослуживцы, простые люди, интересные сюжеты о которых, заставили взяться за перо, чтобы поделиться с Вами, — уважаемые читатели!
С июля 2015 года Владимир Дулга член Российского Союза писателей.
Номинант национальной литературной премии «Писатель года» 2015, 2016 и 2017 годов.
Печатался в альманахах Российского Союза писателей — «Проза Дебют» в 2015 году и «Проза» 2016, 2017, 2018 годах.
Более восьмидесяти произведений печатались на порталах «Самиздат» и «Проза Ру», под другим литературным псевдонимом.
О книге
В сборнике повестей и рассказов «О себе, о нас, о жизни» собрано более тридцати работ, написанных, как сейчас выясняется, в разные годы двух столетий, общественно-экономических формации и стилей управления страной. Это, как бы взгляд из сегодняшнего дня, на прошедшие события изменившие мир, страну, мировоззрение, идеалы и каждого из нас. Как говорят: — «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!»
Многим «посчастливилось» быть свидетелями и участниками произошедших перемен, к которым каждый относится по-разному. Любая повесть, рассказ, миниатюра, любой изложенный в сборнике эпизод — это кусочек чьей-то жизни, с мечтами, надеждами, радостями и разочарованиями, приобретениями и горькими потерями. Это неповторимый миг бытия реальных людей — персонажей произведений, возможно и сейчас живущих рядом с вами.
Наша жизнь многогранна и удивительна, поэтому одни работы, это повод для размышлений, добрая память и приятные воспоминания. Другие произведения — несут лёгкую грусть, незабытые обиды и осознание собственных ошибок. Третьи — смешные истории из нашей повседневной жизни, где так много чудаковатых людей и нелепых историй. «Мир держится на чудаках!»
Герои произведений — простые люди, сослуживцы, друзья и соседи, интересные воспоминания о которых подтолкнули автора взяться за перо
СБОРНИК ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ
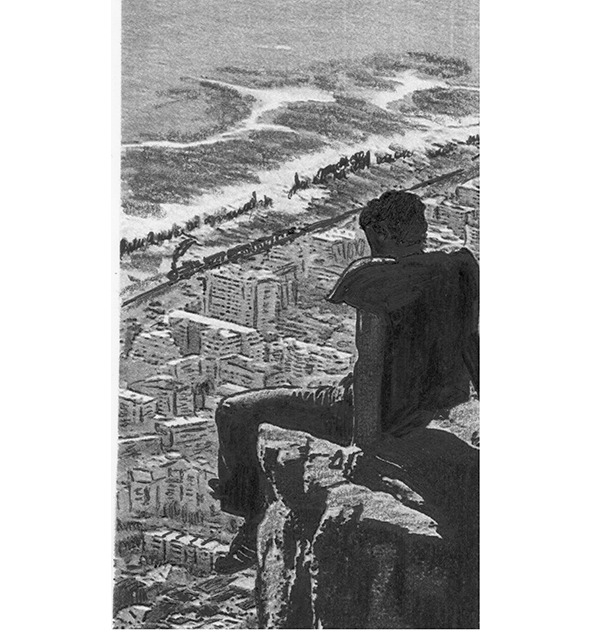
Над пропастью
Рассказ.
Всё познаётся в сравнении.
Человек сидел на узком выступе громадной скалы, сложив руки на коленях, безразлично глядя вниз. Внизу, в ранних, предрассветных сумерках, кипела жизнь.
Горели фонари и витрины магазинов, сновали и гудели машины, спешили куда-то люди, играла музыка. Человек сидел и молчал. Несколько дней назад, устав от безделья, сутолоки жизни, мелких проблем и нанесённых обид, он твёрдо решил уединиться. Залезть на непреступную скалу, нависающую над городом. И там, в долгожданном одиночестве, часами размышлять о смысле жизни, о своей роли в её неудержимом течении. И вот мечта сбылась! Он по верёвке спустился с вершины скалы на маленький выступ, ступенькой торчащий над головокружительной бездной.
Всё! Он один, он свободен и счастлив! Он поднялся над этой мелочной суматохой жизни, над обидами и оскорблениями, над друзьями и подругами. Над людьми!
Теперь он мог, часами безучастно смотреть на этот шевелящийся муравейник никчемной жизни. И ощущать себя счастливым и независимым, не связанным ни с кем, и ни с чем, какими-либо обязательствами, отношениями, чувствами.
Но вскоре выяснилось, что верёвка, с помощью которой юноша попал на скалу, серой змейкой мелькнув в воздухе неумело завязанным узлом, упала вниз. Обратной дороги не было! Юношеский максимализм подтолкнул к тому, что всё связывающее с прежней жизнью, осталось дома. В квартире, на столе, не отвечал на звонки ненужный в новой жизни телефон. О воде и пище, за грустными мыслями и обидами, было просто забыто.
Молодой человек уже несколько дней провёл на этом крохотном кусочке земли. Где любое неосторожное движение, могло стать последним шагом в никуда, в бездну! Он понимал, что только чудо может спасти его от ужасной смерти. Хотелось пить и есть. Даже тот засохший кусок хлеба, несколько дней назад брошенный бездомному псу, представлялся сейчас несметным сокровищем и дорогим подарком. Он готов был вылизать до дна лужу возле подъезда своего дома, через которую перепрыгивал каждое утро, ругая нерасторопных дворников.
Но больше всего мучило предчувствие, неотвратимо приближающееся гибели. Ему никогда так не хотелось жить, как сейчас! Ранее, сама жизнь представлялось чем-то неотъемлемым, само собой разумеющимся, бесконечным и обязательным.
Сейчас же, в редкие минуты беспокойного сна, он часто видел себя мёртвым, лежащим ничком на холодном камне выступа. Он даже слышал противные крики отвратительных ворон собравшихся на пиршество. И ощущал на своём лице лёгкое дуновение их вонючих крыльев. От этого жуткого видения юноша в ужасе просыпался, судорожно хватаясь вспотевшими, исцарапанными пальцами за трещинки в скале.
Гляди вниз, он остро завидовал людям, маленькими букашками, сновавшим по улицам города, под его ногами. Они могли ходить, бегать, просто вставать во весь рост, разминая затекшие мышцы. Они могли разговаривать друг с другом, видеть глаза собеседника, дружески обнимать и улыбаться незнакомым прохожим. Они могли просто жить!
Вечером, когда далеко внизу, яркой уютной цепочкой загорались окна спрятавшихся во тьме домов, он представлял, как за этими окнами, люди ужинают, смотрят телевизор, обнимают любимых, принимают душ и ложатся спать в мягкие, пахнущие чистотой, уютные постели. Сейчас он отдал бы всё, чтобы вновь вернуться туда, на землю, к людям! В суматоху этого прекрасного, наполненного событиями дня! Вернуться к жизни!
Силы пленника угасали, он предчувствовал близкий конец. Надеяться было не на что! Вряд ли кому-то из людей пришла бы мысль, задрав голову посмотреть на эту безжизненную, вертикальную стену, с маленькими расщелинами, заросшими редкими травинками. Люди предпочитали смотреть под ноги, вокруг себя, и на лица окружающих. Они жили своей, загруженной заботами, жизнью!
Каким-то чудом, он нашёл за подкладкой порванного кармана, несколько потемневших от времени спичек. Обламывая ногти, выскреб из малюсеньких расщелин высохшие от испепеляющего, южного солнца, былинки. Порвал на полоски подол своей рубахи. Ближе к вечеру, когда солнце почти исчезло за громадами гор, трясущимися от волнения руками, только с третьей спички, шоркая ей по гладкому камню, чудом разжёг маленький костерок. И затем, сжёг на нём, почти всю свою одежду, моля бога о том, чтобы порывы ветра не загасили его последнюю надежду выжить.
Через несколько часов, альпинисты — спасатели спустили на землю незадачливого пессимиста, недовольного жизнью. Он прыгал от счастья как ребёнок, целовал землю, спасателей, собравшихся зевак. Обливая грудь, большими глотками пил самую вкусную в мире воду. С жадностью затягивался, кем-то предложенной сигаретой, хотя уже многие годы не курил. Обнимал незнакомых людей, бродячего пса, смеялся и радовался своему возвращению в жизнь! К людям!
Таймень
Рассказ
Просто жизнь
На очередной юбилей внуки подарили деду Феоктисту спиннинг, с длинным, стыкующимся из двух частей удилищем, и блестящей инерционной катушкой. Это было давно, тогда Феоктист Иванович был гораздо моложе и занимался рыболовством почти профессионально. Ставил сетюшки на неспешных протоках и, похожих на таёжные озёра, старицах. Рыбачил «сплавом», пуская сети «трёхстенки» вниз по течению, по глубоким плёсам и спокойным участкам.

Таёжная река, на которой он жил, брала начало на северо-западных склонах Байкальского хребта и несла свои чистые воды по живописным распадкам и заливным лугам, к могучей и прекрасной реке Лене. Чтобы смешавшись с её мощными струями, через тысячи километров, отдать себя холодным объятьям моря Лаптевых. Река была бурная, с сильным течением, местами очень глубокая, с большим количеством порогов и перекатов. Вероятно, по этой причине, на всём своём протяжении, являлась не судоходной. Занимающиеся рыболовством жители, имели свои плавсредства. Деревянные — «самодельные», и дюралевые — «заводские» лодки, различных конструкций.
У Феоктиста Ивановича была потрёпанная временем и перекатами «Казанка» с, неоднократно перебранным, мотором «Ветерок». Когда-то в молодости, с такими же, как сам отчаянными друзьями, ходил на ней до самой Лены. Посёлок, где Феоктист Иванович проживал, по всей видимости, был основан первопроходцами-казаками и носил казачье название. На местном кладбище покоилось не одно поколение предков деда Феоктиста. На крестах и пирамидках, была написана одна, общая фамилия и разные имена. Не хватало имён, только нескольких мужчин, ушедших на фронт и оставшихся лежать в чужой земле. Среди них и отец Феоктиста, молодой, весёлый мужчина, успевший накануне войны «родить» сына и дать ему мудрёное имя, в честь своего отца, сгинувшего на Ленских приисках в годы сталинских репрессий. Одним из первых в посёлке, Ивана Феоктистовича, как опытного охотника, призвали в армию. В финскую компанию, отец был снайпером, часто писал письма, обещая скорого возвращения. Потом началась Великая Отечественная война. Домой Иван Феоктистович больше не вернулся, пропав без вести, как многие его ровесники, осенью сорок первого года.
Дед Феоктист выезжал из своего посёлка далеко и надолго, только дважды. Первый раз, по призыву в армию, на три года. Второй, совсем недавно, в Иркутск, на свадьбу старшего правнука, где дед заболел и на всё лето попал в больницу
В своё время, сразу после армии, Феоктист женился, на красавице Катерине, которая ждала его все три долгих года. В этом посёлке, один за другим, родились трое сыновей и дочь. В старом, родном, родительском доме, они с бабкой встретили и свою старость.
Старость подкралась как-то незаметно. Казалось совсем недавно, он уходил на охоту в тайгу на несколько дней, а то, и недель. С приехавшими в отпуск сыновьями ремонтировал крышу дома и стайки для скотины, колол дрова. Один, после поломки «Ветерка», на вёслах и волоком, через перекаты, тащил лодку домой. Катерина всю жизнь была его первой помощницей и поддержкой. Какие бы дела он не замышлял, она всегда была рядом, будь то замена сгнивших венцов дома, или работа на пасеке. Казалось, так будет всегда!
Но годы давали о себе знать — появилась одышка, к непогоде болели ноги и спина, скакало давление. Дед Феоктист стал захаживать в местную поликлинику и даже несколько раз, ездил сдавать анализы в районный центр.
Дети, окончив школу, давно уехали в дальние и ближние города, завели свои семьи, родили Феоктисту внуков. А старший сын, недавно, сам стал дедом.
Так что, работа по дому и хозяйству, как и прежде, оставалась заботой стареющих родителей.
Получив до армии профессию водителя, Феоктист Иванович, всю жизнь проработал в местном леспромхозе. Возил лес с дальних делянок, горючее для тракторов и мазут для местной котельной. Последние годы работал на почте, доставляя корреспонденцию по соседним деревням.
Потом случился развал страны. Всё, как-то неожиданно быстро, рассыпалось! Леспромхоз, после нескольких бесполезных реорганизаций, закрылся. Местные мужики, внезапно ставшие «акционерами», растащили по домам оставшуюся технику. До сих пор, в разных концах посёлка, можно увидеть ржавые, ненужные «Уралы» — лесовозы, и трелёвочные трактора. Оставшийся не у дел народ, ударился в рыболовство, рыбачили все, от мала, до велика. Трудно было найти на реке хотя бы маленькую протоку, не занятую вездесущими рыбаками. Рыбу сдавали местному предпринимателю, который отвозил её в райцентр перекупщику армянину, по имени Завен.
Позже, в знакомой с детства тайге хозяйничали китайцы, навезли технику — мощные лесовозы, японские трактора и погрузчики. Валили лес, вывозили кругляк к железной дороге и отправляли в Поднебесную. Выкопали в лесу землянки, жили отдельно, не общаясь с местными, и не принимая их на работу.
Посёлок постепенно пустел, люди уезжали «на Большую землю». Почти на каждой улице стоят брошенные, заколоченные дома, на ближайших и дальних сопках появились «проплешины» спиленного леса.
Дед тоже «рыбалил». Ставил сети, стараясь как-то прокормиться в те лихие, тяжёлые годы.
Феоктист не любил надолго оставлять дом. И на все приглашения детей переехать к ним, частенько повторял жене:
— Не люблю я эти города! Бегают, как в «спину стрелянные», целыми днями! Словно муравьи в растревоженном муравейнике! Никто друг друга не знает и не замечает! Редко кто здоровается! Остановиться и поговорить не с кем, и не о чем!
Екатерина Михайловна обычно не поддерживала его «не современны» суждения. Заметив, что жена с ним не согласна, дед твёрдым голосом продолжал:
— Здесь, на воле, чувствую себя нормально, нигде не давит и не болит! А стоит, хотя бы в райцентр уехать, возвращаюсь весь разбитый и больной. Как будто с десяток вёрст на вёслах прошёл, против течения! Нет, матушка даже не зови!
И действительно, после свадьбы правнука в Иркутске, дед расхворался не на шутку. Ночью вызвали «скорую», с диагнозом инфаркт, Феоктиста Ивановича положили в кардиологию Иркутской областной больницы, на целый месяц.
Катерина Михайловна вынуждена была возвратиться домой одна. Приехавшие ближе к осени сыновья, заготовили дров на всю зиму, уложив их ровной поленницей вдоль забора. Помогли выкопать картошку. Договорились с трактористом и вспахали огород к следующей весне. Вытащили к ограде дедову лодку. Не смогли только заготовить сена. За бурной деятельностью сыновей, дед наблюдал сидя на высоком крыльце — врачи категорически запретили ему любые нагрузки. Даже за ужином, Феоктист Иванович не позволял себе присоединиться к сыновьям, поднимающих рюмочку за здоровье родителей.
Любимицу всей семьи, корову Белянку пришлось продать, а бычка пустить на мясо. Приближались морозы, речка потемнела под грустным осенним солнцем, тайга, на противоположном берегу, покрылась жёлто-коричневыми пятнами осеннего лиственного леса.
Феоктист Иванович часто выходил на берег реки, за своим огородом. И подолгу стоял, молча, любуясь медленным наступлением осени.
На душе было непривычно грустно и тревожно. Волнуясь за мужа, кутаясь в платок, на берег приходила Катерина Михайловна. Стоя рядом, касаясь друг друга, они, молча, смотрели на несущуюся массу воды, каждый, думая о своём. Осторожно тронув мужа за локоть, баба Катя обычно тихонько просила, величая мужа ласково, как звала в юности:
— Пойдём Феонит, холодно уже! Не дай бог, простыть!
Зиму, они прожили хорошо. Дед потихоньку набирался сил. На все вопросы соседей о здоровье и самочувствии, односложно отвечал:
— Нормально!
Хотя, на самом деле, бывало по-всякому. Иной раз ночью, сердце начинало давать пропуски, всё чаще и чаще, а паузы между ударами становились такими длинными, будто душа проваливалась в глубокую, тёмную яму.
Или в груди беспричинно разливалась горячая, жгучая боль, заставляющая забыть обо всём на свете, рождая где-то в глубине сознания непреодолимый страх. В такие минуты Феоктист Иванович вспоминал своё лежание в Иркутской больнице. Когда в палату, осторожно, с испугом на лицах, входили молодые студенты, пришедшие на занятия.
Из всех симптомов ишемической болезни сердца, они, почему-то, твёрдо запоминали, лишь один, о котором у больных постоянно спрашивали все студенческие группы:
— Вы, боитесь смерти?
Вначале деда подмывало ответить вопросом на вопрос:
— А, вы?
Но потом, подумав, он понял, что эти молодые люди, ещё находятся в том юном возрасте, когда понятие «смерть» для них, что-то глобально далёкое, не воспринимаемое и конкретно их, не касающееся. Наверное, все люди так рассуждают в этом возрасте?
Феоктист Иванович знал, что в его тяжких делах, другом и помощником может быть, только его Катя. Как защита, опора и живой талисман благополучия.
Новые, «рачительные» руководители области, закрыли поселковую поликлинику, и на весь посёлок, остался один фельдшер. Поэтому в экстренном случае, как в тайге — кричи, не кричи, никто не услышит! «Скорая» придёт из района, всего скорее, только на поминки. А зимой, в пургу, по сугробам, в таёжный посёлок никто и не поедет. Вообще!
Как бы ни была длинна сибирская зима, но и ей приходит конец. Забурлили ручьи, одуревшие от тепла и солнца воробьи, с громким чириканием, перелетали с одного, очистившегося от снега пригорка на другой. Шелестом крылышек, радостной суетой, громкими голосами, возвещая о приходе весны!
Лучи солнца, быстро съели потемневший, подтаявший снег
С хрустальным звоном сталкивающихся льдин, пронёсся ледоход. Река, выплеснувшаяся во время половодья, в балочки и заливные луга, нехотя, оставляя за собой наполненную влагой землю, и первые зелёные травинки, вернулась в обычное русло. Зазеленели кусты и деревья, белым туманом зацвели дикая яблоня и черёмуха. Пришло долгожданное лето!
Рыбаки вывели на чистую воду свои лодки, вновь над рекой разнёсся характерный звук лодочных моторов. «Иванович», как теперь, называли его односельчане, устав ломать язык, об его чудное имя тоже спустил на воду свою «Казанку». С «пол оборота» запустил отдохнувший за зиму «Ветерок» и помчался по реке, привычно чувствуя знакомые удары встречных волн.
Иногда преодолев упорное сопротивление жены, он вырывался на рыбалку, ставил сети, выезжал их проверять, с удовольствием выбирая хороший улов. Но чувствовал, что даже эта, обычная в прошлом работа, вызывала одышку, стеснение в груди и боль, отдающуюся толчками в левое плечо, от которой начинали ныть даже зубы. В левом кармане брюк, вспотевшей рукой, он находил ампулку с нитроглицерином, торопливо доставал маленькую таблетку и клал под язык. Через какое-то время, боль и жжение в груди исчезали, но начинала дикой болью звенеть голова. Феоктист Иванович знал об этом и терпеливо ждал, когда боль и звон отпустят
Когда приступы стали повторятся с пугающей регулярностью, он понял, что надо переходить на ловлю с берега удочками, или спиннингом. Иначе, не ровен час, можно потерять сознание в лодке и её понесёт до самой Лены, или вообще, в Северный Ледовитый океан. Тут Иванович вспомнил о спиннинге, давнем подарке, теперь уже повзрослевших, внуков. По его просьбе, сосед из командировки в Братск, привёз дорогую японскую леску, способную, как было написано на красивой упаковке, выдержать вес в три тонны. Набор вращающихся блёсен с грузами и карабинчиками. С помощью жены, с превеликим трудом, он смотал все сто метров на катушку, и они спокойно там уместились
Выбрав день, Феоктист Иванович, завёл лодку и выехал подальше от посёлка опробовать снасть. К рыбалке удочками и спиннингом он относился, как к баловству и пустой затее. Поэтому не хотел, что бы кто-то застал его за этим занятием.
Тяжёлый груз, предназначенный для удержания лодки в тихих протоках, на стремнине не мог выполнять эту задачу и «Казанку» несло течением. Попытка забросить блесну, привела к запутыванию лески в громадную «бороду». Пришлось причалить к берегу и битых два часа, распутывать эту «пышную причёску», стараясь не перерезать леску.
Расстроенный глупой неудачей, он высадился на дальнем острове и спустил блесну по течению, насколько это было возможно, не давая ей лечь на дно. А затем, подкручивая катушку и, слегка подёргивая, вывел блесну на берег. На третьей попытке, ему удалось вытащить на берег ленка, грамм на двести. Улов прибавил надежды и уверенности.
Так с десяток раз отпуская по течению свою снасть, поймал маленького, пятнистого таймешонка.
— Отец дома? — шутливо поинтересовался дед у пойманной рыбы.
На этот остров он заехал не случайно, ниже острова, на стыке водяных струй, была большая яма. И в этом месте рыбаки часто видели «играющего» крупного тайменя. Но, ни на какую снасть, он не брал.
Рыбак уже собрался ехать домой, как вдруг на другом конце лески почувствовал сильный удар, резкие рывки и сопротивление вращению катушки. Он даже не мог провернуть её рукой, туго натянутая леска резала водную гладь.
— Наверное, корягу зацепил? — подумал Феоктист Иванович, — жаль блесну! В наборе блёсен, такая «Байкалка», была одна.
Неожиданно леска ослабла и пошла куда-то в сторону, потом вновь натянулась, грозя лопнуть:
— Посмотрим, какие три тонны она выдерживает, товарищи японцы? — усмехнулся спиннингист.
Он начал выводить добычу к берегу, то, с трудом, поднимая удилище вверх, подтаскивая неизвестную рыбу, то, резко опуская удилище и подматывая леску.
Крупный таймень, а это был он, несколько раз выскакивал из воды, делая свечки и пытаясь освободиться от блесны. Но рыбак вовремя отпускал леску. Битва продолжалась очень долго, Феоктист Иванович потерял счёт времени. Несколько раз, чувствуя боль в груди, он, зажав катушку рукой, доставал спасительные таблетки и прижимал их языком. Боль уходила, в голове стучало, так как будто рядом, бил землю огромный, многотонный молот. В какой-то момент, он даже пожалел, что затеял эту рыбалку.
Таймень тоже обессилил и стал вести себя более спокойно. Наконец, Феоктисту Ивановичу удалось вывести добычу на мелководье и теперь, из воды до половины торчала могучая спина с плавником. Было ясно, что по мелкой воде, волоком спиннингом, рыбу не вытащить. Замотав леску вокруг лодочного мотора, подтянув наверх «бродни», дед зашёл на тайменя снизу по течению. Упав и зажав его коленями, засунул пальцы рук под жабры, поднял и волоком потащил на сушу. У самого берега хотел приподнять над собой, так, чтобы хвост не касался земли. В это время, затихший было таймень, почувствовав, что его уносят от воды, «измудрился» и хлёстко ударил красноватым хвостом между ног рыбака. От неожиданности и боли, дед Феоктист упал на землю, выпустив рыбину.
Измождённый рыбак и его улов лежали рядом. Феоктист Иванович, тяжело дыша, рассматривал добычу. Вымазанный в песке таймень, был не на много короче рыбака. Он судорожно открывал жабры в надежде, продлить жизнь. Круглый рыбий глаз в упор, с каким-то укором и обидой, смотрел на деда.
— Что уставился? — стараясь отдышаться, поинтересовался Феоктист Иванович, — тяжело, брат, воздуха не хватает? — с каким-то участием, мысленно спросил человек. И сам себе ответил: — я знаю, как это тяжело! Иной раз, самого так прижмёт, хватаешь воздух раскрытым ртом как рыба, а его всё мало!
Таймень, как будто что-то понимая, пошевелил хвостом.
— Теперь шевелись, не шевелись, всё одно, конец!
— Что же ты, такой жадный, всё ел бы, да ел? На железку позарился, думал это рыбка! Вот и попался!
Неожиданно дед подумал о себе:
— А сам-то, такой же голодный и ненасытный! Что, дома есть нечего? Щи в чугунке на печи ждут, и картошечка на сковородке с салом! Так нет же, надо ещё кого-то жизни лишить. Порубит моя Катерина тайменя на куски и сварит царскую уху. Да, кто её есть-то будет? Дети далеко, внуки тоже! Некому есть!
Тяжело поднявшись на колени, дед Феоктист, отцепил блесну, проткнувшую нижнюю челюсть тайменя. Поднял его на руки, как ребёнка, осторожно ступая, зашёл по колено в реку, и опустил рыбу в воду. Осторожно смыл песок с головы и тела тайменя:
— Давай, плыви, пока я не передумал!
Тот постоял, словно раздумывая плыть, или нет, пошевелил плавниками, медленно направился в сторону глубины, всплеснув, исчез в темноте.
Сталкивая лодку в воду, Феоктист Иванович, неожиданно произнёс вслух:
— Чудить начал! Видать, старею! Ничего, Господь даст, ещё поживём!
Завёл мотор и помчался, по знакомой с детства реке, в свой посёлок, в тёплый дом, где, как в юности, ждала любимая женщина и вкусный ужин!
Дядя Коля
Рассказ.
Мир держится на чудаках
Дядя Коля слыл в посёлке чудаком. Чудаковатость его проявлялась во всём, в манере как попало одеваться, в стрижке «под ноль», которая в ту пору, ассоциировалась с недавним возвращением из мест не столь отдаленных. В качающейся «флотской» походке, напоминающей движения широкозадого портового буксира на боковой волне. В феноменальной, прямо «бабьей», болтливости, сопровождаемой энергичной жестикуляцией. В неугасимом желании всем помочь, подсказать, направить. В сочетании с твёрдой уверенностью, что именно его совет, в данное время, человеку просто необходим.
Дядя Коля любил спорить о политике. Сложное международное положение воспринимал им, как личные трудности, вместе со всеми скорбел о потерях и неудачах, и по-детски ликовал, в праздники и дни знаменательных дат.

Невысокого ростика, плотный, широкоплечий, с большой, коротко стриженой головой, и слегка, кривоватыми ногами, постоянно участвовал в каких-то спорах, распрях, собраниях, громко разговаривая и привлекая внимание слушателей. С большим желанием исполнял роль носителя протестного мнения масс. По этой причине иногда конфликтовал с начальством, и вынужден был менять место работы. Изъездив многие города и деревни, он наконец прибился в нашем посёлке, к дальней родне своей жены.
Но вскоре, вдрызг, разругался и с ними. Злые языки утверждали, что свояки не сошлись взглядами, при обсуждении политики нашей страны на Ближнем востоке. Жена с детьми изредка ходила к своей родне на другой конец посёлка. Коля был твёрд, как кремень в своём решении: — «сказал, ни ногой, значит, ни ногой!».
В свои неполные сорок, никаких особых высот в жизни, дядя Коля не достиг, богатства не нажил, «окромя» троих детей. Семья жила трудно, Коля работал водителем в Доме культуры и получал, более чем, скромную зарплату. Несмотря на сложный характер, как опытного водителя и не запойного мужика, его не единожды звали в местный леспромхоз, возить из тайги лес, на мощном «МАЗе». Сулили хорошую зарплату, премиальные, квартальные, путёвки на курорт и другие блага. Все заманчивые предложения и посулы, он безоговорочно отметал, со словами:
— Не нужны мне ваши «длинные» рубли! За «длинным» рублём надо ходить в длинные рейсы. А мне, как птице, нужна свобода, я творец! А чтобы творить, нужно время, личное время!
И действительно, вырубив более-менее пригодный лес вокруг посёлка, лесовозы ходили на новые делянки, на север к дальним не тронутым хребтам. Километров за семьдесят-восемьдесят, по опасным, извилистым таёжным трассам, через несколько крутых, трудных перевалов.
Коля оставался работать на прежнем месте, возил с железнодорожного вокзала на своём стареньком бортовом «газике» банки с кинофильмами, пачки новых книг, для библиотеки, забирал на почте свежие газеты и журналы. Выполнял другие несложные хозяйственные дела. Как сам дядя Коля хвастался в кругу друзей-водителей, ему доверяли и более серьёзные вопросы, государственной важности. Например, он перевозил в дальний, дровяной сарай, снятый с пьедестала памятник Сталину, ранее стоящий перед центральным входом. За работой людей, опасаясь провокаций, наблюдал представитель особого отдела, и присутствовал сам директор. Не каждый же день, вождей снимают!
Сарай был невысоким и тёмным. Чтобы спустить крюк крана, пришлось снимать с крыши листы шифера. Николай с трудом загнал машину под образовавшееся окно. Монумент аккуратно сняли и поставили в угол. Накрывая вождя старым брезентом, Коля, ни к кому не обращаясь, негромко пожелал:
— Вот теперь и ты в темнице постой. Может, ещё сгодишься, вишь, начальство как о тебе заботится — сбежались, боятся, что сломаем! А совсем недавно все тебя боялись и, говорят, любили!
За шумом работающего крана, никто из присутствующих не услышал его слов. Только директор повернулся, хотел что-то сказать, но передумал и пошёл к выходу.
Дядю Колю вдруг обуяла безрассудная смелость. Мог ли он, ещё несколько лет назад, не то, чтобы сказать, подумать подобным образом. В груди зашлось, будто качаешься на качелях. Он казался себе большим, сильным и отчаянным, как декабристы на Сенатской площади, памятник которым он видел на вокзале соседнего города.
С трудом уняв, внезапно нахлынувшую, удаль, он перегнал, как приказали, машину к памятнику Ленину в сквере. Который намеревались вновь водрузить на прежнее место, освободившееся после «отца народов».
Стоя в кузове, вроде как нечаянно, задержав опускаемые стропы на шее памятника, Коля заинтересованно, с хозяйской интонацией в голосе, громко и деловито осведомился:
— А этого-то, куда?
Директор, враз, побледнел, и предостерегающе закашлял. Особист сделал вид, что не расслышал и пошёл проверить крепость основания под монумент. Когда он достаточно отдалился, директор, с трудом скрывая желание закричать, свистящим шёпотом сказал водителю:
— Хочешь сесть гад, садись один! Мне надо, ещё детей подрастить!
— Ну что вы, Андрей Егорович, так разволновались! Сейчас не те времена, культа личности нет! Мы его развенчали!
— Развенчатель нашёлся! Молод, ты ещё! Как жеребёнок — стригунок в табуне, всё бы прыгал! На фронте повидал таких! Сболтнёт подобный герой, что не надо, по глупости, а «поутрянке», выведут его под конвоем перед строем. Стоит, сопли по лицу размазывает, а ничего уже не изменишь! Запомни, народная мудрость гласит, — главный судья — время! Оно всех и вся рассудит!
Взглянув на водителя, и поняв, что Колю остановить уже не возможно, его, как говорится — «понесло», директор махнул рукой и поспешил за особистом, показывая за спиной кулак. Сидящий в кране водитель, за шумом двигателя, ничего не слышал. Демонстрировать свою смелость, и отчаянную храбрость было не перед кем, и дядя Коля, неохотно, замолк.
Когда всё было закончено, и вожди заняли определённые им историей места, директор подошёл и тихонько, чтобы не слышал водитель крана, спросил Колю:
— А тебе то, что….? — тут Андрей Егорович споткнулся на слове, не зная, как правильно назвать того, о ком шла речь. Если просто — «Сталин», язык не поворачивался, привыкший к обязательной приставке, «товарищ». Но после того, что он узнал о вожде, и после того, как монумент свергли и увезли в тёмный угол, язык, точнее разум, не позволял назвать его «товарищем».
Директор нашёл выход, и сам внутренне обрадовался такому решению — «настоящий лектор, и в старости пропагандист». Поэтому кашлянув, продолжил, — тебе-то, что он плохого сделал?
— Пока не знаю, — отвечал вольнодумец, — просто за других обидно! За что люди страдали? — помолчав, ехидно спросил, — а вы что, против такого решения?
— Ты знаешь что? — вдруг набычившись, грозно сказал директор, — говори, говори, да не заговаривайся! Выискался, любопытный!
Дядя Коля не боялся директора, прекрасно зная, что этот, в высшей степени порядочный человек, не способен на подлость и предательство.
Нельзя сказать, что Николай был лентяем, но делать бессмысленную работу не любил. Даже занятие собственным огородом, считал делом не нужным и вредным, отбирающим время и силы. Несмотря на большую семью, скромные доходы, и постоянную нехватку денег, он не сажал главный овощ простых людей — картошку. Уход за этой неприхотливой культурой повергал его в уныние. Особенно Коля ненавидел процесс окучивания. Как натуре широкой, деятельной и творческой, ему была в тягость однообразная работа тяпкой, в пыли, под палящими лучами солнца. Перефразируя известное всем изречение, он часто говорил, глядя на копающихся среди грядок соседей:
— Летать рождённый, ползти не может!
Огородом и детьми занималась жена — худая, длинноносая, измученная жизнью женщина. Жутко ворчливая, но не злопамятная, вечно чем-то не довольная. Она нигде не работала и целыми днями, как квочка, топталась возле детей, не принося при этом ощутимой пользы. Две сестрёнки-погодки и младший брат, недавно научившийся ходить на ужасно косолапых ногах, постоянно бегали по двору, брошенными и неухоженными. В застиранной одёжке, нечесаные, с низменными зелёными потёками под шмыгающими носами. Спокойно глядя на чумазых детей, сама выросшая в большой, небогатой семье, она частенько говорила, с какой-то крестьянской покорностью:
— Не страшно, что немытые, грязь засохнет, да отвалится! Главное, все живы и здоровы, не босые и не голодные!
Тем не менее, дети часто болели. И когда мать, в очередной раз, ложилась с заболевшим дитём в больницу, Коля, не мудрствуя лукаво, перепоручал заботу об оставшихся детях, сердобольным соседям. За время отсутствия хозяйки, добрые люди отмывали, обстирывали, обшивали детей, отдавая одежонку от своих повзрослевших дочек и сыновей. К моменту возвращению матери из больницы, ребятишки приобретали нормальный внешний вид, выглядели свежими и румяными.
Дядя Коля не был безгрешен, как правило, в день получения зарплаты, он мог изрядно выпить, но оставался при этом «самоходным и держащим курс», мог балагурить и смеяться. Задиристый и говорливый в трезвом виде, он становился добрым, весёлым и лиричным после выпитого спиртного. Ложился на спину на крыльце, или в траву на лужайке перед домом. Мог часами возиться с детворой, изображая, то паровоз, то эсминец, на котором служил на Тихоокеанском флоте, или демонстрируя тувинский танец орла, который видел на празднике в Кызыле.
Но всё свободное время, вечерами, в выходные и праздники, он отдавал своей машине. Да, да, у этой семьи была собственная, достаточно редкая, по тем временам, машина!
Соседи, с легкой иронией, называли дядю Колю «Кулибиным», за постоянное желание что-то изобретать, переделывать, усовершенствовать. Целыми днями он не вылазил из своего дощатого, похожего на громадный шалаш, гаража. На скорую руку сколоченного хозяином из подручного материала. Там стояло, и ждало своего часа, его детище, любовь, страсть и смысл всей жизни. Там стояла она — его Машина!
История появления машины, стоит того, чтобы на ней остановиться подробнее. Подошёл срок, и в местной воинской части списали автомашину — редкий экземпляр — трёхосную полуторку. Большую часть своей длинной автомобильной жизни простоявшую на аэродроме, с большим, мощным прожектором в кузове. Несмотря на возраст, машина была на ходу и самостоятельно приехала во двор школы, как подарок детям.
Школа была восьмилетняя, не проникнувшееся тягой к технике молодое поколение, по достоинству не оценило этот бесценный дар. Единственный мужчина в школе, учитель труда Иван Трофимович, преподавал столярное дело и был так далёк от двигателя внутреннего сгорания, как африканский верблюд, от северного оленя. Самостоятельные попытки детей приобщиться к миру автомобилей, к счастью, не пошли дальше разбитых фар и выбитых стёкл. Несчастная машина простояла возле дровяного сарая несколько лет, со спущенными колёсами, разбитым приборным щитком и раскуроченным мотором.
Одному богу известно, что стоило Николаю договориться со школой и воинской частью, но разграбленную машину, волоком, он притащил к себе. Всё лето, как на вторую работу, он ходил в свой гараж. Невидимый за дощатыми стенами, что-то там отрезал, приваривал, стучал и громко матерился, неизвестно на кого. Жена часто навещала его мастерскую, там, как привязанная, ходила следом, надоедливым комаром, мелькающим перед лицом, ныла, ныла и ныла! Нет, она не ругалась, не кричала, а именно монотонно и нудно говорила одно и то же:
— Зачем тебе эта колымага? Она никогда не тронется с места, а ты тратишь на неё последние деньги! Скоро осень и старшей дочери надо будет идти в школу, у неё нет ни формы, не букваря, — жена не на долго замолкала.
Дядя Коля, воспользовавшись паузой, пытался оправдаться, говорил о том, что машину он делает для всей семьи. Ещё немного, и они будут ездить за ягодами, грибами, и просто отдыхать все вместе. Желая утихомирить жену, он даже пообещал, что согласен брать с собой в лес, её ругливую родню. Но слова не возымели результата, отдышавшись, женщина, как заново заведённая бензопила, монотонно, без остановок, продолжала его пилить:
— Сдай лучше всё это железо на металлолом! На носу зима, детям нужна одежда и обувь. А ты вчера, опять истратил пятёрку на эти проклятые подшипники!
Коля молчал, к его феноменальной настойчивости, прибавлялась тягучая терпимость. Он был, как красная, американская резина от самолётных камер, из которой пацаны делали рогатки. Сколько не тяни, не лопнет! Но однажды, ближе к осени, когда по замыслу конструктора, работа шла к концу, резина Колиного терпения лопнула.
Коля копался с капризным мотором, безуспешно пытаясь его запустить. Мотор, выдавая три-четыре хлопка, вроде бы запускался, и опять глох. Через какое-то время, следовала очередная попытка, с тем же результатом. По-видимому, для того, чтобы ещё раз продемонстрировать мужу бесполезность его труда, в гараж легкой походкой проследовала Колина супруга. Неизвестно, что она ему так неудачно сказала, чем вызвала такой взрыв. Окружающим показалось, что мотор всё-таки завёлся. Забубнил на самой низкой ноте, постепенно набирая обороты и переходя на более высокий звук. И вдруг все поняли, что это не мотор, а дядя Коля, так мастерски, забористо и зло материться.
Из приоткрывшейся створки дверей, как нашкодившая курица из чужого сарая, испуганно оглядываясь, выпорхнула Колина жена. Следом за ней, одним мощным пинком настежь распахнув ворота, вылетел сам хозяин. С перекошенным от гнева лицом, сверкающими глазами и взлохмаченной головой. Мощный, крепкий кулак, чёрный от въевшейся грязи и машинного масла, как карающий меч, вздыбился над устремлённой вперёд разъярённой фигурой. Изо рта вылетали слова и фразы, не поддающиеся переводу на обычный язык. Это была увертюра, верх совершенства и мастерства, отточенного годами упорных тренировок.
Мелкая ребятня, играющая неподалёку, как мальки от щуки, «пырснули» в разные стороны. Жена, сжавшись и втянув голову в плечи, в ожидании удара, летела к дому, голося одну фразу:
— Убивают, ой, убивают!
Он нагнал её возле самого крыльца, занеся руку над головой жены для удара. И готов был ударить. Но вдруг остановился, плюнул себе под ноги, потирая кулак, будто и впрямь ударил, повернулся, и быстро пошёл назад.
Через какое-то время, вышел из гаража, закрыл его и пошагал от дома. Дело происходило в субботу. Позже, кто-то видел его пьяного на реке, он сидел на берегу, смотрел на воду и плакал. На следующий день жена собрав ребятишек, уехала к родителям, благо они жили недалеко. В пустой квартире дядя Коля появился, только, во вторник, обросший и грязный. «Держа марку», за женой не поехал.
Уволился с прежней работы, к большому сожалению директора. Устроился водителем в леспромхоз, возил лес на широколобом «МАЗе», с блестящими быками на боковинах капота. Больше к своему гаражу он не подходил. В одиночестве дядя Коля провёл Новогоднюю ночь, несмотря на настойчивые приглашения соседей зайти на огонёк. Было слышно, как он всю ночь, терзал старую, хриплую гармошку, неумелой рукой выводя старинные флотские песни.
Жена прислала письмо соседям, сообщив, что деньги Николай, высылает справно. Старшая дочь пошла в школу, младшую и сына устроили в детский сад, где она работает нянечкой. На жизнь не жаловалась, укорив мужа за то, что поднял на неё руку, хотя и не ударил. Но из письма чувствовалось, в тайне она надеялось, что содержание письма дойдёт до мужа и он приедет попросить прощения.
Коля, в свою очередь, считал жену бесчувственным человеком, разбившим и растоптавшим его мечту. И ждал от неё извинений.
Накануне Восьмого марта, в очередной поездке, дядя Коля, спускаясь с обледеневшего перевала, попал в аварию. На одном из спусков отказали тормоза, — «как отрезало», педаль тормоза провалилась. Двадцать семь кубометров леса, привязанные прямо за кабиной, понесли старенький лесовоз вниз.
Мелькали повороты, придорожные деревья, водитель пытался замедлить движение ручным тормозом, включить пониженную передачу. Ничего не получалось, машина уже набрала скорость, коробка «репела», но не включалась. На очередном, крутом повороте, длинный роспуск завалился на бок, переворачивая тягач. Машина встала на крышу, произошёл пожар. Дядя Коля сильно обгорел, спасённый ехавшими навстречу водителями, был доставлен в больницу, несколько суток находился без сознания, жизнь его висела на волоске.
Первое, что он увидел придя в сознание, в узенькую щёлочку бинтов, закрывающих лицо, четыре пары знакомых глаз. Полные боли, сострадания и любви, глаза жены. И три пары детских, распахнутых, наполненных любопытством, страхом и интересом. Тёплая рука жены на бинтах груди, знакомый, тихий голос:
— Ничего, ничего, Коля, всё будет хорошо! Видно нам не судьба жить по-другому, лучше! Не судьба! — найдя своей ладонью его забинтованную руку, осторожно погладила. — Ты, главное поправляйся, выздоравливай! Худо нам без тебя! А потом, как сам решишь, где работать! Куда душа лежит! А машину свою, коль не можешь ты без неё, собирай, делай, пущай ездит! Но во всём меру надо знать! Всё будет хорошо, вон и ребятишки по тебе соскучились, твердят — «к папке поедем когда?» Ты выздоравливай, мы насовсем приехали.
Коле, несмотря на бинты, стало удивительно хорошо, так хорошо, что он даже испугался, зная, что когда всё так удачно и хорошо, обязательно потом будет плохо.
Николай пролежал в больнице до лета, ему проводили пересадку кожи, как он позже смеялся:
— Меняем кожу, с одного места, прямо на рожу! Теперь я как домино, шесть-шесть, или пусто-пусто — равный со всех сторон. Где хочешь, там и целуй — кожа одинаковая. Надо большим начальникам такие операции делать, чтобы люди пришедшие поздравлять, да целовать, так долго в очереди не стояли. Пропускная способность выше!
— Ох, Николай, добалагуришься! — смеясь, предупредил директор дома культуры, навестивший его в больнице.
Выписавшись по теплу он получил отпуск, для восстановления здоровья. Рубцы с лица и тела сходили медленно, но так совсем и не сошли. Он ещё долго не мог работать, такой был слабый. Потихоньку выходя во двор, открывал ворота гаража, брал стул, долго сидел, глядя на машину, и раздумывая. В этот момент он был похож на скульптора, установившего на рабочий стол заготовку для очередной работы, и задумавшегося, — с чего начать? Всё! Замысел созрел, руки привычно прикоснулись к холодной глине, она ожила, стала тёплой и податливой. Так и его руки, истосковавшиеся по железу, гайкам и ключам, требовали применения.
Соскучившись по делу, как голодный, набросился на работу. В августе, собрав пацанов, выкатил машину на улицу для окраски. Создавая свой шедевр, дядя Коля не углублялся в изыски дизайна, итальянская школа была ему, явно не знакома. Машина получилась простая, как её прародительница. Поставив на укороченную раму деревянный кузовок, соединённый с кабиной водителя, дядя Коля получил восьмиместный авто. Сесть в него, можно было только в передние двери, так как других, вообще не было. Задние колёса автомобиля, были больше передних, что добавляло проходимости и придавало машине хищный вид. Крыши, или тента, пока не было, и машина походила на автомобиль времён революции, на котором ездили наркомы, комиссары и чекисты.
Красили автомобиль в несколько слоёв, пока он не стал блестеть, как заводской.
Когда всё было готово, дядя Коля предупредил соседей о предстоящем показе. Жена и дети были рассажены на свои места — жена впереди, дети сзади. Они важно и величественно сидели в машине, ощущая важность момента и свою значимость.
Собравшиеся, молча, разглядывали творение изобретателя, не особо надеясь, что оно тронется с места. Вполголоса, выражая свои сомнения и замечания, стараясь не обидеть конструктора. Наконец из подъезда появился дядя Коля. Его выход, выглядел, так как будто он появился на освещённой арене цирка, под взглядами сотен восхищённых глаз, для выполнения захватывающего, сложного и опасного трюка. Под тревожную дробь барабана!
Водитель, не спеша, занял своё место, дверца, с шумом, захлопнулась, барабанной дроби не последовало, машина легко завелась, под одобрительные крики детворы тронулась и покатилась по улице. Затем, Коля прокатил всех желающих, невзирая на возраст, пол, и прежнее отношение к его увлечению. Он был на подъеме, он наслаждался славой и всеобщим вниманием. Ощущал на себе любовь близких, и почитание окружающих! Потом он поехал с семьёй в леспромхоз, проезжая по посёлку, ловил на себе удивлённые, восторженные взгляды людей. Жена и дети сидели ровно, подняв головы и расправив плечи. Они походили на членов императорской семьи в день коронации, или на героических лётчиков, преодолевших Северный полюс.
В гараже леспромхоза его все хвалили, многие завидовали. Он чувствовал себя центром внимания и всеобщего обожания. Глядя из машины сверху вниз, на людей, пожимая чьи-то протянутые руки, чувствуя себя великим и нужным, он неожиданно вспомнил о Сталине, одиноко стоящем в тёмном сарае, под пыльным и рваным брезентом. И простые слова директора, несущие вековую мудрость народа:
— Запомни, главный судья — Время!
Сон
Рассказ
Последнее время дед Василий потерял сон. Днём он был занят различными делами по хозяйству, но наступала ночь, и начинались мучения. Он долго ворочался на своей старой, скрипучей кровати и никак не мог заснуть. Вставал и, шоркая босыми ногами, бродил по холодным половицам дома, который построил своими руками, много лет назад. Смотрел через оконное стекло на освещённую мертвенным светом луны, улицу. Выходил в ограду и часами сидел на завалинке, любуясь звездным небом. Или, рискуя вывернуть шею, наблюдал за движущимися точками космических кораблей и спутников, в бескрайней, чернильной бездне Вселенной. Представляя счастливых, уютно спящих в невесомости космонавтов, и по-доброму завидуя им.
Но чаще, он ложился в постель, закинув руки за голову, вспоминал всю свою длинную, сложную жизнь, от начала, до настоящих дней.
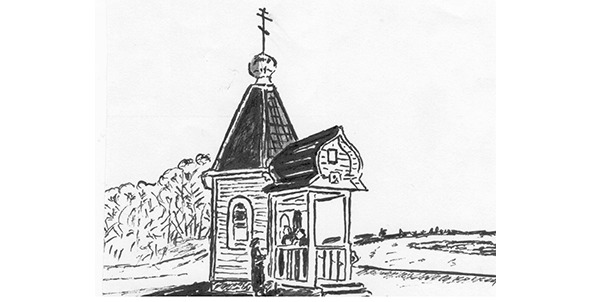
Лет Василию Михайловичу было немало — цифра давно перевалила за восемьдесят и упорно двигалась к сотне. Как он сам шутливо говорил: — «к личному Миллениуму». Отца Васятка не помнил, он умер от старых ран гражданской войны, когда сыну не исполнилось и десяти лет. От него остался широкий военный ремень и фуражка, с дыркой на том месте, где была кокарда, или звёздочка. Этим ремнём мать иногда охаживала его и младших братьев за проделки и шалости. Семья жила голодно и трудно. Вася, рано ушёл во взрослую жизнь, работал на железной дороге и учился на моториста. Помогая матери поднимать двух младших братьев.
Вечерами молодежь собиралась на околице села, в берёзовой роще. До утра пели песни, танцевали под гармошку, влюблялись. Была такая симпатия и у Василия — красивая, черноглазая, статная Светлана. Комсомольский вожак и инициатор всех добрых дел в селе. Обычно она приходила на посиделки со своей подругой Надей, полненькой, голубоглазой хохотушкой. Василий был безнадёжно влюблён в Светлану. Но признаться ей в своих чувствах стеснялся. А когда смелость всё-таки неожиданно накатывалась на него горячей волной, возле Светланы обязательно оказывалась её полненькая, закадычная подруга, и пылкое признание не получалось.
После окончания курсов мотористов, Василия направили на Айна-Булакский железнодорожный участок недавно построенного Турксиба, сменным мастером.
Вскоре началась война. Немцы стремительно продвигались к Москве. Родина Василия — маленькая деревушка на Брянщине, оказалась далеко в немецком тылу. Судьба родных и друзей была неизвестна.
Вместе со многими ровесниками, Василий в первые дни войны, поспешил в военкомат. Но был оставлен, до особых распоряжений, как работник железной дороги. Всё это время он пытался узнать, хотя бы что-то, о судьбе своих родных. Но все попытки были безрезультатны.
Повестка в армию пришла летом сорок третьего. Эшелон с пополнением грузился ночью. Измученные многочасовым пешим маршем на станцию погрузки, бойцы засыпали на жестких нарах теплушки, едва прикоснувшись головой к скатанным шинелям. Поезд шел, почти не останавливаясь, большую часть времени новоиспечённые солдаты спали. Стараясь выспаться «про запас».
Однажды утром Василий проснулся от шума голосов. Всё так же стучали колёса, пахло самосадом, у открытой двери вагона толпился народ.
— Вставай засоня, фронт проспишь! — толкнул в бок сосед по нарам, — ты же железнодорожник, объясни народу, куда мы едем?
Василий, держась за доску, выглянул в дверь, и посмотрел в голову состава. Сквозь мотающийся, чёрный, паровозный дым, проглядывало неяркое утреннее солнце.
— Мы едем на восток — неуверенно объявил он.
— Вот и я говорю на восток! — подтвердил пожилой мужчина, сплюнув на мелькающую под вагоном землю.
— Может ещё повернёт? — грустным голосом предположил молодой парень в очках.
— Я ещё ночью проснулся, на какой-то большой станции. Мы стояли. Потом прицепили паровоз — состав дёрнулся, и поехал задом наперёд. Вот так и едем! — продолжил пожилой, — пойду, посплю. На восток ехать далеко!
До августа сорок пятого года Василий служил недалеко от озера Ханка, на Дальнем востоке. Позже, с тяжёлыми боями, теряя друзей, воевал в отрогах Малого Хингана, освобождая Китай от японцев. Весть о капитуляции Японии встретил в Харбине.
Война давно закончилась, но Василий, как и его ровесники, прослужил в Китае ещё два года. Поражаясь бедности и трудолюбию китайских крестьян, с трудом, строившим новую жизнь и безмерно благодарных, Советской армии за изгнания со своей земли ненавистных японцев.
Из Китая писал письма в адрес сельского совета своей деревни, но ответа так и не получил.
Демобилизовавшись, приехал в родные места. Сойдя с поезда на знакомой станции, он не узнал округу. Всё было разрушено, из груды кирпича на месте вокзала торчали обугленные балки и скрюченные металлические конструкции. Под охраной двух автоматчиков, завалы разбирали пыльные немецкие пленные. Василий никогда не видел немецких солдат, пришедших на его землю жечь, убивать, грабить. Эти вымазанные в извести фигуры не вызывали у него, ни сочувствия, ни злобы, ни ненависти. Он их просто презирал, как мерзких пресмыкающихся, в обличье людей.
До деревни дошёл пешком, по разбитой колёсами и гусеницами знакомой полевой дороге. Вот и приметный взгорок, откуда, как на ладони видно всю деревню. С замиранием сердца поднялся наверх… На прежнем месте, деревни не было!
Среди чёрных, обгоревших стволов некогда зелёных тополей, в небо, как предостерегающие пальцы, торчали закопченные печные трубы и остовы сгоревших домов. Ни дымка, не лая собак, ни криков петухов. Жуткая, могильная тишина и тлен.
Поднимая ногами сухую, сыпучую пыль, оглядываясь по сторонам, побрёл, среди чёрных головёшек, к обуглившимся развалинам своего дома. Походил, по некогда просторному, ухоженному двору, в надежде найти среди обгоревших досок и кусков железной крыши, хотя бы что-то, напоминавшее прошлую, счастливую жизнь. Копнув ногой кучку сгоревшего хлама, поднял с земли наполовину сгоревший отцовский ремень с медной пряжкой. Оторвав от остатков ремня, Василий аккуратно положил её в карман.
Где-то вдали послышался скрип вращаемого колодезного ворота. Василий поспешил на звук. Возле наполовину сгоревшего здания школы, две женщины набирали воду из старого колодца. Здесь в детстве, пацанами, на большой перемене, пили обжигающе холодную воду, с криками обливая друг друга. Сейчас, на вытоптанной лужайке, несколько мальчишек гоняли нечто похожее на мяч.
Одна из женщин оказалась его бывшей соседкой, дом которой раньше стоял через дорогу, наискосок от родительского. Лицо другой, худенькой и коротко остриженной, показалось Василию знакомым. С трудом, он узнал в ней полненькую хохотушку Надю — подружку Светланы, его юношеской симпатии.
Вечером за ужином, в единственном уцелевшем школьном классе, женщины рассказали, что в посёлке, в вырытых на месте домов землянках, живут ещё несколько семей. В основном это люди, вернувшиеся сюда из эвакуации, или вовремя ушедшие в лес, к партизанам.
Из односельчан, оставшихся в селе в период немецкой оккупации, не выжил никто. Вначале, в селе стояла какая-то тыловая немецкая часть. Но, с активизацией партизанского движения в Брянских лесах, её сменили каратели. Светлану, как комсомольскую активистку и партизанскую связную, по доносу предателя, повесили вместе с младшим братом и матерью, на опушке любимой молодёжью берёзовой рощи.
Позже, понеся значительные потери в схватках с партизанами, озлобленные эсэсовцы, перед отступлением, согнали всех жителей, включая стариков и детей в клуб, и заживо сожгли.
Вместе со всеми погибла мать Василия, его самый младший брат, и престарелые родители Нади. Брата Василия — Фёдора, и Надю, вместе с другими подростками, незадолго до этого, угнали на работу в Германию. Там группу разделили. Мальчишек увезли в неизвестном направлении, и они больше не виделись. Надя попала работать на ферму к богатому немцу, и её в сорок пятом году, освободили американцы. Домой девушка вернулась накануне его приезда
Утром, они с Надей сходили на пепелище клуба. Осторожно ступая, словно боясь потревожить покоившихся здесь людей, обошли место громадного и жуткого костра. Прижавшись к груди Василия, Надя безутешно плакала, бесконечно повторяя:
— За что? За что они разрушили нашу жизнь? Убили близких и родных? За что сожгли наши дома, переломали судьбы? За что!?
Василий, стараясь успокоить девушку, гладил её по рано поседевшим волосам. Сам, с трудом сдерживая слёзы, глухо шептал:
— Мы выживем! Мы обязательно выживем! И будем помнить вас, любимые наши, всегда!
После страшной войны и ужасных потерь, на обожжённой земле, остались две раненые души, два одиноких и несчастных человека! Которым надо было жить! Наперекор всем бедам, горестям и лишениям! Жить, неся в себе неистраченную любовь, память о родных и любимых, желание заботиться друг о друге, и быть любимыми!
Так получилось, что Василий и Надя стали жить вместе.
Вскоре, малые, осиротевшие сёла объединили в одно, на центральной усадьбе. Через несколько лет, на месте погребального кострища, поставили скромный памятник односельчанам, погибшим на войне.
В пятьдесят четвёртом году, по зову партии и правительства, как и многие земляки, Василий и Надежда уехали на юг Западной Сибири, поднимать целинные и залежные земли. Строили посёлок и машинотракторную станцию в жуткие сибирские морозы, и валящие с ног, свирепые ветра.
Со временем, обзавелись собственным просторным домом. Василий, заочно окончил сельскохозяйственный техникум, и работал механиком в МТС. Надя, после курсов, трудилась медицинской сестрой в местной больнице.
Каторжные работы в Германии не прошли даром, жена часто болела. Лишь весной сорок девятого, наконец, родился старший сын — Анатолий. Второго желанного ребёнка родители, ждали многие годы. Супругам хотелось, чтобы это была девочка, но летом пятьдесят девятого родился мальчик, его назвали Виктором.
Конечно, пылкой, страстной любви между Василием и Надеждой не было. Их связывало уважение, пережитые трудности, общие тяжкие воспоминания и вера в счастливые дни. Подрастал сын, появлялись новые приятные заботы и решаемые трудности. Пару раз, родители ездили на Брянщину, поклониться отчей могиле. В надежде узнать что-то новое о своих оставшихся в живых родных и близких. Но новых сведений не было, а прежних соседей и знакомых становилось всё меньше и меньше. В однообразии лесостепи юга Сибири, новоселы, конечно, скучали по бескрайним лесам малой родины, по речке, с добрым названием Радица. По шуму сосен и елей, пению птиц, журчанию говорливого ручья на лесной опушке. Но больше съездить в родные места не получилось. Другие заботы и проблемы заполнили мир семьи.
В шестьдесят восьмом году Анатолия призвали в пограничные войска, служить пришлось далеко от отчего дома, на берегу пограничной реки Уссури.
Все эти воспоминания, иной раз, проскакивали в памяти мающегося бессонницей деда Василия, как одно мгновение. В другой раз, он долго возился на своей кровати, не в силах уснуть, а память услужливо воскрешала в подробностях всё прожитое и перенесённое. Даже то, о чём и не хотелось бы вспоминать, хотелось бы забыть, как ужасный, страшный сон, кошмарной памятью запечатлевшийся в мозгу. То, от чего замирало сердце, ноющей болью отдавая в левое плечо. Заставляя, хватать воздух громадными глотками, широко открытым ртом.
Дед Василий начал бояться ночи. Он ежедневно, с ужасом, ждал наступления вечера. Ненавидел тьму и луну, как измученная ночными страхами пичуга, ждущая рассвета. Жаворонком, радовался восходу и ликовал от первых лучей горячего солнца. Временами ветерану казалось, что он сходит с ума. Ночные воспоминания, странным образом переплетались с событиями дня текущего. Воспринимая одно, как продолжение другого.
Известие о гибели Анатолия, им принёс офицер военкомата поздним вечером шестнадцатого марта одна тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. Из его кратких объяснений родители узнали, что их сын пал смертью храбрых при защите государственной границы нашей Родины.
Как в тумане Василию, вновь виделся неприветливый, мрачный под лучами холодного солнца, город Иман, куда их с Надей привезли на военном самолёте. Центральная площадь, с кумачово-чёрными гробами на простых солдатских табуретках. Каменные лица часовых в изголовье погибших.
Их Толик, неожиданно незнакомый, длинный и суровый, лежащий в обитом изнутри белым материалом, ужасном гробу. С трудом узнаваемый, с бледным лицом и в военной форме. Не запомнились речи командиров и гражданских партийных лиц о том, что героические защитники острова Даманский пали смертью храбрых, защищая суверенные границы нашей страны. Их подвиг никогда не будет забыт советским народом.
Растерянным, не воспринимающим действительность, убитым горем родителям, вручили посмертные награды сыновей — медали «За отвагу». Состоялась гражданская панихида. В сквере площади возник чёрный холм братской могилы. Прозвучал траурный салют. Замёрзшие солдаты почётного караула прошли торжественным маршем. Командование и родители почтили память павших, подняв печальные тосты, в расположенной неподалеку, простенькой столовой.
И родители остались наедине со своими невыносимыми страданиями. Болью страшной утраты, пониманием необратимости жуткой реальности, её глубины и ужаса произошедшего.
Они вернулись домой, где их ждал, разом повзрослевший, младший, и теперь единственный сын, Виктор.
Шли годы. Гибель сына, как-то быстро, состарила родителей. И они, всю родительскую ласку и нерастраченную любовь обратили на оставшегося сына. Он рос крепким, сильным парнем. Общительным и заботливым. Успешно окончил школу, поступал в институт, но не прошёл по конкурсу и был призван в армию в Ставропольский край. Отслужив срочную службу во внутренних войсках, остался прапорщиком. Служил в каком-то «хитром» подразделении, ежегодно приезжал в отпуск, о своей службе особо не рассказывал. Там сошёлся с женщиной из местных, но детей, по какой-то причине, у них не было.
У Василия Михайловича был друг — одногодок Пётр Иванович тоже фронтовик, приехавший на целину, в одно время с Василием и Надей. Пётр Иванович после ранения сильно хромал и работал учителем. В последние годы перед пенсией, возглавлял коллектив учителей поселковой школы. В годы войны, он воевал на Кавказе. Вместе с боевыми товарищами остановил рвавшихся к Грозненской нефти фашистов в двадцати километрах от города. Был тяжело ранен, и после излечения на фронт больше не вернулся.
В январе тысяча девятьсот девяносто седьмого года, родители получили извещение, о том, что их сын, Виктор, выполняя свой воинский долг, погиб в Чечне. Надежда Петровна, после полученного сообщения слегла в больницу. На похороны Василий Михайлович ездил один. Как ему позже стало известно, автомобиль с группой Ставропольского ОМОН, в составе которой был Василий, подорвался на фугасе недалеко от Грозного. По просьбе вдовы сына, цинковый гроб с останками мужа, был похоронен по месту службы, в Ставрополе.
С трудом оправившаяся от болезни Надежда Петровна, как могла, поддерживала мужа. Они вместе занимались делами по хозяйству. Вечерами, вместе смотрели программы телевидения. Вместе писали письмо в программу «Жди меня», в надежде найти брата Василия Михайловича — Фёдора. Дед Василий, теперь, не представлял свою жизнь без ласковой заботы и участия жены. Они стали как бы единым организмом, продолжением и дополнением друг друга.
Старый друг Пётр Иванович, был едва ли не единственным жителем угасающей деревни, который выписывал газеты, в частности, «Аргументы и факты». Он особо не верил различным телевизионным каналам, соревнующимся в подаче «жареных» фактов. И больше полагался на «бумажные» издания, знакомые с детства.
Осенью двух тысячи четвёрного года Пётр Иванович принёс соседям газету с заметкой о работах по демаркации российско-китайской границы по рекам Амур и Уссури. И планируемой передачи Китаю ряда островов. Как выяснилось, остров Даманский, ещё в тысяча девятьсот девяносто первом году, был передан Китаю. И китайцы построили там музей, в память о своих военнослужащих погибших в ходе конфликта.
Сообщение повергло стариков в шок. Оказалось, что их сын отдал жизнь неизвестно за что. Надежда Петровна в очередной раз заболела, слегла и больше не поднялась. Дед Василий, схоронив свою спутницу жизни на маленьком деревенском кладбище, долго и тяжело переживал потерю. Первые дни ходил к свежему холмику почти каждый день. Сделал оградку, лавочку и столик. Подолгу сидел и думал о жизни, под тихий шелест старых тополей и берёз. Он остался один в пустом и грустном доме. Потихоньку саднящая душевная рана немножко зарубцевалась. Сердце смирилось с неизбежностью потери и необходимостью жить дальше.
Никогда ранее, особо не верующий в Бога Василий Михайлович, незаметно для себя, стал частенько останавливаться перед потемневшей от времени и пожара иконой. Привезённой Надей из сожжённой немцами брянской деревни. И установленной, несмотря на протесты мужа, в переднем углу.
Молитв дед Василий не знал, и разговаривал с ликами святых, шепча простые, обыденные слова, обращаясь к ушедшим из жизни жене и детям. И вроде, на душе становилось легче, а одиночество уже не так терзало измученную душу.
К очередной зиме начали сильно болеть ноги, посещение могилы жены стали редким событием.
На огонёк к другу, стал чаще захаживать Пётр Иванович. Он тоже был вдовцом и жил в семье старшей дочери. Друзья подолгу спорили о международных событиях, о войне, о христианской вере, о стране и её руководителях.
Разговаривая о людях, погибших на фронтах прошедшей войны, друзья были солидарны в том, что это были не напрасные жертвы. Другое дело погибшие после Отечественной войны, в различных конфликтах и непонятных войнах. Тут взгляды друзей расходились. Пётр Иванович считал, что любые жертвы были принесены в «высших интересах государства».
Дед Василий не соглашался с ним, уверенный в том, что жизнь граждан, и является «высшей ценностью страны». И что большая часть потерь и трагедий, кроется в непродуманной политике вождей.
— Посмотри сам, — доказывал он приятелю, — мы разгромили японцев в Китае, принеся мир на эту землю. И что дальше? Сами же оттуда ушли в пятьдесят четвёртом. Нас никто не гнал! Взорвали укрепления, которые мы, в том числе и я, строили на границе, ожидая нападения Японии. А потом в шестьдесят девятом, бились на Даманском с внуками тех, кого освободили от японцев. Там погиб мой старший сын. Теперь страна, без боя, отдала этот остров. Не нужен, стал? Тогда зачем людей столько положили. За что? Это что, — высшие интересы? Может для страны мой Толик капелька, песчинка, винтик в большой политике! А для нас с Надеждой — это кусочек нас! Наша кровинушка, наша боль и мука на всю оставшуюся жизнь. Видишь, не выдержало несправедливости материнское сердца, и остался я один.
Василий Михайлович тяжело вздохнул и замолчал, отдавшись воспоминаниям.
— Мой младший брат был призван на службу в самом конце войны, — заговорил дед Пётр. Фронт давно продвинулся на запад, к Берлину. А он в составе частей НКВД, очищал Прибалтику от недобитых «лесных братьев». И погиб уже после Победы, в одной из операций осенью сорок восьмого. И что теперь? Теперь мы, уйдя оттуда, стали «оккупантами». А затаившиеся фашистские недобитки, — героями. Я уже не говорю про Европу, откуда, по глупости руководителей, бежали, как побеждённые! А Афганистан, куда мы пришли, как сейчас выясняется, неизвестно зачем. И положили там тысячи лучших сынов, наш генофонд, последствия чего, нам ещё аукнутся!
— Мой Витька был убит в девяносто седьмом под Грозным, который ты защищал от немцев в сорок втором, — вновь заговорил Василий Михайлович. — Кому была нужна эта чеченская война? Никому! Только с нашей деревни там погибло трое парней. А теперь, заново отстроили Грозный, лучшие мечети, аквапарки, стадионы. Что, нельзя было раньше договориться миром? Если бы на этой войне воевали дети тех, кто бездумно эту войну организовал, уверен — договорились бы! И мой сын был бы жив! Стал бы моей опорой под старость. Неужели во всех странах, так безжалостно обходятся со своими гражданами во имя интересов государства?
Распрощавшись, Пётр Иванович уходил. А Василий Михайлович, с затаённым страхом, ложился в кровать. Бессонница, не заставляла себя долго ждать и являлась. Уставший и измученный дед Василий считал до тысячи, пытаясь заснуть, старался вспомнить какие-то радостные и светлые воспоминания из детства, бессмысленно глядел в темноту улицы. Наблюдая как безразличная, бледная Луна передвигалась, вместе со звёздами, из проёма одного окна, в другое, а сон всё не приходил.
Однажды вечером. Василий Михайлович, не дождавшись друга, лёг и неожиданно для себя, крепко уснул. Ему снилось поле, густо усыпанное ромашками, по которому шла его молодая жена Надежда, держа за руки маленьких сыновей. Затем, он увидел себя лежащим на траве рядом с её могилой, а прямо перед лицом, моталась под порывами ветра сломанная ветка старого тополя.
— Не успел спилить, — с каким-то сожалением, как об умершем, подумал дед Василий, — жаль!
Он протянул руку, чтобы убрать ветку, но неожиданно на неё села красивая, белая, как первый снег, незнакомая птица, с пушистым перышком в клюве.
— Наверное, гнездо, где-то поблизости строит, — подумал Василий Михайлович и проснулся.
На улице было совсем светло, слышались голоса людей и звяканье ведер у колодца.
Он лежал, осмысливая увиденное во сне.
— К чему бы это? Может, грозят неприятности? Или наоборот? Была бы жива Надя, растолковала бы сон.
Никто с собой во сне его не звал. Красивая птица тоже внушала что-то хорошее.
— Надо сходить проведать Надежду, — подумал дед, — давненько я там не был.
Привязав к своему потрёпанному велосипеду раскладную лестницу, захватив пилу, Василий Михайлович отправился за околицу, в маленькую рощицу, где располагался местный погост. Отдыхая несколько раз, он благополучно добрался до знакомой оградки. Действительно, задевая памятник, над могилой раскачивалась уже успевшая засохнуть ветка. Вскоре она была отрезана и убрана.
Василий Михайлович долго сидел на скамейке, думая о чём-то своём. Сходил на соседнее поле, нарвал целую охапку полевых ромашек и положил к памятнику.
Возле калитки дома его поджидал Пётр Иванович. Оказывается, в его отсутствие из района приезжала почтовая машина с письмом из Москвы. Телевизионная программа «Жди меня» информировала Василия Михайловича о том, что в Канаде отыскался его брат Фёдор. И пересылала деду Василию его письмо. Трясущимися руками Василий Михайлович, вскрыл испещренный печатями и штемпелями конверт.
Кривыми, почти печатными буквами, незнакомым подчерком, брат кратко сообщал, что жив, здоров, проживает в городе Виннипег в Канаде. Женат, и собирается с двумя сыновьями, в ближайшее время, навестить старшего брата.
От радости дед Василий сначала потерял дар речи, отдышавшись, радостно повторял:
— Приедет, приедет! Понимаешь, брат Фёдор приедет! С сыновьями! Моими племянниками! Живыми и здоровыми! Вот счастье-то!
Без вести пропавший
Повесть
Выжившим в тяжёлых боях, и
оставшимся на полях сражений — посвящаю.
Три обыкновенных буковки алфавита, записанные в учётную карточку бойца РККА, рукой штабного писаря. В лучшем случае нанесённые на рабочей карте начальника штаба стрелкового батальона, каким-либо самостоятельно придуманным значком. Среди множества таких же кружочков, крест-накрест перечёркнутых и обозначающих места захоронения своих убитых, с датой и фамилиями, написанными неразборчиво, химическим карандашом. Синих кружочков, перечёркнутых единожды, нанесенных в местах взятия в плен живых солдат противника, с обязательным указанием даты и наименования подразделения, к которому принадлежал пленный.
Специального тактического знака, обозначающего место, где боец пропали без вести, Боевым уставом не определено. Обычно, исчезновение происходило в скоротечных боях в ходе отступления, или прорыва кольца окружения. Времени задержаться, или вернуться на место боя, для эвакуации раненых, убитых и сбора личных документов, как правило, не оставалось. А коль убитым, пропавшего солдата никто не видел, с поднятыми вверх руками, в сторону противника он не уходил — значит, судьба его неизвестна.
Он, может быть, где-то рядом, выходит из окружения, с боями, пробивается к своим, возможно, воюет в партизанском отряде, залечивает раны у сердобольных жителей оккупированных территорий, или раненым и контуженным взят в плен.
Шёл июль сорок второго года, немцы, опьянённые успехами, рвались к Сталинграду. Противоборствующие стороны несли громадные потери, обстановка требовала жёстких мер.
28 июля 1942 года народный комиссар обороны И. В. Сталин обратился к Красной Армии с приказом №227, больше известным, как «Ни шагу назад!». Предусматривающим самые жестокие меры к трусам и паникёрам. Попавшие в плен бойцы и командиры РККА, приравнивались к предателям Родины, они и их семьи, подвергались репрессиям и ограничениям свобод.
Поэтому командиры воюющих частей и подразделений, в скоротечных боях, не имея достоверных сведений о потерях, чаще записывали в документах, короткое — «БВП». Не вычёркивая человека из списка живых, оставляя родным призрачную надежду на чудо и возможность, как-то избежать преследования властей.
А на утро была война.
Григорий Улыбин до войны успел закончить семь классов сельской школы и пойти в обучение к колхозному кузнецу дяде Платону. Семья Улыбиных жила тяжело, отец — Иван Феоктистович, выходец из уральских казаков, участник империалистической войны, одним из последних, вступил в создаваемый колхоз. Ловил с артелью, на Чебаркульском озере рыбу для колхоза. Зимой, в жуткие морозы, со льда ставил сети, бывало и ночевал с друзьями возле них. Рыбакам выдавали «ледовые» сто грамм. Во время одной из таких ночёвок на льду, у костра, в беседе о народившемся в Германии фашизме, Иван Феоктистович неосторожно обмолвился, что «если бы не революция, то уральские казаки, ещё тогда, проехали бы на своих конях по берлинским улицам». Какой-то «доброжелатель стукнул куда надо». Бригадиру рыбаков припомнили казачье прошлое, Георгиевский крест, нежелание вступать в колхоз, и враждебные разговоры. Заседавшая «тройка» постановила — «десять лет лагерей».
Верная жена Люба осталась с тремя детьми в старом, родительском, доме, на берегу озера.
Гриньке, как звала Григория мать, учиться было не на что и особого усердия, в этом нелёгком деле, сам обучаемый не проявлял. Старший брат Михаил, женился и жил своей семьёй. Младшая сестра Евгения, по мнению неграмотной матери, обязательно должна была закончить «семилетку». После седьмого класса обучение было платным, скромный бюджет семьи, вряд ли его смог потянуть обучение двоих детей.
Улыбин рос не по возрасту крепким, сильным парнем. По-цыгански черноглазый, с пышной казачьей шевелюрой и тонкой талией. Многие местные красавицы тайно вздыхали по видному жениху. Но сердце Григория принадлежало одной единственной, — однокласснице Катерине, под стать Григорию красивой, стройной, с тонкими чертами лица и тугой косой, переброшенной на высокую грудь. Она продолжала учиться в средней школе. Отмахав целый день в душной кузнице тяжеленным молотом, помывшись и наскоро перекусив, Гринька отправлялся в местный клуб на танцы. Потом влюблённые долго бродили босиком по мокрому песку озера. Под лёгкие вздохи набегающих, ласковых волн. Смотрели на яркое отражение громадной луны и миллионов звёзд в зеркальной глади спящего озера. Строили планы на будущее и бесконечно целовались.
Тёплым, летним утром, когда счастливые выпускники школ, после выпускного вечера и праздничных гуляний до утра, вернулись домой. Чёрная тарелка репродуктора, голосом Левитана объявила:
— Внимание, говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит! Победа будет за нами!
Вся прошлая жизнь, с её проблемами, мечтами, трудностями и заботами, оказалась смятой, скомканной и раздавленной чеканными словами страшного сообщения.
Жизнь на долгие годы и десятилетия разделилась на «до, и после войны».
Григорий, как многие его сверстники, поспешил в военкомат. Уставший, издёрганный, с не выспавшимися глазами работник военкомата, осипшим голосом ответил:
— Молод ещё! Лучше матери помоги! Надо будет — вызовем!
Вскоре в небольшой уральский городок, стали эвакуировать с запада заводы. На пустыре срочно возводились заводские корпуса, Григорий устроился в кузню. Целыми днями делал скобы, навесы, кованые гвозди, так необходимые в строительстве.
Маршевая рота
Прошла первая военная зима, наступило лето. Фронтовые сводки пестрели названиями городов, оставленными в кровопролитных боях советскими войсками. Улыбин наконец получил повестку и был направлен для подготовки в Еланские лагеря. Несколько раз к нему приезжала Катерина, они успевали быстро переговорить о домашних делах, постоять, обнявшись, и Григорий бежал на громкую команду строиться.
Маршевую роту отправили внезапно. Ещё вечером они спокойно ужинали под навесом летней столовой, а уже ранним утром следующего дня, смотрели в открытую дверь вагона на мелькающие кусты, телефонные провода, маленькие полустанки, сонные леса и зелёные лоскутки дальних полей.
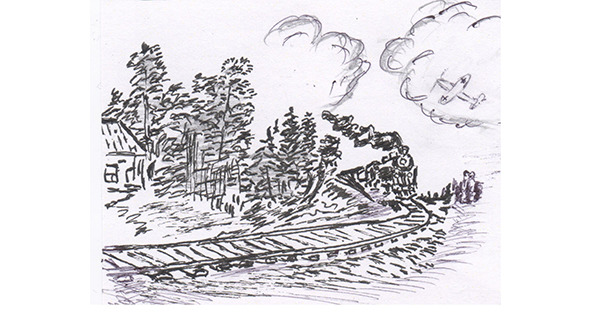
Эшелон шел, почти не останавливаясь, навстречу проносились санитарные поезда, с громадными красными крестами на обшарпанных боках вагонов. С кровавой белизной бинтов в окнах, с измученными болью лицами раненых бойцов и уставших санитаров.
Перемахнув Волгу, ощетинившуюся стволами зенитных орудий по обоим берегам, поезд двинулся на юг, кто-то из знающих людей, предположил:
— В сторону Сталинграда везут!
Вечером, когда солнце низко опустилось к горизонту, и на его огненный шар было больно смотреть, оттуда, со стороны солнца, сквозь его яркое сияние, прилетели немецкие самолёты. Первый взрыв потряс состав, вагоны заскрежетали, налезая друг на друга. Поезд остановился. Паровоз истерично загудел, выбрасывая вверх тугие струи белого пара. Люди бросились от вагонов в поле. Падая при близких разрывах, вскакивая и продолжая бежать, когда стук падающих сверху камней и звон осколков, переставал будоражить воздух.
Фашисты действовали безнаказанно, в эшелоне не было даже зенитных пулемётов. Несколько раз раздались бесполезные выстрелы из винтовок. Самолёты, истратив боекомплект, низко ушли на запад. Два вагона лежали на боку, один из них горел, выбрасывая вверх оранжевые языки пламени и чёрного дыма. Паровоз отцепился и уехал вперёд. Командиры построили людей. Потери были значительные. До поздней ночи, оставшиеся в живых, собирали растерзанные и простреленные тела погибших. Их укладывали в большую воронку от бомбы возле самого полотна железной дороги. Улыбин никогда не видел столько мёртвых людей. Стаскивая тела в кучу, стараясь не вымазаться в, ещё тёплой крови, Григорий избегал смотреть на обезображенные смертью лица тех, с кем, ещё несколько минут назад, курил, одну на двоих самокрутку. С кем спал, укрывшись одной шинелью. С кем ходил в школу, купался в озере и жил на одной улице. Кто, так и не доехал до фронта, не сделал ни единого выстрела, не убил ни одного фашиста. И в чей дом, на улице возле озера, заплаканная женщина-почтальон, на днях принесёт казённый треугольник похоронки, со словами — «Ваш сын (муж), пал смертью храбрых, в боях за независимость нашей Родины!»
Марш.
Всю оставшуюся часть ночи и следующий день они шли, останавливаясь на короткие привалы, питаясь тем, что получили ещё в Еланских лагерях, и не успели съесть в поезде. Улыбину показалось, что они шли целую вечность. Ночью, в кромешной темноте, спотыкаясь о кочки, засыпали на ходу, тыкаясь в спины впереди идущих. Днём, в полусне передвигая ноги, Григорий видел беспощадное солнце, блеск примкнутых штыков, мерно покачивающихся в красноватом мареве пыли, поднятой сотнями ног, одетых в солдатские обмотки.
Самым тяжким испытанием стало отсутствие воды, её не видели целый день. К вечеру вышли к какой-то, заросшей кувшинками, речушке. Многие упали у воды, и пили, пили, пили! Командиры разрешили, выставив охранение, поспать. Наиболее выносливые, искупались, плавая среди белых кувшинок. Остальные, измученные переходом, заснули моментально, едва прикоснувшись головой к горячему песку.
С последними лучами солнца, в небе появился связной У-2. Встретившие его офицеры маршевой роты, о чём-то долго беседовали с рослым человеком в кожаной куртке, прилетевшим на самолёте.
Самолёт застрекотал, взлетел и растаял в чернильной синеве ночного неба. Последовала команда, построиться. Поредевшую роту разделили на две части, каждая колонна пошла своим, собственным маршрутом. Вскоре шум уходящих, бряцанье оружия, негромкие разговоры, покашливание поглотила ночная мгла.
В лёгком тумане следующего, раннего утра, измученное пополнение стояло в строю перед своим новым командиром, поздравившим бойцов с прибытием в прославленную стрелковую дивизию. Была середина июля сорок второго года.
На правом берегу Дона
Дивизия вела тяжёлые оборонительные бои, отходя на восток к реке Дон. Немцы всё плотнее и плотнее сжимали кольцо окружения. В начале августа, основная часть советских войск переправилась на левый берег Дона. Соединения, прикрывающие отход основных сил, вели бои в окружении с превосходящим противником, на его правом берегу. Оказались в окружении дивизия и полк, где служил Улыбин. Немецкие танковые подразделения с ходу, прорывали редкую цепочку обороняющихся советских войск. Используя моторизированные части, развивали наступление в глубину, расчленяя боевые порядки обороняющихся. Поредевшая дивизия, едва насчитывающая в своих рядах и половину списочного состава, вынуждена была прорываться на восток отдельными группами.
Григорию Улыбину везло, неоднократно попадая в серьёзные переделки, он не был даже легко ранен. Получилось так, что после скоротечного боя с прорвавшимися мотоциклистами и последующего трёхдневного скитания по полям, Григорий прибился к небольшой группе пехотинцев, действующей в качестве десанта танка БТ-7, пробивающегося к своим. Командование сборным подразделением принял на себя лейтенант — командир танка.
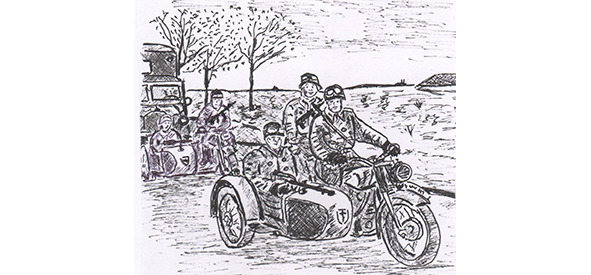
Было ощущение, что по всем дорогам, проселкам и просто по неубранным полям, на восток движется громадное количество немецкой техники. Тяжело переваливаясь на ухабах, ползли танки с крестами на броне, в открытых бронетранспортёрах, осторожно двигающихся по грейдеру, торчали головы пехотинцев в касках, обгоняя эти колонны, мчались мотоциклисты в громадных очках, с пулемётами на турелях колясок.
Казалось, что стоит только выглянуть из лесистой балочки, где спрятался танк со своим десантом, как вся эта моторизованная, бронированная армада повернёт на них.
В танке остались только патроны к пулемёту, и горючее на десяток километров. Пехотинцы вооружённые трёхлинейными винтовками имели пару обойм патронов к ним. С таким арсеналом пробиться к своим за Дон, было невозможно
Лейтенант-танкист предложил свой план — невдалеке через маленькую речушку был переброшен деревянный мостик. К мостику, с обеих сторон вела высокая насыпь грейдера. Немецкие танки объезжали слабенький мостик несколькими километрами ниже по течению речки, размесив там дорогу в кашу, и сделав её непроходимой для любой колёсной техники. Через мосток проходили в основном штабные машины, грузовики, колонны мотоциклистов и пехоты.
Тут и было решено устроить засаду. Танк замаскировали в густых кустах на западном берегу реки, пехотинцы оборудовали позиции на холме восточного берега. Лейтенант инструктировал бойцов:
— Ждём мотоциклистов. В первую очередь стреляйте по пулемётчику в коляске. Не дайте ему возможность, первому открыть огонь. А водитель от нас и так не уйдёт! С большой колонной связываться не будем — пропустим! Дождёмся маленькую и рассчитаемся за всё! Открывать огонь по сигналу красной ракеты!
Ждать пришлось недолго, на западе послышался шум моторов, и на дороге показалась колонна, состоящая из машины с будкой, похожей на радиостанцию и шести мотоциклов. Некоторые мотоциклисты ехали втроём, на других машинах был только водитель и пулемётчик. Противник, совершая марш в собственном тылу, за десятки километров от переднего края, потерял всякую осторожность, солдаты поснимали каски, пулемётчики в колясках развалились в полудрёме, наслаждаясь солнечным днём. Передовой мотоциклист, как будто что-то почувствовав, на секунду задержался на взгорке перед въездом на грейдер. Но офицер, открыв дверцу кабины автомобиля, скомандовал, махнув рукой — вперёд! Машина и мотоциклы съехала на насыпь. Когда первый мотоцикл достиг средины моста, в небо, шипя, взвилась красная ракета. И тут же ударили выстрелы «трёхлинеек». Колонна встала, водитель первого мотоцикла, потеряв пулемётчика, пытался проскочить вперёд. Но, не проехав и нескольких метров, был убит, мотоцикл съехал с насыпи и перевернулся. Придавив не успевшего соскочить третьего пассажира. Водители других трёхколёсных машин и автомобиля, пытаясь развернуться на узкой насыпи, сгрудились в кучу, мешая друг другу. Дело довершил танк, неожиданно возникший сзади колонны. Ведя огонь из пулемёта, на большой скорости он буквально снёс мотоциклы с экипажами, превратив их в груду бесформенного, окровавленного железа. Оставшиеся в живых немцы, во главе с офицером, пытались, миновав луг, укрыться в ивняке. Но были убиты огнем танкового пулемёта и стрельбой пехотинцев.
По команде лейтенанта, выставив наблюдателя, окрылённые победой окруженцы, стали собирать трофейное оружие. Механик-водитель танка слил горючее из бензобака автомобиля, пехотинцы принесли от мотоциклов, ещё несколько неповреждённые канистр с бензином, и заправили боевую машину. Все трофеи уложили на танк. Из будки автомобиля достали несколько папок с документами на немецком языке. Но так как, никто не владел немецким, все документы затолкали в портфель убитого немецкого офицера, и положили в танк. Трое пехотинцев пошли в поле осмотреть тела пытавшихся убежать немцев, забрать личные документы у офицера, собрать оружие и «термоса» с едой.
Улыбин, вспомнив про первый, перевернувшийся под насыпь мотоцикл, решил сбегать к нему. Держа в готовности взведённый «шмайссер», он приблизился к перекинувшемуся вверх колёсами мотоциклу. Мёртвый водитель, раскинув руки, лежал наверху насыпи, рядом валялась каска. Скрюченные ноги убитого Григорием пулемётчика, торчали, придавленные коляской. Третий, маленький, худой немец, сидящий на заднем сидении в момент опрокидывания мотоцикла, не успел соскочить на землю. И сейчас был вмят в мягкий грунт между мотоциклом и коляской. По-видимому, у него были повреждены ноги, или не хватило сил поднять мотоцикл. Он лежал на животе, головой в сторону подошедшего Улыбина. Заслышав шаги, приподнял голову, встретился глазами с Григорием и попытался поднять ствол своего автомата. Но Улыбин оказался проворнее, руки привычно сделали свою работу, автомат в руках коротко дёрнулся. Голова немца, вздрогнув, уткнулась лицом в чужую, неласковую землю.
За последний месяц Григорий видел много смертей. Много раз стреляли в него, стараясь убить, стрелял, убивал и он. Не испытывая при этом ни малейшего чувства жалости к этим нелюдям, пришедшим на его землю убивать, грабить, мучить людей. Хотя, в горячке боя, как и все остальные, он меньше всего думал о священном долге, сыновней обязанности и прочих, высокопарных вещах. Надо было просто выполнять свою тяжёлую и грязную работу, максимально стараясь при этом остаться живым в жерновах этой чудовищной, кровавой мясорубки. Таковы безжалостные законы войны — «Если не убьешь ты, то, убьют тебя!».
До этого ему не приходилось сталкиваться с врагами так близко — лицом к лицу. Он ни разу не участвовал в рукопашных схватках. Выходило так, что стрелять приходилось с расстояния десятков метров. Не видя при этом лиц и глаз врагов
Глаза этого маленького немца, придавленного мотоциклом, ещё долго преследовали Григория. За одно мгновение в них пронеслось множество чувств. Угасающая мечта, что русские его не найдут. Животный страх через мгновение быть убитым. Искорка надежды, что он всё же успеет выстрелить первым. И всё испепеляющая ненависть к этому смуглому, дикому азиату, который сейчас убьёт его — представителя высшей, арийской нации. А сам останется жить.
Улыбин, собрав боеприпасы, фляжки и еду, вернулся к танку.
По немецким тылам
Лейтенант торопил увлёкшихся сбором трофеев подчинённых. В любое время могла появиться другая, более многочисленная колонна немцев.
Десант вскарабкался на танк, и они помчались. Проехав несколько километров, свернув в лес и углубившись в заросли, остановились. Командир построил своё обвешанное оружием войско и объявил, что каждый из шести бойцов десанта, может оставить себе один немецкий автомат и все имеющееся к нему патроны. Остальное оружие пришлось закопать. Григорию и ещё одному рослому бойцу, поручили, помимо автоматов, по немецкому пулемёту MG-42. Лейтенант объяснил, как надо вести огонь во время движения. За что и как держаться, чтобы не упасть на землю.
— Наши действия должны быть неожиданными и стремительными. Для этого нужно ошеломить противника огнём, скоростью нашей боевой машины, и если хотите, наглостью! Любой из вас, по ранению, или по неосторожности упавший во время боя с танка, будет оставлен! Рисковать всеми, я не имею права!
Оба пулемёта, установили на башне. Вдоль корпуса машины, с обеих сторон, протянули толстую веревку от укрывочного брезента, для большей безопасности десанта.
Осторожно выбрались на дорогу, используя прекрасные скоростные качества «бэтэшки» помчались на восток. Не останавливаясь, миновали два населённых пункта, не встретив немцев. Возле развалин следующего посёлка, смяли пост полевой жандармерии, на двух мотоциклах ехавших навстречу. Во второй половине дня, догнали пешую колонну немцев. Внезапным огнём из всех видов оружия и гусеницами, нанесли им значительные потери и рассеяли по придорожным кустам.
Часом позже, разогнали колонну тыла какой-то части, перевернули и зажгли два топливозаправщика.
Естественно, весть о «бесчинствах» одиночного танка в тылу германских войск, дошла до немецкого командования. Дальнейшее следование этим маршрутом было небезопасно. Пришлось выбрать дорогу южнее, менее загруженную немецкими войсками. С наступлением темноты, пристроились в хвост длиннющей колонны понтонёров и «обоза» немецких войск, двигающейся в направление Калача.
Но и тут, их уже ждали, колонна двигалась всё медленнее и медленнее. Чувствовалось, что впереди какой-то проверочный пост. Сзади стали подходить другие части, советский танк оказался почти в центре колонны. Пока окруженцев спасала темнота, но любой вопрос, или начатый соседями по колонне разговор на немецком, мог раскрыть обман. Лейтенант решил положиться на внезапность:
— Всем быть в готовности! Будем прорываться! — шёпотом передавали пехотинцы друг другу.
Колонна потихоньку двигалась. Впереди появились неяркие огни. Прозвучали лающие, немецкие команды, замелькали фонарики. Ждать было нельзя!
Негромко подрабатывая двигателем, танк вышел из колонны и начал обходить её справа, по кювету. Кто-то, ругаясь недовольным голосом, пытался остановить машину, с другого борта, невидимый в темноте человек, чем-то железным застучал по броне.
— Вперёд! Огонь! — прокричал лейтенант и первым ударил очередью из автомата в темноту, на звук голосов. С бортов танка дружно загремели трофейные автоматы. «Бэтэшка», царапая бортом соседние машины, под испуганные крики и ругань немцев, рванулась вперёд. Механик-водитель включил фары, в их свете стало видно, как не успевшие отскочить немцы исчезали под танком. Другие, пытались спрятаться между автомашинами, или бежали в темноту — в поле.
Сталкивая в кювет всё попадающееся на пути, танк, волоча перед собой легковую машину, снёс закрытый шлагбаум и полосатую будку часового. Столкнув несчастную легковушку на стоящие возле дома мотоциклы, понёсся по тёмной улице города. Выбежавшие из дома с фашистским флагом гитлеровцы, стреляли по боевой машине. Пули «цокали» по броне и с противным воем уходили в разные стороны, Никуда не сворачивая, прогромыхав по единственной, длинной улице, танк выскочил на окраину. Их никто не преследовал. Отъехав на приличное расстояние, свернули в лес и перевели дух. Не досчитались одного пехотинца. В горячке боя, никто не заметил, когда он упал. Ещё один боец был ранен в грудь, хрипло дышал, но находился в сознании. Наскоро перевязав раненного, двинулись дальше. Командир предположил, что до берега Дона осталось совсем немного. Вероятно, советские части уже переправились через реку, мост в городе Калач, или взорван, или контролируется немцами.
Из восьми человек группы, лишь четверо умели плавать. По приказу предусмотрительного командира, у одиноко стоящего в поле сарая, оторвали половину широких дверей, уложили на танк и крепко привязали.
Короткая летняя ночь двигалась к рассвету. На севере шёл бой, гремели взрывы, в небе, догоняя друг друга, проносились трассирующие очереди. Изредка, ослепительным светом, вспыхивали прожектора, белые длинные руки лучей шарили по небу. Не найдя никого, как подкошенные, падали на землю.
Наконец впереди заблестела река. Стараясь не шуметь, вышли к воде, поблизости никого не было. Противоположный тёмный берег, тоже затаившись, молчал. Странно и неестественно, как звук, прилетевший из другой жизни, над гладью воды разносилась витиеватая трель соловья.
Сняли с танка раненого, дверную «воротину», всё патроны и оружие, немецкие документы. Экипаж выбросил на песок свои нехитрые пожитки. Нашли обрывистый, но невысокий берег. Танкисты, со слезами на глазах, как с человеком, простились со своей боевой машиной. Механик водитель, тихонько отогнал танк выше, на пологий берег. Направил его в воду, привычно выбравшись из люка, соскочил на землю. Почти неслышно урча мотором, машина раскатилась по пологому спуску, с шумом, поднимая брызги, ушла в воду. Через минуту, только поднимающиеся из глубины, и лопающиеся на поверхности пузыри воздуха, указывали то место, где покоилась грозная боевая машина.
Импровизированный плот осторожно спустили на воду, и положили на него раненного. Улыбин, механик-водитель и умеющий плавать лейтенант, стараясь не шуметь, направили плот к противоположному тёмному берегу. Остальные, держась за ворота, изо всех сил, дружно гребли руками.
Когда в чернильной темноте ночи стали видны кроны деревьев на противоположной стороне, что-то тяжёлое, принесённое течением, мягко ударило Улыбина в бок. Он, подумав, что это какое-то бревно, повернувшись, хотел оттолкнуть. Прикоснувшись рукой, понял, что это раздутое тело утопленника. От неожиданности, Григорий громко сматерился.
На берегу послышался какой-то шорох, сиплый, прокуренный голос негромко спросил:
— Кто плывёт?
— Свои! — за всех ответил лейтенант, — из окружения выходим!
Выбравшись на берег, они оказались перед хмурыми бойцами со старшиной во главе:
— Мы слышали, как на той стороне подошла какая-то техника, — тем же прокуренным голосом рассказал он — потом вроде, что-то всплеснуло, как будто лодку столкнули в воду. Вас сильно снесло течением, но мы слышали, что кто-то плывёт, и шли за вами по берегу. Я думал немецкая разведка. Но потом по шуму поняли, что для разведки, вы слишком шумите. Если бы кто-то из вас не заматерился по-русски, точно открыли бы огонь. Так что, повезло, выходит!
Через час они уже были в землянке командира батальона. Оказалось, что «окруженцы» вышли в расположение своей же, поредевшей в боях, дивизии. Вручив лейтенанту бумагу о том, что представившие её не являются дезертирами, отправили с провожатым в тыл. Тыл находился не далее трёх километров. Он одновременно являлся командным пунктом полка, штабом дивизии, медсанбатом, особым отделом, и районом формирования новых подразделений. Сдав раненого товарища в медсанбат, бывшие «окруженцы» оказались в руках строгого, до чёртиков уставшего, особиста. По-видимому, за день перед его глазами прошёл не один десяток таких чудом выживших в оборонительных боях за Доном. Ситуация, когда одновременно, в окружении ведут тяжёлые бои ни отдельные батальоны и полки, а целые дивизии, циркулярами его ведомства определены не были. Да и невозможно, за столь короткое время проверить тысячи человек с трудом пробившихся к своим, с чужим оружием, без документов с единственным желанием — воевать! Поэтому убедившись, что все прибывшие умеют писать, капитан раздал им листки в «клеточку», огрызки карандашей, рассадил в разные места на поляне и предложил описать всё произошедшее за дни скитания по немецким тылам.
Представитель особого отдела мог, по малейшему подозрению, отправить этих людей в отдельные общевойсковые, комендантские роты, для приведения в исполнение приговора, который он сам же им вынес. Или расстрелять лично любого, заподозрив его в пособничестве врагу, сославшись на исключительные обстоятельства, требующие немедленного действия. В особых случаях, он мог отправить подозрительную личность ещё дальше в тыл, где «умелые специалисты», могли бы «выжать» из него, всё! Даже то, что человек никогда не знали, и не мог знать.
Но тогда некому было бы воевать, сражаться с врагом. Они, прошедшие ад окружения и отступления, не единожды смотревшие в глаза смерти, имеющие громадный опыт ведения боя, и навыки убивать. Могли стать основой неприступной обороны, построенной на умении, каком-то кураже, точном расчёте, жгучей ненависти, самопожертвовании, и уверенности в конечной победе!
Вновь сформированный батальон состоял из красноармейцев и командиров самостоятельно, или в составе подразделений, вышедших из окружения. Зачастую это были люди ранее не знавшие друг друга. Научившиеся в окружении, надеяться только на себя и с опаской относящиеся к мало знакомым людям.
На подступах к Сталинграду.
Осенние месяцы обороны Сталинграда, стали для Улыбина и его сослуживцев сущим адом. Немцы на широком фронте, смяв сопротивление малочисленных советских соединений, форсировали Дон. За каждый населённый пункт, отдельно стоящее здание, маломальский ручеёк, или ложбинку, велись нешуточные бои. Григорий помнил, как в течение нескольких дней, переходила из рук в руки никому не нужная дамба высохшего канала. Устилая его дно десятками тел убитых и раненых.
Имея превосходство в артиллерии и преимущество в авиации, немцы часами «молотили» по обороне отходящих к Сталинграду войск. В небе стояло сплошное марево песка и мелких камней, поднятых вверх десятками взрывов. Казалось, что большая часть земли, постоянно находится в воздухе, не успевая оседать на грунт. Солнце красным, жарким пятном маячило далеко, в недосягаемой вышине. В этом мареве жары, песка, взрывов и осколков, перемещались, перебегали, переползали, чудом уцелевшие, люди. Прятались в осыпавшихся, разрушенных окопах и блиндажах. И как былинные герои, вновь поднимались из пепла, чтобы в очередной раз, остановит врага.
Остро не хватало воды, атаки немцев следовали одна за другой. Бывали дни, когда за день, приходилось отбивать пять — шесть атак превосходящей пехоты с танками. Знойный воздух, был наполнен приторно-сладким запахом разлагающихся тел, в несколько рядов лежащих перед брустверами. Этим отвратительным запахом было наполнено всё — земля, песок, ветер, любая еда и вода. От него некуда было спрятаться и скрыться. Он преследовал, даже ночью, в коротком, чутком, тревожном сне.
С наступлением темноты, смельчаки ползали за бруствер к убитым немцам — принося фляжки с водой, патроны к трофейным автоматам, так называемые «термоса», с сухими галетами, порошок для газировки и шнапс. Несколько раз участвовал в этих «походах» и Григорий. Ползти надо было далеко вперёд, туда — к «свежим» немцам, которых не успели обобрать в предыдущих вылазках.
Улыбин никогда не забудет противный холодок мёртвых тел, как будто на рынке, трогаешь рукой, неожиданно тяжёлый, ледяной, как бы изнутри, кусок кровавого мяса. Иногда переворачиваемое тело, утробно вздыхало, или икало. Вселяя ужас и отвращение.
Поначалу Григорий не мог есть то, что приносили с ужасного поля. Но потом постоянное хождение по узкой грани между жизнью и смертью, спокойное отношение к мысли о возможной собственной гибели, стёрли эту брезгливость, заложенную самой природой в генах «человека разумного».
Из друзей, вышедших с Улыбиным из окружения, остались — он, и лейтенант-танкист, ставший за неимением танков, командиром стрелкового батальона. Улыбин дослужился до командира взвода. Офицеров в батальоне почти не было. Всех выбили немецкие снайпера, прекрасно определяющие прибывших командиров по фуражкам, портупеям, и пилоткам темного цвета.
Война продолжалась. Немцы, любыми путями и громадными жертвами рвались к Сталинграду. Советские войска, не меньшими жертвами, как в огромной мясорубке, перемалывали живую силу и боевую технику врага, создавая условия для решительного наступления.
Через месяц упорных боёв в составе сводного полка, собранного из остатков дивизии, Улыбин, со своим взводом, оборудовал окопы в новом районе обороны полка, на подступах к Сталинграду. Зубцы разрушенных зданий, грохот бомбёжек, чёрные облака дыма, вздымающиеся к самым небесам, говорили о том, что город за спиной жив, и что он сражается!
Плен
Улыбин попал в плен в начале октября сорок второго, на ближних подступах к Сталинграду. Был обычный день, с утра отбили очередную атаку гитлеровцев, сплошным потоком, как тараканы, ползущих по покрытой первым инеем земле, оставляя за собой тёмные следы.
Затем, по заведённому немцами порядку, был обед. По окончании послеобеденного отдыха, немцы вновь пошли в атаку. На этот раз, их поддерживали три танка, осторожно двигающихся следом за пехотой. Внезапно стреляющих во всё, что, по их мнению, могло представлять опасность.
Расчет противотанкового ружья, разбив гусеницу ближайшего танка, заставив его остановиться. Два других танка, дружно ударили по обнаружившему себя расчёту. Тот замолчал. Григорий поспешил на помощь вышедшему из строя противотанковому средству. Когда он почти дополз до нужной ячейки, земля перед Улыбиным разверзлась. Последнее, что он увидел — громадный серо-жёлтый фонтан земли, медленно осыпающийся на него и закрывающий всё небо. Потом наступила темнота, с пляшущими, под разными углами, одинаковыми картинками, и жуткая, отдающаяся в самый затылок, тишина.
Очнулся он от удушья. Что-то громадное, как танк, всей тяжестью давило на грудь. Улыбин с трудом выполз из-под толщи песка, отплёвываясь и стараясь отдышаться. Вокруг начинало светать. По дымящемуся полю ходили какие-то люди, нагибаясь и рассматривая что-то на земле. Изредка слышались одиночные выстрелы. В голове не переставая, гремело несколько громадных, басовито звучащих, колоколов. Каждый удар болью отдавался в ушах, в глазницах, судорогами сводя челюсти.
Качающиеся фигуры приблизились к нему. Приоткрыв запорошенные песком глаза, Григорий опознал в них двух немецких солдат, с автоматами в руках, присевших и, с интересом, всматривающихся в его лицо. Неожиданно вспомнился маленький немец-мотоциклист, убитый на мосту, и его запомнившийся, полный мгновенных мыслей, взгляд.
Стволом автомата немец показал, что надо встать. Качаясь, Григорий поднялся, горизонт предательски закачался перед глазами. Громадным усилием воли он остановил эти гигантские качели. С трудом, передвигая ноги, обходя трупы, шатаясь, выбрался на дорогу и пошёл, подталкиваемый автоматом, ощущая тепло восходящего солнца у себя за спиной. На большом перекрёстке полевых дорог, истязаемого жуткой головной болью и приступами тошноты Григория, втолкнули в колонну, таких же сумрачных, перевязанных грязными бинтами, еле бредущих, пленных.
Колонна шла весь день, периодически в хвосте длинной ленты пленных, звучали короткие очереди и одиночные выстрелы.
— Раненых добивают, — негромко сказал, идущий рядом, средних лет, мужчина в нижней рубашке и без сапог. — Тех, кто идти не могут! Вот сволочи!
— Не тяжело босиком идти — осведомился Улыбин, — земля-то холодная?
— Ничего потерплю! Вчера вечером, какие-то бандюганы из штрафбата забрали сапоги и китель.
На закате пришли в лагерь. Временным, фильтрационным лагерем назывался заброшенный песчаный карьер, с отвесными стенами, жиденькими деревцами наверху и единственной дорогой ведущей вниз. Перегороженной спиралями из колючей проволоки, огромными деталями каких-то карьерных механизмов и пулемётными гнёздами, из мешков с песком, по обеим сторонам дороги.
Не пересчитывая, пленников отправили вниз. Большая часть громадного карьера, была занята сидящими и лежащими людьми. Особого интереса к вновь прибывшим, они не проявили.
Жутко хотелось пить. Кто-то из старожилов лагеря, сказал, что в одном из закоулков карьера, есть небольшой родник. Когда Григорий его нашёл, всё малюсенькое зеркало воды, было занято головами лежащих и пьющих людей.
Попив. Вместе с босым мужчиной, нашли кусочек незанятой земли и растянулись на тёплом песке. Сон сморил моментально. Разбудил голос из репродуктора, льющийся сверху. Суть услышанного, сводилась к следующему:
— Запрещается, пытаться подняться вверх по склону.
— Запрещается приближаться к выходу наверх ближе 50 метров.
— Запрещается устраивать драки между пленными.
— Запрещается разводить костры
— Запрещается иметь при себе любое оружие.
— Запрещается, в ночное время перемещаться по территории лагеря.
За все данные проступки, предусматривалась единая мера наказания — «Расстрел».
— За помощь администрации лагеря в обнаружении коммунистов, комиссаров, командиров всех степеней, и евреев — полагалось дополнительное питание и перевод в лагерь с более мягким режимом содержания.
Как выяснилось позже, питания в этом фильтрационном лагере, вообще предусмотрено не было.
Ночью, наверху заводили движок, и яркий луч прожектора до утра ощупывал каждый метр карьера.
Никому не нужные, голодные и подавленные, пленники просидели несколько дней. Голодные схватки в урчащих желудках прекратились, и голод не ощущался так болезненно.
Среди пленных Григорий встретил земляков и даже тех, с кем ехал в эшелоне.
За эти дни, Улыбин, как в цветном кино, прокрутил свою жизнь, начиная с той поры, когда он начал себя помнить. Вспомнились моменты, о которых он раньше и не вспоминал. Причём чаще перед глазами, во всех красках, мелькало то, о чем, и вспоминать-то не хотелось. Какие-то мелкие, но постыдные моменты, большие события, не менее постыдные, но более приятные в воспоминаниях. Вспомнился злющий бригадир колхоза, пьяница и матершинник, горько пьющий до беспамятства и частенько засыпавший, под каким-нибудь кустом в поле. Однажды мальчишки отловили его пасущегося коня, положили пьяного поперёк седла, связав вместе руки и ноги под брюхом коня. Привезли ночью в село, к дому председателя, привязали коня к палисаднику и крепко постучали в ставни. Бригадира сняли, и вскоре посадили. Гринька хорошо запомнил опухшее от слёз лицо и бесцветные, выплаканные, казалось до дна, глаза его жены. Стоящей посредине дороги, среди четырёх детишек, держащихся за подол матери и недоумённо всхлипывающих, вместе с ней.
Вспомнилась невестка соседей — Тамара, бойкая, пышногрудая, молодая женщина, муж которой на три года завербовался на восток, мыть золото. Она каждый четверг, вечером, одна мылась в бане на задах своего огорода. Однажды потемну, как ему казалось незаметно, Гринька подкрался к подслеповатому, запотевшему окошечку бани. Но был пойман, заметившей любопытного подростка женщиной, затащен в баню, раздет догола, познав впервые в жизни то, что пацанам его возраста, только снилось. Он никому не рассказывал об этом, даже своим лучшим друзьям. Безуспешно пытался встретиться с Тамарой на улице, но она делала вид, что его не знает, а всё произошедшее, ему только приснилось. В конце концов, он и сам в это поверил.
Вспомнил маму, сестру и Катерину. С сожалением Улыбин ощутил, что вероятно, на этом свете, встретиться с ними больше не придётся. И эта мысль почему-то не испугала, он встретил её спокойно, как само собой разумеющееся. Григорий вспомнил, что последний раз писал домой ещё из поезда, передав письмо для отправки, идущему к вокзалу за кипятком, старшине. Прошло почти полгода, родные, наверное, потеряли его.
Человек из СС, с глазами змеи
Редкая ночь обходилась без стрельбы трусливой охраны. Каждое утро хоронили пленников, умерших ночью. Назначенные немцами старшие по секторам, пересчитывали людей, определяли убитых. Трупы подтаскивали к песчаной стенке, лопатой, выданной охраной, откапывали в песчанике нишу, укладывали туда умерших. После этого начинали копать с боков. В итоге, подкопанная стена молниеносно осыпалась, погребая тела. Пару раз засыпало и похоронную команду. Несчастных пытались откопать голыми руками. Но, через полчаса, как правило, находили только задохнувшихся. Поиски не прекращались пока не находили лопату, которую необходимо было сдать немцам.

Через несколько дней, приехал «человек из СС». Всех пленников построили, улыбчивый, молодой эсэсовец, пытающийся говорить по-русски, не спеша, обходил строй, постукивая стеком по перчатке левой руки. По известным только ему признакам, он выискивал в толпе измученных людей свои жертвы, и тыкал им в грудь стеком. Охранники хватали несчастного и тащили его к стенке карьера.
С другими он предварительно ласково разговаривал, пытаясь узнать интересующие его подробности их жизни. Люди, предчувствуя страшный финал беседы, путались в словах, заикались, с трудом отвечая на вопросы весёлого немецкого юноши, с глазами кобры. Невнятные ответы только утверждали эсэсовца в правильности его выбора. В начале шеренги сытые охранники, с трудом вытащили из строя двух, не менее сытых, здоровенных, упирающихся мужиков, с наколками почти на всех частях оголённых тел
— Ты есть комиссар? — спросил эсэсовец одного из них, указывая на его шитые, хромовые сапоги.
— Господин офицер! — завыл мордатый, — это не мои сапоги! Я их снял с комиссара!
— А почему ты не «сообщал» об «этот комиссар» охране? Ты «есть» его скрывал? — вновь спросил немец и махнул стеком. Владельца сапог потащили в стенке.
— Ты тоже есть «политичный» работник? — спросил офицер у следующего пленника в тёмно зелёном френче старшего командного состава, со споротыми знаками различия.
— Нет, нет! Господин офицер, я блатной! Я вор! — запричитал мужик.
— Вор, это очень «плёхо» — назидательно изрёк немец. — Русский «меньш» всегда есть вор! Это очень плёхо! — и показ на стену
Вора поволокли к стене. Там он самостоятельно стоять не смог, упал на колени, матерясь по-блатному, и истово крестясь.
Немец приблизился к Улыбину, бегло оглядев, ткнул в грудь. Григорий увидел в его глазах безразличие ядовитой змеи.
— Юдэ?
— Нет, я русский! — твердо ответил Григорий, хотя сердце его сжалось в жутком предчувствии, и готово было выскочить из груди. Стоящие в строю пленные, загалдели:
— Он казак! Из казаков! Уральских!
Немец улыбнулся, сузил пальцами рук глаза, как это делают, изображая жизнерадостных японцев.
— Казах, есть вот так! — и засмеялся своей сообразительности.
— Я, казак! — как последнюю надежду прокричал Улыбин, изображая сидящего на коне всадника.
— О, ты есть Пугачёв? — продемонстрировал свою начитанность немец. И тоже изобразил, что держит поводья и качается в такт езды.
Указывая на брюки Григория, приказал:
— Я хотел смотреть! Ошибка не есть правильно!
— Снимай штаны! — загалдела толпа, — пускай полюбуется!
Григорий спустил брюки. Немец посмотрел и поморщился:
— Сколько день назад ты весь «милься»?
— При форсировании Дона! — отчаянно ответил Улыбин.
Немец, кивнув головой, показал, что можно встать в строй.
Не веря в спасение, Григорий, на ватных, дрожащих ногах, вернулся в строй.
Пройдя до конца шеренги, улыбчивый фашист вытащил из стоя ещё несколько человек. В основном это были, как говорят в народе, «чернявые» мужчины. А также люди, своей статью и выправкой, не способные скрыть прежние, солидные, должности и звания.
Немец пошёл к выходу, махнув рукой офицеру охраны. И не повернулся даже на звук автоматных очередей, скосивших всех, стоящих возле стены.
Новый знакомый Улыбина, Валерий вечером, глядя на кучу песка на том месте, где днём расстреляли людей, сказал:
— Те уркаганы, были в моём кителе и сапогах. А ты говоришь, босиком трудно ходить! Зато, в сапогах легко лежать!
Григорию подумалось — наверное, родственники этих, таких разных людей, лежащих под грудой песка, никогда и не узнают, где закончилась жизнь их родных и любимых. И будут ждать до последних дней своей жизни, как числящихся в списках — «Без вести пропавших».
Неудавшийся побег.
Через несколько дней пленных погнали за Дон, откуда они с тяжёлыми боями, теряя друзей, и земляков пришли сюда. На маленькой железнодорожной станции, в ожидании вагонов, пленных разместили за забором некогда существовавших складов. На ночь их загоняли в громадный холодный пакгауз. Где люди спали на бетонном полу, укрываясь, чем придётся. Наступила осень, на дворе было холодно и сыро. Кроме рваной гимнастёрки, лоснящихся от грязи галифе, громадных ботинок и обмоток у Улыбина ничего не было.
Новый знакомый Валерий, с которым они теперь не расставались, где-то добыл приличный кусок пропитанного маслом, старого брезента. И теперь, беззлобно подшучивал над Григорием:
— Как же ты в плен собирался, ничего с собой не захватил? На что надеялся?
— Зато ты в новый френч и сапоги вырядился, как в отпуск ехал! — отвечал другу Улыбин.
На ночь они вместе закутывались в этот брезент и спали, согревая друг друга.
Григорий уже знал, что его новый знакомый был водителем у какого-то большого начальника из политуправления армии. Валера донашивал щёгольскую форму своего франтоватого командира. Возвращаясь из поездки по дивизиям первого эшелона, они заблудились. Попали под огонь прорвавшихся немецких танков, машину разнесло вдребезги, дивизионный комиссар и корреспондент военной газеты погибли на месте. На следующее утро контуженого водителя, немецкая трофейная команда, передала конвою пленных. Вечером того же дня, недавние «зэки», неизвестно как попавшие в армию, по трусости оказавшиеся в плену, и на свою голову позарились на его амуницию.
Однажды под вечер, крикливый солдат конвоя приказал друзьям и ещё нескольким пленникам, выносить ведрами воду из громадного чана, где мылись чистоплотные арийские солдаты. Воду выливали в жёлоб, под забор окружавший территорию. Григорий заметил, что среди травы и кустов под забором есть небольшая дырка, достаточная чтобы пролезть двум худым людям. Когда работа была закончена, пленников отправили в пакгауз. Пользуясь темнотой и не желанием конвоира под холодным дождём сопровождать пленных, друзья прошли мимо места своего ночлега. Исцарапав руки и лицо, пролезли под колючей проволокой и оказались на воле. Всю ночь они шли, стараясь, как можно дальше, отойти от станции. На рассвете друзья неосторожно набрели на пост полевой жандармерии, замаскировавшийся в кустах, на перекрёстке дорог.
Не утомлённые боями и лишениями «Цепные псы», «отмолотили» измождённых пленных до потери сознания. А затем, на мотоциклах гнали несколько километров перед собой, до ближайшего лагеря пленных. На счастье беглецов, их возвратили в другой фильтрационный лагерь. И неминуемый расстрел за побег они, чудом, избежали.
При оформлении, Улыбину, вновь пришлось пройти унизительную процедуру доказательства, что он не еврей.
В новом лагере царили несколько другие порядки. Все пленники были учтены, взамен трудно произносимых немцами русских фамилий, каждый имел порядковый номер, нанесённый хлоркой на одежде, с левой стороны груди. Пленников плохо, но кормили, раз, или два раза в день. В лагере были собраны лица, имеющие рабочие, или горняцкие специальности. Улыбин числился как кузнец. Прибывшие в лагерь через пару недель чины СС, и какие-то гражданские чиновники, провели углубленную проверку контингента. Улыбин попал в команду на отправку, Валерия отправили в другой лагерь. Больше они не виделись.
Ночью отобранных к отправке, пинками, ударами прикладов, погрузили в товарные вагоны и захлопнули двери. Паровоз негромко просигналил, состав, гремя буферами, тронулся. Ехали долго, изредка на остановках, в приоткрытую дверь засовывали два ведра отвратительно пахнувшего варева, и помятое ведро с водой. В углу вагона специально было вырвано две узеньких доски, куда пассажиры справляли нужду. Однажды вечером, обессилевших, еле передвигающихся пленных, выгрузили из вагонов, под усиленной охраной с собаками, улицами спящего неизвестного города, по мосту, перевели через неширокую реку. И погрузили в другие, уже не советские вагоны, более чистые с двухэтажными нарами. Ехали ещё два дня, еды не давали и двери вагона не открывали. Выгрузили на окраине небольшого городка, судя по терриконам, шахтёрского.
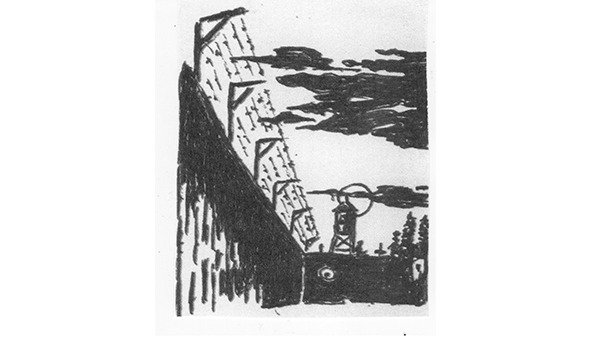
Лагерь Аушвиц три.
Разместили в двух бараках, огороженных колючей проволокой, с пулемётными вышками по углам.
Подъём в пять часов, завтрак — превращённая в клейстер картошка, жидкий чай. Перед выходом на работу пленников тщательно пересчитывали. Люди заранее строились по командам. Работали на двух шахтах и в ремонтных мастерских. Улыбин был определён в кузнечный цех. Там стояло три кузнечных горна и столько же механических молотов. На этом оборудовании работали гражданские кузнецы, из местных поляков. Григорий был назначен помощником к старому поляку Юзефу, они работали в отдельной пристройке. На древнем, как в колхозе, горне раздуваемом вручную, с привычной наковальней, набором всевозможных молотов и молоточков. Работа была несложная — различные дверные навесы, задвижки, щеколды, скобы. Вечером, перед возвращением в лагерь, всех, вновь пересчитывали и тщательно обыскивали. Затем следовал ужин, из пары картофелин «в мундире», которые высыпали на пол посредине барака. Построение, оглашение норм, задач на следующий день и отбой. Выход из бараков в ночное время был запрещён. «По нужде» ходили в вонючие вёдра у входа в барак.
В этом лагере без особых причин пленных не расстреливали — берегли рабочие руки. Особо провинившихся, больных и обессиливших отправляли в другой лагерь, как правило, группами по пятьдесят человек
Юзеф когда-то жил в России и сносно изъяснялся по-русски. Несколько дней старик присматривался к своему новому подмастерью, прежде чем решился заговорить:
— Григорий, я вижу, ты рабочий человек. Старайся работать без замечаний. Тебе повезло, ты попал в лагерь Аушвиц-3, здесь пленные работают на местных шахтах и фабриках. Живут трудно, голодно, много и тяжело работают, но остаются живы. Всех провинившихся, пытающихся убежать и саботирующих работу, отправляют в Аушвиц-2. Этот лагерь — фабрика смерти, оттуда не возвращаются. Парень, работающий до тебя, в мой обеденный перерыв, пытался выковать себе нож. За этим занятием его поймал немец-инженер, начальник цеха. Несчастного забрали прямо от наковальни и до самых ворот, эсесовцы из охраны били его. Потом я узнал, что его отправили в Аушвиц-2. Хотя я не видел его замысла, начальник охраны, гер Гюнтер ударил меня в лицо, и выбил два зуба.
Юзеф оглянулся по сторонам и добавил:
— Отсюда не убежать. Жди, придёт время, они получат за всё! — улыбнулся, показав щербатый рот, — я старый человек, не лишай меня последних зубов!
Для выполнения технических работ, Улыбин и Юзеф однажды спускались в шахту. Надо было починить вагонетку. Увиденное в шахте произвело на Григория тяжкое впечатление
Пленные добывали остатки угля в выработанных штреках. Все более-менее исправные средства механизации, были давно демонтированы. Поэтому весь процесс добычи осуществлялся вручную. В узких забоях, кирками, ломами и лопатами добывали уголь, при свете лампочки прикреплённых на каске. По узкоколейной железной дороге, проложенной под землёй, люди, впрягшись по несколько человек, тащили куда-то вагонетки с углём. Было душно, с потолка капала вода, под ногами, обильными потоками бежали ручейки. В некоторых местах потолок штолен был укреплён подставленными брёвнами. Зная, на какую глубину, они спустились, представив висящие над головой десятки метров породы и сотни тонн грунта, установленные подпорки из хилых жердей показались Улыбину насмешкой.
Когда они поднялись наверх, Григорий с облегчением вздохнул. Юзеф рассказал, что каждая бригада имеет задание на смену. Если, по каким-то причинам, пленные не выдают «норму нагора», их просто не поднимают наверх. До тех пор пока они эту норму не выполнят. Под землёй нет охраны, надсмотрщиков и немецкого персонала.
Были случаи, когда пленные отказывались выходить наверх. Эсэсовцы просто пускали в вентиляцию газ. На место погибших присылали новых пленников.
Восстание.
В начале зимы сорок третьего года эсесовская охрана заметно погрустнела, между пленными пошли разговоры о неудачах немцев на восточном фронте и возможной отправке свирепых охранников в действующую армию. Однажды Юзеф, с трудом скрывая радость, под большим секретом сообщил Григорию, что фашисты потерпели сокрушительное поражение под Сталинградом. Как сказал ему сосед, работающий в немецкой комендатуре, в плен попало около ста тысяч немецких солдат и их союзников. Вроде бы, в плену, очутился даже фельдмаршал Паулюс. В Германии объявлен трёхдневный траур.
Действительно, у эсэсовцев на рукавах появились траурные повязки. И свирепость, несколько, поубавилась.
Как Улыбину хотелось быть там, — на фронте, среди своих друзей, на заснеженных полях, в междуречье Волги и Дона. В наступательном порыве, с боями, пройти по местам трудного отступления летом и осенью сорок второго. Отплатить проклятому врагу за все жертвы, лишения, унижения и муки. Но вокруг была порабощённая немцами, запуганная террором, неприветливая Польша. Выбраться почти из центра Европы, к своим, не зная языка, местности, не имея одежды, было нереально.
Пленников подземных выработок меняли, в среднем, каждые полтора — два месяца. Эсэсовцы не обходили своим вниманием и рабочих мастерских. За малейшую провинность, отправляли в лагерь смерти, как пленников, так и рабочих-поляков. Недели и месяцы тянулись в жутком ожидании.
Летом сорок четвёртого года, обстановка на восточном фронте для германской армии изменилась в худшую сторону. Всё говорило о скором наступлении Советских войск. В небе всё чаще появлялись самолёты с красными звёздами на крыльях. Они бомбили пригороды Кракова и промышленные районы вокруг него, вызывая бурную радость у пленников, долгие годы ждавших освобождения. Низкосортный уголь из заброшенных шахт, стал не нужен. На восток шли поезда с танками, автомобилями, артиллерией, эшелоны с грустной пехотой, прекрасно осознающей свою участь в предстоящей бойне. В победу «германского оружия» уже никто не верил!
Весь лагерь, из трёх шахт, перебросили, как между собой говорили пленные, на «старую границу. Они рыли окопы и оборудовали огневые точки. За малейшую провинность, эсэсовский часовой мог застрелить любого пленного. Трупы закапывали тут же, за бруствером окопов, будущей обороны. Готовые позиции, сразу же занимали прибывающие гитлеровские подразделения.
На ночь пленных закрывали в старом кирпичном амбаре, неподалеку от развалин храма. В лунные ночи работали круглые сутки, прикорнув пару часов, в свежевыкопанных окопах.
Свирепые эсэсовские охранники, воспитанные в ненависти и готовые стрелять по безоружным людям, были заменены солдатами-запасниками, предельных возрастов. В ночь перед отправкой на Восточный фронт, эсэсовцы организовали грандиозную пьянку. Все эти «героические хранители традиций третьего Рейха», способные издеваться над пленными, панически боялись фронта. Пьяный помощник начальника эсесовской охраны, ввалился в барак арестантов и открыл огонь. Это переполнило чашу терпения. Желторотый унтерштурмфюрер СС, был растерзан толпой озверевших пленников, вместе со своей немногочисленной охраной. В ход пошли доски нар, столешницы и «параши» для отходов. Осмелевшая толпа ринулась к казарме СС. Полупьяные эсэсовцы сопротивления оказать не смогли, и были все, до единого, убиты восставшими. Не успевшие принять охрану запасники, безропотно сдали оружие. После чего были заперты в пустом амбаре. Всё произошло так стремительно, что никто из перепуганных охранников не успел позвонить в вышестоящий штаб. Толпа, около двухсот человек, опьянев от свободы, вывалилась на улицу, в темноту ночи и неизвестность. Всем было понятно, что при таком, смешном количестве оружия, взятого у охраны, толпа беглых узников, в двести человек, в прифронтовой полосе, напичканной войсками, уже следующим утром, была бы обнаружена и перебита. Решили выходить к своим мелкими группами. Тем более, что каждую ночь, в сумрачной тишине, на востоке явственно слышался грохот орудий, похожий на дальний гром. Туда и надо было двигаться!
Улыбин оказался в группе из пятнадцати человек, с которыми вместе работал при шахтах, в механических мастерских. Это были в основном наиболее крепкие пленные, избежавшие подземных, каторжных условий труда. На всю группу был один автомат, одна винтовка, и наградной кинжал, найденный Григорием в разгромленном штабе охраны. На лезвии кинжала были написаны какие-то немецкие слова, наверное, клятва, — предположили пленники. Рукоятку украшал имперский знак с орлом, держащий в когтях фашистскую свастику, в верхней части эмблема СС, в виде двух стрел. Вероятно, наградное оружие принадлежало начальнику эсесовской охраны, толстому, с пивным животом, Гюнтеру. Который, на своё счастье, уже спал и был убит во сне, так и не почувствовав разницу между своей скотской жизнью и собачей смертью.
В первую ночь они прошли около тридцати километров. Голодные и обессилившие, решили передохнуть в пустом сарае, на окраине какого-то лесного хутора. Двое из группы, вооружившись автоматом, вызвались сходить на видимый через щели сарая огород, ближнего дома.
Григорий, взяв винтовку, согласился покараулить спящих товарищей, и наблюдать в щель за округой и ушедшими на огород смельчаками. Беглецы удачно перелезли через изгородь и что-то собирали среди зелени.
Неожиданно Улыбин увидел, что за друзьями наблюдает ещё один человек, одетый в чёрную форму, с белой повязкой на рукаве и винтовкой в руках. Наконец заготовители, поползли назад, незнакомец продолжал, незаметно преследовать их, его чёрная фуражка, то и дело мелькала среди кустов.
Стрелять нельзя — неизвестно кто находился в деревне! Предупредить беспечно возвращающихся товарищей Григорий тоже не мог. Это спугнуло бы преследователя, и принудило его повернуть назад. Чтобы позже, притащиться к сараю с кучей своих друзей, или немедленно открыть огонь, всполошив всю округу.
Неожиданно он вспомнил о кинжале. Улыбин осторожно, стараясь не скрипнуть дверью, вышел на улицу и спрятался в кустах, таким образом, что возвращающиеся товарищи, обязательно прошли бы мимо него.
Тихонько переговариваясь, неся за рукава гимнастёрку, набитую зеленью, они прошли мимо в нескольких шагах, не заметив Улыбина. Вскоре раздался шорох, осторожно ступая, вдоль стены сарая к двери, с винтовкой наперевес, прокрался незнакомец в чёрной форме. Григорий понял, что это полицай из местных, он видел таких в городе, когда пленных гоняли на работу. Полицай, не заметив засаду, тихонько двинулся дальше. Когда человек миновал Улыбина, Григорий молниеносно выскочил из кустов сзади. Левой рукой, сделал удушающий захват шеи, а правой, изо всей мочи, ударил кинжалом в спину, снизу вверх, под рёбра. Лезвие, с противным хрустом, вошёл в тело по самую рукоять. Ноги полицая подкосились, он начал медленно валится на Улыбина. Не давая ему упасть, Григорий с трудом, выдернул кинжал, чувствуя на руке чужую, тёплую кровь. Тело полицая обмякло, он упал на спину, фуражка с жестяным «трезубцем» покатилась под куст. Широко раскрытые глаза выражали крайнее удивление, винтовка выпала из ослабевших рук. Изо рта красными пузырьками, булькая, пошла кровь, он дёрнулся несколько раз и затих.
Улыбин, взглянув на лицо убитого, медленно покрывающееся мраморной бледностью, с запоздалым сожалением и сочувствием, подумал:
— Пацан, необученный пацан! Глупый несмышлёныш, начитавшийся бандеровских сказок, в красиво оформленных «агитках». Про единую Украину, добрую Германию, великую Польшу и злобных «москалей». Всё это Григорий узнал раньше, из откровений старого Юзефа, о связях, которого с польским подпольем, давно догадывался.
Ну, что же? Как не жаль этого юнца, он сам выбрал свою судьбу, поступив на службу в полицию и надев форму вспомогательных подразделений вермахта. Тем самым, став врагом для людей, чудом выбравшихся из фашистского плена, перенесшим все прелести «нового порядка» и превосходства арийской нации».
— Намного ли ты был старше его, попав в сорок втором под Сталинград? — успокаивая себя, задавал вопрос, Григорий, — но даже в плену, не повёлся на призрачные блага, обещанные голодным пленникам, в обмен на преданную службу «во блага третьего Рейха»
Разбудив товарищей, вооружившись ещё одной винтовкой, группа под командованием Улыбина двинулась дальше — на восток!

Советские танки.
Чем ближе беглецы подходили к линии фронта, тем плотнее размещались на местности немецкие войска. По дорогам днём и ночью шли колонны техники. Населённые пункты были забиты штабами и тыловыми подразделениями, даже пыльные просёлки, патрулировались полевой жандармерией.
В одном месте, пересекая дорогу, группа была обстреляна, внезапно появившимися из-за поворота мотоциклистами, сопровождающими колонну грузовиков. Отстреливаясь, бывшие пленные отошли в спасительный лес. Немцы их не преследовали, выполняя свою задачу — обеспечить движение колонны.
Уцелевшие, бежали по лесу ещё около часа, останавливаясь чтобы отдышаться и вновь продолжить движение. Наконец, окончательно устав, решили передохнуть на берегу ручейка, возле полуразвалившейся избушки без крыши и окон. Группа не досчиталась четверых, они были убиты возле дороги. Успешно бежав из плена, сражённые в коротком бою, они всё равно навечно остались в списках «без вести пропавших».
После перестрелки, среди бывших узников произошёл раскол, часть беглецов решила остаться в лесу и, не искушая судьбу, дождаться прихода своих. Другая половина, во главе с Улыбиным, считала такое решение более опасным и предлагала ночами двигаться дальше.
Мнения разошлись, с Григорием ушли четверо. Первая же ночь показала, что двигаться по незнакомой местности занятой врагом, в темноте, не менее опасно, чем делать это днём. Шли вечерами, пока не становилось совсем темно. Как на грех, небо несколько дней было затянуто плотными тучами, и ночи становились чернильно-темными. Хорошо, что летние ночи коротки, прикорнув, где-нибудь под кустом пару часов, с наступлением рассвета группа двигалась дальше. Днём старались не идти, отлёживаясь в глубине леса.
Однажды, пасмурным утром, проведя в лесу короткую, дождливую ночь, беглецов разбудил гром, идущий не с небес, а по земле. Далеко, на востоке, меняя друг друга, вспыхивали далёкие зарницы, и разносился грохот артиллерийской канонады.
Когда тьма немного рассеялась, в редеющем утреннем тумане, недавние пленники разглядели, что они находятся на опушке леса, недалеко от окраины маленькой деревушки. Единственная, грязная, размешанная колёсами и гусеницами улица, была плотно заставлена крытыми брезентом немецкими машинами. За некоторыми виднелись, прицепленные длинноствольные пушки. Часовые, в мокрых плащах и касках, прохаживались вдоль колонны.
— Пушки-то противотанковые, — определил бывший боец-артиллерист.
— Давайте отсюда двигаться, пока нас кто-нибудь не заметил, или собака не унюхала — предложил Григорий.
Стороной, обойдя деревню, скорым шагом, стараясь не тревожить мокрые ветки, двинулись в сторону грохочущих раскатов. Налетевший ветерок подсушил землю и кусты. Бойцы шли опушкой леса, вдоль насыпного грейдера, идущего прямо на восток. Стараясь оставаться незамеченными, беглецы внимательно наблюдали за всем происходящим на дороге. В обе стороны, периодически, проносились машины и мотоциклы. Однажды, на восток проследовала небольшая колонна зелёных бронетранспортёров, больше похожих на больших, мерзких лягушек. С востока, всё чаще и чаще, натужно ревя двигателями, ползли штабные машины, вымазанные по самые крыши легковушки и санитарки с красным крестом, на боках и крыше.
Внезапно с востока, из-за маленькой рощицы появились танки, их было не более десяти. Сначала, поводя пушкой во все стороны, по грейдеру прошёл танк с десантом пехоты на броне. Он, бесцеремонно столкнул с дороги, двигающийся навстречу немецкий грузовик. Затем, появилось ещё две боевые машины. Следом последовали остальные. Один танк шёл по насыпи грейдер. Три других зелёных танка, мелькали за насыпью, ещё три, стремительно, ныряя на неровностях дороги, маленькой колонной двигались по противоположной стороне — ближе к лесу и беглецам. На броне некоторых машин, сидела пехота.
Улыбин до плена, прорывался к Дону, с экипажем советского БТ-7. Позже, в оборонительных боях под Сталинградом, других боевых машин он не видел. Поэтому определить, чьи это танки было невозможно.
— Это же «тридцатьчетвёрки»! — радостно закричал, выбегая из леса к дороге, всё знающий артиллерист, прибывший в лагерь с последней партией пленных.
Следом высыпали все остальные. Танки остановились. Оборванных беглецов окружили спрыгнувшие с брони, пехотинцы. Держа в руках автоматы с круглыми дисками, в одинаковой форме, с погонами, на выцветших гимнастёрках, в непривычных сапогах. Многие с незнакомыми медалями и орденами на форменной одежде.
С насыпи к собравшимся бойцам съехал командирский танк. Молодой командир-танкист, в ребристом шлемофоне, заброшенном за спину, в чёрном комбинезоне, строго спросил:
— Кто такие? Откуда? И как тут оказались?
Григорий путано доложил, что они бывшие пленные, разоружили охрану лагеря, около недели прячась по лесам, идут на восток, к своим. Утром, недалеко отсюда, видели в деревне колонну немецкой противотанковой артиллерии.
Танкист с сомнением посмотрел на вооружение группы — две древних, немецких винтовки и один автомат, но тем не менее, приказал садиться на его машину и показывать дорогу, в обход деревни.
Счастливые беглецы вскарабкались на тёплую броню моторного отделения. Колонна тронулась. Обходя деревню по лесной дороге, недалеко от крайних изб, увидели противотанковые орудия, занявшие огневые позиции слева и справа от насыпи грейдера. Возле орудий суетилась прислуга. Советские танки вышли им во фланг. По-видимому, заслышав звук моторов, артиллеристы пытались развернуть орудия в сторону предполагаемого противника, но до конца сделать этого не успели.
— Бывшим пленным, ждать нас здесь, на опушке! Десант — К бою! — прокричал танкист, раскинув руки с флажками, дублируя команду остальным экипажам. Пехотинцы, как перезрелые яблоки, посыпались с брони на землю. Командирский люк захлопнулся, танки взревели моторами, разбегаясь по всему выгону, ринулись на немцев. Атака была короткой и стремительной. На большой скорости, танкисты, ведя огонь из пушек и пулемётов, ворвались на позиции артиллерии. «Тридцатьчетвёрки», как взбешенные слоны, перетоптали все пушки, орудийную прислугу и автомобили, пытавшиеся удрать. Через сорок минут, всё было кончено. Уцелевших немцев согнали к амбару, на окраине деревни. Они были растерянны и крайне перепуганы. Без оружия, в растрёпанном обмундировании, сбившись в какое-то стадо, со страхом, ожидая своей участи. Эти горе-вояки уже не походили на тех сытых, весёлых, уверенных себе, германских парней, снисходительно взирающих с брони танков и бронетранспортёров, на унылые колонны измождённых советских пленных, идущих им навстречу, по обочинам фронтовой дороги.
Улыбин вспомнил пророческие слова старого Юзефа:
— Придёт время, и они получат за всё!
Не чувствуя к испуганным немцам ни ненависти, ни жалости, глядя на многочисленные трупы врагов, разбросанные по полю, Григорий подумал:
— Пускай и в благополучной Германии, немецкие женщины — матери этих извергов, обязанные самой природой нести в мир доброе и вечное. Забыв о материнском долге, на многотысячных митингах вздымавшие в нацистском приветствии руки, самозабвенно кричавшие «Хайль Гитлер!» тоже узнают, какая это невыносимая боль, получать по почте официальную бумагу. Извещающую о том, что её сын (брат, муж) «без вести пропал», на необъятных просторах Европы. В войне, навязанной миру Германией и её бесноватым «фюрером».
Танки, не теряя времени, ушли дальше, на запад. Пленные немцы, нестройной колонной, охраняемые недавними узниками с трофейным оружием в руках, под командой сержанта танкового десанта, шагали на восток.

К Победе.
Через несколько часов, они вышли к основным силам наступающей армии.
Группу Улыбина, в полном составе, отправили в тыл Армии. Трофейное оружие и эсэсовский кинжал, недавние пленники, сдали представителю особого отдела части, в расположение которой, они, конвоируя немцев, вышли. В течении нескольких дней, с ними работали разные следователи, задавая одни и те же вопросы. Где служил до плена? Где попал в плен? С кем? Где это было? Когда, при каких обстоятельствах? Где, кем и в каком лагере работал, находясь в плену? И многие, многие другие, каверзные и простые, несерьёзные и загоняющие в тупик вопросы.
От нечего делать, ожидавшие решения бывшие пленные, стаскивали к дому особого отдела, деревянные конструкции и всякий хлам, пилили и рубили его на дрова.
Большую роль в решении судьбы недавних пленников, сыграл рапорт командира танковой роты — передового отряда. Где указывалось, что группа вернувшихся из плена, оказала неоценимую помощь его роте, в разгроме немецкого противотанкового резерва и последующего конвоирования пленных.
Улыбина долго «мурыжили» по поводу эсэсовского кинжала. Выспрашивая, зачем он его сохранил? Не хотел ли проверяемый оставить себе этот символ фашизма? Только общие показания членов группы, о том, что именно этим кинжалом, Григорий заколол полицая и спас группу, развеяли все сомнения бдительных контрразведчиков. Кинжал был исключён из списка вещественных доказательств и, по-видимому, осел в сейфе какого-то солидного начальника, как его личный боевой трофей.
Не попав в фильтрационные и сибирские лагеря, через который прошли многие его товарищи, Улыбин, и его группа, была определена в механизированную роту танковой бригады.
Первым делом, узнав номер своей полевой почты, Григорий написал письмо домой, на Урал. Представляя, как обрадуются, старенькая мама, старший брат Михаил, безуспешно пытавшийся несколько раз попасть на фронт, но оставленный по «спец броне» и снятый уже с поезда, уходящего на фронт. Как засияют радостью глаза младшая сестра «Еньки», узнав о том, что он жив! Улыбин написал сразу три, сложенных треугольником, солдатских письма. Помимо прочего как бы мимоходом, поинтересовался судьбой своей первой, и единственной любви, — Екатерины.
Ответ пришёл через месяц, писала его сестра Женя, мама научилась с горем пополам, читать, но умение писать, так и не освоила. Женя писала, что они несказанно рады! Мама до сих пор плачет от радости, и не верит, что её любимец — «Гринька», наконец-то воскрес, из «пропавших без вести». Теперь она может с гордостью сказать любому, что её сын воюет на фронте.
О Екатерине, Женя обмолвилась вскользь, мол, от кого-то слышала, что она уехала в другой город. И дальнейшая судьба её неизвестна.
Период небытия для Улыбина закончился. Он успешно воевал, дослужился до звания сержанта, был награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», и «Победу над Германией» В составе танкового десанта четвёртой гвардейской танковой Армии встретил победу в освобождённой Праге.
Возвращение.
Как многие его одногодки, демобилизовался весной сорок шестого.
С отцом они вернулись домой с разницей в пару месяцев. Иван Феоктистович, постаревший, с седой, курчавой бородой, исхудавший, сам, не веривший в своё освобождение, вернулся домой, когда на улице зазвенели первые ручьи — в марте. На закате солнца, без стука, вошёл в избу, сел на лавку, прямо у двери, стянул с головы шапку и просто сказал:
— Я дома!
Женя, гладившая угольным утюгом бельё, и совершенно не помнившая отца, испугавшись чужого человека, громко позвала мать. Любовь Михайловна, с криком «Иван!», бросилась к мужу. Упала, уткнувшись в его колени, и заплакала, сотрясаясь всем телом, повторяя:
— Ты пришёл, тятенька! Слава тебе Господи, пришёл! Пришёл!
Отец сидел, молча, никак не выражая своих чувств, поглаживая поседевшие косы жены:
— Полно, тебе, Любушка! Я же вернулся! Как дела у детей? Все ли живы, здоровы? Это, наверное, Евгения? Какая взрослая, похожа на тебя, матушка!
Григорий вернулся ближе к лету. Сойдя с поезда, он шёл по улицам родного города и не узнавал их. Улицы, скверы, сады утопали в только что народившейся зелени деревьев. На лужайках, изумрудно зеленела, вымытая ночным дождём, трава. Словно невесты в белом убранстве, красовались яблони, сливы и вишни. Ярко светило солнце, щебетали птицы, на душе было тепло и радостно. Как в детстве!
Вечером, за скромным, праздничным ужином, собравшись всей семьёй, говорили о многом. Отец, вспомнил Туруханский край, каторжную работу в тайге, голод и лишения лагерной жизни.
Григорий, особо не распространяясь, поведал о войне, о Сталинграде. О том, как попал в плен и что там, пришлось пережить.
Старший брат Михаил рассказал, как неоднократно безуспешно пытался попасть на фронт, обивал пороги военкомата и однажды, обманув молодого сотрудника, с очередной командой, даже погрузился в эшелон, но был снят старым военкомом. И строго предупреждён, что если подобное повторится, то будет расценено, как саботаж, потому, что он оставлен по «спец броне»:
— Все стремятся на фронт! Все желают, бить ненавистного врага! А кто будет хлеб выращивать? Кто будет фронт кормить?
Поведал, как тяжело жилось в опустевшей деревне, где мужикам приходилось быть, одновременно бригадирами, механиками, электриками, кузнецами. Говорил о героизме женщин, взявших на свои плечи все трудности обеспечения фронта продовольствием.
Младшая сестра Евгения, сразу после школы, направленная на эвакуированный авиационный завод, и продолжающая работать там. Рассказала о трудных годах, когда работали по двадцать часов и оставались спать на заводе, чтобы сэкономить время для сна.
Когда Григорий вышел на улицу, под звёздное небо покурить, сестра пошла следом и призналась, что в первом письме на фронт написала ему неправду. Его Катерина, никуда не уезжала, она всю войну проработала на заводе. Отец, партийный работник был направлен в действующую армию комиссаром. И погиб осенью сорок первого. Мама умерла в холодную зиму сорок второго. Она осталась одна. Родительскую квартиру забрали для нужд завода. Катерина жила в общежитии. При встрече, всё время, спрашивала, есть ли письма от Григория. Но их не было. Потом пришло сообщения о том, что он пропал без вести. Примерно через полгода, Катя познакомилась с парнем, приехавшим вместе с заводом, и имевшим «бронь» Он работает в мартеновском цехе. Расписались, стали жить вместе, получили комнату в бараке в конце улицы. И сейчас живут там, растят двух пацанов погодков.
— Ты Женя иди в дом. Я покурю один, — молча, выслушав её рассказ, попросил брат.
Больше к этой теме в семье не возвращались. Григорий уехал к Михаилу в деревню, летом работал комбайнёром, на знаменитом комбайне — «Сталинец-6». Несколько уборочных подряд, намолачивал рекордное количество зерна. В составе бригады, был представлен к ордену «Трудового Красного Знамени».
Но, маленькая строчка в биографии — «находился в плену», перечеркнула все достижения. Его помощник и тракторист были награждены медалями «За трудовую доблесть» Григория поощрили недельной поездкой в Москву на ВДНХ.
Любовь по-прежнему жива.
Личная жизнь тоже не сложилась. Он так и не смог забыть свою первую любовь. Приезжая в город к родителям, Григорий боялся, и в тоже время, хотел встретиться с Катериной. Отъезд в деревню и попытка забыть свою любовь ни к чему не привели.
Однажды приехав в город, он увидел её выходящую из магазина и поспешил скрыться. Непонятные чувства терзали его душу. Он по-прежнему любил свою Катю, но где-то внутри себя, в сердце, носил обиду, за то, что она его не дождалась. Хотя прекрасно понимал, что виновата вовсе не она, а война, безжалостно перечеркнувшая все их мечты и надежды. Воспоминания о светлом и чистом чувстве, о встречах на берегу ночного озера бередили душу и сознание. Вечером ноги сами привели его на знакомое место. Всё было по-прежнему тихий летний вечер, ласковые волны, набегающие на мокрый берег, лунная дорожка, пляшущая на глади воды, звёздное, бездонное небо, громадной синей чащей перевёрнутое над головой. Но не было её единственной и до сих пор, любимой.
Григорий уже намеревался уходить, но чьи-то лёгкие шаги послышались на тропинке, ведущей к озеру. Он без труда узнал её. Влюблённые обнялись:
Покрывая лицо Григория поцелуями, Катерина горячо шептала:
— Я видела тебя в городе! Я знала, что ты придёшь, сюда! Прости меня, прости! Ничего нельзя изменить! У меня двое мальчишек, они любят своего отца! Проклятая война! Мне сказали, что ты пропал без вести. Это значит, что погиб! Прости меня, я была совсем одна! Прости, прости!
Отстранив своё мокрое от слёз лицо, простонала:
— Я не могу его обманывать! Он очень добрый человек и любит меня! Прости! Я всегда буду помнить тебя!
Припала к груди Григория, обняла, резко освободилась от его рук и почти побежала по тропинке вверх. Вскоре звуки её шагов пропали в тишине ночи.
Григорий остался один, всё ещё чувствуя тепло её тела, нежность ласковых рук, солёные слёзы и горячие поцелуи на лице. Навсегда запомнились её глаза — ослепительно красивые, наполненные любовью, страданием и безвыходностью.
Вскоре, всем желающим из коллектива эвакуированного завода, разрешили вернуться на родину. Катерина с сыновьями и мужем уехали к родителям мужа под Харьков.
Неожиданно для всех, Улыбин женился. Такого статного мужчину и видного жениха, невозможно было не заметить. Но на удивление всех, и в первую очередь родных, в жёны он взял некрасивую, флегматичную и неопрятную Анфису. Дальнюю родственницу жены брата Михаила. Поговаривали, что парня приворожила тётка Анфисы, известная в округе ворожейка и колдунья. А, может, были и другие причины?
Они стали жить с престарелыми родителями Григория, которые продали дом в городе и перебрались к сыну. Купив там небольшой дом, со всеми дворовыми постройками, недалеко от озера.
Физа, как звал его муж, оказалась не способной иметь детей. Так и прожили они, большую часть жизни, рядом с родителями, возле озера. Младшая сестра Женя, вышла замуж и уехала с мужем военнослужащим в далёкое Забайкалье.
Прошли годы. Постарели братья Улыбины. Михаил стал дважды дедушкой. Ушли из жизни и покоились на маленьком деревенском кладбище родители. Сестра Евгения, сменив с мужем военным много мест, растила сыновей — племянников дяди Гриши.
Перебирая старые родительские документы, он обнаружил пожелтевший бланк с печатью воинской части. Где фиолетовыми, поблекшими чернилами значилось — «Ваш сын — Улыбин Григорий Иванович, пропал без вести осенью 1942 года!»
Награда.
Так они и жили с Анфисой вдвоём, в том же доме, где проживали с родителями. Как все деревенские, держали хозяйство. Корову, бычков, коз, уток и кур. Заготавливали сено, запасались на зиму дровами. Чистили стайки, содержали огород, копали и опускали в подполье, так необходимую зимой, картошку.
За всеми повседневными, бытовыми заботами, работой в колхозе, Григорию стало казаться, что всё, пережитое им в годы войны, страшный сон. Всё реже и реже, во сне виделась война, взрывы, смерть, плен. Воспоминания о Катерине, не сбывшиеся планы и мечты, ноющей болью, сидящие в сердце, постепенно покидали его и уходили в прошлое.
В канун Праздника тридцатилетия Великой Победы, Григория Ивановича пригласили в областной военкомат. Оказалось, что работники архива Министерства обороны в городе Подольске, обнаружили представление о награждении рядового Улыбина, проявившего храбрость в тяжёлых боях под Сталинградом, к правительственной награде.
На сцене клуба совхоза, на торжествах посвящённых дню Победы, в присутствии сельчан, офицеров военкомата, и таких же как он, ветеранов, Григорию Ивановичу вручили орден Красной звезды.
Остальное он помнил плохо, после торжественного собрания, Григорий на улице, в сквере перед клубом, сел на лавочку. Дрожащей рукой открыл, красную коробочку, взял тёплой ладонью, тяжёлую на вес, рубиновую награду, и неожиданно для себя, заплакал.
Крупные горячие капли, бежали по морщинистым щекам, падали на его ладони и Красную звезду. Вся сложная, не во всём удавшаяся жизнь, ужасная война, которую он победил, в воспоминаниях, вернулись вновь!

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ЭПОХУ РЫНКА
Рассказ
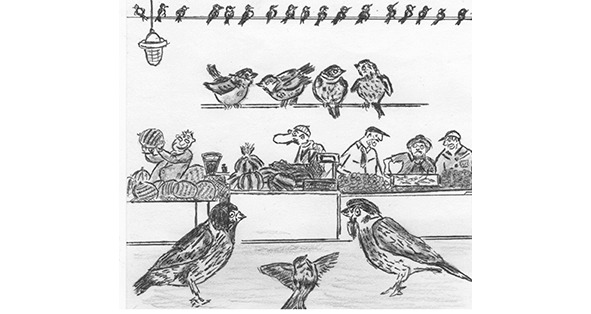
Как известно, декабрь и январь, самые холодные зимние месяцы. Когда от жуткого сибирского мороза, кажется, густеет даже воздух. Выдохни резко и услышишь, еле слышный, легкий хруст, это кристаллизируются пары воды. Мороз беспрепятственно проникает под тёплые одежды, в зимнюю обувь и меховые рукавицы. Деревья стоят, безвольно поникнув голыми ветвями, сломленные холодом. Редкие прохожие быстрыми, семенящими шажочками спешат скрыться за массивными дверями сверкающих магазинов, в надежде там обогреться. Тусклым, холодным светом едва теплятся в морозном тумане, высоко висящие, редкие уличные фонари. Нахохлившиеся, грязные от печных труб воробьи, с трудом шевеля замёрзшими крыльями, прыгают по обледеневшей, скользкой земле. В надежде найти какое-нибудь жалкое пропитание. Некоторые из них, отчаявшись найти пищу и потеряв всякую надежду, отрешённо толпятся, переступая окоченевшими лапками, на тёплой крышке канализационного люка. Немногие из них дождутся весеннего солнышка и переживут эту зиму.
В один из таких морозных дней, я забежал купить кое-что из продуктов на отапливаемый городской рынок. Теплом дохнуло в лицо прямо на входе, из двух, работающих на полную мощность, «ветродуев». Рынок оглушил шумом голосов, криками торговцев, мягкими, тупыми ударами топоров, разделывающих мясные туши, предостерегающими, резким окриками небритых грузчиков, катящих по узкому проходу нещадно громыхающую тележку. Воздух был наполнен ощущениями, присущими только рынкам, вобравшим в себя, ароматы восточных пряностей, лёгкие запахи овощей и фруктов, чесночный дух разнообразных колбас, сала и копчёностей. Над всей этой разноголосицей и суетой, сновали, чудом попавшие сюда, воробьи и голуби, перелетая с места на место, беспрестанно чирикая и воркуя. Весь этот шум, гам и толкотня, походили на большой, нескончаемый праздник.
Пристроившись в хвост достаточно длинной очереди, потирая ещё не согревшиеся руки, я огляделся по сторонам. Моё внимание привлекли два опрятных воробья, которые беззастенчиво клевали очищенные семечки на прилавке задремавшего узбека. Два других сородича, по очереди атаковали отчаянно машущую продавщицу сыра, пытаясь склевать крошки с разделочной доски.
Я с интересов засмотрелся на птиц, снующих повсюду. Удачно устроивших свою жизнь, и, по всей вероятности, вполне довольных свои положением.
Пернатые вели себя бесстыдно и безбоязненно. Сидя наверху, они не спеша, приглядывали, что бы им, с наслаждением, поклевать, из всего этого разнообразия блюд и закусок. И не могли себе отказать в слабости это сделать. Одним, больше нравились злаки, другим, среднеазиатские пряности, третьим, хлебобулочные изделия. Четвёртые, не гнушались крошками мяса с разделочных колод, явно, не чувствуя себя вегетарианцами. В громадном помещении было светло и уютно. А для того, чтобы насытиться, достаточно было просто опуститься этажом ниже. Все остальные естественные надобности, небожители делали сверху, прямо на головы тех, кто их кормил. На стенке витрины ларька, торгующего цветами, уютно устроились, две, беспрестанно чирикающие, не молодые воробьихи. «Дамы» громко общались звонким голосами, чистили пёрышки, не обращая внимания на окружающих. Стайка молодых воробьёв громко и агрессивно чирикали, с шумом перелетая с место на место. Создавалось впечатление, что они громко спорят, о чём-то важном, обмениваются мнениями, собираясь, по-видимому, что-то изменить в этой однообразной жизни. Каждый, пытался наилучшим образом, продемонстрировать себя, распушал перья, опускал крылья, стремительно взлетал и приземлялся, толкал в бок рядом сидящего. Толстый и, явно, старый воробей, дремал, сидя на балке, опустив голову и уткнувшись клювом в перья на своей груди. Большинство же воробьёв, наверное, давно проживающих в этом чудесном уголке земного рая, чопорных и толстых, сидели рядами, на длинных деталях каких-то потолочных конструкций. Изредка, переговариваясь с рядом сидящими персонами, делая многозначительные паузы, задумчиво наклонив головы. Они походили на респектабельных людей, комфортно расположившихся в мягких креслах и решающих глобальные задачи. Судя по всему, многие из них родились и выросли здесь, под этим прозрачным, светлым потолком. И им не суждено было знать, что творится за стенами этого дворца радости и счастья.
Входные двери открыты. Два мира разделяют только струи тёплого воздуха из «воздуходувов» — лети на волю! Ну, уж нет! Даже если открыть все окна и двери, как это делают летом, в период ремонта, рабочие не могут выгнать сидельцев даже длинными палками.
Почему же не летят сюда воробьи, проживающие на улице, терпящие голод, холод и лишения? Во-первых, рынок не резиновый и количество мест, строго ограниченно. Во-вторых, не у всех хватает хитрости, сноровки и смекалки, чтобы сюда попасть и остаться. В-третьих — тут чужие не летают!
Наступит вечер, стемнеет, опустеет рынок, счастливые пернатые жители вернутся в свои насиженные гнёздышки, к жёнам и птенцам. Засыпая, в полудрёме, будут строить планы, которые завтра непременно будут обсуждать и, которые никто и никогда не будет выполнять.
Уже выходя в холод сибирского дня, я вновь оглянулся на ряды сидящих базарных воробьёв и вдруг отчётливо понял, что это я когда-то и где-то видел? Они очень походили на ряды чиновников на крупных форумах и совещаниях. Или на «долгосидельцев» дум разного масштаба, часто транслируемых по телевидению.
Идиот
Рассказ
Михаил Петрович, не старый, подающий надежды инженер-конструктор, руководил отделом на крупном радиозаводе, работающем на оборону. До недавнего времени, для секретности, именуемым «Почтовым ящиком», известным строгим пропускным режимом и неплохими заработками сотрудников. Несмотря на то, что вся округа знала, что за высоким забором изготавливают радиорелейные станции, об этом говорили шепотом, оглянувшись по сторонам. Продукция именовалась «изделием» и, как правило, походила на автомобиль с будкой вместо кузова. «Изделия» вывозили глубокой ночью по железнодорожной ветке, проходящей по территории предприятия.
Но потом грянул Государственный комитет по чрезвычайному положению, пресловутый ГКЧП. Повлекший волнения и известные события в столице, со стрельбой и пышными похоронами жертв очередной революции, почти незамеченные в республиках и областях огромной страны.

Воспринятые остальными жителями государства, как некие игры в демократию, прогремевшие в «зажравшемся» белокаменном граде. Остальные советские города и веси продолжали «счастливо жить, ударно трудиться, и радовать Родину трудовыми успехами». Как делали это на протяжении многих десятилетий, в военную годину, и в годы «великих пятилеток».
Но реформаторы из центра на этом не остановились. «Погуляв» по столице, во главе со своим «вечно весёлым, новоиспечённым царём Борисом», по заведённой ещё при прежней власти привычке, выехали на природу в Беловежскую пущу. Под предлогом «покушать шашлычков». На самом деле, собрали туда недавних «стойких ленинцев» — руководителей союзных республик, ещё не очухавшихся от внезапно прошедших разительных перемен и свалившейся полноты власти
И за скромным столом, под шашлычки, за бокалом доброго белорусского самогона, порешили — разделить страну так, чтобы ни обидеть никого из присутствующих. Без споров, как удельные князья, отдавали друг другу громадные территории, инфраструктуру, целые отрасли экономики. «С молотка» шли Военные округа, Флоты, элементы противоракетной и противовоздушной обороны. Вместе с людьми эти земли населяющими, с боевой техникой, оборудованием и специалистами их обслуживающими. Все торопились, как воришки, забравшиеся в чужой амбар, и шарившие по хозяйским сундукам.
Наутро гражданам объявили, что страны, в которой родилось, выросло и состарилось не одно поколение советских людей, больше нет! На смену ей пришло не выговариваемое «Содружество независимых государств» — СНГ. Поначалу всё шло, как и ранее. Заводы работали, поезда ходили, самолёты летали, деньги были едины, границы отсутствовали.
Потенциальные враги и недруги моментально исчезли, страна стала похожа на проходной двор предместья Европы. Обороняться было не от кого, и незачем. Армия и оборонка стали не нужны, их, по сути, бросили на произвол судьбы.
Затем, на секретный завод приехали «дружественные» американские специалисты, чтобы посоветовать местным «неучам» — как жить дальше! Неизвестно, что они там присоветовали, но вскоре, завод встал. Большую часть оборудования вывезли неизвестно куда. Людей выкинули на улицу. За проходной очутился и подающий надежды инженер Михаил Петрович, враз ставший просто — Мишей
Пока изобретатели ваучеров, азартно делили сокровища, неожиданно упавшее, в их натруженные руки. Страна, проклиная ГКЧП, бездарного первого и последнего президента СССР, алкоголика Бориса, защитников и осаждающих Белый дом, пыталась выжить.
Выживали, кто как мог. Одни копали огороды и жили тем, что даёт земля. Другие воровали всё, что было можно и было нельзя, продавали и сдавали украденное в металлолом. Третьи, имевшие хоть какие-то деньги, спекулировали тем, что смогли привезти из Турции и Польши. Всё, приветствовалось властями и объединялось единым словом «предпринимательство».
Ни первое, не второе, ни третье Михаил Петрович делать не умел.
С помощью своих друзей, он устроился в частную контору, занимающуюся ремонтов бытовой радиоаппаратуры. Иногда если позволяло время, подрабатывал извозом на своей старенькой, «видавшей виды копейке».
Незаметно промчалась лютая зима, холодная вдвойне, из-за не работающего отопления в замерзающих квартирах. Наступил Международный женский день, как писали в поздравительных открытках женщинам к Восьмому Марта — «Праздник весны!».
«Независимые государства» между тем жили, как и ранее. Особо не сближаясь, но далеко и не убегая друг от друга. Как родственники, получившие судебное решение о разводе, но продолжающие, по инерции, проживать вместе, изредка встречаясь на общей кухне. Кухней служили многочисленные базары и рынки крупных городов, ставшей «независимой», не известно от кого, — России. Где звучала характерная речь среднеазиатских народов, гортанные голоса жителей Кавказа, мягкая украинская «мова», и просительные напевы смуглых молдаван.
Как и прежде, накануне женского дня, сибирские города заполонили лихие джигиты, шумно предлагающие ранние весенние цветы и жёлтые кустики капризной мимозы.
Канун этого праздничного дня, больше походил на сумасшедшую сезонную распродажу всего и вся. Не успевшие заранее запастись подарками юные мужья, солидные отцы больших семейств, трогательные и беспомощные в этих делах, пенсионеры, как сумасшедшие бегали по магазинам и только что появившимся, «бутикам». В надежде купить нечто — нужное и, возможно, приятное «второй половине». В то же время, сообразное финансовым возможностям «первой половины», его вкусу и опыту.
Опрокинув рюмку — другую в рабочем коллективе, горячо поздравив «любимую Марью Ивановну» — руководительницу отдела, мужья мчались домой, предвкушая прекрасный ужин и романтический вечер при свечах. Правда, некоторые из них, пошатываясь, упрямо двигались к дому, уже ближе к полуночи, стараясь в голове собрать в кучу слова, которые им предстояло произнести на пороге дома, протягивая супруге поникший цветочек. В слабой надежде, хотя бы этим, облегчить свою участь.
Наконец праздник отгремел и не выспавшиеся обитатели, вспоминая вчерашнее веселье, грустно отправились на работу. Поехал на работу и Михаил Петрович, там, сославшись на то, что «он за рулём» и не может присоединиться к шумному застолью «для поправки головы», незаметно «исчез» и поехал «бомбить» — так называлось незаконное занятие извозом.
Этот день ему запомнился на всю жизнь. Транспорта на улицах было немного. Обыватели, шумно отгулявшие ночь, проснувшиеся в гостях, горели желанием оказаться дома, в собственных постелях, в привычной обстановке. Стоя на остановках транспорта, призывно махали всем проезжающим машинам, независимо от того, была ли это карета скорой помощи, громадный агрегат разбрасывающий песок, или ассенизаторный автомобиль. Михаил Петрович удачно «подхватил» несколько пассажиров, мысленно отметив, что на бак бензина он уже заработал. И не спеша поехал по главной улице. Возле гостиницы «Огни манежа», больше известной, как «Мартышкин дом», его внимание привлекла группа мужчин в одинаковых чёрных пальто и фуражках типа «аэродром». Они явно не походили на смелых дрессировщиков тигров. Учитывая, мягко говоря, «полноватые фигуры» стоящих, нельзя было принять и за воздушных гимнастов. Было видно, что люди приехали ненадолго, и не рассчитывали застать здесь довольно сильные морозы. «Погонщики слонов» — как Михаил Петрович их тут же окрестил, зябко прятались от холодного ветра, поправляя фуражки, вытирая носы и потирая красные руки.
Он остановился, трое пассажиров с трудом залезли в тесный салон. Пару часов он возил их по городу, хотя мужчины говорили преимущественно на своём языке, он по нескольким случайным фразам, произнесённым по-русски, понял, что они привозили к празднику цветы. А сейчас ездят по торговым точкам, собирают выручку и собираются, сегодня же улететь домой. Пассажиры вышли возле одного из ресторанов в центре, и хорошо рассчитались.
Окрылённый удачным началом, Михаил Петрович поспешил домой пообедать. Жена, приняв часть заработанных мужем денег, обрадовано призналась, что за прошедший праздник семья прилично поиздержалась, и деньги будут, как нельзя, кстати. Пообедав и отдохнув, Михаил Петрович решил ещё раз попытать счастье — «деньги идут косяком, надо не упускать момент». Подойдя к машине, он увидел что-то лежащее за спинкой сидения у заднего стекла.
— Вот толстопузые — ругнулся он на недавних пассажиров, — чехол на сидении помешал, закинули его назад! — Михаил Петрович не любил когда обзор через заднее стекло завален шапками, одеждой и прочими вещами.
— Что из машины деревню делать! — ворчал он на жену, пытающуюся иногда что-то там уместить.
Поправляя сшитую женой «накидушку», он обнаружил под ней красивый черный дипломат, с кодовым замком. В котором без труда узнал дипломат, лежавший всё время на коленях одного из мужчин. И вероятно, в конце поездки, после остановки у агентства «Аэрофлота» переложивший его к заднему стеклу.
— Наверное, бутылочку коньяка в дорогу припас. Или полотенце с зубной щёткой. Пропажа не велика, но всё равно для людей неприятность! — прикинул Михаил Петрович.
— Где теперь они могут быть? Всего скорее, сидят где-нибудь в «кабаке», или уже улетели — рассудил Михаил Петрович, с трудом подавляя в себе, внезапно возникшее желание, вернуть утерянную вещь владельцам.
Перекладывая, злополучный дипломат на заднее сидение, он ощутил приличный вес находки.
— Похоже, что одной бутылочкой коньяка, горячий гость холодной Сибири явно не ограничился. Так что сегодняшний вечер и домашний ужин, вполне может стать продолжением вчерашнего праздника! — улыбнулся пришедшей мысли Михаил Петрович.
Положив дипломат на сидение, нагнувшись в проёме задней двери, вращая колёсики кодового замка, мысленно пожалел, что замок, вероятно, придётся, сломать. Тут он вспомнил, как сын, демонстрируя подобный дипломат, приобретённый накануне, долго и нудно объяснял, как пользоваться кодовым замком. Всё кончилось тем, что приобретённое сокровище было всё же закрыто, без малейшей надежды впоследствии открыть его. Неоднократные попытки ничего не дали, совсем нечаянно были набраны все нули и «Сим-сим» открылся! Михаил Петрович, надёясь на чудо, тоже набрал эти цифры. Замок щелкнул, и крышка слегка приподнялась!
Под крышкой, на расстеленной газете лежали какие-то бумаги. Замусоленные чеки на оплату гостиницы. Договора с различными фирмами, смысл которых Михаил Петрович так не понял, прочитав их по нескольку раз. Некоторые бумажки были написаны на не русском языке, маленькими буковками-червячками.
Затем он откинул сложенную вдвое газету. И тут же, помимо своей воли, быстро захлопнул дипломат, как будто увидал там, что-то очень опасное и страшное. Вновь осторожно открыв крышку, он увидел под газетой, аккуратно сложенные и перевязанные разноцветными резиночками пачки денег, лежавшие в несколько слоёв. Столько денег Михаил Петрович не видел никогда даже в кино «Следствие ведут знатоки».
Он попытался разогнуться, резкая, нестерпимая боль пронзила поясницу. Последний раз такое случалось в прошлом году, когда Михаил Петрович, поругавшись с женой, вгорячах, занёс тёще на пятый этаж, купленный по случаю, пятидесяти килограммовый мешок сахара.
Постояв какое-то время, осмысливая ситуацию, он всё же разогнулся. Противная мысль о том, что находку надо вернуть хозяевам, на этот раз, в голове не возникла.
Взяв чемодан под мышку, чтобы нечаянно не открылась крышка, он осторожно вернулся домой. В квартире, не разуваясь, не обращая внимания на недовольные взгляды жены, молча, прошёл на кухню. Положил дипломат на стол и откинул крышку. Жена, негромко ойкнув, тихонько сползла на пол. Трясущимися руками Михаил Петрович достал из домашней аптечки валерьянку и, накапав в стакан с водой, подал супруге, затем накапал и себе.
— Может «скорую» вызвать? — нерешительно и слегка заикаясь, спросил муж.
— Какую «скорую»? — неожиданно вскипела жена, приходя в себя, — хочешь, чтобы тебя с этим саквояжем сразу забрали в тюрьму?
Кот Васька, унюхав запах валерьянки, суматошно забегал по комнате, издавая неподражаемые, дикие звуки.
— Брысь! — подцепила женщина неудачно попавшегося под ноги кота.
— Где, ты, ЭТО взял? — обращаясь к мужу, как учительница к провинившемуся первокласснику, с металлом в голосе, спросила супруга.
Чего-то, в самом деле, испугавшись, интонацией нахулиганившего пацана, Михаил Петрович пролепетал:
— Там! В машине кто-то оставил. Сзади за сидением, — пришлось рассказать жене о кавказских пассажирах, о мужике с дипломатом, и поездках по город.
— Зачем ты это в дом принёс? Если тебе жить надоело — дело твоё! Но тут живу я, и наши дети! Ты об этом подумал? Неизвестно, как заработаны эти деньги, и кто за ними стоит! Ты его, — кивнув на дипломат, зловещим шепотом прошипела она, — наверное, весь своими граблями залапал?
С этими словами, жена мокрой тряпкой, тщательно протёрла всю находку.
— Сколько там? — немного успокоившись, поинтересовалась супругу
— Не знаю, я не успел пересчитать. Сразу домой, к тебе, пошёл. А ты, как с цепи сорвалась! Я-то в чём виноват?
Оба помолчали, думая каждый по-своему, но об одном и том же.
В Михаиле Петровиче боролись двое — один, тихим, вкрадчивым голосом проникновенно говорил о том, что чемоданчик надо взять. Что это единственная возможность вылезти из нищеты. Напоминал о подрастающих детях, которых надо «растить», и учить дальше. Рисовал яркие, красочные картины безбедного житья — вот, они всей семьёй, с радостными лицами стоят на фоне собственного дома, на берегу лазурного моря. Вот, счастливый Михаил Петрович вальяжно развалясь, в красивых тёмных очках, сидит за рулём шикарного внедорожника, с лыжами на верхнем багажнике, несмотря на солнечный день и тёплое лето за окнами машины.
Другой человек, поселившийся внутри Михаил Петровича, с синими татуировками на руках и груди. Больше похожий на громилу Пашку с пятого этажа, недавно вернувшегося из мест, не столь отдалённых, хриплым басом вопрошал:
— А это твои бабки? Ты их зарабатывал? Может это общаг? Братва тебя всё равно найдёт, куда бы ты, не слинял! Там, куда они потом тебя отправят, бабки не нужны. Там, вообще, ничего не нужно!
Михаил Петрович робко возражал:
— Да они, наверное, давно улетели! Да и как они меня найдут? Номер, явно, не запомнили, адреса не знают. Ищи свищи — город большой!
Татуированный мужик настойчиво втолковывал:
— Даже если они уехали, здесь, как пить дать, оставили местных «братков». Такие деньги на улице не валяются. Городишко наш небольшой, все друг друга знают. Да и машина твоя, выкрашенная в идиотский «морковный» цвет, слишком заметна. Таких авто в городе и десятка не наберётся. Найдут, — как пить, найдут! Заказывай венки!
— Может поехать и сдать в милицию? — сам себя спрашивал Михаил Петрович, — соглашаясь с первым вкрадчивым голосом.
— Давай! Давай! — хрипел синий от наколок Пашка, — нашел, кому везти! Менты бабки заберут, поделят, а тебя, вместе с машиной, с моста под лёд! Несчастный случай! И свидетелей нет! Жена — вдова, дети — сироты!
Холодный пот пробил Михаила Петровича:
— Всё, спёкся! Куда не кинь — везде клин! Хоть закапывай! Но за ним всё равно придут! Точно — заказывай венки!
Тем временем, в голове супруги роились примерно такие же мысли, украшенные ужасными потробностями подобных ситуаций, регулярно показываемых по телевидению. Вот, какие-то здоровенные, коротко подстриженные парни, с бычьими шеями, пинают ногами распростёртое на полу гаража тело мужа. Тут же выплыла из темноты ужасная, перекошенная гримасой рожа какого-то мужика, с дымящимся паяльником, и ревущей паяльной лампой в руках.
Ей стало невыносимо жалко сидящего с опущенной головой мужа, и в порыве нахлынувшей нежности, она, прижав его кудлатую голову к своей груди, тихонько заплакала, причитая:
— Ну, почему у тебя всё никак у людей? Вон, у подруги, муж потерял получку и ни каких хлопот! С трудом дотянули до бабушкиной пенсии и опять живут, поживают! Лучше бы ты вчера напился на работе, и сейчас спал бы с похмелья. Так нет, поеду «потаксую»! «Бомбило» хренов! Поехал? Заработал денег? А куда теперь их деть, то? Хоть из дома беги!
Слушая причитание жены, Михаил Петрович решил действовать. Завернув, злополучный дипломат в скатерть направился к двери:
— Поеду их поищу! — бросил он жене.
— Мишенька, — как по покойнику завыла она, — ты только за город не выезжай! На свету стой, и там где больше людей!
Он довольно долго мотался по городу, внимательно осматривая людей на остановках. Приехав в аэропорт, с завёрнутым в скатерть дипломатом, сторонясь сотрудников милиции, обошёл залы. Гостей города нигде не было видно. Расписание рейсов тоже ничего не дало, в южном направлении вылетали три рейса, но только глубокой ночью. Хотя попасть туда можно было и через Москву.
На улице между тем начало темнеть. Михаил Петрович решил ещё раз подъехать к остановке рядом с «Мартышкиным домом». Ещё издалека, в свете уличных фонарей, он увидел три знакомые фигуры. Мужчины, как собачата, потерявшие хозяина, вытянув шеи, встречали и провожали каждую проносящуюся машину. Он подъехал и встал напротив. Тот из них, который держал дипломат на коленях и, затем оставил его в машине, открыл переднюю пассажирскую дверь и вопросительно взглянул на водителя.
— Вы забыли свои вещи — стараясь говорить без всяких эмоций, буркнул Михаил Петрович.
Так же молча, кавказцы сели в машину. Один из сидящих сзади, щелкнув замком дипломата, открыл его, мельком осмотрел, и что-то сказал старшему, сидящему впереди. Тот, в свою очередь как будто они и не расставались, приказал:
— В аэропорт!
За всю дорогу никто не проронил ни слова. Михаил Петрович с трудом сдерживал жгучее желание выскочить из машины, на первом же освещённом участке улицы. То, мысленно чувствуя остро заточенное «перо», вонзающееся под ребро, то «удавку», захлестывающую шею. Вскоре машина выбралась за город. На счастье впереди замаячили красные огни автомобиля, Михаил Петрович прибавил скорость, и в наглую обогнал милицейскую машину, двигающуюся в сторону аэропорта. Так впереди милиции, они и доехали до места назначения.
Прежде чем выйти из машины, впереди сидящий, взял у заднего дипломат. Открыв его, не глядя, вытянул несколько пачек денег и швырнул в «бардачок». Перед тем как захлопнуть дверь, наклонился и с характерным акцентом, громко сказал — «ИДИОТ!». И пошагал в сторону вокзала.
Денег хватило купить зимнюю резину на машину, новый аккумулятор, кое-что из мебели, и отдохнуть всей семьёй на местной базе отдыха.
НАЕЗД
Рассказ.
Частная транспортная компания, возникшая на развалинах некогда крупной автоколонны с четырёхзначным номером, занималась грузовыми перевозками по городу и области. В зимние месяцы, когда лёд сковывал крупные и мелкие реки, автомобили повышенной проходимости завозили по «зимникам» нужные товары и материалы в дальние северные поселения и стойбище
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
