
Бесплатный фрагмент - Неизгладимый след…
Рассказы и повести о писателях
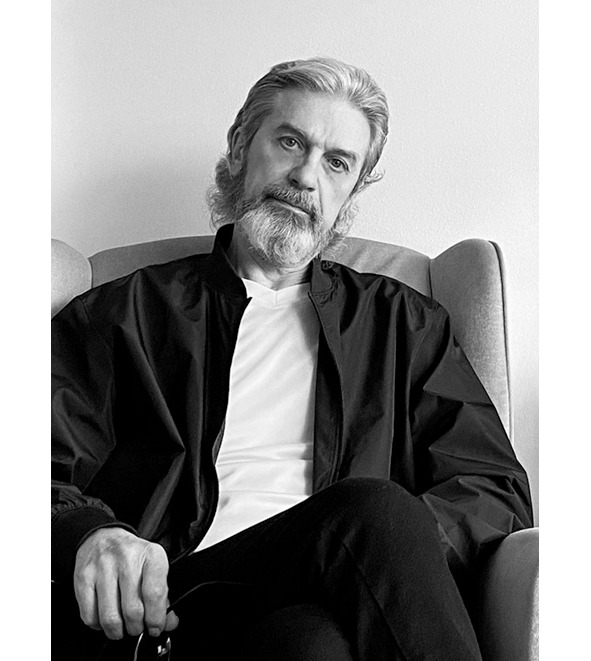
Леонид Куликовский родился 14 января 1956 года, седьмым ребёнком в семье, на прииске Крутой, в двенадцати километрах от посёлка Магдагачи, Амурской области. Вскоре прииск был закрыт, и жители его переехали в посёлок. Всё детство провёл среди прекрасной природы, среди лесов и озёр, какие в обилие были на Крутом. Об этом немало говорится в цикле рассказов «Мозаика детства».
Отец, Феликс Иосифович Куликовский, в начале тридцатых годов двадцатого века вместе с братом и сестрой был выслан из Белоруссии на Дальний Восток за неповиновение добровольно вступить в ряды коллективного хозяйства. Леонид писал: «По исследованиям моих родственников по линии отца, они принадлежали к одному из ветвей польских дворян Куликовских, но эта информация требует тщательной проверки, так как сам отец на этот счёт всегда умалчивал, и это было понятно, чтобы не навредить своей семье. Во второй половине тридцатых, точно не могу сказать, он с братом Романом был арестован вторично, но расследование показало, что был просто оговор на них и их отпустили».
Кратко об отце описано в повести «Однажды цыганка гадала» и очерке «Семь Я», (похоронен в посёлке Магдагачи).
Мама, Шарапова Надежда Павловна, выросла в богатой семье землевладельцев Томской губернии. Во время коллективизации её отец Павел Васильевич Шарапов, добровольно сдал всё имущество и хозяйство в колхоз и стал его председателем, так как был в большом авторитете у односельчан.
Это также кратко затронуто в очерках «Домой! Магдагачи» и «Семь Я».
В 1963 году пошёл в первый класс школы №156, в старое здание, которого уже не существует. Читай очерк «Контуры прошлого», «В первый класс», «На коммунальной квартире», «В клубах».
В 1971 году закончил восьмилетку и перешёл в среднюю школу №155 и закончил успешно в 1973 году. Рассказы «Другая школа», «Уходящий в будущее» об этом. В этом же году поступил в высшее учебное заведение, политехнический институт в городе Томске.
В 1978 году ушёл служить в ряды Советской армии, в городе Новосибирске. После демобилизации вернулся домой, в Магдагачи. Работал один год помощником машиниста на железной дороге при магдагачинском локомотивном депо. Это время упомянуто в рассказе «Перипетии жизни».
По окончанию института ушёл служить офицером в Вооружённые Силы Советской армии (Витебская область, Белорусия). После увольнения в запас, переехал жить в Украину, город Кировоград (Елисаветград).
Работал инженером-конструктором, предпринимателем, заместителем генерального директора товарно-сырьевой биржи, менеджером по продажам в сельском хозяйстве, пожарником во время учёбы в институте. После выхода на пенсию подрабатывал таксистом. Начал писать в 62 года.
Имеет троих детей: дочь, сын, дочь.
Первая книга «Мозаика детства» написана в 2021 году.
Вторая «Контуры прошлого» — в 2022 году.
Третья «Центры притяжения» — в 2025 году.
Начал писать четвёртую книгу «Чувство сопричастности».
_______________________
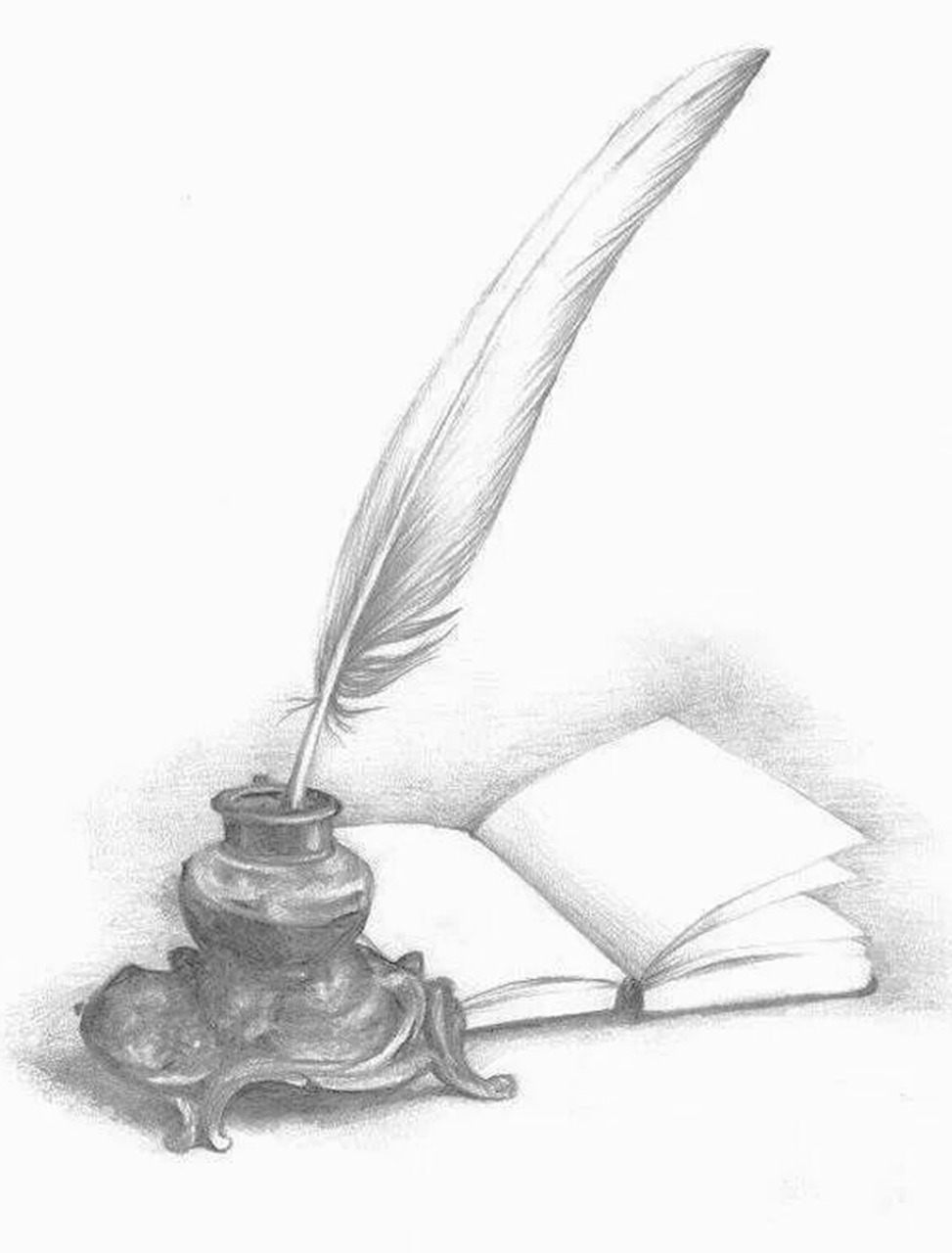
СЛОВО О КНИГЕ
С годами русская классическая литература вопреки расхожему мнению не отдаляется от нас — она приближается. Произведения писателей 19 века образуют канон русской словесности, чья ценность и культурный статус неоспоримы. Эта литература — вершина нравственности, наш генетический код.
Русская классическая литература, не побоюсь сказать, это сокровищница художественных произведений, созданных авторами с начала 19 века, до начала 20 го века. Она считается одним из самых ярких и оригинальных вкладов России в мировую культуру, наверное сопоставимый с греческой трагедией и немецкой философией. Ей присущи глубокий психологизм, когда герои часто переживают внутренние конфликты, занимаются поисками смысла жизни, стоят перед выборами моральных дилемм, а значит славится глубиной проникновения в психику героев, сложными размышлениями о месте человека в обществе и человеческой душе. Ей принадлежит социальная критика, когда писатели поднимают вопросы социального неравенства, вопросы власти, свободы и духовности. Также именно русской литературе характерна философская направленность произведений, где герои часто размышляют о судьбе человека, вере, добре, зле. Нельзя обойти и её яркий язык и стиль, то есть богатство русской речи и уникальные по своей природе художественные образы.
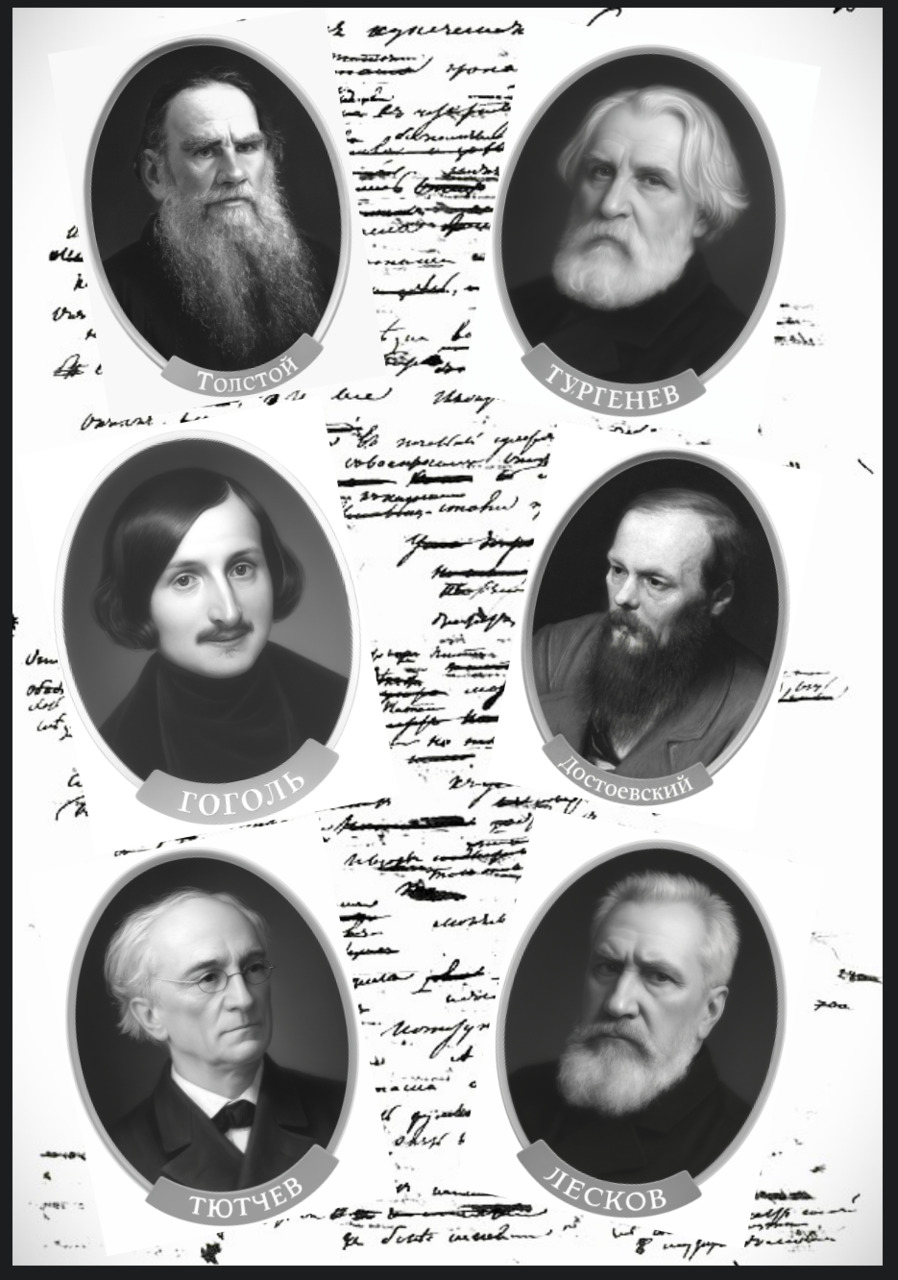
Необъятна литература о писателях 19 века. Романисты, философы, великие мыслители, вечные искатели истины — кажется, сложно найти новое слово, чтобы постичь глубину их рассуждений о духовной жизни, нравственности, историческом пути Отечества. И всё же, уважаемые читатели, перед вами новая книга, основанная на огромной литературоведческой работе, проделанной автором. Невероятное количество документов, исторических справок, личной переписки было досконально изучено, переосмыслено, прежде, чем появился этот оригинальный по подаче материал. Здесь не только достоверные факты биографий наших классиков, поданые в интересной художественной форме, но и собственный взгляд на величайшие личности писателей. Захватывает и удивляет смелость автора — погрузиться в мир размышлений и переживаний Тургенева, Достоевского, Толстого, Гоголя, представить их внутренние противоречия, сомнения через призму своих чувствований.
Предназначение писателя — разбудить душу, заставить думать, сопереживать, метаться, искать смысл своего бытия. Невероятно сложная задача! Ибо непостижим масштаб личностей, о которых автор ведет свое повествование. И на мой взгляд попытка эта вполне удалась. Бережное, тактичное, уважительное отношение, умение по-своему взглянуть на трагические, переломные моменты жизни великих писателей девятнадцатого столетия — вот критерии, которые отличают личный подход писателя Леонида Куликовского.
Читая, мы чувствуем и видим, как шаг за шагом автор сам мысленно прогуливался по аллеям Ясной Поляны, видел бегущие воды реки Воронки и сам сидел на любимой скамейке Льва Николаевича. Тихими мерными шагами прошёл по комнатам в имении Ивана Сергеевича в Спасском-Лутовиново, зная и видя что в каждой из комнат находится и какие портреты, картины висят. Мы вместе пройдём по Петербургу, по Невскому проспекту, заглянем в дома, которые, наверное, ещё хранят голоса, шаги. Мы поднимемся на 78 ступеней до четвёртого этажа (Невский проспект, 42), где жил Тютчев последние годы, пройдём другими улицами и проспектами… Автор вольно или невольно ведёт нас в то время, где с его помощью читатели видят людей далёкой эпохи, их мечты и чаяния. Биографические данные переплетаются с лирическими отступлениями, «домашние» картины, наполнены необыкновенной теплотой, заботой и покаянными мыслями. Замечательно глубокое и по обширности материала и по эмоциональной наполненности повествование, создающее эффект присутствия в далекой исторической эпохе.
Книга полезна для настоящих ценителей русской истории и словесности, любителям мемуарной литературы и просто любознательному читателю, в ком жив интерес к неувядающему наследию великих русских писателей девятнадцатого столетия.
Людмила Кривых
_______________________
ВСТУПЛЕНИЕ
Время всё подвергает изменению, века накладывают свой отпечаток на всём. Касается это и великих имён, будь кого: правителей, полководцев, художников и, конечно, писателей. Они приобретают легендированные имена, на них паутиной накладываются штампы. Всё это так и, наверное, где-то правильно. Но вместе с этим кое-что деформируется, приобретает неправильные формы.
Со временем возникает переоценка созданных легенд, привнесение в них новых черт, найденных в первоисточниках и литературе исследователей. Жизнь великого человека рисуется в красках таких, какими обладал он при жизни. И здесь надо опираться на первоисточники и их непредубеждённое изучение. Необходимо включать в своё письмо серьёзных исследователей и биографов, которые тратят на изучение порою годы и десятки лет, чтобы найти неизвестные материалы, то есть письма и воспоминания современников. Честь им и хвала за это, а также низкий поклон за работу кропотливую и скрупулёзную.
Мне в моей работе интересовали прежде всего не как великие писатели, а они, как люди, живущие бок о бок с другими людьми, с которыми соседствуют, дружат. Хотя отделить писателя, как творческую личность и человека в нём — невозможно. Однако можно делать акценты на то, что относится к людской деятельности. Отсюда и подаваемый материал о русских писателях, прежде всего, как о людях. У меня мой Толстой, мой Достоевский, мой Гоголь и далее, и ничьи более… Это не присваивание громкого имени, а моё представление прежде всего о самом человеке, а не о писателе и гении. Именно! о человеке, и здесь мы на одном уровне — человеческом. Здесь мы все равны! Только думая так, я смог подойти к написанию о таких людях, как Тургенев, Тютчев, Гоголь и других…
Исходя из выше сказанного, необходимо читать о главных героях независимо от громкости и великости имени, как о герое рассказа, повести, словно это были простые люди, без славы, вечности в истории, тогда легче будет воспринимать великие имена людьми, со своими недостатками, возможно, и грешками. В своих рассказах я совсем не собираюсь преуменьшать величину гения того или иного писателя. Однако, если бы я задался целью написать о них, как о таковых, то я не смел бы к ним приблизиться. Когда-то мой товарищ сказал мне с упрёком: «Взялся за классиков. Кто дал тебе такое право?».
Он прав! Мне никто не давал такого права, но я ни у кого не спрашивал позволения. Я сам себе позволил и сам дал себе такое право!..
Всякий раз, приступая к написанию о ком-то из великих, становится страшновато, как посмею? как осилю? Проходит время, ты читаешь литературу, смотришь передачи, фильмы, слушаешь лекции, просматриваешь переписку, знакомишься с воспоминаниями современников — страх проходит. Ты наполняешься чувствованием этого человека, повторяю — человека, а не великого писателя. На это уходит два, три года, пять лет (например, как с Гоголем Н. В.). Постепенно начинаешь видеть, что хочешь сказать и о каком моменте жизни хочешь рассказать своё видение. Долго, очень долго идёт привыкание к человеку, и как только внутри созрела картина — приступаешь!
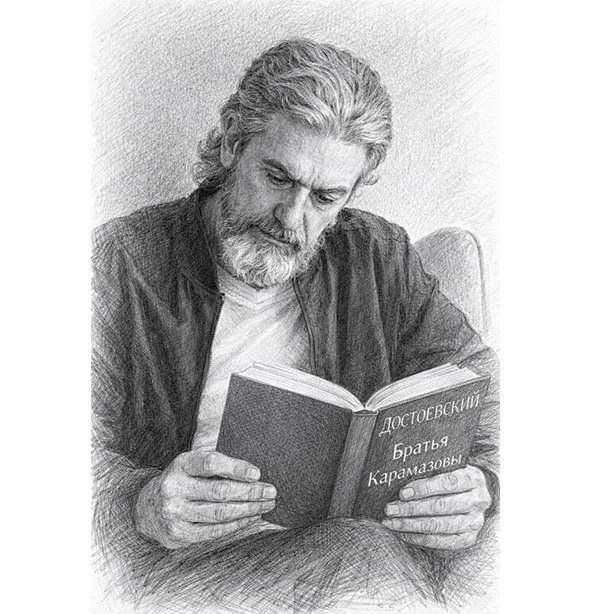
Надо знать ТЕМ, кто не любит читать о писателях, что я не пишу о писателях, я не литературовед, я выбираю какой-то момент в жизни писателя, меня интересующий, и тогда я начинаю собирать материал. Стараюсь строго учитывать материалы первоисточников: письма, воспоминания, а также труды различных биографов.
Разве можно знать, например Гоголя, по школьной программе? Ведь только редкие читатели возвращаются к его произведениям, я уже не говорю к его биографии. Да и к ней, я сам, прикоснулся постольку, поскольку давно засела мысль написать о Николае Васильевиче. Так лет пять я не мог понять, как мне начинать и вообще каким образом строить повесть. Потом приходит понимание, что надо делать, как надо делать. Такой человек, как Гоголь, был на виду, написано о нём много (не ошибусь) монографий и биографий. Здесь надо быть осторожным, не поддаться влиянию кому-нибудь, как например Набокову, Мочульскому или Золотусскому, чьи работы своеобразные и глубокие. Я пытаюсь следовать своему видению, но не без включения в свою работу чьих-то строк, если убеждён, что они должны быть в том месте, которое укажу и какое требует другого источника подтверждения.
Отзывы о писателях, которым посвятил свои рассказы, я старался брать от писателей-современников им, но не критиков. Надо учесть, что письма, воспоминания современников — это первоисточники и, вне сомнения, носят историческое значение. Они в известной степени сами по себе литературны, подобно художественным произведениям. Могут рисовать одно и умалять другое. Также и образ говорящего о себе в письмах всегда в известной мере литературный, что заставляет с особой щепитильностью отбирать материал. Недостоверность может привести к искажению того, о ком хочется рассказать.
Леонид Куликовский
_______________________
«ВЕЧНЫХ ИСТИН НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ…»
Отраженье исчезнувших лет,
Облегченье житейского ига.
Вечных истин немеркнущий свет —
Это книга. Да здравствует книга!
Щепкина-Куперник
Не знаю, когда зародилось, возникло во мне необъяснимое, даже трепетное отношение к книге… Тогда ли? когда не умеющий читать, плакал и просил своих сестёр: «Ну почитайте, ну почитайте»..» и, онемевший, заворожённый слушал ТО, о чём ведала книжка, когда разворачивал в своём мысленном пространстве картинки, выбегающие из сюжета. Виноваты ли в том взрослые сёстры? что читали в семье вслух, а родители, подперев рукою голову, внимательно слушали. Память не сохранила, какие книги читали, оставила только название «Белый раб». Какого писателя, чьего он роду и племени — не вспомню… Быть может пробудилось в дни детства, тогда уже умеющий читать, забирался на сеновал и там, в сладко пахнущей атмосфере душистого сена, читал, читал… Или упивался разворачиваемыми событиями приключенческой литературы, проглатывал книга за книгой таких авторов, как Дюма, Хаггард, Саббатини, Купер, Майн Рид или Джеймс Кервуд…
У меня такое ощущение, что я родился с книгой в руке, а родители скрыли этот факт, как компрометирующий меня… А возможно и такое представить, что в предыдущей жизни, я владел каким-то количеством книг, которые любил или написал сам, а теперь сработала память закона перевоплощения?.. Теперь гадай!.. Никто не сознаётся, где я приобрёл эту необъяснимую любовь. У кого спросить?.. Ветер, что проносился над детством моим, теперь гуляет в необозримом пространстве и дали. Листья опали и превратились давно в почву. Зори, что вставали над леском и там же замирали, потухая, теперь другие в далёком от родины крае, не похожие на зори детства. Кого ещё спросить?.. Нет ответа! всё скрывается где-то внутри… В каких-то потаённых уголках души, недоступных для дотрагивания и просмотра, каких невозможно видеть какого цвета они, и какими звуками звучат и на каком языке говорят, там возникают миры, чувства и там появляется эта любовь, светится чувство к самому простому на вид предмету — книге… Непонятно, как рождается такое, но оно есть и сразу вспоминается поэт, сказавший «Есть целый мир в душе твоей…». [1] Он, целый мир, есть у каждого, у каждого!..
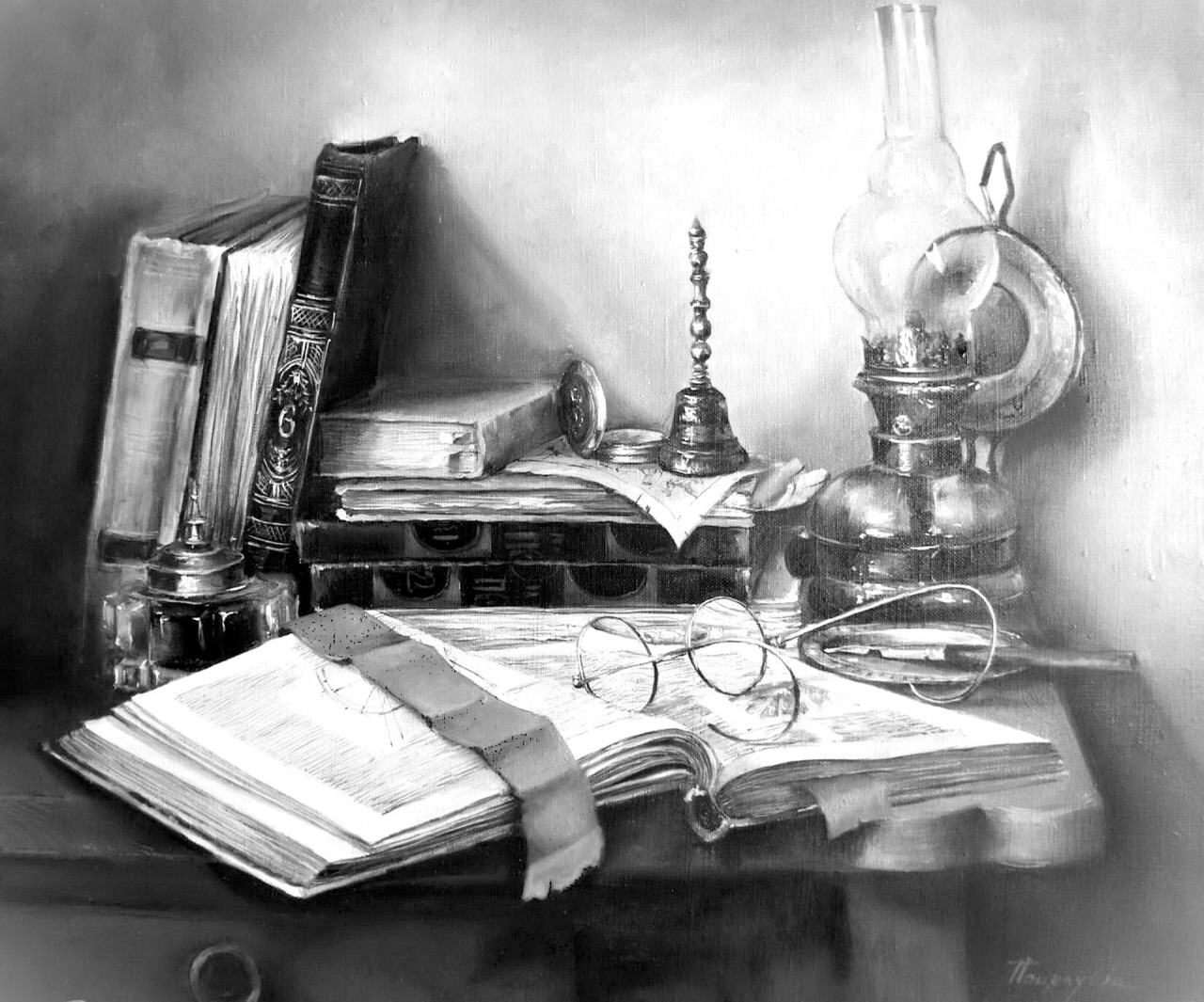
Книга!.. Вы когда-нибудь брали в руки книгу? Конечно, брали, держали, но не просто, как некую вещь, а книгу, как живой предмет?.. Как заветный предмет, вожделённый, желанный до этого момента?.. Волна радости, внутренний трепет пробегает по тебе. Вот сейчас, да-да сейчас приоткрою, и сквозь створки обложки, с каждой страницы, повеет целым миром. Он живой кричит, смеётся, щебечет птицами, обливает читателя картинами лунной ночи, жаркого знойного дня, звуками далёкой кукушки, клёкотом горных орлов… Со следующих страниц доносятся вздохи подрастающего юноши, смотрящего на предмет своего обожания стройную, быстроногую девочку с живыми чёрными глазами, или с голубыми — неважно, но вместе с ним и ты вздыхаешь, представляешь какая она, красивая!.. Там, между обложками, в пространстве книги всё есть! И сложности в конструкции собою не представляет, простой предмет, простой, но сколько там переживаний, страсти, любви, а порою и злобы в населяющих книгу героях. Как только писатель садится, берёт в руки ручку и выводит на бумаге слово, вдохнёт в него жизнь, а иначе читать не будут, оно оживает красками, чувствами, звуками и всё это так сжато, концентрировано помещается между двух сторон обложки… Не чудо ли? Книга!..
Возьмите книгу, почувствуйте в ней жизнь: стоны, боль, сопереживание… Полюбите героев, почувствуйте, как выписаны, как дышат, как живут её персонажи. А если не чувствуете? Напрягитесь, вчитайтесь, создайте картину мысленную и всё заговорит, заживёт — всё получится! А если опять нет? Тогда подумайте, всё ли правильно в жизни вашей. Так ли вы распорядились жизнью, какую вложил в вас Создатель. Книга!.. Ведь чтение хороших книг, «разговор с самыми лучшими людьми прошедших времён, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли». [2]
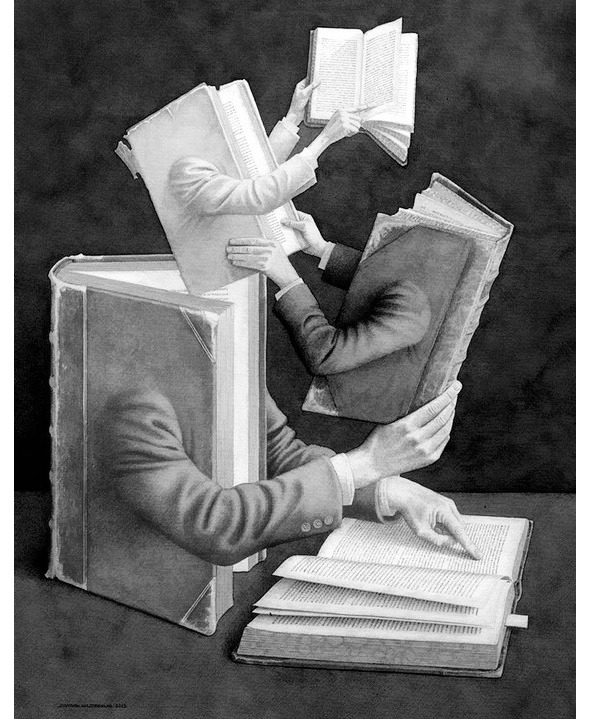
И обязательно, отложите в сторону своё высокомерие, всезнайство, отбросьте самодовольство, которое давно осуждено и охарактеризовано древними. «Самодовольство подобно высокой башне, на вершину которой взобрался надменный глупец. Там воссел он в гордом одиночестве, никому невидимый, кроме себя самого». [3] Побудьте какой-то миг самими собою, не придуманными, такое тоже часто присутствует в нас, а такими, какими не нужно ни перед кем рисоваться. Почитайте такую книгу, какую очень хочется в руки взять, не бегло, не для времяпровождения, а вдумчиво, вглядываясь в суть слова, что за ним, какая картина движения внутри его и какого оно цвета, сколько в нём огня, жизни, помните как сказал великий «глаголом жечь сердца…» [4] Слово это звук, вибрация… Произнесите слово, и вокруг вас уже многое изменится, мы не видим ещё своим несовершенным зрением, но надо верить. Молитва что такое? Это осознание вечности, это созидание, построение, любовь, красота и устремление… действует она с той силой и верой, какую вложили в слово, в звук его ВЫ!.. Слово!.. Вначале было оно… Из него и состоит книга…
* * *
Библиотека!.. Своя, собственная!.. Протяни руку и тебе ляжет на ладонь та желанная вещь в бумажной упаковке, заглянув в которую уже можно забыться на неопределённое количество времени, ты попал в действие, сюжет, что разворачивается на страницах этой вещи и вещь это, конечно книга! «Чудак человек!», — скажете вы, и я соглашусь, только вот в природе человеческой узнавать, интересоваться, разбираться в чём-то до тонкостей, и неважно в чём, в противном случае человеком ли будет увалень, чьи желания и интерес сводится поесть и поспать и ещё к одному, животному продлению рода своего. Но и его надо чему-то научить!.. Поесть и поспать?..
Такая мечта, иметь свою библиотеку мне пришла давно, ещё в детстве, такую, где бы стояли вряд все самые приключенческие романы, самые что ни есть про воителей, которые всех на свете побеждали бы, про богатырей, защитников земли и отечества. Ещё и про войну, где также самые геройские герои одолевали бы захватчиков и врагов Родины моей. В общем, такие книги, которые соответствовали моему тогдашнему возрасту и интересам… Но приобретя, десятка два потрёпанных книг, с порванными, порою отсутствующими страницами, я остыл в собирании. Где и за что можно было покупать?.. Потом приключилась со мною юность, и многое осталось на потом. Желание, мечта осталась, но на потом, на потом… Это «потом» длилось довольно долго, я окончил школу, поступил в институт, а жизнь студенческая, известно, вся динамичная и непоседливая… Не сосредоточишься на одном, как у Фигаро — вся изобретательная, остроумная, жизнерадостная и энергичная… Однако мечта оставалась, правда она видоизменялась, и менялись приоритеты желаемого, но где-то рядом поселилась прочно и сопровождала меня, не докучая назойливо…
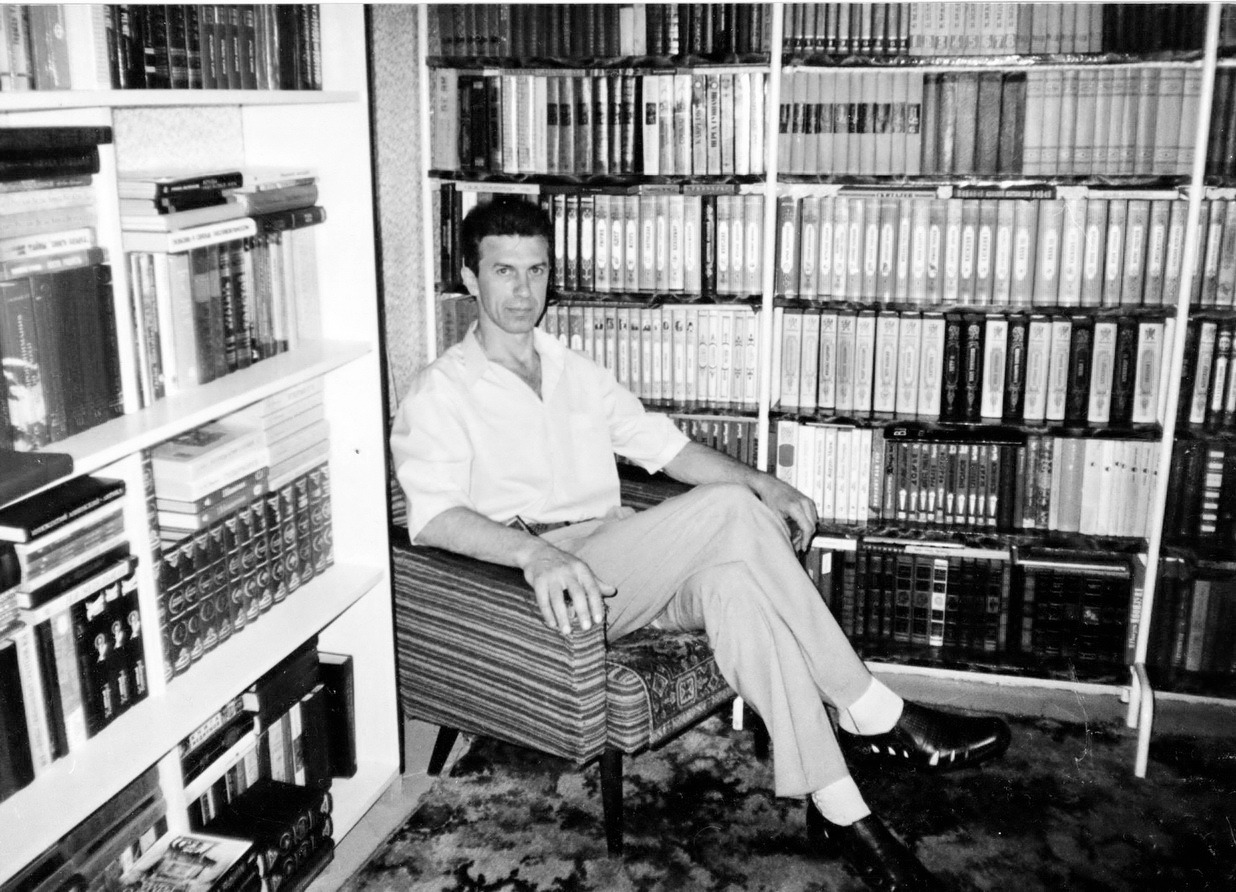
Когда и как я начал собирать свою библиотеку? Ой! да всё просто, как всегда с незначительного случая… Видите случай? Люблю случаи… Вся жизнь у людей соткана из случаев. В общежитие, в гости, иногда заходила знакомая и предлагала на продажу книги… Книги?!.. Да! книги, которые в то время «днём с огнём не сыщешь», а здесь целые собрания сочинений, из своей библиотеки. Говорила, что у неё все в двойном экземпляре, а то и тройном… Для чего продавала, наверное, деньги нужны были, для чего же ещё?..
Я интересовался, какие книги, не все меня увлекали… Как-то раз вытащила пятитомник Бунина, пять книг новенькие, пахнущие типографской краской, ни разу не читанные. Бунин Иван Алексеевич?! Вы представляете Бунин!.. И это может уйти на сторону? Да мыслимо ли такое! У меня перехватило дыхание и высверлило мозг диким желанием приобрести самому, но денег-то нет! ах ты ж…, что делать?.. И цена была по тем временам совсем невысокая. Я метнулся, по комнатам знакомых, конечно девочек, у них всегда было чем поживиться и при случае занять. Деньги нашёл, вернее, занял и отдал ей, а пять томов, что великую драгоценность спрятал в чемодан, тогда под кроватями либо чемоданы были, либо сумки.
Мудрость, что искал ты там,
Среди книг снуя,
Светит с каждого листа,
И теперь — твоя! [5]
Чемоданы лучше, они были плотные, с металлическими накладками по углам, в них хранилась всякое, что необходимо каждому, и не пылилось. Их задвигали под кровать, они там и «проживали». Потом соседями Бунина «по чемодану» стал Куприн, Александр Грин, Гоголь, Пушкин… Когда становилось тесно моим классикам, тогда я отвозил их в город Юрга, к моим сёстрам, а чемодан заселялся новыми корифеями литературы Алексеем Толстым, Крыловым, Тургеневым… Много книг побывало в том тесном помещении под моей кроватью. Были и такие моменты, что мои возможности в приобретении иссякали и я делился с товарищем, большим любителем литературы и собирателем Серёгой Давыдовым. Поразительным и умным парнем, какой восторгался классиками русской словесности.
— Знаешь, Ль-лёня, — чуть с заиканьем говорил мне, перед этим приобретя девятитомник Писемского, — Какой душевный слог у Алексея Феофилактовича, что за лёгкость слога, вот п-послушай: «… Всякий, кому только бог соблаговолил поездить по святой Руси, всякий, без сомнения, заметил, как пустеют нынче усадьбы. Ему, верно, случалось проезжать целые уезды, не набредя ни на одно жилое барское поместье…». Чувствуешь к-какой великолепный слог, а? Чувствуешь картину, а? Или вот п-послушай дальше: «… хотя часто метался ему в глаза господский дом, но — увы! — верно, с заколоченными окнами и с красным двором, глухо заросшим крапивою…». [6] Слог, чувствуешь, а?.. Сразу видна вся прелесть описываемого образа. Вчера читал, получил несказанное удовольствие. Да-а-а, как писать могли! — восторгался Сергей.
Потом довольный, откидывался на спинку стула, вглядывался куда-то, наверное, выискивал на горизонте Феофилактовича… Вообще Сергей не заикался, такая манера говорить была, а когда волновался, то что-то похожее на повторение неких согласных слышалось в беседе.
Часто при покупке книг какая-то толика денег возвращалось в руки нам, и мы с товарищем мчались за вином и сигаретами. Была у нас точка «прикормленная», где мы покупали и вино качественное, и сигареты болгарские «Радопи», тогда их сыскать было практически невозможно. Универсам, что близ десятого корпуса, нами часто посещался, а значит, тамошние продавцы нас знали и обязательно припасали «нужное», не только для нас, «для своих», немного наваривая в цене… В те времена выгодно было иметь такие торговые точки, а ещё таксистов вызвали, почти у всех можно купить по двойной цене бутылку водки, в любое время суток. Народ как мог, так и выживал, хорошо ли плохо, то судить моральным авторитетам, у них всегда заготовлена оценка. За вином, за сигаретой с умными собеседниками пирушка продолжалась долго. Девушка, что продавала книги, могла часами читать наизусть стихи известных поэтов, да и выпить горазда…
С той самой поры для меня было целым испытанием находить деньги, залазить в долги и постепенно уменьшать круг моих потенциальных кредиторов. Чтобы отдать, работал, где мог, разгружали вагоны, красили фасады зданий и даже подрабатывал в цеху чугунно-литейном, просеивали землю, скажу вам — каторга… Помню девочку, с группы, которая всегда сокрушённо качала головой, когда я занимал у неё деньги. Она хорошо ко мне относилась, видно было, что неподдельно — искренние её переживания заставляли журить меня и брать слово, что деньги пойдут не на горькую, а самое необходимое… Выручала всегда!.. Потом я показал ей книги, которые покупал, успокоил…
В то время многие любители и ценители книг, где можно и нельзя старались приобрести драгоценные сокровища мудрости… Да-да! мудрости… Собирали книги и мои друзья по общежитию, с которыми мы временами обменивались ими, делились впечатлениями. Подзовёт меня Сашка Крицкий, достанет свою сумку и скажет:
— Смотри, Лешеко (так звал меня, только он), что у меня есть… Ну как!? — и с хвастливыми нотками подаёт мне Чарльза Метьюрина, [7] его «Мельмот Скиталец», из серии «Литературные памятники» — А? каково?
Знал, что под этим «каково» у меня аж! под ложечкой засосёт. Изверг! разве можно было так вырабатывать во мне зависть? Но у меня-то тоже были сюрпризы, не хуже как у него. Так в шутку подзадоривая друг друга, мы часто помогали найти ту или иную книгу.
Незаметно, кроме содержимого кармана, собирание моей библиотеки вошло в почти профессиональную фазу. Наряду с классикой русской мною приобретались книги известных зарубежных авторов. С каждым годом избирательность пополнения своей библиотеки росла, уже писал, менялись приоритеты и то, что мне казалось нужным, становилось просто фондом, что шёл на обмен с другими любителями книг, на литературу нужную мне. Так я, к своему удивлению, стал почти равнодушен к фантастике. Сказать, что я не любил бы читать её, то совру, читал, искал почитать, но в свою библиотеку не собирал или менял. Мои полки стали пополнятся историческими романами, трудами философов, наставлениями святоотеческой литературы. Многих собрал из русской поэзии, всех известных поэтов девятнадцатого века. Забегая вперёд, скажу, что последнее время немало трудов по восточной философии, по различным религиозным вопросам поселилось рядом со столом, где я сейчас работаю. И если мне надо что-то освежить, привести, напомнить, то левая рука, может дотянутся до нужного. Последние годы практически ничего не приобретаю из книг, или очень редко, многое, что меня интересует — есть, а всё собрать невозможно.
«Нельзя объять необъятное», по Пруткову! [8]
* * *
…Я был частым гостем книжных магазинов и особенно «Букиниста». Работал в то время его директором маленький, вернее он был взрослый, но ноги его были короткими, как у Тулуз-Лотрека, [9] с развитой верхней половиной туловища и «усечённой» нижней. Звали его Володей, [10] был он человек уникальный, с поразительной памятью и живым умом, ходячая энциклопедия. Поговаривали, что у него дома царил настоящий антикварный рай из книг и предметов, думаю, привирали (а там кто знает?) … «И театрал, и букинист, во всем знаток, во всем артист», сложили о нём эпиграмму местные библиофилы…
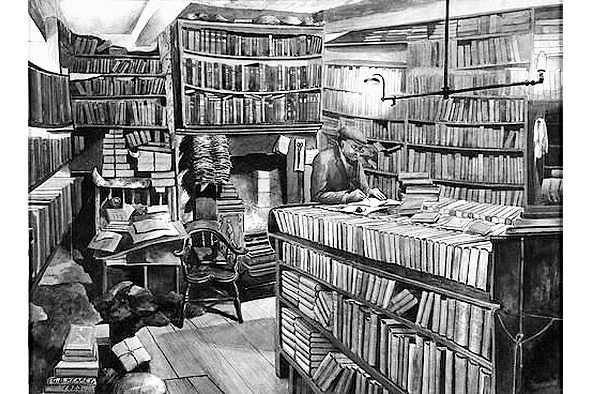
А через него я стал знаться с известными томскими собирателями книг. Через них, дополнительно узнавал, какие книги были ценными, с точки зрения антиквариата, а какие просто стоили так, как требовало время и популярность. Но я не увлекался старинными изданиями, за какими гонялись томские библиофилы. Мне просто было интересно с ними общаться, слушать их и порою восторгаться знаниями и начитанностью.
Познакомился я с одним собирателем, и он как-то пригласил меня к себе в гости… Матушка родимая! что за собрание книг было у него!.. Все стены его квартиры — всё было сплошные полки с книгами! Чего и кого здесь только не было и как! можно было всё такое найти, собрать? Стройными рядами выстроились классики литературы русской, английской, американской, французской, немецкой… Где доставал?.. На меня заманчиво, дразня, смотрели авторы древнегреческой, древнеримской эпохи, писатели эпохи Возрождения, Просвещения и многие, многие другие вплоть до советских времён. Солидно и красиво расположились на полках большое количество томов серии «Литературные памятники», к которым я питал особенное трепетное и благоговейное отношение и также, где мог, приобретал их. А сколько приключенческой литературы? Кого здесь только не было, даже те, что мне были не знакомы, а меня трудно было удивить и, тем не менее, я стоял онемевший, прибитый и радостный одновременно, я всё это вижу и могу взять и подержать в руках… Всё это был любовно разделено по полочкам, рассортировано по датам и записано бережно в картотеке.
Прошло не так много времени… Уклад жизни моего знакомого изменился, семейная идиллия закончилась, и наступило для мужчины очевидное уже далеко не книжное настоящее. Он остался один, один со множеством книг… Прошло время, я его посетил не в самую лучшую пору его жизни. Он стал частенько употреблять алкоголь, что для одинокого мужчины почти гибель. Ничто так не влияет на вторжение хаоса в жизнь человека, в данном случае мужчины, как одиночество и подверженность к унынию, тоске. Всё такое сразу хочется заглушить обильной порцией «горичительного», заливаешь, помогает, потом возвращается с удвоенной силой, и почти не замечаешь, как попадаешь в зависимость к ещё большему и частому «заливанию» своей тоски. О-о-о! это страшное время для осознающего себя в жизни человека. Ты знаешь, что «попал» и чувствуешь такую зависимость и великое желание выбраться из такой ямы, а не в силах. Нет сил, ты в «пятом углу», там нет выхода, сколь не смотришь, не вглядываешься — не видишь… И, тем не менее, там есть проходик, такой себе маленький незаметненький, что и сразу не разглядеть…
В такое положение и попал мой знакомый… Я зашёл к нему в один из осенних дней, когда и у самого внутри было пасмурно… и поразился тому, как всё поменялось. В комнатах валялись груды книг, полки исчезли, а сам хозяин, уже хвативший грамм сот несколько, встретил меня совсем без радости и прошлого весёлого нрава. Одному он обрадовался, что было с кем выпить, мы выпили, поговорили… Грустно так поговорили, глядя на разруху, творящуюся в квартире, не раз у моего знакомого на щеке появлялись слёзы. Он должен был переезжать куда-то, квартира разменивалась, а часть книг ушло к его бывшей «второй половине». Кто из них был виноват, в развале семьи, кто мог сказать?.. В таких случаях обе стороны виноватят не свою половину… Господь им судья! На прощание он пожал руку, уже изрядно выпивший сказал мне:
— Вот что… Послушай меня. Какие бы обстоятельства у тебя не складывались в жизни, чтобы не случалось, ты не поддавайся влиянию их на тебя… Всё такое проходит, понимаешь, развеивается. А если поддашься, то выбраться будет ох! как тяжёленько (так и сказал — тяжёленько) … Запомни!.. Врать не буду!.. Ну-ну, иди, иди…, — и я пошёл, запомнил…
Да только жизнь улетучила быстро предостережение. Закрутила, обжала, затанцевала в объятиях — голова кружилась… Вспомнил, когда «тяжёленько» стало, и обстоятельства плотно обступили жизнь мою, правда, они никогда не покидали меня в моём существовании, но наступили такие, особые обстоятельства и условия, о каких меня предостерегали. Возможно, они будут когда-либо описаны, но кто знает…, когда? — жизнь покажет… Больше я его не видел…
…Вся оставшаяся жизнь пробежала не только в добычи хлеба насущного, но и при случае, где можно, приобретению книг. Книга к книге, стопка к стопке, постепенно росла библиотека. Моя библиотека!.. Мечта сбывалась. Когда достигла она нескольких тысяч томов, при моём мобильном образе жизни и частых переездах постепенно становилась проблемой, а ну! упакуй столько их, да ещё и бережно упакуй… У кого есть, хоть какая библиотека, те подтвердят, что за мука при переездах. Потом на месте смонтируй полки, расставь так, как положено и как хочется, а это вечная проблема. Почему? Начинаешь расставлять тома и, как на грех, зацепишься за ту часть книги, которая между обложкой, о которой вначале написал. Пробежишь глазами какой-то абзац, потом следующий, следующий и глядь вокруг — всё, как было в начале, в «хламе», на том и задержалась уборка…
— «Ваше любимое занятие?» — как-то спросили одного философа, экономиста и автора «Манифеста…». [11]
— «Рыться в книгах!» — последовал быстрый ответ.
Именно «рыться в книгах», стало моим любимым занятием, почти ежедневной потребностью, это как глоток воздуха. Необходимым источником и знаний, и впечатлений. Они как друзья поселились у меня в квартире умные, мудрые, не докучливые и в тоже время быстрые на помощь, готовые по первому твоему требованию и желанию открыться на желаемой странице и подать мысль в упакованном виде… Скажите, не друзья ли?.. Друзья!.. Не могу не привести, что читатель знает, что во многих статьях о книгах помещают авторы то, ставшее знаменитым: перед смертью великий поэт посмотрел на лежащие рядом свои книги, на тома, стоявшие на полке его библиотеки, и сказал, обращаясь к ним: «Прощайте, друзья!» [12]
«В моей квартире собраны миры…». [13] Эти миры часто перемещались на другие «континенты» и редели… При переездах часть обязательно оставалась в чьих-то руках, часть отдавалась, а что-то давалось почитать и не возвращалось… Так всегда при неосёдлом образе жизни. Куда я направлялся, за мною следовал костяк библиотеки, в основном классики. Как-то, переезжая, я часть книг оставил у знакомых, до поры до времени. Эти «пора и время» подзадержались и забрать книги не представлялось возможным, у других же людей места не нашлось, даже у друзей. Для книг и у них не сталось места. Позвонил благодетелям своим, мол заберу, а в ответ: «А мы сдали их на макулатуру, ты же долго не забирал…». На макулатуру?! Вся серия «Классики и современники», большая часть «Литературных памятников», целые собрания сочинений… И всё это в утиль?.. Да в утиль! такое бывает!..
* * *
Хочется в конце придумать и привести какие-то особые, совсем негромкие слова о книгах, простые, но могущие нежно и трепетно передать дух их, что в них особое, незаменимое…
Такое в них — задушевная прелесть страниц… Разве сравним их тихий шелест с электронными изделиями? в которых вся библиотека помещается. Как можно заменить цифровым носителем энергетику читателя, писателя, что задержалась между этими самыми страницами, между словами, буквами. Это от этого зависит, почему мы после иных держателей не хотим читать желаемую книгу. Всякий, кто берёт в руки её, читает, уже оставляет следы своего пребывания и свои мысли. Химизм накладывания дум работает чётко, как на священные вещи молитва праведника, механизм тот же. Не мною придумано и надумано, это физика! и скажу, что в будущем будет возможным узнать, кто прикасался и читал, какие это были читатели. Несмотря на то, как шагает технический прогресс, наступает цивилизация, уникальный предмет, совсем простой, какой придумали люди, будет жить…
Без книги в мире ночь и ум людской убог,
Без книги, как стада, бессмысленны народы.
В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль природы,
В ней будущность твоя и верных благ залог.
Так о книгах воскликнул Виктор Гюго…
сентябрь, октябрь 2021 года
_______________________
Повести и рассказы о русских писателях
МУКИ и РАДОСТИ ДНЯ
Хоть стих наш устарел, но преклони свой слух
И знай, что их уж нет, когда-то бодро певших,
Их песня замерла, и взор у них потух,
И перья выпали из рук окоченевших!
Но смерть не всё взяла. Средь этих урн и плит Неизгладимый след минувших дней таится:
Все струны порвались, но звук еще дрожит, И жертвенник погас, но дым еще струится.
Алексей Апухтин
Под утро выбросило из сна…
Даже не во сне пребывал, а тревожном, смятенном забытьи, где вовсе ничего не снилось… Мгновение, было непонятно, что с ним и где… Стал было приходить в себя, осознавать явь, но внутри ёкнуло, оборвалось, вспомнилось вчерашнее… Затревожилось, затревожилось… Протяжно ноющее давно поселилось внутри, затихающее временами, то вновь набирающее силу… И было от чего, опять эти жуткие сцены, опять ревность, истерика и крики сына, повелевающие, ненавидящие… Вспомнил и закашлялся… «Господи, за что? За что мне это?..». Дрожью внутренней, нервной было охвачено нутро, глубоко в себе подобно бегу… Беспокойно постукивало сердце, давая ощутимые перебои… Дрожь не проходила, и всё напоминало какую-то натянутость. От этой натянутости готова лопнуть, порваться нить. «Какая нить? что за нить? откуда она? ах да! — нить жизни… Ах, ты ж! нет покоя…, а может уже Пора?..», — проговорилось само вполголоса. От этого вздрогнул… Он услышал себя, свой голос глухой, издалека и словно со стороны…
1
Уснуть уже было невозможно…
Одна дума накручивалась на другую, сворачивалось всё в клубок и это нечто нагромождённое одно на другое никак не разворачивалось в последовательность, в нить, теперь уже нить рассуждений… Никак не могла схватиться суть, что редко происходило, а бывало, схватится и давай разматываться словесными выкрутасами логично, стройно и понятливо…
Взглянул на окно…
Сквозь щели штор проглядывал рассвет, ещё серый, молчаливый, затаённый перед шумом дня… Чувствовалось, солнце издалека уже двигалось навстречу живому, лучей не было, но в жизнь двигался знойный летний день. Думалось!.. Ему всегда думалось, где-то внутри работал чудный механизм, прямо генератор идей, вырабатывая и вырабатывая одну думу за другой, и уже стройными рядами шагали идеи, тезисы, образы, намётки и наброски тут же заносились на бумагу… Одни немедленно отбрасывались, но другие приобретали чёткий контур и проступали в пространстве ясными последовательными концепциями. Эта фабрика новых идей, замыслов, намерений день и ночь работала на весь свой мощный потенциал, не останавливаясь ни на секунду, хотя сам про себя позволял говорить «леность одолела».
— Успеть бы до жары, до чая и день-то какой готовится, а надо ещё и поработать, просмотреть последнее, что написал, поправить его… Пришла недавно мысль написать о безумии, но передумал. Главное, вовремя записать то, что приходит, важные мысли, особенно лёжа, а то забывается, сколь не вспоминай потом…
Кряхтя сел, свесив ноги, они привычно стали на приступку, что возле кровати была, и медленно стало всё приходить в норму…
Пора было на утреннюю «зарядку», на утреннюю «молитву», как в шутку называли прогулку по утрам в семье.
Оделся, нашарил рукою стул-трость, подарок одного из последователей и пошёл…
Медленно сошёл по лестницы, половицы слабо поскрипывали, переступил через самую скрипучую, которую все старались обходить, слышалось мерное постукивание английских часов, которые привёз в усадьбу ещё дед, так они и прижились в углу, возле лестницы.
Раненько…
Утро приятно обдало свежестью, той прохладой, которая не холодит, а именно освежает и бодрит. И воздух, очищенный ночной прохладой вдыхается так, словно пьётся… И хорошо так, пораньше, когда нет никого, чтобы мало кто попался на пути… Было хорошо одному, думалось легко, не отвлекали своим присутствием, разговорами люди… Только там, где один ему было всегда хорошо и поэтично… Хотелось раствориться в окружающем, чтобы плавно оно входило в него, а он, это понял давно, принадлежал ему, этому окружающему, всему что пело, щебетало, гремело раскатами грома, стрекотало кузнечиками, входило всеми запахами земли… А люди?.. Пусть себе встречаются, но потом, потом, после прогулки. Там и люд простой подтянется под дерево.
— Это ж надо, как прозвали «дерево бедных», но надо дать копейку, надо, а то кто?..
Туманец лёгкий опустился и пал росою, блестела она ярко, звёздочками искрилась под падающими лучами солнца. Светило же неохотно и вяло поднималось, мелькало меж ветвями деревьев, то выходило большое, красное в просеку, то стыдливо пряталось за деревьями, скромно выглядывало…
В стороне, где деревня, слышалось многоголосное пение петухов, что заходились друг перед другом, горластые, хвастливые… Горделивые, куда там до них, они же солнце поднимают на небосвод. Такими бывают гордецы заносчивые… Мычали коровы, птички заливались. Люд простой уже поднялся и был готов к своей жизни, в будни… Из таких будней и соткана была вся жизнь люда простого, без пропусков, без надежды на жизнь лучшую. У него всё подчинено своему ритму, как подчинено у пчёл, что повылетали из ульев и тоже трудятся, всё живое в поте добывает свой хлеб насущный, своими руками и ногами… Только те, кто считают себя высшим сословием, трутням подобны и при этом много рассуждают и говорят красивых слов… Так-то вот надобно, как пчёлы, трудиться и трудиться…
2
Осмотрелся…
Сердце, всегда открытое прекрасному, радовалось округе… Сколько лет уже любовался всем этим, десятки годов пробежали, словно единым взмахом временной волшебной палочки… Сам постарел, поседел, а любить то, что окружало, не устал, не мог налюбоваться за столько лет, не мог в восхищении насмотреться на простоту и одновременно красоту родной земли и всякий раз видел что-то новое в ней, невиданное доселе.
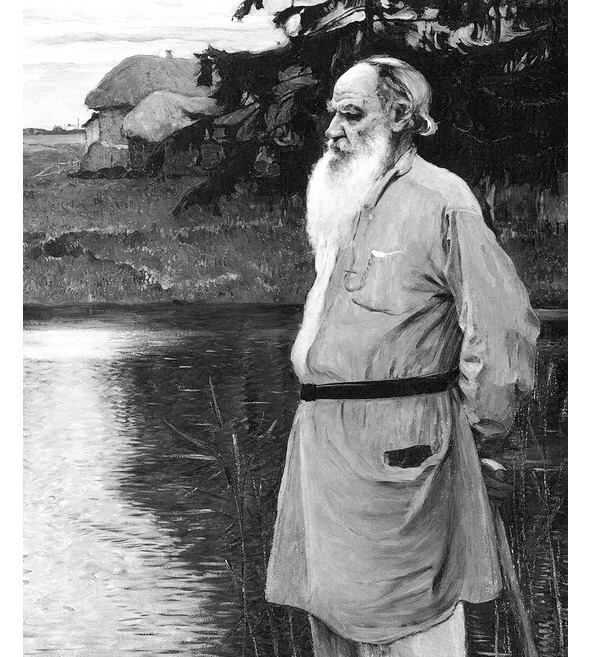
— А что за вёсны здесь гуляют, какой размах учиняют над природою, ну как…?! Как здесь не плакать в восторге?.. «… Необыкновенная красота весны „…“ в деревне разбудит мертвого. Жаркий ветер ночью колышет молодой лист на деревьях, и лунный свет и тени, соловьи пониже, повыше, подальше, поближе, „…“ вдали лягушки, и тишина, и душистый, жаркий воздух — и всё это вдруг, не во время, очень странно и хорошо. Утром опять игра света и теней от больших, густо одевшихся берёз прешпекта по высокой уж, темно-зеленой траве, и незабудки, а глухая крапивка, и всё — главное, маханье берёз прешпекта такое же, какое было» [1]
Вливались силы, дрожь проходила, старческая согбенность постепенно уступала место тому юному, что всегда чувствовал в себе… Удивительно! и как так получалось, что с годами внутреннее ощущение чего-то юношеского, словно застрявшего далеко внутри не покидало, а частенько даже просилось наружу… Медленно потянул руки, как будто придавал им путь погони за своим мыслями…
— Какая-то тайна лежит в человеке?!.. Вне сомнения он принадлежит не только праху земному, но в нём заложена устремлённость и дерзание к Высшему, к своему Началу…
Остановился…
Внимательно осмотрел качание крон берёз, словно где-то среди них мог увидеть это Начало. Ветви колыхались под ветерком, шептали гимн утру, встающему солнцу, птицам, цветам, розовеющему на востоке небу и самому ему, принадлежность кого к этому гимну утра у него не вызывало сомнения…
— Всегда хорошо гуляется утром, всё напитано свежестью, здоровьем, красотою, всё это надо пить и пить собою, а познаётся как, как песня слагается, и дышится славно, всей грудью, всем существом… Вот так по росе, как в детстве, пробежаться бы, да найти ту заветную «зелёную палочку» с начертанной на ней формулой счастья, что Николенька закопал подле оврага, да взмахнуть бы ею и все, все человеки, стали бы счастливыми… Надо же, когда это было…, а помнится, словно вчера произошло, и мы зачарованные следили за ним, слушали его и представлялся мир уже совсем счастливым и люди в нём виделись любящими друг друга.
Предстал отчётливо образ брата, там, в немецком городке, где он сам трусливо смалодушничал, стыдно признаться, боялся взглянуть в глаза умирающего Николеньки, украдкой вглядывался в его безжизненное лицо, прислушивался к хриплому, отрывистому дыханию… Боясь поселить в себе дискомфорт, помнил состояние и внешний вид другого брата Дмитрия, уже покинувшего этот мир, тогда тоже трусливо бежал… Как же стыдно осознавать такое сейчас, когда самому… Это «когда» уже ясно и отчётливо надвигалось. «… Так просто, близко к смерти» [2] Сознание отмахивалось, но думы чаще касались понятия смерти, хотя слово смерть не укладывалось в общее его понятие о жизни вообще… Там что-то да есть!.. И опять как тогда ясно и отчётливо всё вспомнилось… Вспомнил детские игры в Ясной Поляне, попойки с офицерами на Кавказе и незабываемую охоту с Епишкой. Не мог до сей поры дать себе вразумительный ответ, почему острый ум, ясность мысли должны исчезнуть навсегда? Как так происходит?.. Для чего жить, работать, если оканчивается всё погружением в небытие? А в небытие ли? возможно правы индусы, свято верующие в перерождение души, тогда что-то становится боль менее очертательным, имеющим смысл… Всё такое быстро бегло промелькнуло, не успев основательно поселиться внутри, больно было вспоминать, а уж промелькнули десятки лет и жизнь вот-вот скатится в то самое небытие… А небытие ли?..
Повернул в сторону обратную от деревни… Немногим дальше, надеясь на безлюдье, всё-таки встретил двух мужиков, шли от реки, от Воронки, рыбалить ходили. Увидев его, заломили шапки и поклонились, низко поклонились, в пояс, поздоровались, как положено…
— А что? рыба то есть?..
— Да, какой там, ваше сиятельство, одно мученье, а не уженье…, — с поклоном ответили они и последовали дальше в сторону деревни, а он постоял, заткнул обе руки за пояс, пробурчал себе:
— Вот, что и требовалось, полюбуйтесь на них… Уже давно на ногах, — и зашагал своим ещё бодрым пружинистым шагом, но некогда лёгкая и стремительная походка с годами стала всё же тяжелее, основательнее, ноги ступали осторожнее, а после прогулки и вовсе становилась приземлённой.
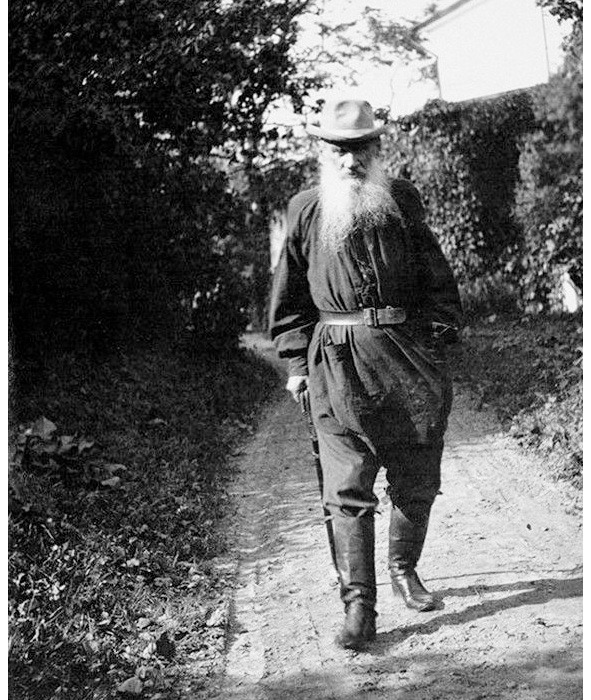
Медленно прошёлся аллеей, дошёл до любимой скамейки, что была поставлена на границе пашни и лесного участка «Ёлочки за Чепыжом» и было хотел присесть и понаблюдать утро, но передумал «после, после…» и побрёл далее мимо берёзового клина, колодца, ближе к Калиновому лугу… Слева осталось Прудище, заливной луг, весной всё здешнее покрывалось водой и косяки свистящих уток с шумом садились на залитые водой луга. Тогда Воронка выходила из берегов, показывала свой норов, и был он довольно буйный, сейчас же мирно, тихо катила свои воды в места ей нужные… Как радовалось сердце, как волновалось оно в груди, когда весною оживало звуками торжествующей природы…
Вспомнилось ему утро весною…
— Постой, когда же это?.. Ах! да тогда ещё подумал об таком… «Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал всё об одном, как я постоянно думал всё об одном и том же эти последние три года. Я опять искал Бога. „…“ Оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в Бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о Боге, и я живу; стоит забыть, не верить в Него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти Его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. Так чего же я ищу ещё? — вскрикнул во мне голос. — Так вот Он. Он — то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь…» [3]

Поля, той весною, недавно вспаханные, разметались во всей своей широте и уползали за горизонт, а там без сомнения далее… Ни одно живое существо не добавляло себя в картину перед взором. Всё было в тишине зыбкой, таинственной, как всё замирает перед бурей… Здесь замерло, готовясь к толчку пробуждения… Пройдёт миг, конечно миг, ведь для жизни вечной отрезок времени есть миг. И тогда заголосит, всполошится округа, вспоминая, что пришла весна, и где-то в недрах земли выбросится мощным ударом жизнь. Эта тишина растворится в неумолкаемом птичьем пении, щебетании и… Вот тот миг, момент, которого он ждал всегда, какой вызывал в нём восторг и восхищение, вселял в него душевные, пламенные позывы писать… С ударом весны он ощущал удары творческих сил…
Вдыхая полной грудью и пребывая в восторге, писал в письме: «Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня… Когда «…» листья, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют линию далёкого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба «…», когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, везде кругом заливаются птицы…» [4]
— Да!.. я люблю природу, природа это всегда самый лучший друг, друг может и умереть, а природа нет, видоизменится, но пребывать будет вечно… Ах! Как хорошо увязано в ней, как гармонично… Не так, не так в обществе человеческом…
Поддакивая ему своим согласием небо далёкое, синее убегало ввысь, в беспредельность, а по нему этому прекрасному эфиру бегали серые рваные облачка, как и по жизни, по её красе, бегают со своими страстишками люди и омрачают, заслоняют прекрасное, не видя, не замечая то, что вечно и бесконечно красиво…
3
Опёрся на стул-трость возле лениво текущей реки.
Воронка, в летние дни была узкой и нравом послушным. Катила воды мимо, куда-то вдаль… Где-то она во что-то впадала, в большую реку, а там ещё и ещё. Река не останавливалась ни на секунду, вся была в движении, как сама жизнь, не остановить, не притормозить её. И пока движется — река живёт, остановится — превратится в болото, умрёт… Поэтому она постоянно в поиске пути своего наикратчайшего, не находит, сворачивает и идёт там, где нет прямой преграды, образует излучины, огибает горы, камни, а при отсутствии пути точит и горы и камни, и движется и движется… И ежели вода обладает такой силой жить, свойством искать, сталкиваться с препятствиями, подниматься вверх, в свойстве пара, а потом возвращаться на землю дождём и опять стремиться искать путь, то разве люди не могут жить, развиваться в соответствии с таким законом. Разве не могут они рождаться жить, преодолевать препятствия, устраняться от войн, рожать потомство и умирать, а потом вновь рождаться человеком, но в новом качестве?.. Вновь вспомнились индусы, с их законом о перевоплощении и опять складывалось, что Там нет небытия.
Эта небольшая смирная речка напомнила другие, более буйные, кипящие меж отвесными скалами кавказских гор. Ещё там любил наблюдать этот дикий нрав горных рек и сравнивать с жизнью людей, рассуждать, сопоставлять. Тогда его жизнь напоминала клокотание горного ручья, а сейчас на закате должна была походить на эту, что движется покойно по ровной местности, перед глазами… Должна быть такой, но нет покоя…
За многое цеплялся ум, на одном предмете еле касался, слегка по поверхности, на другом задерживался, обнимал его своим внутренним взором, пытался расчленить его на атомы. Мысли его касались великих и не особо «великих» не задерживался на них, но вот подумалось о совсем мальчишке, горные реки напомнили, юном корнете, что написал «Тамань»:
— Ах! как написал этот мальчишка, где такие слова взял и каким образом сочетал их между собою в такую стройную удивительную картину, ну что тут поделаешь? поразительно… И «какие силы были у этого человека… Каждое его слово было словом человека власть имеющего… Вот в ком было это вечное, сильное искание истины. Если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский. Вот в ком было это вечное, сильное искание истины! Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог!..» [5], — и не было в его словах и намёка на едкость, что нередко встречалась в разговорах о поэтах, писателях. Никого не возвышал и не возвеличивал этот столп литературы русской, а здесь словно не он и не узнать того Льва, что и себя, не жалея бичевал не раз…, — Все эти великие и вовсе невеликие, а так мнящие себя таковыми…
Небольшой порыв ветерка донёс дымок далёкого костра, ароматы готовящегося завтрака… Где-то на другом берегу Воронки уже текла жизнь то ли заядлых рыбаков, то ли ребятишек с ночного… Втянул в себя запахи, и голова закружилась приятно, томно…
Любил костёр…
Любил с детства, когда старшие братцы разжигали и смотрели они на разметавшиеся в пространстве языки пламени. Потом были костры его походной военной жизни, возле которых, протянув руки, грел озябшие пальцы, подогревал на лезвии сабли остывшее мясо, сало… Любил приготовленное на огне, оно пахло дымком и тайгою, чем-то древним из далёкой жизни предков, его он чувствовал… Какими-то неосязаемыми касаниями дотрагивалось, и мысль уже пронзала века и убегала в древность, к кострищам, к святилищам и многое было там ему знакомо, откуда?.. Костры всегда будили в нём рой каких-то воспоминаний, необязательно связанных с его уже богатой на события жизни. Вспоминал биваки, ночные дозоры казаков, охранявших станицы и южные подступы российских рубежей от вольных и неукротимых горных абреков… Удивительно, как мало надо, для разгула прошлых картин, лёгкий далёкий запах костра и голова уже во власти дум, связанных с его былой походной жизнью… Так работает ассоциативная память у людей, когда какое-нибудь воспоминание может порождать большую связанную с ним область. Один предмет напоминает нам о другом, а тот в свою очередь о третьем и так далее…
Однако хаотичности в рассуждениях сейчас не допустил и смог управить своими скакунами мысли, вовремя возвратить их в нужный для себя путь…
— Поди ж ты, дай им волю… Умчат резвые, — проговорил вполголоса, закончив прерванные дымком размышления. И мысли побежали, побежали по именам и мимо, мимо всё… Как всё неинтересно. Но внезапно столкнулись об одно Имя… Единственный человек, когда-либо живший на Земле, останавливал его, будоражил своей непостижимой силой, непонятной преградой останавливал поток рассуждений и этот был Иисус… Скалою загадочной высился Он, а он чувствовал себя перед Ним маленьким, совсем таким земным человеком, тем, кто надоел самому себе, поднадоел окончательно…, хотя называл всё равно ласково — соседом. Говорил про себя, про своё тело: «Насел на меня этот Лев Николаевич и не пускает никуда; ужасно надоел этот сосед» [6]
Да был он таким, кто не мог не спорить, будь хоть кто перед ним… Спорил!.. И всё же признавал, что Христос дал понятие духа божьего, а «дух Божий — это любовь. И любовь живет в душе каждого человека». [7] Перед таким он не мог идти против, признавал, но его «безудержная рассудочность» [8], как обозвали его рассуждения и поиски ответов на вопросы жизни, что ставил он себе, не давала покоя и здесь, где христиане веками возводили основание крепкой веры и этот фундамент шатался под ним, не было крепости, как казалось ему. Да! он соглашался с величием нравственного Учения Христа, но при этом всё же видел в Нём выдающегося проповедника, а не сына Божьего. Не признавал Воскресение Христа, игнорировал слова апостола Павла, говорящего: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия. Ибо написано: „погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну“. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» [9] Павел, апостол, словно на него показывал перстом указующим: «Внемли!», но кто бы ему, ни грозил, не помогало…
Не мог он не знать предупреждения Эразма [10], что «…такие деликатные богословские проблемы, „…“ лучше обсуждать тихим голосом в ученом кругу. Теология не орет на всю улицу, позволяя сапожникам и торговцам грубо вмешиваться в столь тонкие предметы. Дискуссия перед галеркой и на ее потребу снижает, на взгляд гуманиста, уровень обсуждения и неизбежно влечет за собой опасность смуты, беспокойства, народного возбуждения…»
Лев и здесь оказался могучим Львом, признавая в себе, что гордыни многовато… Был Создатель и был Лев и ни одно живое существо или дух небесный ни один посредник не должен был стоять между ними, только прямая связь… Он любил Христа, не того людьми придуманного, а того кем был и являлся, в рубище, босиком, кто не думал о себе, только о нуждающихся, страдающих, болеющих… На память приходили слова молитвы его детства, и он замечал в дневнике: «… ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня… Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства…». [11]
Всею силою своего ума, обширных знаний старался обнять, понять, охватить Бога, не мог… Только и можно было его сердцем почувствовать, принять, приблизится к нему, но не мог, молчало оно… Пытался всю жизнь размышлениями доискаться, и сердце помогало в этом размышлении, но и только, и только. «Понятие Бога в самом даже грубом смысле — разумеется далеко не отвечающем разумному представлению о нем — полезно для жизни тем, что воспоминание, представление о нем переносить сознание в высшую область, из которой видны свои ошибки — грехи, заблуждения». [12] «Я молился Богу в комнате перед греческой иконой Богоматери. Лампадка горела «…» вышел на балкон, ночь темная, звездная. Звезды, туманные звезды, яркие кучки звезд, блеск, мрак, абрисы мертвых деревьев.
Вот Он. Ниц перед Ним и молчи!» [13]
4
Только Он! но…
Навязчиво, упрямо последнее время, стали возвращаться думы о матери… Образ её, не знакомый чертами, но родной, милый внутренним ощущением, стал часто грезится… И хотя он её не видел, вернее не помнил, маленьким был ещё, но ясно понимал, что это она. Когда писались воспоминания, тогда до боли занимало ум воспоминание о той, что дала жизнь. Не мог помнить её, а думы касались. Казалось, что лучше, объёмнее и ярче не было в его творчестве дней, как тогда, когда писались воспоминания о ней… Образ контуром выхваченный на бумаге заботливым и быстрым художником, в его внутреннем мире слагался в чёткий цветной портрет, написанный воображением. Он прикасался к нему мыслями осторожно, как хотят потрогать нежный цветок и при этом не тронуть пыльцу его, бережно притрагивался к тому истоку, откуда и всё начинается, где с молоком матери начинался мир, где чистый прозрачный родник питает тебя через всю жизнь. «Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства. Да, удивительное было время» [14] Воспоминания подобно пуповине, соединяющей со всем до боли родным, до слёз, до какой-то нестерпимости, до того что чувствуется, но без слов, слова не произносятся, их нет таких…
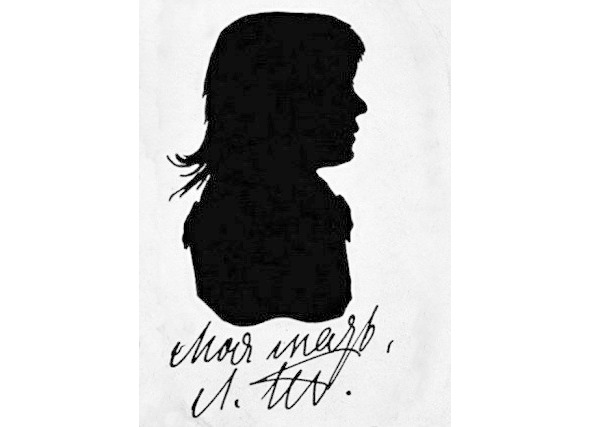
К матери тянулся, как младенец, старик, стоящий на пороге в жизнь вечную, а материнской ласке, во внимании, в нежном прикосновении, нуждался крайне. Было чувство всю жизнь обделённости с этой стороны, может быть по молодости и бросался во все тяжкие, ища на стороне эту ласку и…, не находил её. При воспоминании о ней в нём просыпалась такая любовь, такое почтение. В нём пробуждалось особенное настроение мягкое, нежное, в его словах слышалось такое уважение к её памяти, что она казалась его детям святой, когда о ней им рассказывал. Временами он испытывал такое чувство любви к ней, что просил Создателя сохранить это чувство по отношению ко всем людям… И как подарок судьбы, под закат жизни нашлись несколько синих тетрадей дневниковых записей юной маменьки. Долгими вечерами, закрывшись в кабинете, он читал полувыцветшие строки родного росчерка письма, вглядываясь в суть строк, словно за ними можно было разглядеть минувшее, и он мог разглядеть… За строчками ему виделся образ её, её движения, походка, лучистые глаза. Этот образ магнитом притягивал его внимание и рисовался уже ясным, отчётливым… Она улыбалась ему, как будто из временной дали и пространственного отсутствия своими дневниками она окликнула его. И он тянулся к этой улыбке, как младенец, старик, на пороге небытия… А небытия ли?..
«Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление — желание ласки, любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешаемым. Но кто такое существо, к которому бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей — ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе. Да, да, маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня» [15], пожалей…
И слов не находил нужных, правильных, таких, чтобы душу переворачивало, вспоминая о ней… Слова, что мы говорим, ничто, по сравнению с тем, что мы чувствуем. Чувство?.. Оно принадлежит другому миру, более высокому совершенному, что над людьми, а не под ними. Под ними эмоции, что захлёстывают всего и всех, берут в плен и как трудно избавиться от их объятий… Человек постепенно теряет свободу, увлекаемым всевозможными страстями ревности, зависти, ненависти, алчности, становится неуравновешенным, легко поддающимся раздражению, что делает его уязвимым для более тяжких пороков…
Он знал такое, и многое испытал на себе…
5
Возвращаясь, он присел на скамью…
День медленно охватывал собою окружающую местность, настойчиво заявлял у утра свои права, оно неохотно уступало, посылало свежесть и лёгкость в своём восприятии его… Ветерок утренний, освежающий забавлялся листвою, шелестел ею и касался его бороды. Под его ласковыми порывами седые волосы развевались, теребливо отзывались на его прикосновение, и была в этом лёгкая приятность. Любилось просто посидеть, понаблюдать утро… Палочкою начертил на земле всякие хитроумные фигурки, смысл которых он и сам не знал — чертилось. Откинулся и вошёл собою в утро, неожиданно мягко так, почувствовал всего себя во всём, что окружало, как когда-то давно… Давным-давно, ещё на Кавказе, в молитве обращался к «существу Всеобъемлещему» простить его и всех, всех и дать минуту блаженную:
— Да, да, кажется так в единстве со всем окружающим… Вот надобно как жить… В единстве со всем окружающим… Хорошо бы записать это, а то уйдёт… Полюбуйтесь, среди деревьев нет вражды, они мирно уживаются и гармонично соседствуют друг с другом… Вон ели, а рядом берёзы, чуть поодаль акации весело шумят кронами и каждому дереву даётся свой лист, своя песнь поётся. И солнце ничему не ущемляет себя, всем ровно даёт тепло… Как бы это так прожить, чтобы со всем с миром и любовью…
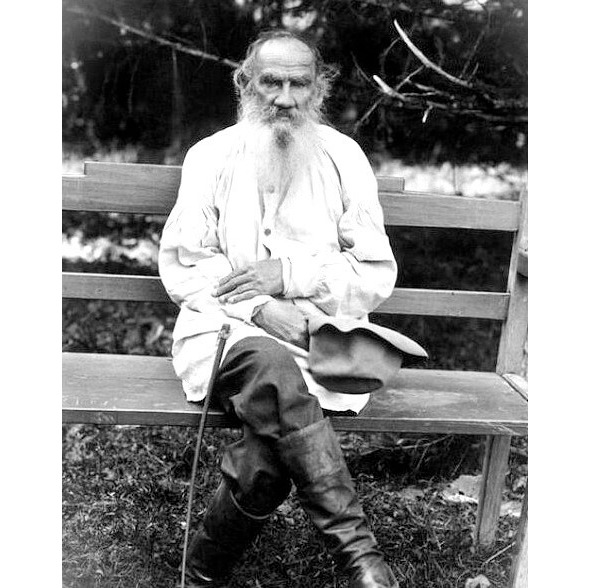
В этот момент он ощущал себя неотъемлемой частью окружающего среди чего жил и дышал.
— Верно, собрались уже все и ждут к чаю, а покидать благодать окружающую нет желания, протестует всё. Однако надо, нехорошо задерживать… Наприезжает опять пропасть людей в имение. Пойдут опять разговоры, разговоры, ну куда от них… Опять меня упекут в словесный блуд, потом кто остановит?.. Слова, слова, как это мучительно выслушивать… А сам-то?.. Тоже хор-р-рош! Уж не раз и не два говорил себе и другим, что не держи язык впереди ума своего, это не помело у дворника, которое всегда впереди. Держи язык позади ума, чтобы он (ум) мог контролировать его (язык), что тот «метёт»… Вот и в святоотеческой литературе припоминаются замечательные слова Никодима Святогорца: «Самая великая лежит на нас нужда управлять как должно языком своим и обуздывать его. Двигатель языка — сердце; чем полно сердце, то изливается языком. Но, обратно, излившееся чрез язык чувство сердца укрепляется и укореняется в сердце. Потому язык есть один из немалых деятелей в образовании нашего гордого нрава» [16]. Да, да обуздывать надобно свой язык, да где там?.. Так и ждут от Льва слов…
Днём опять обещали наехать фотографы, заставят его поворачиваться так и этак… Не любил фотографии, где в искусственной позе снимали его, а вот если за работой, то есть в естественном положении, это уже другое дело.
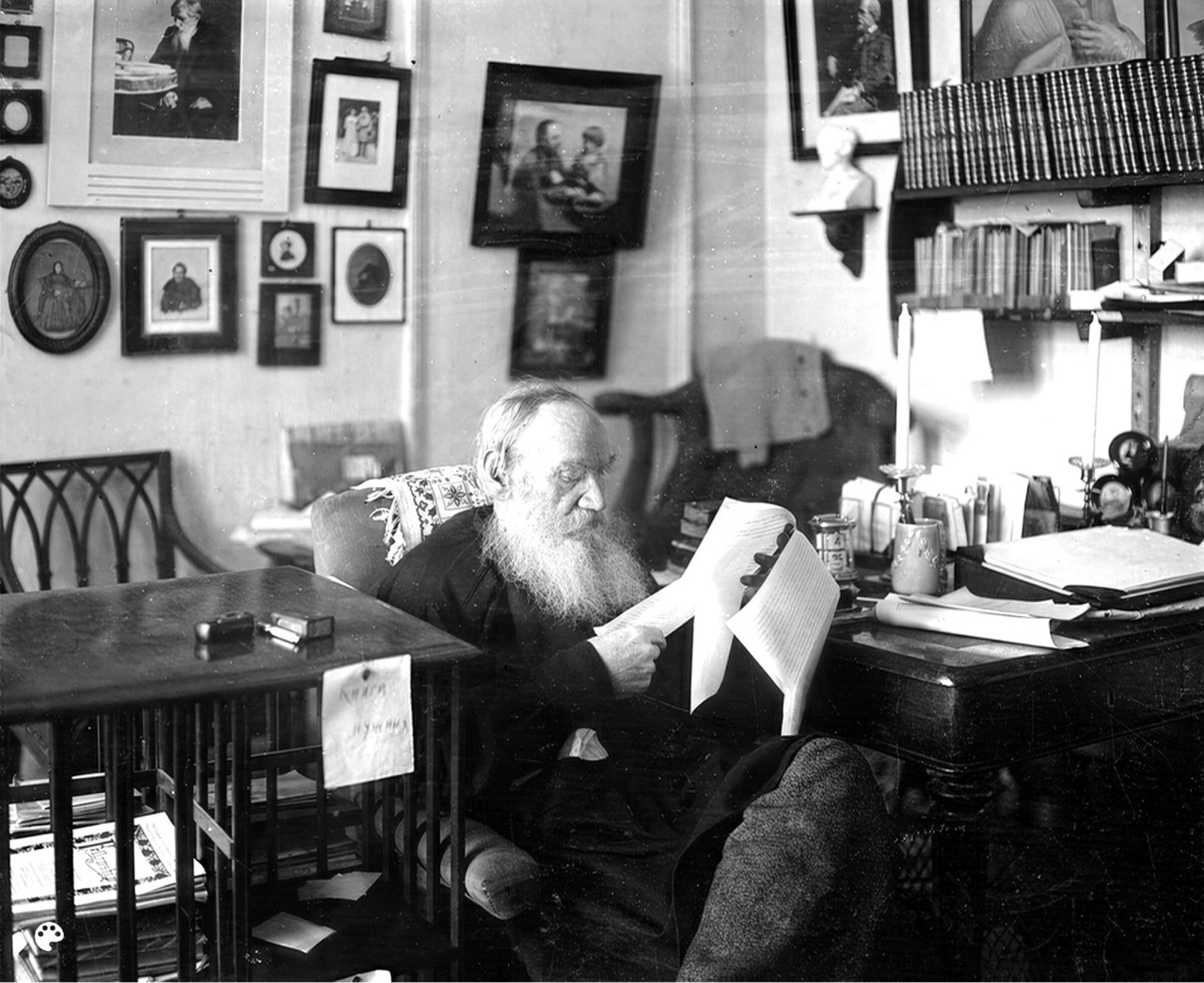
— Стань так, посмотри этак, ну полюбуйтесь для кого и чего такое, а вот когда я что-то делаю, ну это совсем по-другому, тогда как в жизни. Понаедет уймище людей и «надо будет говорить, говорить… по обязанности». Как это мучительно и тяжело. Но мучительно и другое, «приходят к человеку, приобретшему известность значительностью и ясностью выражения своих мыслей, приходят и не дают ему слова сказать, а говорят, говорят ему то, что гораздо яснее им, или нелепость чего давно доказана…». [17] Вот это-то и самое странное и до сих пор непостижимое… Никак в толк не возьму, откуда столько у людей родилось самомнения, вроде многие признали мастером слова, приехали послушать, а сами говорят, говорят… «Странно, что мне приходится молчать с живущими вокруг меня людьми и говорить только с теми далекими по времени и месту, которые будут слышать меня…» [18] Как такое выдержать? Бесконечную вереницу потока людей, идут, идут… Покоя нет!..
Уж сколько лет ему, а про это он не переставал удивляться. Его поражало то невежество, когда окружающие его люди пытались рассуждать в вопросах, о которых «ни бельмеса» не смыслили, но пробовали быть в уровне с ним, а ещё проще притянуть до своего уровня… Всякий живёт надеждами, но несоответствие между ожиданием и реальным тем, что есть и складывается в жизни, вызывало внутрь его взрывы, заставляло нервничать, отсюда рождало злость, ведь не так мечталось, не так!.. А следовательно, протестовало, не хотелось идти домой… Как случилось, что его дом крепость, семья, то, что всегда незыблемо должно было быть, восхищало, теперь стало не просто раздражать, а многое в этом опостылело. Как такое могло случиться?..
Взгляд упал на цветы, что росли в достатке вокруг. Нежные хрупкие божьи создания не просто радовали глаз, а вопрошали о красоте и вечном гимне природе. Своими розовыми лепестками, распустившимися наступающему дню, под лёгким слабым ветерком кивали головками и мило радовались новому дню. Всё вокруг, всё это разнообразие окружающей жизни, словом всё: и листья, и травы, бабочки и птицы, мухи и пчёлы, всё жило самой напряжённой жизнью и творило, всё отдавало жизни свои плоды, аромат, красоту!.. Творило по-своему, как могло и, как уготовано было ему Создателем…
Стало почти неписаным законом, после прогулки приносить в дом цветы, фиалки… Он первым приносил в дом букетик, ставил в горшочек и запах тонкий, едва уловимый стелился по дому, напоминая о красоте, земле, о небе…
— Небо!? Да, да… Где то прочитал, жаль не упомню, что небо упало на землю и цветами разбилось, рассыпалось по земле, и своей красотою, заставляя поднимать очи к небесам… Да-а-а, поэтично и как правильно!..
Небо?!.. Небо всегда останавливало, заставляло вглядываться в себя, звало в мысли, в работу, в вечность. Так и сейчас с цветов перевёл взгляд на небо, в его высь и далёкость и вновь внутрь себя ощутил, как и раньше, пребывание сил, убеждённость в правдивости слов, которые когда-то написал: «… Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу!..» [19]
6
И слава Богу!..
В это состояние, когда всё внутри отдыхает, сливается с окружающим, как задумано природою, Им задумано, когда легко и просто думается и, казалось бы, жить должно легко, добавлялись думы о ней… Где бы мысль не крутилась, где бы не странствовала она, всё одно возвращалась «на круги своя», [20] семейные… Как не крути, а дума крутит, крутит, и в земном мире, и небесном, а потом свернёт в эту колею, да и как не свернуть?.. Столько лет вместе, столько прожито, столько горя, радости, видевшие и вот на тебе — пути дальше и дальше расходятся. А должно-то быть наоборот, сходиться они обязаны, чтобы слиться и быть единым организмом, один одного чувствуя, переживая… А ведь какие мечты были в юности, как мечталось!..
— «… Я женат — моя жена кроткая, добрая, любящая, и она Вас любит так же, как и я. Наши дети Вас зовут «бабушкой» «…» Я воображаю, как он (Николенька, брат) будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки. «…» как он будет с ними играть, как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспоминания об давно прошедшем времени, как Вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас…». [21] И вот что получилось на старости лет, изводит и изводит… «Недобрые чувства, ох! недобрые к ней… И ведь надо прощать и жалеть, но пока не могу». [22] Это невозможное требование любви, переходящее в ненависть, если раньше её спасали дети, её к ним любовь, глубокая, самоотверженная и что же? когда они выросли и ушли во взрослую жизнь?.. Остался я, стал её объектом для сброса всего того, что нарабатывается в её воспалённых мыслях, накручивании всей себя на негатив. Нет, если так дальше, то не выдержу, нет, не выдержу… «… Нет жизни. Одна мука. Сказал ей: моё горе, что не могу быть равнодушен… И что же? Начались сцены, беганья в сад, слёзы, крики…». [23]
Мысль всё дальше всверливалась в воспоминания и думы о ней, точно наваждение застряли рядом, и хотелось сбросить их, даже уничтожить, чтобы с этим уничтожением и исчезли враждебность и нехорошесть в их отношениях. Однако ни прелесть утра, ни свежесть дыхания полей, леса, ни восторженные трели и свист птиц, чем ещё недавно наслаждался он, уже не могли своим чудным фоном покрыть его переживания… Они как необузданные кони понеслись галопом всё, более увлекая за собою. Становилось от них горько внутри, отравительно и избавиться бы, да не мог, не мог — дышало рядом уже Вечное, и его он чувствовал и как! хотел правильно подготовиться к Этому…
А задумок, замыслов неосуществлённых, неоконченных трудов было немало…
— Помнится, обвиняла она меня в трате сил на пустяки, «такие умственные силы пропадают в колотье дров, ставлении самоваров и шитье сапог…». [24] Да откуда, и как вы все можете знать, на что мне тратить силы, куда устремлять умственную энергию, о чём размышлять?.. Неужели я должен в вашем понимании походить на вас, желать как вы, смотреть как вы, а может и такое статься, что и писать как вы… Такое вы хотите?.. О таком мечтаете?.. Эх! в заблуждении пребываете, не о том говорите, не о том вам следует заботиться… Кто вы? что вы? — вот надобно об чём помыслить. А я?.. «Как был одинок», [25] как было такое тридцать лет назад, презираем многими, так и тянется этот шлейф до сего дня…
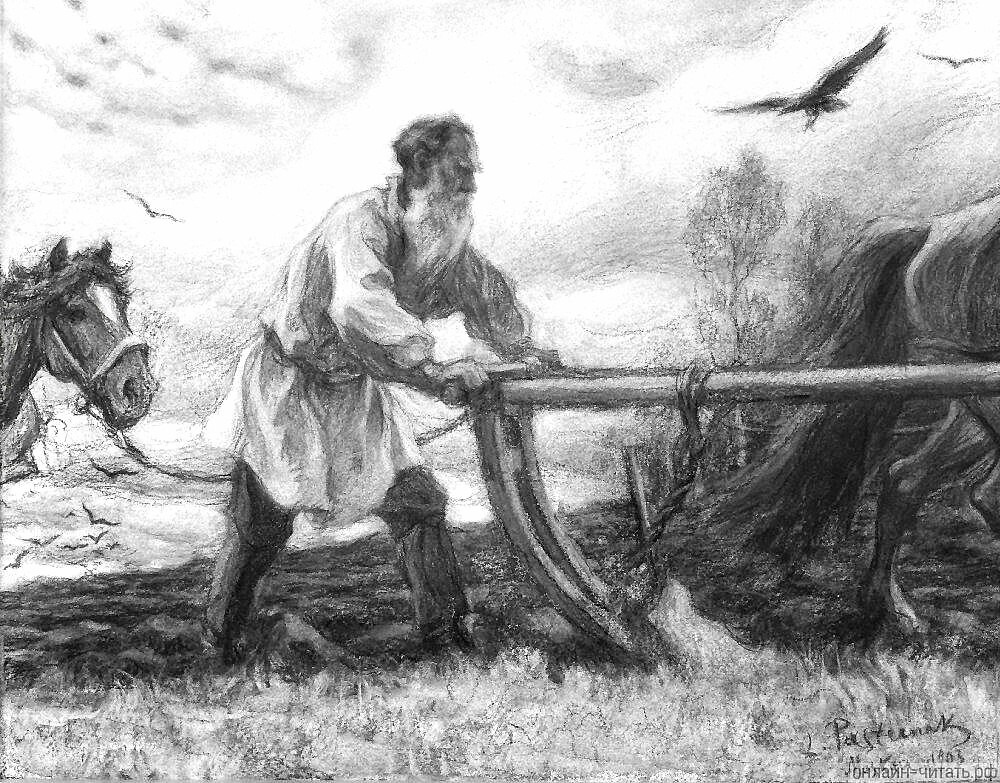
Его нравственное перерождение не смогли понять, осознать и принять даже самые близкие люди. Что можно было ожидать от остальных?.. Могло ли случиться чуткое понимания и большее уважение?.. Можно ли было ожидать, что кто-то способен был понять тот глобальный внутренний процесс движения духовного строительства, какой был у него?.. И те, кто окружал его в семье, был близок ему, дружил с ним, не имея его уровня, смогли вместить в себя эти процессы?.. Нет! невозможно влить ведро воды и поместить в литровую банку.
— Всем ли ведома борьба с самим собою, со своими недостатками, пороками, немощью нравственной. Ведали такое?.. Всю жизнь быть недовольным собою и одновременно быть самолюбивым, даже в творчестве… «Я слишком самолюбив, чтобы написать дурно…». Этот вечный изнуряющий труд, чистить в себе «Авгиевы конюшни», не всегда оканчивается победою, а чаще полным поражением… И необходимо время, чтобы вернуться, осмотреться, обрести силы… Для того, чтобы писать нужны чистые мысли, а каким образом их достичь?.. Садясь работать, ты должен находиться в состоянии согласованности в самом себе, чтобы можно было спокойно проявлять на свет какие-то строки. Эти строки должны читателями восприниматься живою картиною, в них этих словах должна быть заложена энергия жизни, правды, истины… Если нет внутренней уверенности, искренности любые строки не дойдут! Надо, чтобы читающий верил в то, что написано, даже не написано, а выстрадано внутренней борьбой, внутренним ощущением сердца, ты должен видеть всё глазами сердца, а они открываются только тогда, когда внутри есть умирение… Где же мне брать те силы, что помогут в написании того, что хочу, если всё в семье старается поселить внутрь меня хаос и раздрай, раздрай и хаос… Но что делать?!.. Даже если случаться такое, что ведя борьбу, ты не достигаешь успеха, нельзя останавливаться, а опять и опять вести…
Увы, вместе с победами были и частые проигрыши. И снова в дневнике появляются всё чаще привычные слова: «Лень. Безнадежность. Сладострастие. Глупость». И сейчас, когда голову убелила седина и редкость волос, замыслился, сумел ли он избавиться хотя бы от единого недостатка, сумел?..
— Как же так случилось, что мои самые родные люди не просто не согласны, а питают что ни есть враждебные чувства… Откуда эти истоки?.. А эта ненависть к нему Льва Львовича, сына единородного. Откуда? Из моих поисков или из того, что он мой сын? Уже одно то, что я Лев и он Лев, но не такой?.. И был бы «большим числителем», а то ведь один знаменатель. Ненавидят оттого, что я даю им удочку, а они сами должны выудить рыбу? А на деле? Хотят рыбу и, чтобы подали жаренную и под изысканным соусом. Как не понимают?.. Ведь стыдно жить так, стыдно за счёт кого-то, пусть родителей, а самим играть и проигрывать незаработанные деньги, ведь как должно быть стыдно… Да! я это знаю, сам проходил такое, и было стыдно, прежде всего, перед самим собою, перед Богом, перед людьми… А здесь?.. Нет такого стыда, даже перед родителями. Всё дай, дай и дай!.. Нет понятия, каково не иметь рядом отца и мать, и расти сиротою… И ведь приложили бы малейшее усилие, осознать себя в этом мире, откуда что притекает и каково достаётся, попытаться что-то в себе исправить, понять хотя бы умом, если сердце не работает, живущего рядом, пусть не меня, а свою мать. Ведь она жизнь на детей своих положила… Нет, проиграться в карты, дай мама! Потратился на авантюрный проект, дай мама! А ведь поседели и у них свои волосы…
— Пойми же, Соня! — услышал он свой голос и как будто испугался, оглянулся, никто не видит, ещё подумают бог что…
Бывали моменты, когда весь он превращался в сплошной нерв, когда он болезненно реагировал на всё происходящее, на слова, на действия окружающих его. Казалось всей кожей всё слышится, болится, всё страдает… Это случилось впервые после Севастополя, где перед глазами проходили тысячи жизней и уходили в небытие, гибли… Гибли молодыми, полными сил и самой жизни и таких вот, под пушки, под ядра… Для чего, почему, чтобы показать все свои лучшие и худшие качества, нужны человеку условия нечеловеческие, как война, тюрьма и прочие условия, где нервы натянуты, как струны инструмента музыкального… Ведь на рождение каждой новой жизни в человеческом теле Вселенная затрачивает такое количество энергии, что наивно было бы полагать — это всё идёт на создание какой-то ничтожной жизни, какую большее население Земли влачит и коптит, если бы это не было бы, как грандиознейший план чего-то огромного и значимого для Космоса… Каждый рождённый для него, как надежда, помощник, как сотрудник… Думы о том, что над этим «трудятся» два человека противоположного пола, получая к тому же удовольствие — темнота и невежество…
Сколько людских судеб стекается, смешивается кровей, прежде чем человек тот или иной рождается, образуется род, как неведомыми ручейками, соединяясь, образуется река. Так жизнь его собралась в единый собранный организм, в него жизнями многих поколений стеклось биение сердца, заработал мощный ум, развился гениальный интеллект. Странно, но факт, что гении собираются порою веками, на которые затрачиваются силы многих родов, чтобы мощно выбросить в одном человеке столько всего, что накопилось по капле во множественности проживших доселе…
Самое неприятное то, что сил-то нет, что-либо поправить, а хотелось бы… Какие слова найти бы, чтобы поняла она, что так ненадобно делать? Осознание того, что не получается жить по своим представлениям возбуждало в нём внутреннюю злобу и он был бессилен и как тут не вспомнить Руссо, что всякая злоба, гнев происходят от бессилья…
— Точно как сказал! Какие слова!..
Он ясно себе представлял своё бессилие бороться за свои идеалы, оставалось одно, говорить о них… И как не старался донести мысль свою до людей, как не пытался статьями её подтолкнуть к усвоению, тщетно… Невозможно передать словами то, что чувствовал он… И вновь просилось сравнение о ведре и литре… Он улыбнулся, вспомнив известный афоризм: «Нельзя объять необъятное». [26] Это знал, чувствовал и был бессилен, не от того ли внутри возникало бессилие, а от этого и злоба рождалась…
— Пусть так, но как забыть, что кроме того, что я писатель какой-то там известный, а ведь ещё просто человек и к тому же глубокий старик, который по мимо воли уже готовится в Путь дальний… И никто, никто не хочет такое уразуметь, не замечать. Эти постоянные придирки, вечные поправки на реплики, на высказывания: «Лёвушка… Лёвушка…» Да кто может выдержать одно только это, не говоря обо всём остальном. Ему так и хотелось кого-то срезать в их умничании, прекратить поток красноречия о пустом… Всё слова, слова… Он был далеко от них. Физически с ними, да не с ними мыслями, духом своим.
Чрезмерная забота, неделикатная опека также доставали «до печёнок».
«Лев Николаевич рассказывал за обедом: «…»
— Какой прекрасный день в «Круге чтения»! Рассказ Мопассана «Одиночество». В основе его прекрасная, верная мысль, но она не доведена до конца. Как Шопенгауэр говорил: «Когда остаешься один, то надо понять, кто тот внутри тебя, с кем ты остаешься». У Мопассана нет этого. Он находился в процессе внутреннего роста, процесс этот в нем еще не закончился. Но бывают люди, у которых он и не начинался. Таковы все дети, и сколько взрослых и стариков!..
Софья Андреевна, присутствовавшая за обедом, несколько раз прерывала Льва Николаевича своими замечаниями. Она почти ни в чем не соглашалась с ним. Изречение Шопенгауэра о боге, о высшем духовном начале в человеке, — изречение, составляющее для Льва Николаевича одно из коренных убеждений его жизни, основу всего его мышления, — она тут же, при нем, аттестовала как «только остроумную шутку».
Лев Николаевич скоро ушел к себе в кабинет.
— Грешный человек, я ушел, — сказал он, — потому что при Софье Андреевне нет никакой возможности вести разговор, серьезный разговор…» [27]

Его нестерпимо возмущало то несоответствие между тем, как он желал и тем, что получал наяву, как случалось… Виноват ли он в этом, вне сомнения, сам привнёс немало дровишек в этот костёр, но возле его костра грелось множество людей, в том числе и родные… Теперь он понимал, даже скорее чувствовал, что в отношениях между людьми, существует тончайшая плёнка, которую нельзя разрушать. Эту плёнку он в молодые годы не видел, не чувствовал, рушил с завидным спокойствием, а теперь, что?.. Теперь он бережнее относился к ней, но рушили другие, он задыхался в этом… С одной стороны он разбивался о забор их собственного невежества, с другой о частокол самомнения…
7
Уж сколько раз пытался договориться миром и бороться с требованиями и истерикой Сони по-доброму, полюбовно…
— «Хочу попытаться сознательно бороться с Соней добром и любовью. Издалека кажется возможным. Постараюсь вблизи исполнить» [28] А что получается на деле?.. И всё бы ничего, ведь издалека кажется возможным, а вблизи?.. Тщетно!.. У неё своя логика без логики… Но надо сначала и опять сначала… Нам «дано неотъемлемое благо любви, только люби, и всё радость: и небо, и деревня, и люди… А мы ищем блага во всем, только не в любви…». [29] Устал, устал от дурного расположения духа, слабости, болей головы…
Умирение перед природою и вечно-бьющим ключом жизни стало затихать, уступая место волнению, учащённому биению сердца, что так не хотелось бы этого. Нельзя было среди торжествующей природы скатываться, пусть мыслями, в скандальные семейные отношения, но куда, куда от них деваться? Кто знает? кто подскажет? И самое время бы остановиться в рассуждениях, а здесь чего доброго можно скатиться в обиду и совсем не хотелось такое. Осмотрелся вокруг, увидел берёзу… Вся крона её была зелёной, с налитыми соком листьями, а сбоку одна из ветвей пожелтела, стала засыхать… Какие преграды стали на пути подачи энергии в это ответвление, где прервалось биение живительной влаги, что ускорило процесс отмирания?.. Неведомо!.. Само собой сравнилось с самой судьбой человека, когда живущий, дышащий, ходящий по земле, вдруг поникает, прерывается у него связь с потоком пульсирующей жизни, и он уходит в пределы ему уготованные… Такое всегда заставляло его задумываться и воплощать плоды мыслей в своих произведениях.
— Как-то после скандала с Соней я в сердцах сказал Душану: «Скажите ей, если она хочет меня уморить, то умòрит». [30] Уморит, ну что выйдет? а выйдет так, что опустеет Ясная без того, кого здесь осуждают, не понимают, не принимают и в ком видят отжившее старое существо, зовущего себя Львом. Да-а-а!.. Так и выйдет… Не понимают… Девочки, одни мои девочки меня как-то понимают, а сыновья? Те, кто прямые продолжатели дела отца, в ком по мужской линии должно быть единение и внутреннее чувствование, на кого надо бы опереться в жизни… Нет, почти враги, в них многое говорит о нетерпимости меня, а нельзя так, нельзя. Один Серёжа, да Серёжа хороший, хороший…, но мягковатый… Ведь фрукты наливаются, когда корни крепки, а крепок ли я был?.. Вот ведь как часто приходиться задаваться вопросом: А всегда ли крепок был? А всегда ли делал так, по-божески, не грешил ли? Было!.. Всё было… Ну, сейчас жизнь не переиначишь, хлебаю по полной… А как хотел добро то делать, как хотел!.. Даже где-то записано, что «цель моей жизни известна — добро, которым я обязан своим подданным и своим соотечественникам; первым — я обязан тем, что владею ими, вторым — тем, что владею талантом и умом». [31] А что получилось?.. Ведь никто и не верил в меня…
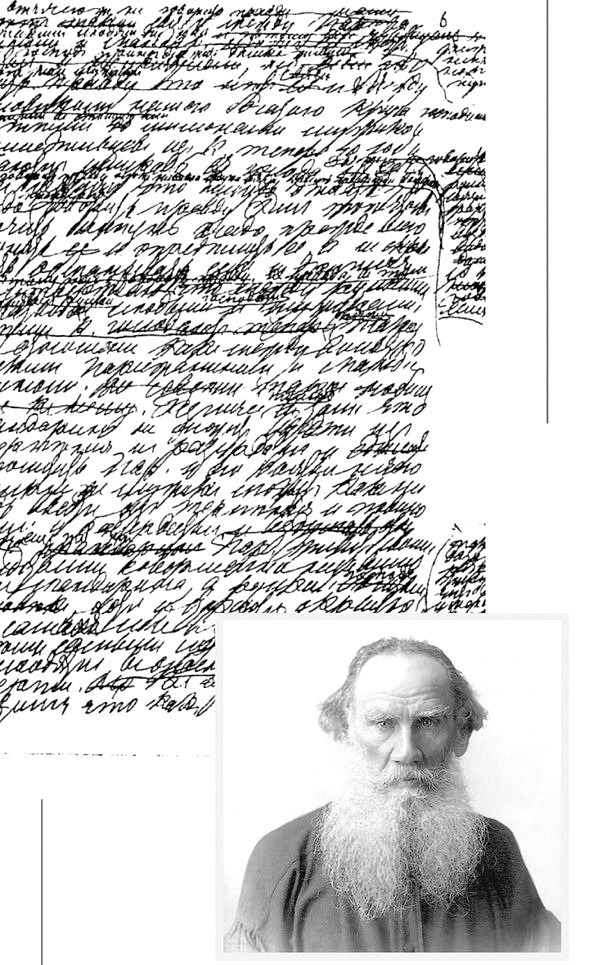
Никто, никто даже и не предполагал тогда, давно, что «Левушка напишет что-то путнее», не верили, он и сам в себя не верил… Было то время ранней весны его жизни, а теперь глубокая осень и взгляд на солнце совсем другой, нежели тогда, и шелест листвы слышится по-иному, запах свежевспаханной земли и запах фруктовых деревьев, пение петухов и лай собак на деревне, всё по-другому. Другой природный ритм, чувство чувствований других людей как изменилось…
— Ах! кабы попробовать то ощущение, вернуться на миг, подсмотреть в маленькую узкую щёлочку… Ах! если бы вернуть на миг!.. За что, за что мне такие испытания под старость от самых близких и родных людей? А всё за то, что грехи моей молодости всплывают сейчас, стучат отмщением и отрабатыванием их, ещё спасибо Богу, что мягкосердечен Он, поделом мне, пакостному… Значит надо освободиться от чувства оскорбления и недоброжелательства к другим. [32] Вот у Лабрюйера говорится: «Точно взвесьте, чего вы можете ждать от людей в целом и от каждого из них в отдельности…», [33] вот ведь, как сказал «точно взвесьте». И как не мучительно, а я не могу не жалеть их, особенно Соню, вот кто страдает. «И жалко её и невыносимо гадко». Гадко, что всё так происходит… Бедная, бедна моя Соня, а не понимает, не хочет понять простого, что осталось то мне совсем ничего… Уйду… Уйду скоро… Все также тяжело и нездоровится. Виноват я, хорошо чувствовать себя виноватым, и я чувствую. «Редко встречал человека более меня одаренного всеми пороками: сластолюбием, корыстолюбием, злостью, тщеславием и, главное, себялюбием. Благодарю Бога за то, что я знаю это, видел и вижу в себе всю эту мерзость и все-таки борюсь с нею. Этим и объясняется успех моих писаний». [34] Иные говорят, что это своего рода самолюбование, так сказать кокетство. Да какое может быть кокетство у Порога бесплотного духа, когда в количество моих лет уже заглядывает Вечность… Какая? то дело Божье… Истоки разлада. Где они? В чём причина? Нет внешних причин, только внутренние двигатели, приводящие внешние рычаги. Как так получилось, что вся теперешняя жизнь превратилась в поле битвы, а сам я оказался на растяжке меж двух враждующих сторон? На что тратится энергия, на что жизнь свою тратят? Немыслимо! На склоки, дрязги, на уничтожение друг друга, в то время как Христос дал закон любви. И вроде бы всё понятно, делай так, как Он сказал… Нет! слепы и жалки в своём рвении… Как жить дальше?.. И дело здесь не совсем в дневниках, которыми Софья Андреевна маниакально хочет завладеть, здесь большее, чем просто желание заполучить, «главная причина была роковая та, в которой одинаково не виноваты ни ты, ни я, это наше совершенно противуположное понимание смысла и цели жизни. Все в наших пониманиях жизни было противуположное: и образ жизни, и отношение к людям, и средства к жизни…». [35] Вот корень многих наших расхождений и, следовательно, источник распрей и ссор. Никому не приходит в голову, чтобы дать мне отойти в мир Иной в спокойствии и смирении, таком, как заслуживаю, не привнося в мир дополнительные разлады. Что касается моих и твоих записей в тетрадях, то «… выражения временных чувств как в моих, так и в твоих дневниках никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях». [36] И пусть это будет отправной точкой для тех, кто посмеет касаться нашей с тобой жизни…
Загадка!..
Загадка для всех, кто когда-то смел касаться жизни этого человека, кто хотя бы раз задался вопросом: «Почему покинул дом, семью и ушёл в ночь, а немногим позже в небытие?». А небытие ли?.. И вроде просто можно ответить и развести руками… Но всё ли так просто?.. «Чужую беду руками разведу, а свою и в толк не возьму»… Всякая семья носит в себе непростоту и загадочность, многозначительность и таинственность, а тем более такая, где писательский гений и материнский талант, различные взгляды на многие основополагающие вопросы, вступают в область выяснения отношений, здесь всё может обернуться катастрофой…

Материнское начало в Софье Андреевне пересилило любовь к нему, к мужу. С этого и началось постепенное непонимание друг друга, отход каждого в сторону ему близкую, его в творчество и богомыслие, её в материнство и заботу о многочисленной семье. Вместе они уже не встречались в пространстве гармонического единения, не было взаимопонимания ни с его стороны, ни с её… За его непрерывной работой, за отходом от официальной церкви, нюансы которого Софья Андреевна не понимала до конца и не принимала, также сказалось на их расхождение… «… Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом разделившийся сам в себе, падёт». [37] Если бы сложилось иначе, то и дети были бы куда дружнее друг к другу, а в особенности к отцу, собраннее и меньше бы понесли трат… Здесь жена, друг и материнское начало, если в единении, то и результат куда мощнее. Когда действуют в одну точку приложения обе составляющие, две силы, два начала мужское и женское, в едином порыве, в гармонии, тогда на выходе всего этого нарождается такое же гармоничное и целостное… И это не просто слова, а основа построения самой жизни общества.
Отход друг от друга усилился после его религиозных исканий. Софья Андреевна не смогла осознать его богоискание, непрерываемую нить неудовлетворённости внутренних побуждений, которые не могли не противоречить общепринятым правилам, когда он вступал в конфликт с церковью, а она должна была заниматься своей многочисленной семьёй. И здесь вне сомнения возобладала материнское начало. И не могло не возобладать. А окончательное расхождение было в самой природе одного и другого. Если у Софьи Андреевны чувство собственности было развито не по мере, тогда как у Льва было всё раздать, это оттуда были страшные проигрыши по молодости в карты, эта лихая особенность не могла не замечаться женой, и ей надо было защищаться, защищать семью.
Конечно, повлияло на многое в их отношениях это Уход их сына Ванечки, по словам современников и самих родителей, был он неординарным, а один художник назвал его «хрустальным ребёнком». Он мог быть тугим узлом, способным связать своей любовью узы родителей, усмирить их нрав и погасить разбушевавшиеся стихии, но дело Божье… Пришёл на землю, прожил семь лет и Ушёл!.. Почему?.. То планы небесной канцелярии, где человеку не понять, не уразуметь…
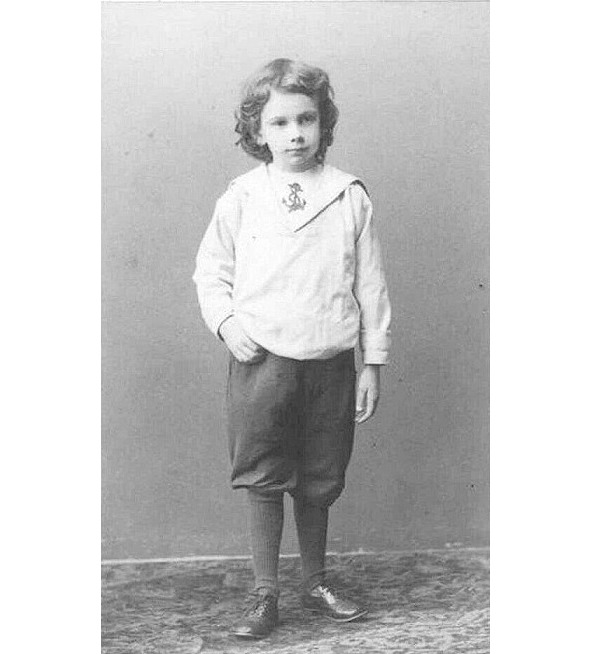
После Ухода Ванечки что-то надломилось, пошло не так, стало заметное старение отца и прогрессировать заболевание матери. Смерть этого сына согнула и поселила неутешное горе у обеих сторон. Ванечка мог бы стать семейным гением, способным поселить мир и гармонию в отношениях всех участников драмы, прежде всего именно членов семьи… Мог бы… Но нет в истории в прошедшем сослагательного наклонения. Всё должно было статься так, как сталось и любые «если» конечно не уместны, но хочется поразмыслить, помечтать и в этом направлении…
Не редкий случай между супругами, когда происходит расхождение дальше и дальше, но одновременно срабатывает и центробежная сила. Ты не можешь находиться рядом, но весь в беспокойстве, если не вместе. Поразительная жизнь супругов порою… Это было больше, чем просто чувство любви в привычном понимании нами… Что?.. Кто бы мог ответить лучше, чем он, но он мастер чужих мыслей, анатом чужих страстей, знаток чужих жизней. В этом чувстве и любовь, и привычка, и уважение и забота и другое ещё, словами неназываемое, это уже была какая-то жизненная любовь, долголетняя привязанность, переплетения узлов многочисленной семьи. Это беспокойство и раздражение когда рядом, но долгое отсутствие рядом одного, уже тревожит, беспокоит и в доме не находится спокойного места… Загадка!..
После Ухода спутника жизни такая женщина сталкивается с собою, нет объекта на который изливалась страсть, буря эмоций, вся накопившаяся желчь, а от природы наделённая немалым умом и талантами, не могла не осознать весь ужас причинённого ею вреда.
Близкий друг и последователь Мария Александровна [38] указала Льву Николаевичу на слабую сторону Софьи Андреевны: «нежелание постоянной близости ко Льву Николаевичу его друзей» [39] ревностно относилась к тому, чтобы делиться «своей собственностью».
— «Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела, и противна мне. Буду стараться любя (страшно сказать, так я далек от этого), вести ее. В теперешнем положении моем, едва ли не главное нужное — это неделание, не говорение. Сегодня живо понял, что мне нужно только не портить своего положения и живо помнить, что мне ничего, ничего не нужно…». [40] Да! да! главное, не принадлежать и не присваивать, а ещё не придумывать на свой лад, живущего рядом, вот задача в чём и едва ли не самая трудная, всегда хочется, чтобы как лучше быть самому, а рядом бы жил уж совсем хороший человек. А он такой, какой есть, ни больше, ни меньше чего там…
А гениям присуща одна ошибка, а может свойство, и ему также, что прозревая дали далёкие, он не видел порою земли, по которой ступали его сапоги, а живущие рядом, не видели его, скрытого облаками ограниченности их, а видели только его сапоги…
8
Возвращался тем же путём…
По дороге, не изменяя традиции, нарвал фиалок. Их нежный розовый цвет не просто радовал глаз, а успокаивающе действовал. Глядя на эту красоту, всё преходящее теряло свою остроту и боль, отодвигалось на фоновый второй план, где не было такой остроты тревоги и той протяжно ноющей боли, а может и была, но затерялась пусть на время. День жарой заполнял те уголки природы, где пряталась утренняя свежесть, вытесняя её, давил зноем, делая вялым. Даже птицы приостанавливали свой неумолкаемый гомон, а цветы, что радостно встречали наступающий день, как-то поникли, притаились, ждали чего-то… Ждали… Теперь уже вечерней прохлады…
Под деревом «бедных» мирно посиживали несколько человек, какой-то хроменький старичок, да бабы с соседней деревни, сказывали погорельцы они… Надо было дать какую-то посильную помощь… Надо!..
Все уже собрались за утренним чаем… Приехали друзья, знакомые, пришли ходоки поговорить. И они всё говорили, говорили… Поздоровавшись, он прошёл к себе в кабинет и такое он старался не нарушать, работать по утрам. Давно взял за правило, работать до полудня и просматривать критическим взглядом то, что написалось и думалось с вечера. Окончательное решение оставлялось на утро, напитанное новой энергией, свежестью восприятия. Усвоил для себя, что самый злой критик сидит в нём по утрам… Где-то в восточной философии встречал, что вечером отдачи время, а утром познания час.
Поставил в маленький глиняный горшочек собранные фиалки. Посмотрел на окружающие предметы, которые всегда осматривал с нежностью и любовью, каждая из них вызывала рой воспоминаний. Вещи деда, отца напоминали ему его детство, милых сердцу уже ушедших в мир иной, братьев.
Жизнь показала, как ценны и значимы многие совсем простые вещи, что окружали и были для многих, ну просто ковшом, подаренным в Башкирии, а для него вниманием, любовью, энергией, вложенной человеком в вещь. Он брал в руки и любовно и поглаживал предмет, представляя далёкого мастера. Таким было простое тройное обрамление портретов братьев, которое всегда было перед глазами, на рабочем столе, за которым любил работать… Пресс-папье «Сидящая собачка», чернильный прибор, небольшой кусок зеленого стекла, своеобразное пресс-папье, на котором монограмма и золотая надпись со словами: «… Русские люди всегда будут гордиться, считая Вас своим великим, дорогим любимым».
Бережно хранил этот подарок он, и надпись отдавала теплом и вниманием далёких людей, незнакомых ему. Многие предметы, что окружали его быт, пахли хорошими семейными воспоминаниями…
Он сел работать…
…Днём в доме повторилось то, о чём он мысленно предупреждал себя, не любил, осуждал, что уже совсем не нужно было, не интересовало его… И вот что забавно, его «незаинтересованность» никого не интересовала. Он постепенно приближался к другому миру, что так живо всегда привлекало внимание и интерес его в своих произведениях, тема смерти… А смерти ли?.. Окружающему нужен был он своей известностью, гениальностью, они чувствовали при этом быть «при» нём…
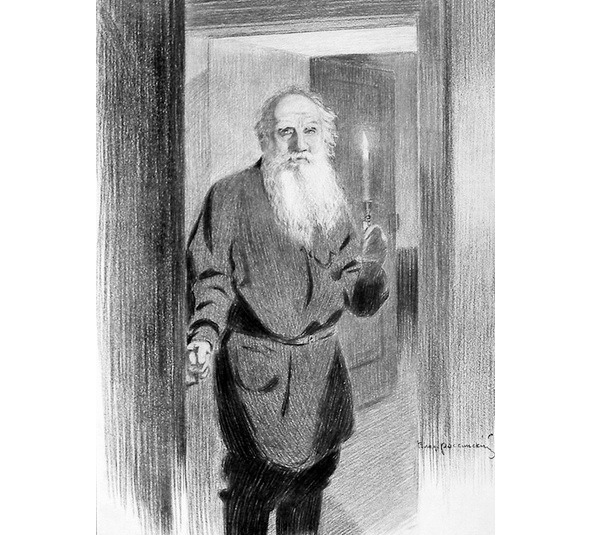
Они уже не могли встретиться, каждая из сторон крутилась в своём мире. Он уже был в измерении, какое отстояло от них недосягаемо, за миром, куда не проникает человеческое представление об этом… Позже «да!», но не сейчас, не сейчас…
9
Крутился в постели, сон гулял стороной… Вспомнилось любимые строки Пушкина. Их было мало, стихотворений, где он видел глубокий внутренний смысл и философию жизни, на пальцах перечесть, Фета, Тютчева…
— У Пушкина… Как это он сказал: «… влачатся в тишине, часы томительного бденья: в бездействии ночном живей горят во мне, змеи сердечной угрызенья…». Это очень правильно… Как сказал!.. — «змеи сердечной угрызенья». [41] Ну что сказать, какие слова!.. Слова и вовремя приходят, вовремя…
— Сил нет вырваться с поля-брани двух воющих сторон. Эти столкновения враждующих лагерей, в любом случае отражаются на мне и ни те, ни другие не могут, совсем не хотят этого понять… Бежать надо!.. Бежать!.. Эти бои заканчиваются на мне. Весь свой гнев, своё раздражение Софья Андреевна срывает на мне, опять забывая, что осталось мне совсем ничего. Картина жуткая, безрадостная, где не будет никого победителем, но могут быть жертвы. Ах! Не понимают, что надо бы с ней, как с больной и пожилой женщиной обращаться, деликатнее, чем это делают Саша [42] и Дмитрий Владимирович [43], да-да поделикатнее… Ведь жизнь, не что иное как доброта и милосердие и достичь каких-то результатов значимости можно лишь по этой линии Божьей благодати, только этим… А у меня уже не осталось сил стать между ними и разнять эту затянувшуюся борьбу. Слепота, да и только… Одни хотят уничтожить Соню, а она в свою очередь маниакально желает завладеть правом на всё литературное и эпистолярное наследие. А каково мне?.. Ведь я люблю их… Никак в толк не возьмут. Подождите, скоро мне, скоро…
Остановил поток грусти, разрывающий «внутрь себя», вспомнил опять французского моралиста: «Стоит ли возмущаться тем, что люди черствы, неблагодарны, несправедливы, надменны, себялюбивы и равнодушны к ближнему? Такими они родились, такова их природа, и не мириться с этим — все равно что негодовать, зачем камень падает, а пламя тянется вверх». [44] Немного успокоился:
— Если так, то зачем уж разжигать себя? пусть будет так, как будет, куда-то всё выедет, посмотрим… А долго ли буду смотреть на такое?.. — и побежали его мысли потоком… Одно только задевая краем, на другом сосредотачивался детально и основательно, а всё болело внутри беспокойством… Не так!.. Многое не так!.. «Вместо того, чтобы учиться жить любовной жизнью, люди учатся летать. Летают очень скверно, но перестают учиться жизни любовной, только бы выучиться кое-как летать. Это все равно, как если бы птицы перестали летать, и учились бы бегать или строить велосипеды и ездить на них… „…“ Мне восемьдесят два года, но и мне предстоит много работы над собой. Мое положение представляется мне иногда как положение землекопа перед огромной кучей, массой еще не тронутой земли. Эта земля — необходимая внутренняя работа. И, когда я делаю эту работу, то получаю большое удовольствие». [45] А что есть ещё жизнь?.. «Жизнь есть освобождение духовного начала души от ограничивающая ее тела». [46] Теперь уже скоро это освобождение и радует и страшит такое…
Падая в дремоту, всё крутилась в голове молитва, она повторялась и повторялась…
«Помоги мне Отец, начало Жизни, дух Всемирный, источник, помоги, хоть последние дни, часы моей жизни здесь жить только перед Тобой, служа только Тебе». [47]
* * *
Среди растущего леса вьётся тропа…
Тропа, выводит к небольшой полянке, что на краю оврага. Птицы поют, исходятся, как выводили свои трели сто лет назад, так и сейчас не переслушаешь… Невысокие деревья обступили её, шумят на ветру, качают своими кронами под набегающим ветерком. Ветерок вечный, сотнями, тысячами лет раскачивает под своим напором ветви, и нет ему никакого дела до небольшого холмика, что посреди поляны. Что это?.. Могила, не могила?.. Креста-то нет!.. Загадка это, не могила в нашем обычном понимании… Уже более века стекается на это место неравнодушный народ проведать поглядеть этот холмик. Кто-то с благоговейностью, кто-то с распирающим любопытством, но всё же искренним чувством признательности, а бывают и такие, чтобы потом сказать, что был там, ну и что?.. Право каждого с каким внутренним побуждением посещать ему это место. Нет креста, что обычно выхватывает из небытия могилу, тогда становится понятно, что здесь кого-то упокоили… Нет этого здесь, нет креста, памятника… Много заброшенных холмиков безымянных могил разбросаны по городам и весям огромных пространств России… Но ничего похожего на заброшенность, забытость здесь нет… Холмик убран и тропа, вот уже более ста лет не зарастает бурьяном… Стекается сюда народ, любит это место, приходит отдать дань и сделать низкий поклон этому холмику… Среди этого природного благополучия, слышны только птичьи голоса и шумит ветер в кронах, остальное молчит… Замолкают пришедшие поклониться этому холмику. Среди этого безмолвия тонко-чувственное ухо слегка улавливает далёкий шёпот, что витает здесь вот уже десятки лет.
«Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда те самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов, когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют синеву далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба, когда вы не одни ликуете и радуетесь природой, когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись, ползают коровки, везде кругом заливаются птицы». [48]
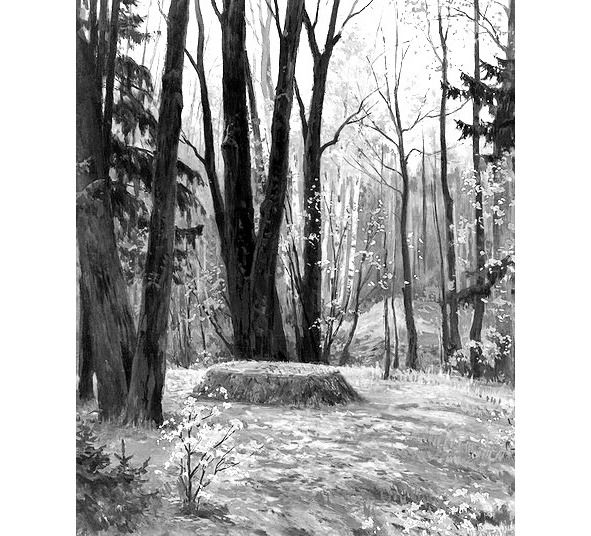
Загадка земли русской, здесь упокоился. Тот, над которым никто не имел влияния и который влиял на многих. Ни перед кем не склонял головы. Никто из живущих на земле не мог остановить этот могучий ум, этот вечный генератор мысли и даже перед самим Уходом шептал и шептал:
— Искать, всё время искать…
Открываем книгу его «Круг чтения» и находим 7 ноября, день его Ухода. Что мы видим: «Можно смотреть на жизнь, как на сон, и на смерть — как на пробуждение». [49]
А ветерок покачивает ветками, кронами деревьев над тысячами и больше холмиками, под которыми лежат успокоенные страсти, возвышенные чувства, неподвластные эмоции, непокорённые самолюбия, непомерные и глупые амбиции… Всех уравняли холмики, многие уж и стёрлись с поверхности, нет их. Ушли в небытие те, что обладали всем набором положительных и не очень качеств… Нет их!.. А ветер шумит, качает ветви деревьев и будет шуметь века и века…
«Толстой умер. Но отчего же в сердце подымается такое спокойное, тихое, торжественное и радостное чувство все растущей и укрепляющейся связи с Толстым? Отчего нет этого щемящего душу и повергающего в уныние чувства невозвратимой утраты? Отчего, вместо горя и отчаяния, этот ясный и мощный голос сознания, говорящий, что не нужно горевать и что не в чем отчаиваться? Откуда этот свет — там, где, казалось бы, должен был воцариться сплошной мрак?
Или Толстой не умирал?
Конечно, нет! Исчезла только форма, только шелуха, — и личность, связывающая сознание. Великий дух освободился и продолжал жить Он не может умереть. Он — во мне, в тебе, он — во всем. Он — все. И я — в Нем. И для него нет смерти…» [50]
Слова одного из многих кто знал и близко соприкасался с ним, такими словами закончил автор свои воспоминания, такие строки об этом человеке написал…
Нет желания останавливаться, хочется и хочется писать о нём так, как заслуживает он, а это практически невозможно, архитрудно и похоже такое скорее на авантюру… Какими словами закончить, даже и не знаю… На память приходят многие достойные его слова, но постойте!.. Есть такие слова!.. Он сам и закончит маленький рассказ о себе, последними словами его в его жизни.
— «… Только одно советую вам помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва». [51]
март-май 2021 года
_______________________
ОТЕЧЕСТВА СЛАДКИЙ ДЫМ
Мила нам добра весть о нашей стороне: Отечества и дым нам сладок и приятен. [1]
Ты заплакал о моем горе; и я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне.
Но ведь и ты заплакал о своем горе;
только ты увидал его — во мне. [2]
* * *
Разбитый болезнью, постоянными болями измотанный, без сил лежал у окна виллы… Он умирал… Умирал медленно, терял сознание и в бреду пытался говорить с домочадцами, прислугой, друзьями на русском, французском и других языках, какие знал во множестве… Порою речи становились бессвязными, «повторял одно и то же слово с возрастающим усилием, как бы ожидая, что ему помогут досказать мысль…», [3] а когда отпускала боль, сознание прояснялось — даже шутил… В эти минуты он опять и опять ловил взглядом этюды Полонского, изображающие дом и приусадебные места у себя на родине, в селе Спасском, их из кабинета попросил перенести в спальню…
Полонский в последний год пребывания на родине подарил ему семь пейзажей, написанные в то лето в Спасском, когда Тургенев уезжал за границу, чтобы в далёкой Франции картины напоминали его другу о России, о местах детства. Друзья условились обязательно провести следующее лето вместе в его родном Спасском-Лутовинове, но «человек предполагает, а Господь располагает» — хозяин тяжело занемог. Тогда Яков Петрович и предположить не мог, что приезд на родину для Тургенева будет последним… Он отправил посылкой другу в Буживаль еще несколько своих пейзажей, желая порадовать его видами Спасского. С тех пор Тургенев видел Россию только на картинах Полонского, висевших в комнате…

Лет восемь назад, здесь, близ Парижа, писатель построил трёхэтажный дом, наподобие шале [4] и назвал его «Ясени», из-за множества деревьев ясеня, что росли вокруг. Одна соотечественница, гостившая в Буживале, описывала: «Меня поразил дом Тургенева, такой грациозный, изящный как игрушка, украшенный деревянной резьбой. Швейцарский и русский стили удачно соединились во внешнем виде летнего приюта писателя, а внутри все дышало строгой простотой и комфортом». [5] К нему в «Ясени» приезжали Золя, Флобер, Мопассан, Доде, Сологуб, Салтыков-Щедрин. Блистательные громкие имена его времени, «Ясени» стали для писателей, композиторов, поэтов своеобразной Меккой, куда стремились засвидетельствовать своё почтение мэтру литературы и послушать неподражаемые рассказы хозяина виллы. Беседовали, читали и горячо обсуждали вновь появляющиеся литературные новинки, слушали пение Полины Виардо, игру Сен-Санса и музицирование молодого Форе. Здесь некогда гудела жизнь, сколь знаменитостей помнили этот дом, аллеи сада, где прогуливались, наслаждались прекрасным видом реки и прилегающего парка его гости.
А сейчас?..
Сейчас он был прикован к постели, хорошо осознавая, что дни его жизни можно было уже перечислить по пальцам… Сегодня? Завтра? уже скоро… И была в этом какая-то неразрешимая загадка, почему так? почему?.. Там… что?.. О чем он думал, прожив такую насыщенную интересную жизнь? уходя с этой земли, о чём думал? Всегда в такие минуты перед мысленным взором пробегает лента прошедшей жизни, всегда, когда дышит человек у порога той Вечности, откуда не возвращаются, а хотелось бы… Очень!.. Чтобы вернувшись, рассказать в своих новых романах о неведомой, но самой что ни есть грандиозной потусторонней жизни, о всех процессах, что сопровождают человека едва тот ступит за черту Неизвестного…
Был ли страх перед неразрешимым неизбежным планом бытия?..
Был страх раньше, и ужас охватывал уже при одной мысли о ней, содрогание и отвращение, но болезнь сблизила, заставила совсем по-другому взглянуть ей в глаза. Теперь не пугаясь, смотрел в тёмные глазницы самой, и «чернеющий грозный мрак» виделся совсем не грозным, а заманчиво привлекательным, где столько пребывало его друзей и ничего, они справились, так зачем ему было пугаться. Она была такой, какой приходила во сне его Лукерьи с лицом «особенным, постным и строгим», и не страшной, сам описал, ведь давно знал её, а сейчас испугаться?.. Нельзя!..
Он смотрел на присутствующих не из здешнего мира, а из того куда Уходил… Этот мир был для него уже тесным и мелким, а краски потускнели, стали блеклыми в сравнении с Тем миром. И было в этом недоразумение, когда все смотрели на него с сожалением, иные со слезами, в то время как он должен был на них смотреть с жалостью, ведь он уже многое понял…
Не было уже сил подняться и пройти на балкон, полюбоваться протекающей неподалёку Сеной, посмотреть на проплывающие баржи и лодки, почувствовать дуновение ветерка, услышать шелест листьев тополей, каштанов. Из окна были видны только верхушки деревьев, и взгляд жадно ловил сверкающие облака, они равнодушно, непростительно медленно проплывали по небу, терялись за верхушками крон. Руки плохо слушались, не опереться, не подняться хотя бы сидя… Боли то приходили, то отпускали тело, к ним он привык, вернее свыкся, сжился с ними, как с чем-то уже неотъемлемым явлением его жизни. Он думал, вспоминал, где-то грустил, а над чем-то умилялся и вновь думал… Бредил… Видел себя мальчиком вихрастым, что бегал на гумно с братом своим, заглядывал в избы крестьян, поражался многочисленным семействам и мечтал, когда вырастет, обязательно будет у него много, много детей таких же светлых, как и он сам. И было такое почти наяву, сквозь боли и сны видел и звал, уже не осознавая, была то явь или галлюцинации, навеянные болезнью.
— «Прощайте, мои милые мои белесоватые…, — в бреду повторял Иван Сергеевич, видимо представлял себя русским семьянином в кругу родных и домочадцев…», [6] — потом повторял другое непонятное для многих, но ему знакомое, — «Бог ангелов считал — одного не доставало…», — то была эпитафия на могиле деревенского кладбища у него на родине… Когда-то прочитал на надгробном камне и запомнил её. Ребёнок, девочка была погребена под ним, милое божье создание, ангелок…
Смотрел на пасмурное в окне небо… Не небо Франции должно было алеть закатами над ним, зори Руси должны были давать багровый отсвет, не каштаны и ясени Буживаля шелестеть своими кронами, а русские берёзы шуметь и склонять свои плакучие ветви. Сожаление было, большое сожаление, а ведь хотел, была мысль остаться, да воли, сил не хватило, чтобы сопротивляться зову. Да и был ли он?.. Может просто привычка? Сейчас лежал близ Парижа, а мыслями проживал последние дни в родном Лутовинове. Тогда, как и теперь шёл дождь, стучали капли дождя, барабанили о слив, наполняли кадки для воды и было, как хорошо! Нет, тогда не понимал, как же хорошо-то быть дома и умирать среди своих, и был бы рядом Захар, верный друг его на всю жизнь, он не отошёл бы от него и держал бы руку его и читал бы молитвы за него повторяя и повторяя слова её: «… Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия Ивана…»
При упоминании о родине, слеза выкатилась из глаза, медленно пересекла исхудалую щеку, потом светящейся полоской скатилась на шею… Смахнуть сил не было… Была горечь и понимание утраты того края, его родины, что когда-то с болью покинул…
— Ах! как бы быть дома и пусть дождь идёт, тогда не любил его, сейчас бы роднее и милее звука не было бы… Ах! как бы быть…
От мыслей о родном притупились боли, было задремал, ушёл в забытье, и голос далёкий, далёкий позвал его по имени… там, за темным окном… Звал его… Он это уже знал, где-то описывал, всё такое было знакомо, когда?..
— А-а, тогда!.. — припомнил…, — И вот вспомнилось, пригодилось…
«… Я прижался лицом к стеклу, приник ухом, вперил взоры — и начал ждать.
Но там, за окном, только деревья шумели — однообразно и смутно, — и сплошные, дымчатые тучи, хоть и двигались и менялись беспрестанно, оставались всё те же да те же…
Ни звезды на небе, ни огонька на земле.
Скучно и томно там… как и здесь, в моем сердце.
Но вдруг где-то вдали возник жалобный звук и, постепенно усиливаясь и приближаясь, зазвенел человеческим голосом — и, понижаясь и замирая, промчался мимо.
«Прощай! прощай! прощай!» — чудилось «…» в его замираниях.
Ах! Это всё мое прошедшее, всё мое счастье, всё, всё, что я лелеял и любил, — навсегда и безвозвратно прощалось со мною!
Я поклонился моей улетевшей жизни — и лег в постель, как в могилу. «…» [7]
1
То последнее лето в Спасском подбегало к завершению, появились то там, то здесь жёлтые листья на берёзах, местами уже полыхали оранжевым огнём осины и шли дожди. Облака, гонимые ветром, приносили новые осадки, а вместе с ними грязь, слякоть, неуют. Часто мокрядь заставляла сидеть дома под крышей и наблюдать непогоду из окон дома. Последнее лето, когда последний раз был, гостил или пребывал, он и сам этого не знал, как правильно назвать своё нахождение в родном доме — было таким… Гостил дома, как странно звучит, но где-то, в чём-то и было это правдой. В эти дни он рано ложился и рано по утрам вставал.
В тот день проснулся до рассвета… Чем был знаменателен тот день? Ничем особенным… Был таким, как и многие другие, какие проживал у себя в имении, но именно тогда как-то сложилась и оформилась мысль возвратиться во Францию. Нелегко далось, многие связи рвал… и пуповину, связывающую его с родиной, пришлось окончательно порвать, принять решение…
Прислушался к себе… Последние годы он всё чаще внимал своему состоянию, что говорило оно ему, посылает ли организм колющие боли из суставов на ногах, исправно ли работают почки — подагра дело нешуточное, помнились боли, заставляющие едва ли не лезть на стену когда-то в туманном сыром Петербурге… Ещё прислушался… Но сейчас состояние было вполне сносным, болей не было, значит всё хорошо…
В доме спали…
Ветер порывами набрасывал на окна постукивающие частые капли дождя.
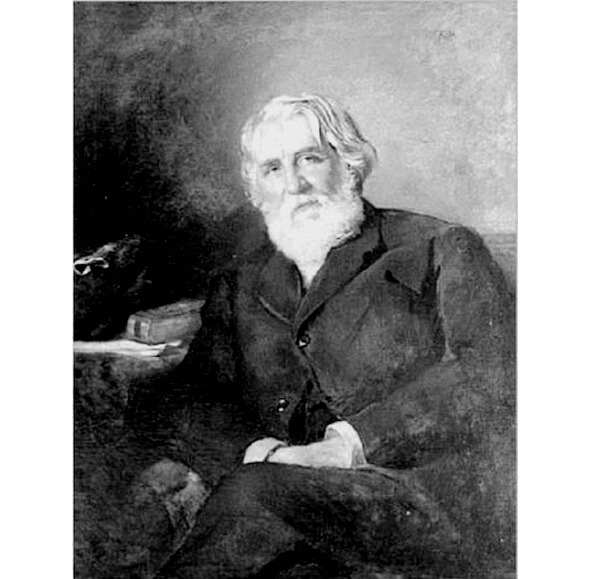
Он встал, накинул тёплый халат, вышел из-за ширмы… Кабинет служил ему одновременно и спальней, которая была отгорожена расписными перегородками, изготовленными по заказу матушки писателя Варвары Петровны крепостным мастером. Сюда, по утрам доставлялся букет цветов, который она заставляла ставить в воду, а затем срисовывать. Она рано заметила литературный дар у Ивана, приучала его к свободному владению пером… Помнились её слова, через время пробивающиеся, властные, не требующие возражений, обращённые к нему, своему сыну:
— «Тебе дан дар, вот и опиши словом характеры окружающих тебя людей, с которыми ты в дружбе…» [8]
Именно от неё, несмотря на её жёсткий, даже жестокий характер, Иван унаследовал дар слова, чувство прекрасного, умение виртуозно передать словами характер героя, живописно написать открывающуюся местность. Не мог, никак не мог осознать, как у его матушки всё такое уживалось. Чувство глубокого проникновения, понимание, чувство слога, умение писать и жестокосердие, почти граничащее с изуверством. Как такое могло сосуществовать одно подле другого?.. Крепостнические привычки уживались в ней с начитанностью и образованностью, заботу о воспитании детей она сочетала с семейным деспотизмом. Подвергался материнским побоям и Иван, несмотря на то, что считался любимым её сыном. Уж сколько лет тому миновало, а понимания и внутреннего покоя в этом не было…
2
Подошёл к окну, на стёклах которого выступали капли воды и добавлялись новые…
Дождь, опять этот дождь!..
Он ждал… Ждал откуда-то, какую-то весточку. Неважно от кого… Она ему была нужна!.. Нужна!.. Для чего? он и сам не мог бы назвать причину нужности, но внутри всё жило ожиданием этого. Всю жизнь он призрачно стремился идти, ехать в какую-либо сторону. Она, сторона, звала его. Но знал ли он, нужна ли ему была эта сторона. Словно с этой вестью приоткрывалась дверца в иной мир яркий, широкий с дивными нездешними цветами и людьми. Мало было ему этого края, пусть родного до боли, но жизнью самою сделавшегося пространственно узким. Он не мог вместиться в него. Тесно и душно становилось. Странно было такое чувство, здесь родное, но тесное. Словно отчий дом своими парками, прудами отгораживал его от пространства, где ему было ещё лучше. Необъяснимое было такое чувство…
Он стоял у окна, смотрел на занимающийся рассвет. Там за окном шёл дождь… Монотонный, надоедливый, в печёнках сидящий, мерно стучащий по сливу окна, шумком задевающий крыши домов, листья деревьев. Булькал в лужи, и вода непрерывно стекала струйками с крыш. Серость дня уже обнимала округу, и в кабинете становилось светлее, светлее в помещении, но не на душе. Смутное, тоскливое чувство подбиралось комком к горлу, что-то внизу, в потайных уголках выдвигалось на поверхность его состояния. И ещё этот дождь, словом всё к одному, этому печальному настроению, что охватывало его, приближая к отъезду. Скоро, уже совсем скоро он опять отправится в путь, в далёкую другую страну… Он всё откладывал, всё отодвигал на потом, на поздние числа месяца, какого месяца? А следующего… Эти числа приближались, а он день отъезда отодвигал на потом… Вернётся ли назад? здесь многое отзывалось болью и предчувствием — вряд ли… Хотелось ли ему ехать, покидать родину, отчий дом, поместье, где так всегда и легко работалось, парк со знакомым каждым деревцем, кустом, разбитыми цветными клумбами, тропинками, исхоженными им и его друзьями, знаменитыми писателями и актёрами? — хотелось и… Нет!.. Что ждёт его, кто ждёт его? Зачем он им нужен такими вопросами он истерзал себя? Нужен и могли бы спокойно обойтись. Но нужны те, дальние жители другой страны ему! Она и её дети… [9] Нужны! С ними он свыкся, принял в жизнь свою, как своих родных по крови…, но как нужно и всё то, что сейчас окружает его!.. Опять дилемма, опять два исключающие друг друга варианта, а третьего не дано…
И было его настроение в разрыве, раздвоенности на ту сторону и эту родную, русскую сторону, состояние в той области тоски, что всегда пыталась полонить его, от которой нет лекарства. Если свою подагру и боли он мог временами залечивать, успокаивать, то от боли расставания со своим родным краем лекарств не было. Почему же раньше как-то легче уезжалось, проще расставалось, но не теперь, не теперь… Ох! уж этот дождь, он виноват? Идёт и идёт, зачем?.. Скорее бы солнце! Всё в нём просилось на солнце!..
Иван Сергеевич посмотрел направо, в углу кабинета висела старинная византийская икона, вся почерневшая, в серебряном окладе, огромный мрачный и суровый лик, глядел с упрёком, угнетающе. Под его взором, поёживаясь, подвигал плечами, поморщился. Лик Владыки немигающе смотрел на него пытливо, пронизывающим взглядом.
— «Кто же ты?..», [10] — вопрошали в своё время Иисуса, теперь в его взгляде читался такой же вопрос: «Кто же ты?..»
Этот взгляд на каком бы месте кабинета не находился постоянно созерцал за действиями хозяина, следил за ним, за его работой. Сурово глядел через века, пронзал своим оком его долю и судьбы людские. Он дал закон Любви и то, что натворили люди в эти века, во имя спасения которых принял смерть крестную, неподвластно было описанию, и они не вняли этому закону, и наворотили страшных дел, достойных самому внимательному отношению служителей преисподней. С этим Ликом создавалось ощущение присутствия в помещение ещё кого-то, чего-то, чему не мог дать определения, и такое смущало его, писал другу: «… не могу распорядиться, чтобы икону убрали: мой слуга счел бы меня язычником, — а здесь с этим не шутят». [11]
Медленно окинул взглядом помещение, свой рабочий кабинет, здесь им были написаны произведения «Рудин», «Дворянское гнездо», «Фауст», «Накануне», стихотворения в прозе. Стол, письменный, обычный и даже скромный по тем временам, кресло с двойным плетением из тростника… На стене портрет молодого красивого человека, в мундире кавалергарда — отца. Его он помнил, как самоуверенного, изыскано спокойного и самовластного. Он предпринял попытку в литературе его изобразить в повести «Первая любовь», внимательно и отрешённо от себя отмечал, что попытка удалась — красивый, влюбляющий в себя, умный — таким и запомнился отец ему. Долго горел желанием походить на него, да и сейчас нет-нет, да и вспоминался его красивый гордый профиль…
Иван Сергеевич ещё взглянул на портрет, потом перевёл взгляд на окно… За окном уж совсем стало светло, но дождь не проходил. Продолжался нудный монотонный изнуряющий дождь. За окном погода плакала, как всё внутри его, походила на смурое тоскливое настроение, очень подстать ему.
— Уж решительно напишу о погоде, природе и обзову, как придётся, ну полюбуйтесь, что за притча… А обзову её хавроньей, да хавроньей, я так и сказал Якову Петровичу, [12] — это воспоминание набежало улыбкой на лицо, вспомнив ответ Полонского.
— Лучше уж попросту назови её свиньей, и вместо слов: «на лоне природы» пиши — «на лоне свиньи»…
— Да-а, такое сравнение никуда не гоже, совсем не годится, пусть природа природой, а погода погодой остаются, но ведь как донимает дождливость, мужики так и сказали бы: «Оченно, барин, донимает, да ты не прогневайся, батюшка, не сетуй, Господь милостив…».
Просто и ёмко выражались мужики, вовсе неграмотные, но умудрённые жизненным опытом. Нравилось ему слушать их, чувствовать наполненность сказанного слова, их сравнения и словесные выкрутасы. У иных и слова то лились свободно, не выискивая их в памяти своей «с воодушевлением и кроткою важностью».
— «…» Человек я бессемейный, непосед. Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдешь, как пойдешь, — говорил Касьян с Красивой мечи, возвысив голос, — и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и Богу-то ты видней, и поётся-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растёт; ну, заметишь — сорвёшь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьёшься — заметишь тоже. Птицы поют небесные… А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот Божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живёт всяк человек в довольстве и справедливости… И вот уж я бы туда пошёл… Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромен ходил, и в Симбирск — славный град, и в самую Москву — золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых крестьян, и в городах побывал честных… Ну, вот пошел бы я туда… и вот… и уж и… И не один я, грешный… много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут… да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, — вот оно что…» [13], — заговорит такой Касьян, заслушаешься, не сократить слова, не ужать, словно сказку складывает, песнь поёт…
Он всем своим существом был вжит в говор простонародья, во всё, что окружало его: в парк, в серые дождливые тучи, нависшие над ним, в пруд с петляющей вокруг него тропинкой. Здесь, дома даже дождь свой, пусть надоедливый докучающий, так и хотелось его обозвать, и обзывал, но был свой, что завис над деревнями и сёлами. Был вжит в синее небо с набегающими облаками, в говор торопливых баб, снующих по хозяйственным надобностям, в размеренную беседу рассуждающих мужиков. Был он неотъемлемой частью и неба, и леса, и деревьев. Принадлежал русским городам с прямыми и кривыми улочками, с шумными, крикливыми базарами.
Здесь, немного выйдя, и перед взором твоим «… ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нем — не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь… воздух — молоко парное! Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами.
И дымком пахнет, и травой…» [14]
И всё это он должен был покинуть? И покинуть навсегда? И не видеть?.. Не слышать звуков лесов, щебет птиц, лишиться мягких розовых восходов, не наблюдать пламенеющих закатов? Этого лишиться? Когда такое осознаёшь, можно ли не разрываться внутренне собою, когда всё там, в недрах души плачет и тоскует. «Может не ехать? — закрадывалась мысль, но он тут же пугался её соблазну.
— Не ехать нельзя, затоскую здесь, горше неволи жизнь покажется, тянет туда к ней, быть рядом и это сильнее его воли. А душа? Душа останется здесь, среди всего своего родного, где «на тысячу вёрст, кругом Россия — родной край», [15] — и тут же добавлял, признаваясь себе, — В чужом краю исплачется болью по родной сторонушке… Здесь, живя в русской деревне, и воздух-то как будто «полон мыслей»! Мысли напрашиваются сами…
3
Привычка ложиться рано, способствовала и раннему просыпанию. Так и сейчас, в особенности, когда устанавливалась непогодь. Из окна выглядывалось и тосковалось по солнечной дали, синему небу. Хотелось ясности дня, ликования света, пения птиц, с ними убывалась унылость и подавленность, сглаживалась депрессия. Но погода, как на грех не разгуливалась, хмурилась и изливалась дождём. Уже и листья меняли окрас…
В комнате, примыкающей к кабинету писателя, что-то упав, звякнуло, покатилось… Он вздрогнул в испуге, был глубоко поглощён своими думами. Давно заметил, что если в этот момент кто подходил или внезапно стучал, то как-то вздрагивал, потом долго входил в действительность. Это была комната камердинера Захара. Иван Сергеевич прислушался, послышалось ворчание, то слуга сетовал на себя, на свою неловкость: «эка! нескладный какой…». Потом всё успокоилось, и можно было вернуться мыслями к самому себе.
Запахнув потуже халат, поёживаясь от прохлады, что принесла дождливая погода, он отправился в свою туалетную комнатку. Это была очень маленькая, квадратная каморка, окно которой с матовыми стеклами выходило на двор. В ненастные дни приходилось зажигать дополнительные свечи. Там стоял умывальный столик, зеркало и разные туалетные принадлежности. «Аккуратность Тургенева не уступала его чистоплотности и точно так же могла обходиться без всякой прислуги, как и одеванье». [16] Скорым шагом прошёл в это помещение, зажёг свечи и стал приводить себя в порядок. О-о, это был целый процесс, который позволял себе он…
Иван Сергеевич брал щётку и начинал чесать ею вправо до пятидесяти раз, потом чесал влево, и тоже до пятидесяти… Откладывал щётку, брал в руки гребень и им должен был пройтись по волосам до ста раз… За этим гребнем следовал другой, с частыми зубьями…
— «Причесываться — это страсть моя, это у меня с детства, — говорил он Полонскому, — Когда мать моя еще „носила меня под сердцем“, на нее, ни с того ни с сего, вдруг напала мания всех причесывать. Призывала горничных, сама расчесывала им косы и сама заплетала. Раз, в Москве, с улицы позвала она какого-то инвалида-солдата, должно быть, нищего. (Воображаю себе, в каком порядке была его шевелюра!) — усадила его за свой туалет, вычесала, причесала, напомадила, дала ему денег и отпустила… Может быть, эта мания и перешла ко мне от матери». [17]
Конечно, такое было не каждый раз, но находила блажь, он давал себе это удовольствие. Многое было странноватым у Ивана Сергеевича, даже наезды домой в своё любимое Спасское, где проживая, он получал такое наслаждение, какое нигде в Европе он не испытывал. Но вдруг срывался и мчался почти опрометью вон, в столицы, в Германию, во Францию, а там опять тосковал, скучал и вспоминал свои милые поля, реки и конечно парк при доме. «… И только думаю о возвращении весной в возлюбленный Мценский уезд. То-то мне будет приятно увидеть снова эту старую дребедень, лучше которой все-таки нет ничего для нашего брата, степняка. Егорьев день, соловьи, запах соломы и березовых почек, солнце и лужи по дорогам — вот чего жаждет моя душа!» [18]
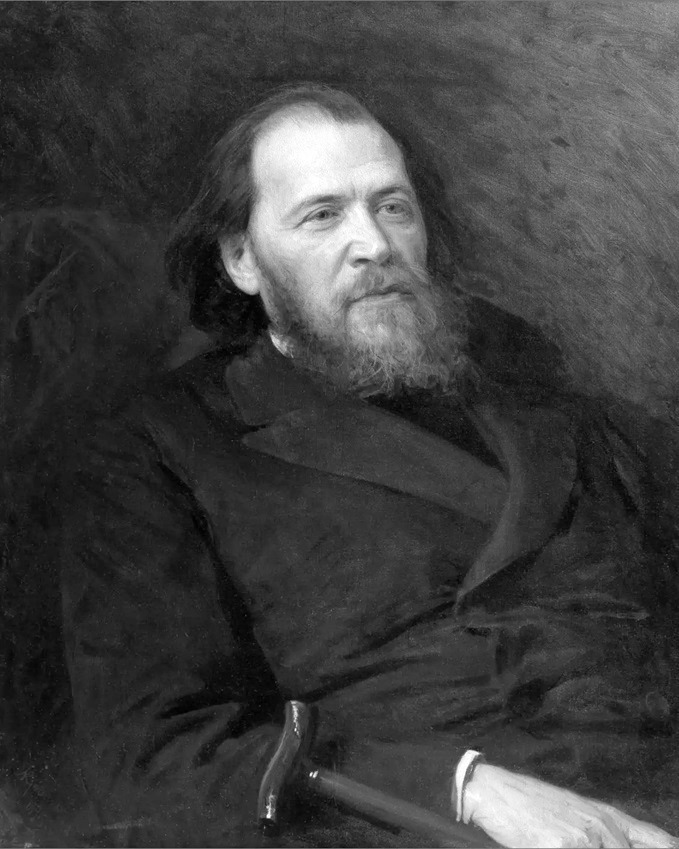
Тишина в самом доме была для него тем манящим и мечтающим уединением, но и такое проходило, становилось невыносимо постылым, в результате опять вон, куда угодно лишь бы не быть здесь, а туда, где она, Полина…, где шум, да гам, где много людей, где надоедливый шум города и докучливые посетители… И понятно, это также быстро надоедало… Что надо было? Почему?.. А не было под родным кровом своего свитого гнезда, какое он замечал, свил себе Лев Николаевич, вот чего ему недоставало… Да он и сам себе признавался в этом и по-хорошему завидовал Толстому, однако мог ли он знать каково семейное счастье даётся… Не знал, но видел, вот например, у Якова Петровича умница, талантливая жена и дети… Чего же ещё?.. Как многое просто со стороны!.. Но в том и трагедия такой грандиозной личности, какой был Тургенев, он был одинок. Мечтая о семье, всё ж не был Иван Сергеевич певцом семейного уюта и игры на виолончели. Он, пожалуй, первым в литературе создал удивительные женские образы, сильные, волевые и, не чета им, мужские, кроме разве что Базарова, но об этом ещё будем говорить…
Приведя себя в порядок, «напомадился и надел сюртучок и галстук» Иван Сергеевич до завтрака стал бродить по комнатам. Стараясь не тревожить, не будить своих друзей — чету Полонских, про себя замурлыкал, на свой лад, слова Якова Петровича из его стихотворения, которое любил, и какое на его соображение было лёгким, отвечающим всяким поэтическим вкусам… И вообще он любил поэзию Полонского, считая того, если не уровня Пушкина, то уж следом точно достойного.
Мой костер в тумане светит; Искры гаснут на лету… Ночью нас никто не встретит; Мы простимся на мосту.
«Помните ли Вы, любезнейший Полонский, Вы мне говаривали, что желали бы написать стихотворение, которое совершенно бы меня удовлетворило? Вы можете теперь быть довольны: я от Ваших „Наяд“ пришёл в восторг…» [19], писал некогда Иван Сергеевич своему другу, с некоторыми замечаниями по поводу самого стихотворения, незначительными, по мнению его.
Всё по-прежнему! — вера была не нова…
И я громко богов уличал; но едва
Я замолк, — наяву увидал чудный сон.
В лунный блеск из воды поднялась голова
И другая, и третья и следом за ней,
На поверхности ровно-бегущих зыбей,
И вдали, и вблизи, целый рой
Их возник из пучины морской. [20]
Семья Полонских, которые всё лето гостили у него в доме, теперь отдыхали на втором этаже дома. Милые, душевные, с ними было покойно и радостно. Яков Петрович, талантливый и деликатный человек, когда стояла солнечная погода, брал с собой палитру с красками и уходил писать этюды. В это лето он совершенно забыл работу со словом, а этюдники и краски отнимали у него всё свободное время, в чём также проявлялись его недюжинные таланты. Супруга его, Жозефина Антоновна, была ему подстать, красивая, талантливая и подающая немалые успехи в области ваяния и лепки. Тургенев это видел, чувствовал и всячески поощрял, напутствовал её к творчеству в самостоятельной переписке…

Где он был бог и гений, так это в чувствовании людских талантов, он их выявлял, поощрял и помогал, как мог. Вообще Тургенев писателей объединял, а не разъединял, как об том некоторые из его современников поговаривали. О таком его свойстве объединении и писал Григорович в своих воспоминаниях. Именно Иван Сергеевич, по его словам, живи он в России, мог стать объединяющим центром для всех русских писателей. «… С его большим умом, разносторонним образованием, тонким эстетическим чувством, широтой и свободой мысли, Тургенев мог бы быть — и, по-настоящему, должен был бы быть в свое время — центром литературного кружка; вокруг него охотно бы стали группироваться остальные литературные силы; к сожалению, это не осуществилось, — не осуществилось потому, что для представителя кружка у него недоставало твердости, выдержки, энергии, необходимых условий в руководителе…» [21]
Кто его понимал и принимал, оставался верным ему и навсегда в дружеских отношениях.
4
Дом и в доме всё было просто без излишеств, по старинке, дышало камерностью, уютом, анфилада комнат, их убранство. Роскошь не были характерны старой барыне, а теперь и её сыну. Он прошёл библиотеку, какая была, вне сомнения, самым интересным помещением в доме. Уникальная коллекция около двадцати тысяч книг, результат сбора нескольких поколений писателя. Недаром современники считали Ивана Сергеевича одним из самых образованных людей своего времени. Стены библиотеки сплошь заставлены книжными шкафами, в середине комнаты тяжёлый домодельный бильярд, крытый зелёным сукном. Тургенев был человеком азартным в игре, проиграв, был неимоверно расстроен и обещался «жестоко» мстить, а выигрывая, торжествовал громогласно.
Следующее за библиотекой комнатой располагалась так называемое «казино», где можно было уединиться и поразмышлять, овальный стол из карельской берёзы, большой ценности и редкости. В детстве за ним готовили братья Тургеневы свои уроки. Этим помещением особенно была довольна мать писателя. Она же и дала название «казино», то есть комната для свободных занятий, где можно было гостям отгородиться от остального общества, поиграть в карты и чувствовать себя сводным от регламента, соблюдавшегося в остальных комнатах дома. На стене портрет Фёдора Тютчева, Иван Сергеевич не просто гордился знакомством с великим поэтом, многое помнил наизусть и почитал его талант в первой обойме поэтов России…
Проходя свой путь по своду, Солнце знает ли о том, Что оно-то жизнь в природу, Льет в сиянье золотом, Что лучом его рисует Бог узоры на цветке, Земледельцу плод дарует, Мечет жемчуг по реке?
Закрутились в голове у Ивана Сергеевича тютчевские строки, прочитывались автоматически, как ранее стихи Полонского…
У окна шахматный столик, за которым разыгрывались баталии игры с Полонским, Фетом, Львом Толстым. О нём говаривали, что хозяин дома «лучший литератор среди шахматистов и лучший шахматист среди литераторов».
Припомнился приезд Григоровича, который привнёс беседам своеобразный литературный окрас. Тогда тоже шёл дождь, не пускал в сад, приходилось втроём: ему, Григоровичу и Полонскому, ютиться в ограниченном пространстве небольшой комнаты. За разговорами, за воспоминаниями дружеских эпиграмм, летело время, и непогода вовсе не замечалась… Так всегда с людьми, что тебе дружны и интересны часы летят, даже небо, что дождилось и хмурилось, помогало коротать в интересных беседах. С крыш стекала вода и переполняла бочки, расставленные по углам дома, а перед самым крыльцом террасы стояли лужи.
Тогда же был рассказан сюжет, задуманной им фантастической повести о жене, которую муж ненавидит и убивает её, что повлекло впоследствии присутствие её подле него и что замечают это другие, но не он, то есть не муж.
Непоседливый и более энергичный Григорович часто вскакивал и быстро прохаживал по комнате и с горячностью говорил своим друзьям.
— Мне решительно это не нравится, — заявлял он, — Психологически необъяснимо, почему жену видит не он, а другие? Не годится такое…, — и объяснения автора не убедили его, в своём мнении остался непреклонен.
Далее разговор коснулось темы, как пишутся повести и, что он, хозяин дома, не может продолжать писать, если не доволен фразой или местом, которое не удалось ему, как хотелось, на что другие писатели совсем не обращают внимания и по частям правят написанное. Всё тот же Григорович не согласился и здесь, что в процессе написания он меняет даже первенствующие роли своих персонажей, если в его воображении произошли более обозначенные черты его характера. Он не придерживается жёсткого сюжета, он у него пластичный и гибкий и может поворачивать в сторону наиболее удобную автору, на то он и хозяин своего творения.
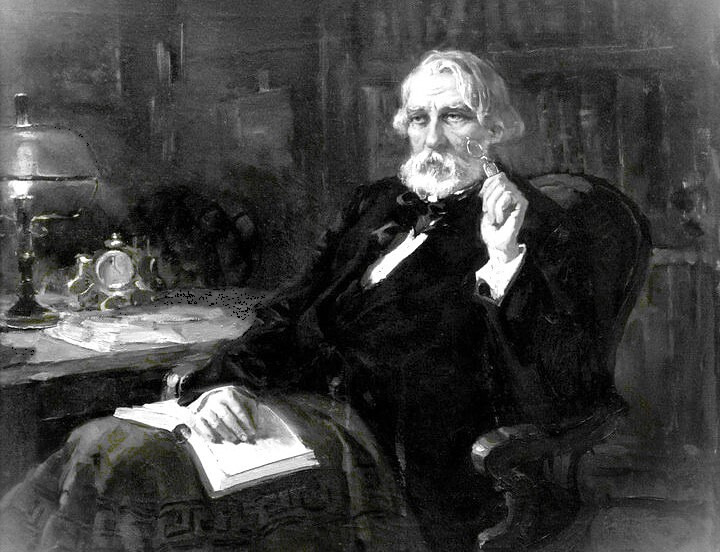
Так за спорами, мнениями вслух время и непогода вовсе не замечались. Благодарно и по сердечному теперь вспоминалось, и было грустно то, что многое пробежало под крышей дома, многие известные личности побывали здесь, а иных уже нет на свете. И что не вернуть, не повернуть вспять, не воскресить. И почему-то вспоминается такое всё чаще, всё настойчивее стучится память в двери ушедшего, приносит не только щемящую грусть, но и душевное тепло, благодарность друзьям, приятелям, знакомым… Пожил!..
Главное помещение, где собирались гости, была большая гостиная. Мебель в стиле «Ампир» всегда нравилась ему изяществом линий, она мягким теплом красного дерева наполняла комнаты… Грезилось, что сейчас откроется дверь в гостиную, и ворвётся говор бывших здесь знаменитых друзей писателя… Здесь со своими гостями Григоровичем, Боткиным, Дружининым вёл беседы о назначении искусства, о русской критике, о публицистике. Делился с Некрасовым о своих замыслах. Далеко за полночь засиживался с Львом Толстым. Дом этот, в Спасском, был в своё время на удивление гостеприимен, собирал аристократов духа, последних представителей дворянской усадебной культуры. Стены гостиной хорошо помнят их горячие споры, помнили их и старинные рокотовские [22] портреты в старых позолоченных рамах. От них веяло матушкой-стариной, временами императора Павла и императрицы Екатерины. Несомненно, все эти портреты, участвовали в творчестве Ивана Сергеевича. С детства глаза их следили за ним, наблюдали и в зрелые годы, часто мелькали в его повестях и рассказах. На стенах, какой год! со своих полотен портреты прислушивались и вглядывались строго на зрителя. Это были дворяне, предки писателя, в шитых золотом камзолах.
Всё внимало такой обстановке, тишине, что даже половицы старались не скрипеть…
К большой гостиной примыкает небольшая комнатка, малая гостиная. На своем месте, в малой гостиной огромный диван «самосон», любимый писателем и памятный гостям Спасского. Чем был знаменит диван? Он, по утверждению хозяина, слыл опасным: «Стоит только на него прилечь, как тут же спишь». Иван Сергеевич остановился, вспомнил, как именно на этом диване уснул Лев Николаевич во время прочтения вслух романа «Отцы и дети», а потом, чувствуя неловкость свою, объяснял это бессонной ночью. И казался в тот момент каким-то беспомощным, сконфуженным. Редко он видел таким Льва. Над «самосоном» пастельный портрет старшего брата Николая.
Далее следовала столовая… Тишина, что царила сейчас здесь, была обманчива, завораживала. Воздух как будто весь напоён звуками прошлого, звенел воспоминаниями, каждый предмет, каждая деталь напоминали ему о пролетевших годах. Не стоило большого напряжения и памяти, чтобы вспомнить, «… сколько двуногих существ „…“ жило на господском иждивении, усердствовало, подслушивало, шушукалось, сплетничало, мстило и интриговало, молодело и старилось! Сколько поверий, преданий, сказок, прибауток, пословиц, прозвищ говорилось и выслушивалось! Сколько гаданий, суеверных страхов, мелких страстей и всяких иных ощущений волновало и разнообразило этот крепостной мирок, это маленькое государство — стоит только вообразить себе, чтоб тотчас же невольно подумать: сколько пищи или материала давал этот дом для наблюдательности и памяти впечатлительного ребенка, будущего писателя!» [23]
Иван Сергеевич прислонился к косяку двери, окинул помещение, где по-старинному в углу столовой тикали старинные английские часы, нарушая тишину мелодичным звоном, что дополняло обстановку особым уютом. Вот сейчас, прямо сию минуту, пробьют они, а с фортепьяно польются звуки ланнеровского [24] вальса. Так и хотелось ему закричать: «Я люблю музыку! Люблю её и смею думать — знаю её».
Любил и знал!
5
Вскоре после завтрака стало распогоживаться…
Небольшой ветерок разорвал тучи, сбил из сплошной обволакивающей пелены в отдельные образования и погнал прочь от усадьбы. Меж облаков стала лучиться из непостижимой высоты долгожданная синь. Забрезжило радостью, заиграло в потаённых уголках природы свежестью, проглянуло солнце, и вся округа запела, засветилась, раскрасилась… Как-то всё в природе встрепенулось… Неужели природа дарила ему перед отъездом несколько дней тёплых и ясных
Яков Петрович не преминул тут же схватить краски, мольберт и быстро умчать на пленер писать этюды. «Яков Петрович все лето писал виды Спасского масляными красками, его частенько можно было встретить в красивых уголках парка, сидящим под громадным дождевым зонтом от солнца, за мольбертом в своей черной куртке. С какой любовью и скоростью писал он небольшие пейзажи, думалось, живопись была его врожденным талантом». [25]
Иван Сергеевич его ценил не только как писателя, поэта, но и как художника и поощрял написание пейзажей, в особенности окрестностей Спасского. Его жена тоже ушла с детьми по интересам… Тогда Яков Петрович подарил Тургеневу семь этюдов, написанных этим летом, которые он считал наиболее удавшимися. «Твои картины все обрамлены и висят у меня перед глазами… и очень мне приятно смотреть на них…» [26] — писал Тургенев Полонскому по возвращении в Буживаль…
Хозяин был рад, что все разбрелись по делам своим, хотелось побыть самому, предаться своим думам, размышлениям и как-то придти к соглашению внутри себя… А там всё бередило, не успокаивалось, принималось одно решение, поперёк вставал веский довод против его, соперничал с ним и в итоге побеждало другое мнение… Потом всё менялось местами… И всё это не успокаивало его, наоборот приводило в состояние раздвоенности, какую он испытывал ранним утром и вообще предыдущие дни, особенно, в пасмурную погоду…
— Да что же за наказание такое? Где ответы, мне нужные? Где та пристань душе моей, что истосковалось по тихой, солнечной гавани?..
Что не говори, а поэт, везде поэт…
Иван Сергеевич, не торопясь вышел на террасу, осмотрелся, воробьёв, что во множестве всегда копошились у крыльца, сейчас не было. Любил он, стоя на крыльце, кормить их белым хлебом… Что-то не привычное было в отсутствии пернатых. Непорядок, да и только, ведь «… перед террасой вечно толпилась стайка воробьёв…» Вспомнил, как однажды, «неожиданно налетел ястреб и, коснувшись крылом земли, в двух шагах от нас, на наших глазах унёс одного из них. Он и пискнуть не успел; оставшиеся как-то по-особенному закричали и бросились в кусты. Этот ястреб действовал по праву, но в смерти всегда есть нечто уродливое и неожиданное, даже когда она служит жизни…» [27]
Тема смерти назойливо довлела над ним… Иван Сергеевич в своих рассказах и повестях неоднократно возвращался к ней, подходил с разных сторон и всегда чувствовал необъяснимую своеобразную торжественность и вместе с ней жуткую бледную гнилость, и его охватывал страх сковывающий парализующий. В ней он видел что-то противное самой природе, самой жизни, когда всё вокруг благоухает и кричит жизнью, а рядом бродит она «бледная и постная». Такое не соответствовало его представлению о «торжествующей любви» и вечной жизни…

Проходя возле дуба, пожалуй, в первый раз обратил внимание, как выросло и возмужало молодое дерево, как укоренилось корнями в землю, как раскинуло вокруг себя ветвями и выбросило многочисленные листья. Глядя на него, опять что-то больно кольнуло, не физической болью, нет, а ноющей щемящей болью глубоко внутри… Даже дерево глубоко сидит своими корнями в земле своей. Вросло!.. И свои корни-щупальцы, крепко разбросало вокруг себя, чтобы противится непогоде и ветрам, что порою бушуют по жизни. А его жизнь, словно в половодье оторвало от родного пристанища, и в бурных водах течением своим понесла в места неродные далёкие, звавшиеся чужбиною. Чужбина!?.. В этом слове и звук настораживающий, чужеродный, в нём нет мелодичности, что душе приятно всегда, а наоборот настораживающий, пугающий.
Этот дубок, посаженный им давно, лет этак сорок, пятьдесят… Он окреп, возмужал, закалился на смене времён года и постепенно превращался в настоящий могучий дуб.
— Такое как-то не думалось прежде, неужели последний раз вижусь и с ним?.. Вот если бы и мне так, только крепнуть и стремиться ввысь к небу… Если бы так!
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.