
Великая тайна ХХ века
Редкость в наши дни — старый добрый неумирающий роман: радость и счастье, горе и злосчастие во множестве судеб далёкого прошлого и наших дней.
Знайте, уважаемый читатель, я вам искренне сейчас завидую. Потому что вам предстоит в первый раз прочесть книгу, которую вы в настоящую минуту держите в руках. Именно первые впечатления всегда особенно сильны, глубоки, красочны. Второе чтение — уже нечто другое: тут приоритет мысли, а не сердечного чувства.
«Наследство последнего императора» внешне — книга о звеньях цепи важных исторических событий. О жизни и тайне смерти Николая Второго; о драмах эпохи революций и гражданской войны; о страшной исторической трагедии уже наших дней; о тогдашней и нынешней беспощадной борьбе за наследство русского царя.
Но, прежде всего, это книга о живых людях. Она повествует, в первую очередь, о вещах вечных — о жизни и смерти, о любви и ненависти, о верности и предательстве, о человечности и мерзости, о великодушии и подлости. Написана она в жанре, почти уходящем сегодня. Впрочем, не будет ошибкой определить «Наследство последнего императора» и как исторический детектив, поскольку и эти признаки имеют место, но, на мой взгляд, не являются самыми главными.
Книга «Наследство последнего императора» интересна потому, что это — остросюжетное произведение, в котором живо, увлекательно, но одновременно на основании бесстрастных документов и свидетельств рассказывается об одной из величайших тайн ХХ века. Перед нами разворачивается жестокая и бескомпромиссная драма эпохи. Точнее, две драмы, поскольку роман построен на двух параллельных фабулах. Первая — давнее прошлое, она охватывает период 1915—1920 годов столь недавнего, но уже исчезающего из общественной памяти прошлого века. Вторая линия — 90-е годы того же ХХ века, время катастроф, всеобщего бандитизма и предательств. Первая линия повествует о борьбе за обладание последними представителями династии и их золотом. Вторая — о борьбе за их останки и опять же… за романовское золото.
Автор романа Николай Волынский — писатель, журналист, переводчик известен также острыми аналитическими статьями в газете «Правда», где он проработал больше двадцати лет. Из них последние двенадцать занимался расследованием тайны семьи Романовых. В его распоряжении уникальная и в чем-то сенсационная информация, практически не известные массовому читателю и даже специалистам материалы экспертиз, которые обошла стороной известная немцовская госкомиссия по «идентификации царских останков». И теперь понятно, почему обошла. Собранные автором материалы взрывают изнутри официальную версию убийства и захоронения Романовых. Проведя собственное расследование, Николай Волынский был первым из журналистов центральной прессы, кто заявил однозначно: «екатеринбургские останки Романовых» — фальшивка. Это было сказано задолго до того, как возникли сомнения в том же и у Русской Православной Церкви. Задолго и до того, как группа японских учёных во главе с доктором Тацуо Нагаи убедительно отвергла официальную версию происхождения костей, найденных под Екатеринбургом и захороненных под видом останков царской семьи в соборе Петропавловской крепости Петербурга.
Так что «Наследство последнего императора» — это ещё и история открытий и прозрений, фальсификаций и обмана, жестоких кровавых игр сначала вокруг живых Романовых, а теперь вокруг мёртвых.
Шаг за шагом, по крупицам, автор реконструирует события, как далёкого прошлого, так и более близкого. В его распоряжении не только юридические доказательства, экспертные заключения, но и неожиданные свидетельства. Неоценимую помощь Н. Волынскому в расследовании оказала О. Н. Куликовская-Романова, вдова самого близкого родственника императора Николая II — его родного племянника Тихона Николаевича Куликовского-Романова, недавно скончавшегося в канадском городе Торонто. С Ольгой Николаевной автор встречался неоднократно. Большое значение имели и контакты автора в конце 90-х гг. с главой Дома Романовых Великим князем Николаем Романовичем, который, кстати говоря, по своим убеждениям оказался не монархистом, чего вроде бы следовало ожидать, а республиканцем.
Но вот документ заканчивается. И тогда вступает в силу метод художественной реконструкции действительности. То есть, вслед за Юрием Тыняновым автор заявляет: «Там, где заканчивается документ, начинаю я!» Так что в романе сосуществуют и дополняют одна другую правда факта и правда искусства.
А уж если реальный исторический персонаж почти столетие для историков и литераторов — загадка, то вдвое хочется узнать о нём побольше. Так, в книге появляется комиссар Яковлев — личность таинственная и неоднозначная. Удивительно: почти сто лет русская литература словно не замечала этой исторической и, добавлю, драматической фигуры. И вот нежданная встреча с Василием Васильевичем Яковлевым (он же Мячин, он же Стоянович), пытавшимся вырвать царскую семью из рук сибирских и уральских большевиков, считавших Ленина предателем революции, и вывезти её в Москву, а, может, и дальше — за границу. Был тогда Яковлев личным порученцем Ленина и Свердлова и выполнял их задание.
Так что роман «Наследство последнего императора» интересен ещё и тем, что в нём содержится новое историческое знание, и это тоже сильная сторона книги. Оказывается, твёрдые цены на хлеб, разорительные для крестьянства, установили не Ленин и Сталин, как нам твердили и твердят, а задолго до них царское правительство. Вскоре хлеб стал с рынка исчезать, что ускорило наступление Февральской революции. Именно Временное правительство ввело продразвёрстку — ту самую, которую в марте 1921 года большевики, пройдя период военного коммунизма, заменили продналогом — первая мера НЭПа. С удивлением обнаруживаешь в книге и свидетельства того, что в августе-сентябре 1917 года «Временные», в основном, кадеты, спешно готовились заключить сепаратный договор с немцами (для отвода глаз — с Австрией, которая, как известно, была теснейшим союзником Германии), да вот большевики в октябре помешали. Много интересного, а иной раз и потрясающего узнаешь и из документальных свидетельств деятелей Русской Православной Церкви. Кому известно, например, о том, что Николай II готовил восстановление Патриаршества и всерьёз готовился… сам стать Патриархом?
Святой Иоанн Кронштадтский, митрополиты Антоний Вадковский и Антоний Храповицкий, оклеветанный старец Григорий Распутин, первый глава Временного правительства князь Георгий Львов, его преемник Александр Керенский, адмирал Колчак, король Великобритании Георг V, Ленин, Свердлов, Троцкий, Горбачёв, Ельцин, глава правительства Англии Маргарет Тэтчер, президенты США Джордж Буш-старший и Уильям Клинтон — перед нами целая галерея исторических лиц, участвующих в реальных исторических событиях… Новые загадки, проблемы и тайны. И их разгадки.
Что ж, начнём читать.
Александр Михайлов,
доктор филологических наук, старший научный сотрудник
Института Русской литературы
(Пушкинский Дом)
г. Санкт-Петербург.
1.Смерть претендента
Великокняжеская усыпальница Петропавловского собора

В ГОДУ 1992-м мая 29 дня в Санкт-Петербурге, который всего год назад был Ленинградом, в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора собралось человек полтораста народу. Такой толпы в последние 200 лет стены собора ещё не видели. Большинство собравшихся мужчин — в одинаковых черных мешковатых костюмах, белые рубашки, черные шёлковые галстуки «анаконда» или бантики «кис-кис». Дамы тоже в трауре. Некоторые из них, по правилам Православной церкви, были в платочках. Одна повязала себе голову носовым, и его светлое пятно было видно издалека. Остальные — жены демократов или сами демократки — тогда ещё оставались атеистками. Это лет через пять они враз и чуть ли не поголовно превратились в верующих. И как только в столичных и питерских церквах и соборах обычной принадлежностью стала видеокамера «Betacam», «новые православные» зачастили в храмы с подругами, с мужьями — «новыми русскими», впрочем, большей частью как раз не русскими. Платочки оставили и стали показывать по телевизору всей России свои умопомрачительно модные шляпы от Диора, от Кардена и даже от Валентино.
Поначалу они отстаивали службу, держа свечки в правых руках. Потом газеты им подсказали: правая рука дана христианину, дабы он осенял себя крестным знамением. Свечи тут же перекочевали в нужные руки. Осеняться «новые православные» научились удивительно быстро, хотя в основной массе своей не были и не могли быть крещёными, а значит и христианками. И большинство их мужчин в младенчестве прошли совсем другой религиозный обряд — обрезание. Тем не менее, крестились новые православные вполне удовлетворительно — троеперстие ко лбу, к пупку, потом правое плечо, левое. Скоро научились становиться на колени, причём, не только дамы, но и господа тоже. Больше всех в этом деле преуспел, кажется, всемирно известный виолончелист Мстислав Ростропович. Он как входил в церковь, так сразу падал на колени, словно подрубленный, чем неизменно, будто в первый раз, пугал неразлучную свою жену — всемирно известную певицу Галину Вишневскую (лучшее в Европе колоратурное сопрано, между прочим!), бывшую «девчонку-хулиганку из Кронштадта», как она сама себя называла. Очевидно, ещё с тех, кронштадтских времён с лица Вишневской и до сих пор не сходит умеренно-хулиганская, презрительно-нагловатая гримаска.
Впрочем, крестные знамения и падения на колени «новых православных» демократов — все это потом, потом!.. Лет через пять- шесть. А тогда…
Тогда в Великокняжеской усыпальнице сильно пахло ладаном, дорогим американским одеколоном, французскими духами и немного — коньяком. В воздухе зависло тихое жужжание разговоров, действовало оно усыпляюще. Но никто не спал и даже не дремал. Толпу оживлял петербургский мэр Собчак. Он порхал от одного гостя к другому. Тяжело уставившись в лоб собеседнику своими сильно косящими глазами, с одним он заводил короткую беседу, с другим шутил и первый смеялся своим остротам; подойдя к третьему, бросал отточенные реплики; с вежливым молчанием внимал четвёртому… Он был почему-то в темно-малиновом смокинге и при белой «кис-киске», хотя причина, по которой здесь собралась публика, была не праздничной — даже совсем наоборот.
От мэра ни на шаг не отходила его супруга Людмила Нарусова. Собчак ласково именовал ее Ланью, даже при посторонних. Своим траурным платьем из чёрного итальянского муара, который переливался всеми цветами радуги, Лань вызывала у дам судорожную зависть. На голове у нее был зелёный, замысловато повязанный тюрбан — её любимый головной убор, из-за которого самый тогда скандальный тележурналист Невзоров*, невежда, циник и страшный ругатель, назвал её Дамой в тюрбане. Прозвище прижилось.
Глаза у жены мэра были узенькие и распухшие, нос покраснел и тоже распух. Она поминутно прикладывала к нему маленький вышитый платочек и шмыгала в него так часто, что у постороннего человека не оставалось сомнений: её мучит не простуда, а большое личное горе. Однако горе, а, может, и не горе, приключилось не с ней, а с другими, из-за чего и собралось в соборе так много народу.
Хоронили одного из отпрысков российской императорской фамилии, русского аристократа — князя императорской крови Владимира Кирилловича Романова. Он родился в Финляндии в 1917 году, между Февральской и Октябрьской революциями, и прожил за границей всю жизнь. И вот с тех пор, по прошествии почти семидесяти пяти лет, впервые в городе, который все это время называли колыбелью трех революций и цитаделью социализма, погребали представителя династии, правившей Россией более трех столетий и закончившей своё правление бесславно и позорно. Для того чтобы погребение князя Владимира Кирилловича стало возможным в соборе Петропавловской крепости, памятнике истории культуры, президент Ельцин издал специальный указ, в котором была такая фраза: «Похоронить Великого Князя и Наследника Престола Российского в Семейном Петропавловском соборе в Кругу Его Августейшей Семьи». Между тем, соборная Императорская и Великокняжеская усыпальницы были имперскими, то есть государственными, а вовсе не семейными, не романовскими. Да кто сейчас об этом знал? А если и знал, то не помнил.
И теперь мэр города Питера не скрывал, что очень гордится собой, потому что именно ему удалось надавить на Ельцина и организовать похороны в бывшей столице империи и, главное, в соборе. На указе ещё не высохли чернила ельцинской толстенной паркеровской авторучки с золотым пером 96-й пробы, а Собчак уже подрядил некоего американца, звать Таболтом Рубином, свежеиспечённого владельца восьми шикарных магазинов на Невском проспекте. Мэр лично выдал Рубину сертификат с заказом — приобрести в Италии, в знаменитой Карраре, близ Тосканы, плиту лучшего в мире мрамора для княжеского надгробия. На солнечном свете этот изумительный камень кажется живым — словно пульсирует изнутри. Известно, что великий Микеланджело Буонаротти признавал только каррарский мрамор.
За работу город заплатил Рубину хорошо. Собчак не стал скряжничать и утвердил авансовый отчёт Рубина, который вывел сумму в долларах, равную годовой прибыли всех его магазинов на Невском вместе взятых.
В этой жизни Владимиру Кирилловичу Романову решительно не везло.
Все началось с решения его отца — великого князя Кирилла, который на смертном одре объявил сына «единственным и законным Наследником Российского Престола».
Это было роковое решение. Остальные Романовы — дальние и близкие родственники — объявили «указ императора» Кирилла ерундой. В ответ «император» добился аудиенции у Папы римского и предложил, чтобы Папа официально, от имени Римско-католической церкви, признал права его сына на трон Российской империи вполне обоснованными. Надежда у князя была только на Рим. Он прекрасно понимал, о чем и заявил Папе, что Русская Православная Церковь, как в России, так и за рубежом наверняка откажется это сделать. Без церкви же в таком деле, как право на императорскую корону, не бывает. Папа согласился пойти навстречу и заметил, что уже почти две тысячи лет ни один монарх в Западной Европе не может считаться таковым без миропомазания — своего рода экспертизы Отдела технического контроля. Корону можно получить, в конечном счёте, только из рук хранителя ключей Святого Петра, то есть от Папы. Даже Наполеон Бонапарт, у ног которого лежала вся Европа и который в грош не ставил мнение Ватикана, был вынужден съездить на коронацию в Рим, чтобы получить корону непосредственно из рук понтифика. Правда, при этом он не позволил Папе завершить коронование: выхватил корону из его рук и сам возложил её себе на голову.
Сертификат качества, точнее, папский рескрипт, где подтверждалось, что Владимир Кириллович является не только Наследником, но ещё и «Единственным Местоблюстителем Российского Престола, а также Регентом», Папа Павел VI выдал соискателю через неделю. Пообещал помочь и с коронацией. Тут уж большая романовская родня, словно с цепи сорвалась: объявила «Наследника» не просто узурпатором, а ещё и вероотступником, ставшим на путь Гришки Отрепьева, который тоже пытался отдать Святую Русь в лапы папистов.
На своём экстренном съезде родственники в две минуты, единогласно, словно коммунисты на съезде КПСС, заявили, что вопрос о престолонаследии в России может решать только Земский Собор, и применили к еретику самую жёсткую, самую болезненную, а главное, необратимую репрессивную кару: отлучили Владимира Кирилловича от Дома Романовых, главой которого он провозгласил себя уже по собственной инициативе буквально за день до этого печального события.
Между тем «Наследник и Местоблюститель Российского Престола, а также Регент» и несостоявшийся Глава Дома Романовых жил не просто плохо. Он нищенствовал. Не имел ни профессии, ни ренты, ни каких-либо ещё постоянных источников дохода. Единственное, что Владимир Кириллович умел и чему предавался с неугасимой страстью, — целыми днями разбирал и собирал различные часовые механизмы. Правда, однажды попытался поработать — ещё до второй мировой войны.
Тогда Владимир Кириллович с супругой и отцом своим Кириллом жил в Мадриде. Когда к власти пришёл Франко и наладил самые тесные отношения с Гитлером, отец и сын Романовы решили открыть своё дело — поставлять в Испанию из Германии запчасти для немецких автомобильных двигателей. Дело обещало перспективы, но все погубила спешка. Работать ежедневно, целеустремлённо, постепенно, по маленькому шагу приближаясь к цели, оба не умели и не хотели. В самом деле, что может звучать нелепее: «Российский Император: продажа карбюраторов»! Или: «Наследник Цесаревич — специалист по распределительным валам»… Жизнь слишком коротка, богатеть надо быстро. Поэтому уже в первой партии товара, пришедшего на имя августейших бизнесменов из Германии, оказались не запчасти, а моторы для «БМВ» и «Хорьха» в полном сборе, на ввоз которых в Испанию Романовы разрешения не имели. «Императора» и «Наследника Цесаревича» жандармы немедленно арестовали и обвинили в контрабанде. Сидеть бы им лет десять-пятнадцать в фашистской тюрьме, да вмешался каудильо. Все-таки члены династии, императорская кровь, пострадали от большевиков и, по определению, враги его главного врага — красного диктатора Сталина. Будущий генералиссимус сеньор Франциско Франко приказал отца и сына из тюрьмы выпустить, но вид на жительство у обоих отобрал и велел депортировать для начала одного «Императора» за пределы страны в семьдесят два часа. «Цесаревичу» он велел дать отсрочку, пока его отец не найдёт пристанище.
Кирилл Владимирович собрался меньше чем за сутки и рванул из Испании, покуда каудильо не передумал. И вот тут-то обрушились на «Кирилла I» казни египетские. Ни одна из европейских стран не пустила «Российского Императора» к себе: газетчики постарались, раздули дело о немецких моторах на всю Европу. Лишь через полтора месяца мытарств и мучений Кириллу удалось зацепиться за Лихтенштейн. Великий Герцог Лихтенштейнский разрешил Романовым пожить у себя, но только инкогнито.
В Лихтенштейне Романовы пробыли недолго: началась война. Немцы вошли во Францию, и «Императорская» семья благополучно переехала в Фонтенбло, под Парижем. Получив немецкие аусвайсы, они спокойно досидели до конца войны и после разгрома Гитлера двинулись в Америку, где увидели истинный рай по сравнению с измученной Европой. Благодаря войне, Америка не просто разбогатела. Она сказочно разбогатела. Типичный гешефт тех времён: крупнейшие корпорации, с одной стороны, посылают тушёнку русским, с другой — продают Гитлеру свои самые мощные в мире танковые аккумуляторы, причём открыто, даже не потрудившись организовать поставки через третьих лиц. Общественное мнение Америки их не осуждало: бизнес. Он перемалывает в в деньги и союзнические обязательства, и мораль вообще.
Итак, «императорская» семья, направляясь за океан, рассчитывала, что в Америке, где народ более простодушен, необразован и глуп, нежели в Европе, им легче будет вписаться в новую жизнь и подняться на вершину социальной лестницы — пусть даже на первое время пока в эмигрантских кругах. Но их ждало неприятное открытие: публика почти не обратила на них внимания. Всех затмила Анна Андерсен-Чайковская. Она находилась в зените своей удивительной славы. Некоторые из членов Дома Романовых признали её Великой княжной Анастасией Николаевной Романовой, подлинной дочерью императора Николая II, которая выжила после расстрела, спаслась от большевиков и сумела бежать из РСФСР. Безоговорочно признали и те, кто дружил с Аной, как её называли сестры и брат, ещё с детства, например Глеб Боткин и Татьяна Мельник-Боткина, дети расстрелянного царского лейб-медика. Некоторое время даже Великая княгиня Ольга, сестра Николая Второго, робко утверждала: да, возможно, это Анастасия, хотя, как знать, может, и не она… Но «император» Кирилл публично назвал Анну Андерсен самозванкой, более того — воровкой, укравшей честное имя его погибшей любимой племянницы. А теперь она с помощью своих преступных, в основном, немецких покровителей нацелилась на жалкое имущество, оставшееся после бедного Ники. Встречаться с ней, вступать в публичную полемику Кирилл, разумеется, отказался. «Ну конечно! Какой же кот, укравший мясо, захочет встречаться со строгой, но справедливой хозяйкой? — презрительно заявила Анна-Анастасия. — Берёзовый прут для вора у меня всегда наготове. И скоро дяде Кириллу придётся дать мне отчёт за все — и за узурпацию титула, и за своё предательское поведение в 1917 году. И отвечать ему придётся гораздо раньше, чем он думает».
Прут, приготовленный для вороватого кота, пока оставался без применения. В США Анну Андерсен официально не признали Великой Княжной Анастасией Романовой. Однако и надежды Кирилла Владимировича, который ожидал, что власти подтвердят его императорские полномочия, оказались напрасными. От такой бесполезной жизни Кирилл вскоре умер.
Сын его Владимир Кириллович объявить себя очередным «Императором» Российской империи побоялся, хотя условия изменились: теперь местные власти ему гарантировали, конфиденциально, разумеется, положительное решение суда города Вашингтона, округ Колумбия, о признании его Императором Российским Владимиром I. При условии, что пятьдесят процентов от наследственных капиталов, если таковые обнаружатся, будут внесены в бюджет приютившей его страны, куда Владимир Кириллович приехал за свободой. Но не хватило духу у «Цесаревича» объявить себя императором. Так и проходил всю жизнь в «Наследниках» — буквально до гробовой доски. Женился он на бывшей супруге английского банкира Кэрби — Леониде Георгиевне, которая считалась и до сих пор считается какой-то представительницей древнего грузинского рода Багратиони. В 1958 году у них родилась дочь Мария. Семья жила на колёсах, разъезжая по родственникам и знакомым, иногда выступая перед публикой в разных странах, а последнее время совершала челночные поездки между Испанией, США и Россией вплоть до смерти Владимира Кирилловича в 1992 году.
Князь в тот несчастный год отдыхал в Америке, в Майами, где в последние годы пляжи были плотно завалены тушами «новых русских» бандитов и банкиров, в основном, еврейского и кавказского происхождения. Секретарь князя, который служил Владимиру Кирилловичу за харчи, организовал ему встречу с «молодыми русскими капиталистами», как они себя называли. Бандиты весело раскупили билеты ценой от 800 до 1000 долларов за место и пожертвовали ещё около ста тысяч баксов наличными герою дня. Встреча получилась. Были слезы радости и внезапно вспыхнувшего взаимного обожания.
Они лились и на сцене и в зале. Князь рассказывал, как он страдал от большевиков и от поганого генералиссимуса Франко. Под конец бандиты, а особенно, их женщины, совсем расчувствовались, когда князь признался, что любит Россию и готов послужить ей в любом качестве. Кто-то крикнул: «В любом — не надо!» Зал принялся скандировать: «Царём! Царём!» Здоровенный бандюган с бочкообразным животом, явившийся на встречу в полосатых семейных трусах, рухнул перед Кирилловичем на колени и взревел: «Батя! Ты наш царь! Вертайся на хату!»
Князь всплакнул, прижал руки к сердцу, открыл рот, пытаясь сказать ещё что-нибудь дополнительное о своей любви к России. Но неожиданно язык перестал ему повиноваться: закоченел, будто князь только что съел ведро мороженого. Он снова открыл рот, но неожиданно сник, отвалился на левый подлокотник кресла… И так с открытым ртом умер.
Назначенный час погребения все никак не наступал, пчелиное гудение разговоров то усиливалось, то ненадолго затихало. И вновь оживлялось там, куда порхал петербургский мэр. По этому жужжанию можно было издалека определить маршрут движения Собчака по усыпальнице.
Официальные похороны в Петропавловском соборе члена династии было событием исключительного политического значения. Сами по себе его похороны в стране, где ещё вчера любой, даже самый дальний родственник династической семьи считался почти официально государственным врагом СССР, ни о чем особенном не говорили. Но взятые в совокупности с новыми и ещё вчера невозможными реалиями жизни после краха советской власти могли сказать наблюдательному и вдумчивому человеку очень о многом. В первую очередь о том, в какой жестокий этап своей истории в очередной раз вступила Россия. Самым верным сигналом скорых обвальных перемен стало внезапное и жульническое переименование Ленинграда в Санкт-Петербург. Нашлись тогда, однако, и среди либеральных демократов вольнодумцы. Вечный свадебный генерал Герой Социалистического Труда советский академик Лихачёв в интервью самой респектабельной по тем временам главной коммунистической газете «Правда» заявил, что ежели Верховный Совет Российской Федерации отменит решение съезда Советов от 1924 года о присвоении городу имени Ленинград, то автоматически восстанавливается имя Петроград, которое город получил по указу императора Николая II как раз перед первой мировой войной — такой вот патриотический акт накануне боевого соприкосновения с германцами. Народ должен был видеть, до какой степени царь с царицей, по крови вместе почти стопроцентные немцы, ненавидят этих поганых колбасников. Нынче же отменить царский указ о Петрограде даже современный и невиданно демократический Верховный Совет Российской Федерации не имеет права.
Тем не менее, престарелый вольнодумец, позволивший себе по привычке удовольствие иметь собственное мнение лишь тогда, когда это было для него абсолютно безопасно, вдруг заявил, что будет голосовать, как мэр Собчак, — за Санкт-Петербург.
Не смолчал и кумир демократов Меч Божий и Пророк (самоназвание) Солженицын: присылал из своей Америки в Ленгорисполком телеграммы пачками (копии: Москва, Кремль). Знаток обустройства новой России предлагал свои варианты: «Свято-Петроград» и даже «Свято-Невоград», поскольку немецкое слово «Петербург», да ещё после труднопроизносимого «Санкт» оскорбляет его патриотические уши. Но теперь его уже никто не слушал — даже самые верные поклонники. Советская власть была свергнута, и Солженицын, отдавший уничтожению России-СССР лучшие годы своей жизни, теперь никому оказался не нужен. Ленинградцы превратились в непостижимых умом «санкт-петербуржцев», то есть в «святых» жителей Петербурга.
…Наконец привезли священника и дьякона. Теперь все действующие лица на месте. Сюжет под названием «Похороны Великого Князя Владимира Кирилловича» приготовились отснять десятка два репортёров, местных и заграничных. На самом деле он был только князем императорской крови: царь лишил потомков Кирилла великокняжеского титула задолго до революции: Кирилл нарушил закон о престолонаследии. Мало того, что он без разрешения Государя женился. Он женился еще и на разведенке, отбив жену у брата самой императрицы Александры Федоровны. И что вообще омерзительно, Кирилл вступил с Викторией-Мелитой в кровосмесительный брак: она была его двоюродной сестрой. Родственники и друзья называли ее ducky — «уточка», из-за походки.
Местные летописцы, кстати говоря, могли остаться вообще без материала. В собор им удалось проникнуть с огромным трудом. Накануне события секретарь князя вдруг объявил, что только родственники и свита Владимира Кирилловича обладают исключительными правами бесплатно запечатлеть на плёнку исторический процесс закапывания Августейшего трупа. Остальным придётся за это право платить: семья князя ограничена в средствах и не может разбрасываться прибыльным сюжетом направо и налево. В конце концов, Собчак уломал начальников княжеской свиты, резонно заявив, что для родственников князя и его приближенных сейчас в России важна любая реклама. Здесь она дороже любых денег. Да и нет в новой российской прессе вообще такой традиции — платить героям своих публикаций, а уж их наследникам тем более. Наоборот, с недавних пор крепко укоренилась совсем другая традиция. В Руссиянии журналисты теперь сами берут деньги со своих героев, причём, очень большие, особенно на телевидении — по цене рекламы. Особенно дорого стоит скрытая реклама. Свитские испугались и отступили.
И сейчас вся снимающая и пишущая публика нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, ожидая начала.
Покойный лежал в роскошном из цельного дуба лакированном гробу, украшенном золотыми кистями. В полутьме отсвечивали четыре серебряные ручки по бокам. Это был гроб марки «Аль Капоне» — так уже успели прозвать в народе такие гробы.
Из нутра своего последнего прибежища князь источал на публику ароматы бальзамических благовоний. Такая роскошь местной публике и не снилась. Советских граждан всю жизнь заколачивали в простые сосновые ящики, обитые кумачом. Разница могла состоять лишь в размерах ящика или в качестве и цене обивки. Гости из туземных не могли отвести глаз от сверкающего «Аль Капоне» и стояли около него, словно зачарованные. Некоторые украдкой щупали изумительный сундук, гладили его гладкие пузатые бока, трогали серебряные ручки.
— Во как надо! Вот как у людей хоронють. Сыграть в такой ящик — одно удовольствие. А советская власть даже приличный гроб за семьдесят лет придумать не могла! — громко бросил реплику джентльмен лет пятидесяти, жуликоватого вида — худой, красноносый, с железной фиксой во рту. Он был в дорогом английском костюме для миллиардеров из скромного темно-синего коверкота в тончайшую полоску. Костюмчик был изрядно помят и весь в мелком пуху, словно его владелец накануне ночевал в курятнике.
«Где я видел этого необычного, этого удивительного, этого оригинального человека?» — задумался Собчак, внимательно рассмотрев сначала нечищеные стоптанные ботинки фиксатого джентльмена, потом его физиономию — в продольно-поперечных морщинах, сизую, мятую, словно старая советская пятирублёвка. И внезапно вспомнил. Это был знаменитый вор в законе Владислав Кирпичёв, воровское «погоняло» (кличка) — Кирпич. Из своих сорока девяти лет Кирпичёв больше тридцати провёл по тюрьмам. Теперь он уважаемый предприниматель, у него большой магазин на Литейном проспекте в двадцати метрах от Главного управления внутренних дел. Он торгует по сказочно низким ценам компьютерами — крадеными и контрабандными. Год назад Кирпич обеспечил Собчаку на выборах мэра, а Ельцину на выборах президента сто процентов голосов избирателей специфического избирательного округа — «Крестов», знаменитой питерской тюрьмы.
«Как же я мог забыть?» — удивился Собчак: ведь он собственноручно подписывал Кирпичу приглашение на сегодняшние похороны. Да… Разве всех упомнишь? Каждый день помощники приводят к мэру десятки незнакомых, нередко странных, но очень нужных нынче людей.
Около гроба уже несколько часов стояла в бессменном карауле вдова князя Леонида Георгиевна Романова, она же Багратиони-Мухранская, она же Кэрби — по предыдущему своему мужу, банкиру. Нести вахту ей было невыносимо тяжело: на скелет давил собственный обширный вес — больше ста десяти килограммов. Леонида Георгиевна со скорбным вниманием вглядывалась в каждого, кто подходил к ней выразить соболезнования. А когда замечала направленную на нее телекамеру, то медленно и выразительно крестилась прямо в объектив. Она с досадой подумала, что будет плохо выглядеть в телевизоре — измученная, в жёлто-коричневых морщинах, под глазами черные мешки. Густые жёсткие волосы под черным платочком нечёсаны, и это видно издалека. «А — пусть! Так даже лучше», — наконец решила вдова. Зато на экранах телевизоров её печаль можно будет разглядеть без труда.
Выслушивая сочувственные слова, Леонида Георгиевна отвечала гостям очень проникновенно, с грустной благодарностью. И те, кто видел её впервые, отмечал, что внешне она никакая не русская эмигрантка и даже не грузинская. В её произношении слышалось что-то родное, и некоторые гости в первые минуты принимали Леониду Георгиевну за обычную советскую еврейку, приехавшую хоронить мужа не из Майами, а из Одессы, — возможно, с Молдаванки или с Пересыпи, где она торгует с уличного лотка ранними помидорами или баклажанами «мантана», маринованными по рецепту местных понтийских греков.
Присмотревшись к телевизионщикам, Леонида Георгиевна с неудовольствием отметила, что среди них отсутствует негодяй Невзоров. Бешеная популярность его программы «600 секунд» обеспечила не одной бездарности стремительный политический успех, забивший впоследствии зелёным долларовым фонтаном: в нынешней Руссиянии понятия политическая карьера и бешеные деньги связаны накрепко. Без Александра Невзорова* местные демократы никогда не смогли бы столь легко, быстро и весело ликвидировать советскую власть в Ленинграде, потом в Москве. Демократы выступили тогда единой мощной партией — «Народным фронтом», в который влилась масса ошарашенной интеллигенции. Его отцы-основатели, среди которых оказалось немало видных функционеров КПСС, объявили, что «Народный фронт» создан, прежде всего, в поддержку горбачёвской перестройки. И не соврали: за какие-то месяцы «Народный фронт» смолол в порошок саму КПСС, а за ней КГБ и, наконец, СССР — так 70 лет называлась Россия. Невзоров* и Собчака подсадил в кресло мэра несколькими мощными толчками, а затем занялся избиением депутатов демократического Ленсовета — политических друзей Собчака, ставших за одну ночь его врагами: они попытались установить хотя бы символический контроль над мэром.
Но вдруг знаменитый репортёр в январе 1991 года переметнулся в стан неприятеля и подружился с «красными», правда, называя себя просто патриотом. И все остальные патриоты, хоть «красные», хоть «белые», «чёрно-жёлто-белые», заявил он, — есть все «наши». Это произошло после того, как он побывал в Прибалтике и увидел, насколько квалифицированно ЦРУ, опираясь на местную пятую колонну, ностальгирующую по Гитлеру, организовало сначала в Вильнюсе, потом в Риге антигосударственный переворот. Самое главное, что раскрыл репортёр, — откуда взялись жертвы «восстания» против Советов: их загодя припасли мятежники, расстреляв невинных людей из автоматов Калашникова и заявив впоследствии, что их убили советские солдаты, которым, кстати, в те дни вообще не выдавали боекомплекта. Так Невзоров* очутился в тесной связке с коммунистами, из которых он ещё совсем недавно каждый вечер в телевизоре делал котлетки.
Своим неожиданным покраснением Невзоров* был полностью обязан Юрию Титовичу Шутову — главному помощнику-референту Собчака. Когда демократы окончательно прекратили финансировать изменника Невзорова*, Шутов через подставных лиц стал давать ему деньги. Теперь Невзоров* каждый вечер каялся и заявлял в телевизоре, что если бы он сразу рассмотрел истинное нутро демократов, то скорее отрубил бы себе руку, нежели хоть единым словом их поддержал. «Это клопы! Я их сразу не разглядел, — так отзывался он о своих бывших соратниках и друзьях. — Давить клопов — теперь моя работа!» Тем не менее, даже самый распоследний клоп из демократического лагеря считал для себя большой удачей попасть в «600 секунд» — пусть оплёванным и облитым помоями. Невзоров* по-прежнему своим старым врагам был нужен больше, чем новым друзьям.
Именно Невзоров* первым в России дал в эфир интервью с Владимиром Кирилловичем, — ещё два года назад. Беседа вышла примитивной, глуповатой, раздражающе прямолинейной. Но после нее Владимир Кириллович стал знаменитостью. В России о нем узнали, его стали привечать и давать ему деньги. А в том интервью Невзоров*, кстати, заявил, что демократической России очень нужен царь. И убеждал князя, что тот должен обязательно баллотироваться в самодержцы. Именно баллотироваться — ключевое слово было произнесено. Князь сразу согласился: да, если русский народ захочет и позовёт его, то Владимир Кириллович не будет долго испытывать терпение своих подданных и мучить их ожиданием. Он готов в любое время вернуться в Зимний дворец. Назвать Кремль конечной точкой своего возвращения Владимир Кириллович побоялся: там ещё сидел Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачёв Михаил Сергеевич, который со своей мнительностью и неутолимой жаждой власти мог неправильно понять князя и решить, что Владимир Кириллович собрался выкинуть главного красного демократа из Кремля. Вот если бы вместе с народом и Горбачёв его позвал — тогда другое дело. Тогда можно соглашаться и на Кремль.
Невзоров* продал интервью крупной французской телекомпании «Антенн-2». Снова вышел большой скандал. Вся заграничная русская аристократия смеялась. Члены Дома Романовых плевались и выпустили специальный манифест, в котором в очередной раз напомнили всему свету, что романовская ветвь кирилловичей никаких юридических и моральных прав на российский престол не имеет. Вспомнили члены Дома Романовых и вероломную измену, на которую пошёл его отец Кирилл Владимирович в Февральскую революцию, о чем раньше помалкивали. Оказывается, в мартовские дни семнадцатого Великий Князь бегал в Петрограде с митинга на митинг, удивляя всех красным бантом на отвороте своей адмиральской шинели, и восторженно кричал вместе с толпой: «Долой самодержавие!» Он привёл к Таврическому дворцу, где Государственная Дума как раз была занята формированием Временного правительства, на службу революции батальон Гвардейского флотского экипажа, которым тогда командовал. Своей выходкой Кирилл потряс даже самых ярых республиканцев. Всегда невозмутимый председатель Государственной Думы Михаил Родзянко несказанно изумился и заявил Кириллу: «Князь, князь, — вас сюда не звали: ваше место не здесь!» Через несколько дней, по постановлению Временного правительства, боевой генерал Корнилов Лавр Георгиевич, кумир патриотической молодёжи, исполнил позорную жандармскую акцию, на которую не решился бы ни один нормальный русский офицер. Прославленный генерал лично арестовал в Царском Селе императрицу, уже бывшую, Александру Фёдоровну вместе с детьми, которые болели корью и лежали в горячке. Впоследствии генерал прозреет и даже попытается в августе сковырнуть масонское Временное правительство. Но он опоздает.
На другой день после исторического ареста Императрицы Кирилл прислал в Царское своих гвардейцев. Точнее, он выполнил решение матросского комитета, которые решили, что арестованная мать непременно сбежит вместе с тяжело больными детьми. Однако хотел того комитет или нет, но его матросы спасли Александру Феодоровну и детей от верной гибели: собравшаяся разъярённая толпа была готова разгромить дворец и растерзать его обитателей.
Александра была тронута до слез — она очень хорошо понимала, что могут ждать члены династии от демократической революции. Книги по новейшей истории она читала, а судьбой короля Людовика Шестнадцатого и его супруги Марии-Антуанетты, обезглавленных революционными французскими демократами, в последнее время интересовалась особенно. Небольшой гравюрный портрет Марии-Антуанетты даже висел на стене в собственной канцелярии последней русской императрицы. Почему? Предчувствие?
Отряд прибыл ночью. При свете костров бывшая государыня обошла строй матросов, перепоясанных пулемётными лентами, вооружённых винтовками Мосина с примкнутыми четырёхгранными штыками, на которые падали отблески дворцовых огней. Она пожала каждому матросу руку: «Я всегда знала, была уверена, что вы нас защитите, что вы нас не бросите! Родные, дорогие! Дети мои! Я ведь навсегда остаюсь вашей матерью, как и всему нашему русскому народу!» Приказала раздуть все дворцовые самовары, чтобы гвардейцы отогревались чаем. «Какие прекрасные люди, какие настоящие русские люди! — без конца повторяла императрица. — Я всегда любила русских людей больше, чем своих мерзких бывших родственников и соотечественников!»
Утром Александра Федоровна первым делом выглянула в окно. Во дворе не было ни одного прекрасного русского человека. Только дымились головешки костров. Двоюродный брат отрёкшегося императора Великий князь Кирилл Владимирович отчего-то раздумал и приказал отряду вернуться в Петроград. Этого эпизода Романовы тоже не простили кирилловичам. Так что и по этой причине никто из Дома Романовых на похороны не приехал. Был, правда, дальний английский родственник принц Майкл Кентский, но — инкогнито. Однако его все узнали.

По другую сторону гроба стояла дочь покойного Мария Владимировна, которую князь незадолго до смерти назначил быть Великой Княгиней и Местоблюстительницей Престола Российской Империи. С таким же успехом он мог назначить её королевой Австралии или императрицей Африки. Ни одно государство в мире не могло признать её даже в роли Местоблюстительницы хотя бы по одной причине: давно уже не было ни Престола, ни Империи, даже Советской — пусть без Польши и Финляндии. В опереточной роли Местоблюстительницу престола Марию Владимировну принимали только в демократической антимонархической России.
Мария Владимировна была в особенном траурном платье и переливалась черно-синим, как скворец. Ей было уже за сорок. В черных глазках Марии Владимировны светился живой ум. Сразу было видно, что она редко теряет присутствие духа, лучики в уголках её глаз свидетельствовали о чувстве юмора. И вообще, Мария Владимировна была весьма миловидной и даже привлекательной толстушкой. Таких женщин в России называют «булочками». Она недавно развелась со своим мужем Францем-Вильгельмом Гогенцоллерном, принцем Германского императорского дома — тоже существующего лишь в воображении его членов. Развод ее в публике, приглашённой на погребение, уже обсудили, тема вызвала острый интерес к ней части молодых людей и мужчин постарше. Подходя к гробу и шепча какие-то сочувственные слова, они с усердием прикладывались к пухлой, пахнущей дорогим кремом ручке Марии Владимировны, и Местоблюстительница награждала каждого ослепительной улыбкой. А одного из целующих даже медленно погладила по голове, после чего он попытался приложиться к ручке ещё раз, однако, Мария Владимировна мягко, но решительно свою ручку отняла. Стоя у гроба, она непрерывно улыбалась, отчего к началу отпевания в ее лице стало проступать что-то дебильное.

Около нее стоял сын Георгий, смуглый жирный подросток лет тринадцати. С возрастом он, безусловно, станет толстяком, как его бабушка и мать. Демократическая российская пресса уже называла его мальчика «Наследником Российского Престола», на что остальные Романовы отвечали в своей прессе насмешками, иногда руганью. «Мальчик Георгий Михайлович, — утверждали ругатели, — никакого отношения к Престолу Российской Империи не имеет. Во-первых, он рождён в мезальянсе, во-вторых, по Русскому Закону о Престолонаследии, он не может иметь никаких прав, поскольку его настоящая фамилия Гогенцоллерн, и потому мальчик может претендовать только на германский престол, столь же реальный, как и российский». Мария Владимировна в пику ругателям и насмешникам распространила через прессу заявление, что она, несмотря на все интриги завистников и врагов, будет готовить сына в императоры, тем более что Ельциным и Собчаком дело якобы уже решено: монархия будет введена в России сразу после успешной и окончательной демократизации. А пока Мария Владимировна определила «Великого Князя Георгия Михайловича» в петербургское Нахимовское училище. Он уже сейчас должен готовиться к профессии царя. Самые достойные русские цари традиционно имели хорошую военную подготовку.
Документов, подтверждающих столь необычное место работы и такую должность, нигде не нашлось. На что Дальский отвечал: он был настолько засекречен, что о его существовании не знали даже в ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ — от Дзержинского до Крючкова. Только Андропов что-то подозревал, но, разумеется, хранил тайну и не открыл ее даже Брежневу. Перед телекамерами «подлинный, а не фальшивый» внук царя появлялся в каком-то странном мундире — гибриде из военной формы советского адмирала и царского генерала.
Вскоре Дальский решил, что пора короноваться, что и сделал, причём, в Костроме, где почти четыре века назад принял корону зачинатель династии Михаил Фёдорович. Римский Папа Дальскому не понадобился. Корону какого-то мутно-латунного цвета, похожую на ту, которую в сказках Андерсена носит крысиный король, водрузил ему на голову никому не известный священник — толстый и вида весьма густопсового.
Теперь генерал-адмирал обрёл уникальный статус. Незнакомым он представлялся просто: «Романов-Дальский, русский царь» и вручал визитку, в которой, действительно, профессия владельца обозначалась коротко, одним словом: «Царь». Но на том дело и стало. Никто Романову-Дальскому престол не предлагал так же, как никто не собирался принимать Георгия Михайловича в нахимовское — начальник училища публично заявил, что такого толстяка он не возьмёт: пусть сначала сбросит вес, иначе однокашники задразнят бедного Жорика до смерти. Видно было, что вес мальчика с тех пор только увеличился, но вряд ли он сейчас думал об училище или о таком абстрактном понятии, как Русский Престол. Его лицо было залито настоящими слезами, он страдал искренне и глубоко: видно, очень любил дедушку.
Зазвенело кадило. В тесном помещении распространился сладкий аромат ладана, дьякон загудел колодезным басом.
Присутствующие дружно закрестились. Собчак стал на колени и аккуратно, несильно, стукнул лбом о мраморный пол. Его примеру нехотя последовали два чиновника мэрии.
Только два человека не крестились, не вздыхали, не били лбы о мраморные плиты, а вели неторопливую тихую беседу. Один — известный парижский издатель Никита Глебович Струве, владелец русского эмигрантского издательства «Симка-пресс», которое последние четверть века осуществляло наиболее мощные и успешные операции в психологической войне против Советского Союза. Его собеседником оказался Юрий Титович Шутов — живая легенда города Ленинграда, а потом и Питера.
При советской власти Шутов закончил Кораблестроительный институт (почему-то именно из этого вуза в последние годы советской власти выходили в большом количестве видные партийные и советские функционеры). Работал Шутов в городском статистическом управлении, защитил кандидатскую диссертацию, вступил в КПСС. Руководящие товарищи заметили молодого энергичного коммуниста и призвали на партийную работу в горком КПСС. Здесь он проявил недюжинные организаторские способности, чем вызвал тайную и мучительную зависть партколлег. И тёплым летним вечером одна из мелких партийных крысок, с которой Шутов сидел в одном кабинете, предложила отметить шутовский день рождения. Дело было рискованное. Тогдашний первый секретарь обкома Григорий Романов, хоть и сам иногда закладывал за воротник, но в Смольном объявил сухой закон.
«Посидим минут десять и разбежимся», — пообещала крыска и конспиративно пронесла в Смольный бутылку коньяка и дешёвый торт «Шоколадный принц». Так и сделали: крыска выпила рюмку (Шутов только понюхал, он был абсолютным трезвенником) и разбежались. На следующее утро, когда Шутов переступил порог своего кабинета, в нос ему шибанул острый запах гари. Оказалось, ночью здесь состоялся пожар — небольшой, но пожарную команду вызвать все-таки пришлось. Обгорел только стол Шутова. Причиной пожара, как установило следствие, была непогашенная сигарета, брошенная в корзину для бумаг. Шутову окурок принадлежать не мог: он за всю жизнь не выкурил ни одной сигареты. Но в тот же день Шутова с треском вышибли из горкома, а через месяц водворили в «Кресты». Дело против него о порче государственного имущества городская прокуратура сфабриковала в рекордно короткие сроки, судебный процесс длился пять минут, и был Шутов приговорён сразу к четырем годам заключения.
Для него, как и для любого другого партработника, это означало абсолютный и необратимый жизненный крах.
Отправили его на «химию», то есть на принудительные работы в колонию под Кингисеппом. На выходные разрешалось ездить домой. Через два года Шутова за примерное поведение выпустили, а ещё через два он таинственным образом исчез не только из Ленинграда, но и из СССР. Говорили, что кто-то видел его в Федеративной Республике Германии, а потом в Южной Африке. Как его, судимого, с волчьим билетом, выпустили за границу да ещё в капиталистическую страну, — до сих пор для многих остаётся полной загадкой.
Шутов появился в Ленинграде так же неожиданно, как и скрылся. Он поспел к смене вех: в конце 80-х он оказался очень нужным кадром, поскольку непосредственно попадал в категорию мучеников большевистского режима. Собчак с огромной радостью взял страдальца к себе персональным помощником. Но Шутов понадобился первому и последнему, кстати, мэру Ленинграда вовсе не из-за своей романтической биографии. Собчак оказался абсолютным невеждой в управлении городом. Впрочем, он и не собирался осваивать это трудное искусство. Для этого у него был Шутов с его ценным опытом партаппаратчика.
Струве и Шутов стояли с краю толпы — в нескольких метрах от окна усыпальницы. Русский парижанин — холеный, в габардиновом костюме цвета кофе с молоком (Кристиан Диор, 8 400 новых франков); безукоризненная бородка a la Maupassagne аккуратно расчёсана, лысина надушена одеколоном «Rastignaque» (120 франков). Свечку Струве держал, как полагается, в левой руке, крестился редко, но очень проникновенно. У Шутова видок был такой, словно его всего лишь час назад выпустили из «Крестов» после многолетней отсидки. Круглая голова с выпуклым крутым лбом упрямца острижена наголо. Взгляд пронзительно-оценивающий и нагловатый одновременно. Костюмчик он купил, очевидно, ещё студентом и выглядел так, словно его штаны и пиджак долго и с удовольствием жевала корова. А вот ботиночки Шутов носил итальянские, из настоящей кожи, штучные ($300 за пару). Дорогой клубный галстук душил его мощную шею, и Шутов время от времени отпускал узел, а потом машинально затягивал его.
— Что же вы не креститесь, Юрий Титович? — вкрадчиво спросил Струве. — Или коммунистическое прошлое не позволяет?
— Не позволяет, — буркнул Шутов. — Хотя в детстве был крещён, как, очевидно, и вы. Но всегда полагал, что вера — штука интимная, не для балагана, не для рекламы и не для телевизора. Пусть даже рядом с покойником.
— А куда деваться от телевизора, особенно когда хоронят знаменитость… — заметил Струве.
— … И когда хоронящие тоже хотят стать немножко знаменитостями. Или пытаются с помощью телеящика убедить народ в том, во что он никогда при нормальных условиях не поверит, — согласился Шутов.
— Вот как? Не одобряете, что Ельцин крестится? Или что ваш босс превратился в православного? — усмехнулся Струве. — Говорят, на Пасху он Всенощную отстоял, земные поклоны отбивал так усердно — паркет в Спасо-Преображенском соборе звенел.
— Его дело. Мне все равно, — отрезал Шутов.
Они помолчали.
— Скажите, Юрий Титович, а кто эта? — Струве указал бородкой в сторону узкого арочного окна.
Там спиной к свету стояла, опираясь на палку, невысокая худая старуха. Она с самого начала заняла это место, откуда можно было наблюдать за всеми, оставаясь в тени.
— Вы должны ее знать! — удивился Шутов. — Это же графиня Новосильцева… Лариса Васильевна. Живёт… — Шутов на мгновение задумался. — Живёт в Париже на набережной Кэ д'Орфевр, номер дома не помню… в собственной квартире, занимает половину этажа, есть консьержка… телефон… центральное отопление, ванна… Окна на север.
— Господи! Надо же — не узнал… — пожал плечами Струве. — В самом деле — графинька… Вы что — хорошо с ней знакомы? Бывали у нее?
— Вовсе нет.
— Откуда же такие подробности?
— Сам не знаю, — Шутов пожал плечами. — Где-то прочитал или кто-то рассказывал. Само, наверное, запомнилось.
— Так вы знаете, что Новосильцева — дочь публичной ммм… дамы и большевистского комиссара?
— Это вы так про ее мать? — удивлённо повернулся к нему Шутов. — У нас Евдокию Федоровну Новосильцеву — так… графиню… в девичестве фон Ливен… — да, именно ее осведомлённые люди считают весьма интересной личностью. Точнее даже — героической личностью. Достойная женщина, русская патриотка. Лучшая разведчица Генерального штаба царской армии.
— А эти сведения у вас откуда?
— Тоже где-то читал.
— И опять само запомнилось? — усмехнулся Струве.
— Конечно, само! — заверил Шутов. — Или кто-то рассказывал… Да уж не вы ли?! Да, вы и рассказывали! — с простодушной радостью воскликнул он.
— Господь с вами! У меня, конечно, уже есть определённый склероз, но не до такой же степени. Да и видимся мы с вами всего второй раз в жизни. Что-либо забыть о нашей встрече или перепутать трудно, — укоризненно покачал головой Струве. — Значит, по-вашему, мамаша — женщина достойная… А вот в наших кругах ходит и такое мнение: изменница, нарушила присягу, данную Государю, спуталась с одним из палачей его семьи.
В ответ Шутов хохотнул так громко, что на него неодобрительно оглянулись.
— А ваши предки, в частности, дедушка ваш, достойный Пётр Бернгардович, знаменитый профессор земли русской, — он разве не изменил Государю? — шепнул он своему собеседнику в надушенное ухо. — Когда приветствовал и прославлял Февральскую революцию? Или ещё раньше — когда в числе первых активно распространял в России марксизм? Между прочим, активнее, чем Ленин: тот в те времена ещё только пиво пил в Женеве и в Цюрихе. А Пётр Бернгардович Струве в России и свои книжки писал о пользе марксизма, статьи против самодержавия, студентов смущал, интеллигенцию… Сочинил манифест русской компартии. Царь даже выслал его за границу.
— Тогда были другие обстоятельства, — раздражённо ответил Струве.
— Обстоятельства всегда, во все времена — одни и те же: всю жизнь мы обязаны выбирать, постоянно взвешивать «за» или «против». И всегда речь идёт об одном и том же, — жёстко заявил Шутов.
— То есть? Что вы имеете в виду?
— Или вы за народ — за его всегда бедствующее в России и всегда обманутое большинство. Или за его меньшинство — всегда жиреющее на крови большинства, всегда отвратительное и всегда преступное, — с неожиданной злобой тихо произнес пострадавший от Советской власти помощник ленинградского мэра. — Ваши предки сделали свой выбор в октябре семнадцатого. Вы — тоже, хотя и гораздо позже.
— Да что это с вами? — удивился Струве. — Чем не угодил? Тем, что мой родитель, а потом и я всю жизнь посвятили борьбе за освобождение русского народа, Святой Руси от коммуно-жидовской диктатуры? А вы — уж не обижайтесь, милый друг, Юрий Титович, — вы этой диктатуре прислуживали. Ну, и как она вас отблагодарила? Вам понравилось в «Крестах»? Или вы были в ГУЛАГе?
— Никита Глебович, я ведь очень вас уважаю, — сказал в ответ бывший зэк. — Я очень ценю и уважаю ваши старания, ваши благородные попытки спасти от кровожадных большевиков русский народ. Заодно и меня, конечно, как частицу народа, — хочу верить — тоже хотели спасти от диктатуры, которой вы дали только что столь ёмкое определение. Я прочёл почти все книги, которые выпустил ваш отец, а теперь издаёте вы. Я читал ваши статьи и эссе о России. И не обижайтесь, пожалуйста, но я скажу вам правду. Полагаю, что в школе или там в лицее у вас по истории была двойка, ну, может, тройка с минусом. Вы не знаете России. Вы не знаете и нас, ваших бывших соотечественников. Проблему той самой, как вы изволили выразиться, — « диктатуры» — радикально пытался решить ещё Сталин: частью в тридцать седьмом году, частью в сорок девятом. Правда, поработал плохо, в чем мы с вами и убеждаемся теперь каждый день. Но вот сегодня совершенно другая диктатура, только под иным названием — назовём ее «демократура», захватила в России власть. Правда, под иным флагом — под полосатым, а не под красным. Не в флаге, конечно, дело. Они могли выступать и под черным, с черепом и костями, — никакого значения не имеет. Важно другое: они сегодня опять запустили те же механизмы разрушения страны, что и в феврале семнадцатого — с поправкой на особенности исторического момента. А вы почему-то оказались на их стороне.
— А вы на чьей? На чьей стороне референт Собчака? — тихо возмутился Струве.
— На своей собственной. Я сейчас просто служу в государственном аппарате. Делаю конкретную работу. И вроде бы справляюсь, раз мне платят хорошую зарплату. За работу платят, а не за отсутствие или наличие каких-либо политических убеждений.
И Шутов демонстративно повернулся к собеседнику спиной.
«Ну какой же редкостный хам! — возмутился Струве. — Причём хам — красный, враг. И даже не скрывает этого. Как это Собчак его держит около себя?» Он почувствовал, как в нем нарастает желчная ненависть к красному хаму — к его наглым манерам, сиплому голосу, к его резонёрскому безапелляционному тону, к его измятому костюму. Но что поделаешь — самое доверенное лицо мэра. И, пожалуй, единственный исполкоме реальный человек, который хоть что-то понимает в управлении городом и способен принимать решения.
Струве знал, о чем думал. После победы демократов в России он побывал в Мариинском дворце, где размещается Ленсовет. С ужасом увидел шатающихся по коридорам или открыто распивающих коньяк в когда-то стерильных начальственных кабинетах толпу странных людей в замызганных джинсах, бородатых, с грязными волосами до плеч, от некоторых издалека сладковато пахло марихуаной. Он увидел толпу невежд, которые распоряжались теперь промышленностью, в том числе и военной, гигантского города, его системами жизнеобеспечения, коммунальным хозяйством, транспортом, продовольственным снабжением. Правда, Струве немного успокоился, познакомившись с новым, самым большим, просто гигантским управлением исполкома, где распоряжались городским имуществом. Здесь своё дело знали: делёжка государственного имущества шла ежедневно и в большом темпе.
— А правда, что вы пишете разоблачительную книгу о своём боссе? — вдруг спросил Струве.
Шутов застыл на секунду.
— Врут, собаки! — ответил он как можно пренебрежительнее.
Священник и дьякон запели молитву на древний византийский лад, который больше тысячи лет сохраняется Русской Православной Церковью, снова зазвенело кадило. Служба кончилась.
Настал миг гражданского прощания. К гробу подошел мэр. В усыпальнице разлилась тишина. Все знали профессора Собчака как настоящего златоуста и с интересом приготовились его слушать. Но речь его оказалась на удивление короткой.
— Вот ушёл ещё один великий князь, ещё одно воплощение ума, интеллекта, разума и мудрости России, — сказал Собчак, не принимая во внимание тот факт, что покойный никогда в России не жил и вспоминал о том, что он русский, лишь когда называл свои титулы. — Какая потеря для народа! — и профессор процитировал Лермонтова: — «И…и если посмотришь… с холодным вниманьем вокруг»…
Собчак замолчал, потому что неожиданно обнаружил, что больше ничего из этих стихов не может вспомнить. Такого с ним ещё не бывало. Пауза длилась минуты три. После чего мэр потряс слушателей неожиданной концовкой своего по-спартански выразительного выступления:
— «Если посмотришь вокруг»… то увидишь, что кругом одни черносотенцы, коммунисты и евреи. Угнетённые евреи, конечно! — поспешно добавил он.
Наступило недоуменное молчание. Публика застыла, с трудом усваивая сказанное. Только Шутов нагло хмыкнул в тишине. Он отметил, что и старуха у окна саркастически усмехнулась. Жена мэра поспешила снять всеобщее состояние неловкости и недоумения и дала сигнал к прощанию. Первой подойдя к гробу «Аль Капоне», она поцеловала покойника в надушенный жёлто-синеватый лоб. К гробу образовалась беспокойная очередь. Струве и Шутов не двинулись с места.
— Вы мне должны — просто обязаны! — больше рассказать о графиньке Новосильцевой! — шутливо потребовал Струве. — Что она здесь делает? Вы же все знаете — и что здесь происходит, и что в мире!
— Милый Никита Глебович, откуда же мне все знать! — воскликнул Шутов. В усыпальнице возник гомон, и они тоже заговорили нормальным тоном. — Не знаю я, например, почему вы называете Новосильцеву «графинькой».
— Так всегда называли ее мать. Но точно так же называли в свете и ее бабушку, и прабабушку. Прабабка, говорят, была любовницей Государя Николая Павловича, при этом будучи старше него в два раза. Но выглядела в два раза моложе… Такая у них порода — маленькие женщины, на вид хрупкие, но силой, нравственной и физической, волей не уступят иному мужчину.
— Мужчине, — вежливо поправил его Шутов.
— Да, конечно, мужчине — спасибо, — чуть поклонился Струве. — Знаете, — доверительно сказал он, — дома, то есть там, в Париже, все вроде знаешь, ошибок в языке не делаешь. А здесь, у нас в России, иногда смущаюсь. Будто сдаю экзамен по иностранному языку.
Но Шутов не принял протянутую руку доверия, мало того — плюнул в нее.
— Так ведь он для вас и есть иностранный, — безжалостно отметил он.
Струве замолчал, раздумывая, обидеться или не обратить внимания на очередную хамскую реплику. Обидеться, значит, проявить слабость. Промолчать — значит, дать Шутову понять, что презирает его. Струве выбрал презрение, которое продолжалось всего несколько секунд, потому что Шутов снова заговорил:
— Честно говоря, я не знал, что ее прабабка Дарья Христофоровна фон Ливен была любовницей Николая Палкина. А вот то, что она была родной сестрой графа Бенкендорфа — того самого, начальника Третьего отделения Тайной канцелярии Его Величества, шефа жандармов, я обнаружил только недавно. А чем ещё интересны женщины фон Ливенов-Бенкендорфов?
— У них физиология особая. Вероятно, гипофиз вырабатывает повышенное количество гормона роста, — охотно продолжил Струве как ни в чем не бывало, словно и не обижался только что на красного хама. — В двадцатипятилетнем возрасте они консервируются и такими выглядят до сорока. Потом в сорок лет снова консервируются — и так до шестидесяти… А там уже до девяноста доживают и никто не догадывается, сколько им на самом деле.
Шутов молча разглядывал старуху.
— У нее, кажется, есть ещё одно наследственное приобретение, — произнес он. — Та самая Дарья Христофоровна фон Ливен-Бенкендорф была профессиональной шпионкой и работала на своего брата в Лондоне, добывала уникальную политическую информацию. Умела при необходимости и интриговать в среде членов британского парламента. Агентесса влияния. Высшего класса, причем.
— Нет, я все-таки уверен — вы знаете всё! И, конечно, то, что она здесь делает! — заявил Струве. — И вы также знаете, что я знаю, что вы знаете всё! И не вздумайте отпираться! — шутливо погрозил он Шутову пальцем.
— Ни в жисть, ваше высокоблагородие! — с дурашливым испугом заверил Шутов. — Но может, продолжим уже за банкетным, точнее, за поминальным столом?
— Но для этого вы должны сесть рядом со мной!
— Найдём возможность, — пообещал Шутов. — Банкет — пардон! — поминки организованы, по требованию мэра, очень демократически: каждый будет устраиваться, как хочет. Можно сидеть, где угодно. Можно стоять. Можно лежать по-древнеримски.
Струве почувствовал, что его неприязнь к Шутову снова нарастает каждую секунду и скоро может стать невыносимой. Придётся терпеть. Нельзя из-за ерунды портить отношения с одним из самых влиятельных людей в этом городе. Чутье старого журналистского тигра ему подсказывало: Новосильцева здесь неспроста. И Шутов, безусловно, знает о ней что-то весьма интересное и важное.
Шутов действительно кое-что знал о Новосильцевой. Например, ему было прекрасно известно, что Новосильцева Лариса Васильевна жила в Париже после смерти матери замкнуто, в различных эмигрантских союзах, движениях и фондах не участвовала, в Церковь ходила всего три раза в год — на Рождество, Пасху и Троицу, у исповеди не бывала вовсе. Когда в Париж вошли немцы, она осталась, и ее часто видели в компании высоких эсэсовских чинов. Тогда ей было немногим больше двадцати лет. После бегства немцев Новосильцева должна была неминуемо подвергнуться позорной гражданской казни и в лучшем случае — стрижке налысо. Но вдруг вмешался сам генерал де Голль. Неожиданно к дому Новосильцевой на набережной д'Орфевр подъехал почётный кортеж с мотоциклетной охраной. Графинька уселась в чёрный ситроен с внутренней обивкой красного бархата, сиденьями красной кожи. Дверь автомобиля услужливо придерживал и захлопнул сам министр внутренних дел, который увёз ее в Версаль. Там де Голль наградил дочь русских эмигрантов, путавшуюся с бошами, орденом Почётного легиона, а за что — официально не сообщалось. Но слухи шли. Якобы молодая графиня Новосильцева была личным агентом будущего президента Франции, который почти всю войну просидел в Лондоне, руководя оттуда по радио Сопротивлением, в то время как воевавших участников Резистанса во Франции немцы расстреливали пачками. Но их расстреляли бы ещё больше, если бы не эта маленькая русская парижанка. Говорили и даже в каких-то газетах писали также, что у Новосильцевой, кроме де Голля, был ещё один «любовник» по линии шпионажа — сам Лаврентий Берия, начальник советской тайной полиции.
В России Новосильцева появилась неожиданно — когда всплыла тема поиска и обретения останков семьи и приближенных последнего российского императора Николая II. Останки якобы обнаружил в болоте под Свердловском помощник тогдашнего советского министра внутренних дел Гелий Рябов, который по службе писал речи и книги за своего шефа Николая Щёлокова. Как только о находке под Свердловском, скоро снова переименованном в Екатеринбург, появились первые публикации, туда, на Урал, куда почти сто лет не было ходу ни одному иностранцу, вдруг прилетел государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Джеймс Бейкер собственной персоной. Ссылаясь на устное разрешение самого президента Ельцина, высокопоставленный американский чиновник потребовал от местных властей предоставить ему всю информацию о скелетах, в то числе и ту, которая, как утверждал американец, хранится в сейфах местного управления КГБ. Какие-то почерневшие кости американцу показали, правда, издалека. Но сейфы свои открывать не стали. Начальник свердловского УКГБ заявил, что распоряжение Ельцина открыть сейфы до них ещё не дошло. Вот как только дойдёт — откроют. Причём, немедленно! Депеши от Ельцина американец Бейкер не дождался и через день улетел — на персональном ТУ-144, который предоставил главе Госдепа США русский президент.
Через два дня после отлёта Бейкера в Свердловске появилась Новосильцева. От самого Питера ее сопровождали Владимир Онтонов, историк, лидер националистического движения «Русский патриот», и некий москвич Иван Иванович Иванов — тёмная личность, о которой Шутову подробностей узнать не удалось. Но и того, что узнал, ему было достаточно. В Екатеринбурге Иванов несколько раз ходил в управление КГБ — свободно, как к себе домой, и четыре дня сидел в тамошнем архиве. После чего Новосильцева и ее спутник собрались и поехали в Пермь. Там она провела пять дней в гостинице «Россия», выбираясь в сопровождении Онтонова только вечером на пятнадцатиминутную прогулку перед сном. Иван же Иванович снова засел в компетентных органах, куда приходил к восьми утра и уходил после часа ночи. И вот сегодня Шутов узнает, какие документы изучал Иван Иванович и что интересного в них он нашёл, а также что собирается Шутову сообщить Новосильцева.
Наступил кульминационный момент. Гроб закрыли крышкой, завинтили серебряными болтами, но заколачивать не стали. Всегда можно развинтить. «Зачем это? — почему-то подумал Шутов. — Уж не обманывает ли нас покойник? Через пару часов восстанет, явится на собственные поминки и выпьет рюмку водки за упокой своей души?» Представив себе эту картинку, он ухмыльнулся и стал потихоньку пробираться ближе к выходу.
Снова зазвучала музыка, но теперь из переносного магнитофона «sanye», который кто-то поставил рядом с могилой князя. Под куполом Великокняжеской усыпальницы разлился «Реквием» Моцарта в исполнении хора Свешникова. Могильщики с трудом протиснули гроб в проем в каменном полу и теперь закладывали белоснежной мраморной плитой, на которой было выбито:
Его Императорское Высочество
Благоверный Великий Князь
Владимир Кириллович
Родился в Борго 1917 года Августа 30-го дня
Скончался в Майами 1992 года Апреля 21-го дня
Стукнул камень. Плита точно стала на место. Наступила тишина. Шутов подавил в себе хулиганское желание зааплодировать: спектакль закончился вовремя и без накладок.
Леонида Георгиевна, чуть живая от усталости, что-то шепнула на ухо склонившемуся к ней Собчаку.
— Да! — громко ответил он ей. — Сейчас! — и обратился ко всем: — Товарищи! Нет, пардон, — господа! Дамы и господа! — уточнил он. Ему кто-то подал мегафон. Искажённый голос мэра пронёсся визгливыми волнами под сводами усыпальницы: — Вдова и родственники нашего дорогого покойного друга просят всех присутствующих, а также тех, кто не мог попасть в это помещение, но имеет пригласительные билеты, пожаловать на поминальный ужин в конференц-зал музея этнографии. Там будут столы. Повторяю: вход строго по пригласительным билетам или специальным аккредитационным пулам. После третьего звонка в банкетный зал никого пускать не будут. Это я вам говорю как мэр! У меня будет там порядок.
Толпа зашумела и оживлённо потекла к выходу.
— М-да, — сказал Струве, догнавший Шутова, — похоронили-то беднягу князя через сорок дней после кончины. Где же сейчас его душа? — и шепнул Шутову на ухо. — И никакое он не императорское высочество, никакой не великий князь. Самозванец он…
Шутов равнодушно отмахнулся.
Скромный, на пятьсот персон, стол был накрыт в большом, гулком и безумно холодном зале музея, где стены и колонны облицованы мрамором. Из-за этого казалось, что гости собрались для поминок в одном гигантском склепе, правда, с окнами. Старые и очень старые заграничные русские ещё помнили рассказы своих отцов и дедов о хлебосольной дореволюционной Москве, о лукулловых пиршествах в «Яре», «Балчуге» или в «Славянском базаре», где в винных картах, подаваемых гостю, числились 100 марок коллекционных вин ежедневно. Но даже они были потрясены обилием и разнообразием поминального стола. А их советские, а нынче антисоветские соотечественники такого не видели даже в кино. Потом очевидец рассказывал, что видный демократ Пинхус Филипповский, крепкий сорокалетний толстяк с купеческой бородой, едва не упал в обморок, не сумев душой и разумом спокойно охватить поминальное великолепие. В демократе Пинхусе, очевидно, ещё глубоко сидел скромный советский человек. Впрочем, к хорошему привыкаешь быстро. Всего через три с лишним года после поминок слабонервный демократ станет владельцем суперсекретного научно-производственного объединения «Гелиос», работавшего на советский космос и обгонявшего по качеству разработок в области оптики своих коллег из NASA лет на пятнадцать. Новый русский капиталист купил уникальное предприятие за чемодан жёлтых пустых бумажек — ваучеров. Правительство Ельцина раздало их всем руссиянам по одной штуке — бумажки олицетворяли ту долю общественной собственности, которую клептократическое государство отвалило каждому отдельно: берите теперь на ваучер все, что нравится, и ни в чем себе не отказывайте. Ваучеры изобрёл некто Чубайс — институтский приятель Пинхуса Моисеевича, оттого народ прозвал бумажки «чубайсами». Он же официально пообещал всем гражданам за каждый ваучер по два автомобиля «Волга». Но скоро завод, выпускающий замечательные советские автомобили обанкротился, и граждане остались безлошадными. Да никто и не собирался их чем-то наделять. Наступал волчий капитализм, хозяевами большинства населения стали банкиры и бандиты.
На одну бумажку от госсобственности ничего не отрежешь. Скупить побольше подавляющая часть населения была не в состоянии, поскольку при Советах воровала фантастически мало. Посему владельцы продавали свои «чубайсы» скупщикам по дешёвке. Цена бумажки сложилась твёрдая: один «чубайс» — одна бутылка водки. А реальные и большие деньги были только у криминала и у подпольных предпринимателей.
Немного потратившись на водку, новые русские, вернее, как было сказано, в основном, нерусские — ничтожная кучка в пятьсот-шестьсот человек на всю страну расхватали фактически даром самые лучшие, самые наукоёмкие заводы и фабрики, самые богатые нефтяные скважины, золотые прииски и много ещё хорошего из того, что более семидесяти лет считалось неотъемлемой народной собственностью. И большую часть заводов и фабрик, научно-производственных объединений, исследовательских институтов просто разорили, а ценнейшее оборудование продали в качестве металлолома. Частная собственность сама по себе оказалась не способна на экономические чудеса. Россия стремительно деградировала, еще пожирала раковая опухоль кучки супербогачей и ростовщиков из коммерческих банков.
У Пинхуса Моисеевича, впрочем, тоже не все сразу пошло гладко. Ему сначала удалось скупить у граждан, свихнувшихся от реформ, лишь половину необходимого количества ваучеров. Остальные у него прямо из-под носа выхватывали кавказские и татарские конкуренты. Была опасность, что владельцем «Гелиоса» станет грузинский толстяк-аспирант Каха Бендукидзе, который только что за два мешка «чубайсов» стал владельцем Уралмаша — самого мощного в Восточном полушарии Земли военного машиностроительного предприятия, которым когда-то руководил Николай Рыжков — позже глава Совмина при Горбачёве. И тогда приятель Пинхуса из комитета по госимуществу доверительно посоветовал не гоняться за ваучерами, а просто заказать за наличные недостающую половину на фабрике Гознака. Так Пинхус стал крупным капиталистом, ничего не соображая ни в капитале, ни в производстве.
После приватизации «Гелиос» продолжал по инерции работать на космос, но теперь не на русский, а на американский, точнее на NASA — государственное управление по аэронавтике и космическим исследованиям. Потому что у него появились иностранные совладельцы, как, впрочем, у всей когда-то отечественной оборонки. И уже за первый год демократ Филипповский разбогател настолько, что мог, по примеру древнеримского императора Домициана, выписывать себе на обед из стран Северной Африки удивительную рыбу султанку. Смысл в том, чтоб доставить султанку к столу живой. Умирая, она покрывалась узорами необычайно богатой расцветки, что доставляло пресыщенному едоку дополнительные гастрономические удовольствия.
Выходя из собора вместе со Струве, Титыч мельком взглянул на Новосильцеву. Старуха по-прежнему неподвижно, как статуя, каменела у окна и равнодушно глядела на проходящих, словно сквозь пыльное стекло. Однако Шутову показалось, что на него самого Новосильцева глянула внимательно и с интересом. Он готов был поклясться, что старуха ему даже подмигнула.
Она уходила из собора последней. Опираясь на изящную палку чёрного дерева с бронзовой инкрустацией Новосильцева медленно двигалась по восточной аллее Петропавловской крепости. Графиньку бережно поддерживал под локоть неразлучный Онтонов. Они прошли к Петровским воротам. Там у мостика их ждал старенький москвич-412.
— Похоронили? — спросил их водитель. — Что-то долго. Я уж решил, что они завтра продолжат.
— Иван Иваныч, дорогой, простите, что задержалась — не моя вина, — сказала Новосильцева, осторожно садясь в машину на заднее сиденье. — Похоронили. Вы, родной мой, наверное, проголодались?
Она говорила по-русски легко и чисто, без характерного франко-немецкого акцента, который свойствен почти всей русской аристократии и передается от поколения к поколению.
— Нет, Лариса Васильевна! — улыбнулся Иван Иванович, полный невзрачный человечек неопределённого возраста. — Я, как учит теперь телевизор, съел сникерс и — порядок!
— Никогда не ешьте сникерсов! — строго приказала старуха. — Никогда не ешьте в России иностранных продуктов. Запад все свои помойные ведра опорожняет на здешние прилавки.
— Так своих же, отечественных, сникерсов нет, — с печалью вздохнул Иван Иванович.
— А зачем они вам? Ешьте конфеты фабрики имени Крупской. «Мишку на Севере», например.
— Где-то я подобное уже слышал… — усмехнулся Иван Иванович. — Да, Мария-Антуанетта. Когда ей доложили, что простой народ голодает, потому что у людей нет хлеба, она страшно удивилась: «Зачем же голодать? Нет хлеба — пусть едят пирожные!» Вы бывали в наших продовольственных магазинах? Такая пустота была только во время блокады. Хорошо ещё, что Собчак ввёл карточки.
— Да, — вздохнула графиня. — Сталин отменил карточки, Ельцин с Собчаком ввели… Что вы сотворили со страной?! Где был ваш хвалёный комитет государственной безопасности, почему вы не исполнили своих служебных обязанностей? Ваша контора на весь мир наводила ужас пополам в восторгом. А тут за один день совершила акт массового предательства.
— Я-то, положим, свой служебный долг выполнял и выполняю, — обиженно возразил Иван Иванович. — Вот другие, генерал Калугин, например…
— Генерал Калугин — самый обычный изменник! Такие есть везде. Но чтобы вся мощная спецслужба разбежалась, поджав хвост! Такого в мировой истории, кажется, ещё не было. Но простите старуху. Меня вывела из себя эта банда на похоронах. Надо же: как много мерзавцев может поместиться на таком небольшом пространстве, как усыпальница.
— Куда, Лариса Васильевна? — спросил Онтонов, садясь впереди.
— Мы ведь собирались к вашему… к тому человеку? Кажется, я его определила. Или без звонка неудобно?
— Он готов вас видеть в любое время дня и ночи, — сказал Иван Иванович. — Едем прямо сейчас. Думаю, он нас уже ждет.
— Тогда вперёд! — скомандовала Новосильцева.
Старенький москвич неожиданно взревел своим, явно не москвичевским, мотором, рванул с места и стремительно влился в поток автомобилей, плывущих в сторону Троицкого моста. Они обогнули Марсово поле, развернулись вокруг памятника Суворову и выехали на набережную Робеспьера.
— Есть небольшой хвостик, — озабоченно сказал Иван Иванович, глядя в боковое зеркало. — Сейчас отсечём. Не оборачивайтесь, Лариса Васильевна, они вас хорошо видят.
Иван Иванович въехал на Литейный мост в сторону Финляндского вокзала. На середине моста он вдруг резко отвернул влево, чудом вклинился во встречный поток автомобилей, обогнал трамвай и остановился впереди него перед светофором. Идущий за ним потрёпанный форд-эскорт попытался повторить манёвр, но не вписался в поворот и врезался в бок тяжёлого джипа шевроле.
Завизжали тормоза, шевроле остановился. В его задний бампер тут же влетел мерседес-600, в мерса ударил идущий за ним ауди, у которого от сильного удара открылся капот, сорвался с креплений, плавно перелетел через перила моста и исчез в Неве.
Из шевроле вышли двое быков — накачанных парней с одинаково тупыми рожами, одинаково остриженных под табуретку, и направились к форду. Один из них держал в руках чёрную короткую и толстую палку — электрошокер.
Москвич тем временем въехал на Шпалерную, взял влево и помчался в сторону Смольного собора.
В эти же минуты Шутов медленно ехал в своём стареньком вольво на свою конспиративную квартиру. До встречи оставалось ещё полчаса. О квартире никто не знал, даже жена. Приобрёл он её на подставное лицо. Здесь Шутов отдыхал и проводил тайные встречи. Но, главное, писал книгу — ту самую, о которой спрашивал Струве.
Его вопрос застал Шутова врасплох, мало того — ошеломил и страшно испугал. Никто, кроме него самого, не знал о книге, которая должна стать бомбой. А Струве, оказывается, знал. Значит, тайны уже давно нет. Есть внезапно возникшая опасность. «Скверно. Что-то нехорошее произойдёт». На какую-то тысячную секунды в его мозгу мелькнула яркая картинка: он за рулём спортивного феррари, скорость двести пятьдесят километров в час, а впереди, в двух метрах, внезапно возникла бетонная стена, но затормозить уже невозможно.
Оставив машину в соседнем дворе, Шутов взбежал по чёрной лестнице на шестой этаж, разминая застоявшиеся мышцы. Подошел к квартирной двери, вытащил ключи из кармана, поднёс их к замку. Неожиданно его рука сама застыла в воздухе. Он ещё ничего не успел понять, но подсознание уже приняло сигнал тревоги.
Шутов припал ухом к двери. Потом прильнул к дверному глазку, пытаясь что-нибудь разглядеть. И тут дверь резко распахнулась. Получив оглушительный удар по лбу, Шутов не удержался на ногах и медленно опустился на колени. Из квартиры выскочили двое. Один из них с профессиональной точностью ткнул Шутова под подбородок узким окованным медью носком ботинка, и он задохнулся, теряя сознание.
Он уже не чувствовал, как его втащили в квартиру, нанесли по голове четыре удара молотком, отчего пол в квартире сразу был залит кровью.
Увидев около дома Шутова машины «скорой помощи» и милиции, Иван Иванович, не тормозя и не торопясь, проехал мимо.
2. Золото империи

ДВА НОВЕЙШИХ контрминоносца «Дерзкий» и «Резвый» — только месяц после ходовых испытаний — почти бесшумно, крадучись, будто волчьи тени, вышли из финских шхер на свободную акваторию Балтики. Осенняя ночь 1915 года разлила густые чернила повсюду, но особенно не пожалела их для небес. Тьма поглощала черные корпуса кораблей без остатка. Через час облака рассеялись, и сквозь чернила проклюнулись звезды — тусклые и мелкие, словно острия английских булавок.
«Дерзкому» и «Резвому» предстояло за сутки достичь проливов Каттегат и Скагеррак и выйти из Балтики в Северное море, где полностью господствовали германские подводные лодки. Перископы вражеских субмарин торчали из воды чуть ли не через каждую милю. Ночью контрминоносцы пойдут по счислению, днём вся надежда на уникальные мореходные качества новейших русских кораблей. На сегодня это самые современные, самые лучшие в своем классе суда в мире. Каждый способен развивать скорость около 40 узлов, и догнать их не может никто.
За двое суток до выхода капитан 2-го ранга Трефолев и капитан-лейтенант Сипягин — близкий родственник министра внутренних дел, которого в 1902 году эсер Балмашев убил прямо на лестнице Мариинского дворца, — были вызваны к главкому флота адмиралу фон Эссену на флагман.
Николай Оттович чувствовал себя плохо. Он лежал в каюте на койке, прикрыв глаза, и сначала даже не повернул головы, когда вестовой доложил о приходе командиров.
— Прошу садиться, господа, — медленно открыв глаза, произнес он. — Коньяку? — и, не дожидаясь ответа, приказал вестовому: — Парфён, шустовского!
Фон Эссен болел уже месяц, но чем — непонятно. Корабельный врач Соколов 2-й поставил ему диагноз «бледная немочь». Словно в насмешку, прописал отдых — лучше на морском воздухе, усиленное питание. Коньячок исключить, можно в обед бокал вина, но только красного. Сон — не меньше девяти часов ночью и полтора-два часа днём.
— И никаких нервов! — подчеркнул Соколов 2-й.
Пациент прилежно выполнял все предписания, кроме двух последних. Морского воздуха вокруг хватало, иногда появлялся и аппетит. Никаких нервов? Хорошо бы. А сон… сон у фон Эссена пропал давно. Ему удавалось только ночью часа на два погружаться в тревожную дремоту. Силы, однако, не восстанавливались, усталость накапливалась все больше, и адмирал чувствовал себя день ото дня хуже.
Болезнь адмирала была особой, название ей медицина ещё не придумала. Ему просто не хотелось жить.
Военная карьера талантливого русского флотоводца, потомка старинного немецкого рода с самого начала складывалась удачно. Он любил Россию и никогда не считал её второй Родиной — только первой и единственной. В кратчайшие сроки фон Эссен сумел превратить Кронштадт и Петроград в единую неприступную морскую цитадель. По его приказу восточная акватория Балтики и Финский залив были густо усеяны минами, а в фарватерах, морском и речном, установили самые современные — с дистанционным электрическим управлением. Таких систем в других державах ещё не было. К каждой фарватерной мине был протянут кабель. Стоит неприятельскому кораблю войти, в Кронштадте включат рубильник, и мины сработают, причём не все, а лишь те, что оказались под корпусом конкретного корабля. Такая же система была развёрнута и на Чёрном море, заблокировав важнейшие порты. Там с 1916 года этим занимался ученик фон Эссена по минному делу адмирал Колчак.
Фон Эссен был хорошим стратегом и поэтому безошибочно прогнозировал грядущую катастрофу. Революции не избежать, несмотря на то, что 17 октября 1905 года император подарил России ублюдочные и именно поэтому опасные демократические реформы. Больше ничего Николай II менять в России не хотел, так как боялся, и вполне обоснованно, что либерализация погубит самодержавие. Но без конституционных и социальных реформ, Империя обречена.
Да, пришел к выводу фон Эссен: революция неизбежна. Ее хотела вся Россия. К революции призывало наиболее просвещённое дворянство, которое находилось, прежде всего, под сильнейшим влиянием разрушительных статей графа Льва Толстого, обращённых против Синода и Самодержавия, против циничной тупости государственного аппарата. В столице профессура, собирающаяся вокруг профессора-марксиста Петра Струве, автора «Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии», изучала, усваивала и распространяла марксистские идеи, проповедовала социализм. Крестьяне все настойчивее требовали чёрного передела земли, которой они в большинстве своём так и не получили после отмены крепостного права. Но так как ни царь, ни его правительство не оставляли мужику никаких надежд, то крестьянство приступило к массовым «иллюминациям» — поджогу помещичьих усадеб. Сейчас им терять было нечего — столыпинские реформы разрушили крестьянскую общину и нанесли сельскому хозяйству сокрушительный удар, от которого оно оправиться уже не смогло. Деревня была разорена. И даже необычайно благоприятный, просто-таки волшебный 1913 год, когда во многих хозяйствах удалось собрать двойной урожай, ничего к лучшему не изменил. Революции требовали рабочие, потерявшие после 9 января 1905 года страх перед Государем Императором и вообще перед всяким начальством. Революции требовали мещане, студенты, писатели, художники, о ней как о неотвратимой необходимости твердили даже члены Дома Романовых. В обществе стало неприличным говорить что-либо положительное о царствующей династии. В ту пору в обеих столицах рвали из рук иллюстрированный журнал «Пулемёт», который в каждом номере «расстреливал» царя, царицу, их дочерей, которых якобы совратил Распутин…
В 1915 году Степан Белецкий, сначала директор Департамента полиции, а потом товарищ министра внутренних дел Алексея Хвостова, записал в своём дневнике: «Время, в которое мне пришлось состоять в должности товарища министра, было переходное. Война затянулась, надежды на скорое и победоносное окончание ее затуманились, патриотический порыв поостыл, частые наборы (в армию. — Ред.) влекли за собой раздражение в народных кругах; расстройство транспорта и падение рубля отразились, в связи с причинами политико-экономического свойства, на недостатках в крупных центрах предметов первой необходимости; кое-где начались бабьи голодные бунты, пораженческое движение в рабочей среде увеличилось, недовольство мероприятиями правительства усилило оппозиционное настроение больших общественных кругов, антидинастическое движение начало просачиваться в народные массы даже в таких местах, где и нельзя было ранее предполагать, как, например, в области Войска Донского…»
Свои предчувствия и догадки, сомнения и тяжкие выводы фон Эссен носил в себе. Обсуждать наболевшее с кем-либо он не хотел, да и запрещалось офицерам заниматься политикой. Если Империя рухнет, жизнь его, как считал фон Эссен, теряет всякий смысл. А Империя непременно рухнет.
Он долго молчал, глядя на офицеров. Ему хотелось спросить о боевом состоянии кораблей. Контрминоносцы были построены на Франко-Русском заводе, и заслуга фон Эссена в этом строительстве была немалая. Он тогда увлёкся проектом и всей силой своего убеждения проталкивал его в Государственном совете, а потом и в правительстве. Машины «Дерзкого» и «Резвого» работали на мазуте, как и у их предшественника, — эсминца «Новик», уже успевшего повоевать и целый год побыть полновластным хозяином Балтики.
Кроме того, адмирал знал, что команда «Резвого» заражена большевизмом, а на «Дерзком» чуть ли не половина нижних чинов записалась в эсеры — даже боцманы и кондукторы. Фон Эссену не раз приходилось убеждаться, что экипажи кораблей, где коноводили большевики, обычно отличались повышенной стойкостью и дисциплинированностью. Но от эсеров всегда нужно ждать подлости. Случись на «Дерзком» беспорядки, капитан-лейтенанта Сипягина, который заигрывает с нижними чинами, матросы непременно повесят первым. Или ещё проще — утопят, как поступили с офицерами в 1905 году на взбунтовавшемся броненосце «Князь Потемкин-Таврический».
Однако задавать вопросы у фон Эссена не было сил. Потом. Сейчас он должен дать распоряжения. Сегодня утром поступил секретный пакет из Могилева, из Ставки, за подписью начальника Генерального штаба М. В. Алексеева, и приказ должен быть выполнен любой ценой.
Парфён внёс две рюмки коньяка. «Сухой закон! — насмешливо отметил Сипягин».
— Ставлю задачу, господа. Она довольно проста, — сказал адмирал. — Но пусть ее простота не порождает иллюзий. Дело чрезвычайной государственной важности. Задание исходит непосредственно от Государя… — он сделал паузу.
Оба командира тоже молчали, спокойно ожидая продолжения.
— В указанном квадрате вам надлежит выйти на рандеву с линкорами союзников «Гамильтон» и «Сент Джордж». Передадите им груз. Он уже ждёт вас в Гельсинфорсе. После передачи немедленно возвращаетесь в Кронштадт. Если получится, — добавил фон Эссен.
Наступила пауза.
— Похоже, вряд ли получится, ваше превосходительство, — усмехнулся трезвенник Трефолев и пригубил коньяк. — Германских подлодок за проливами — словно голландских сельдей в косяке.
— Да, — согласился фон Эссен. — Но шанс все же есть, господа. Подготовка вашего похода проведена основательная. Четвертые сутки подряд наши беспроволочные телеграфы искровками, а также разведывательные агентуры, наша и английская, снабжают немцев сведениями «величайшей важности и чрезвычайной секретности» о том, что именно сегодня ночью из Дувра в Кале выходит королевский транспортный караван с оружием и продовольствием для Западного фронта. Германская подводная армада уже движется к Ла-Маншу. Так что на рандеву вы должны пройти.
— И вы, ваше превосходительство, считаете, что наша экспедиция таким образом достаточно обеспечена секретностью? По существу, а не только с помощью электрической болтовни? — спросил командир «Дерзкого» капитан-лейтенант Сипягин.
Вопрос был не уставной, мало того — бестактный. «Эсер, сукин сын!» — подумал фон Эссен, но ответил спокойно:
— Надеюсь, обеспечена максимально. С нашей стороны, — добавил он. — О вашем выходе, встрече с англичанами и о характере груза знают, не считая нас с вами, ещё трое: государь, граф Фредерикс и генерал Алексеев. Что касается союзников, они заинтересованы не меньше нас в успешности вашей миссии… Груз ни в коем случае не должен попасть в руки германцев. При возникновении такой опасности оба корабля должны быть немедленно затоплены.
Он помолчал, глубоко вздохнул и разгладил свою седую редеющую бородку.
— Вы, — добавил фон Эссен, — …вы повезёте золото. Залоговое золото. Англичане уже этой осенью должны поставить нам на Восточный фронт винтовки, боеприпасы, консервы и так называемые танки. Это новейшие самодвижущиеся бронированные аппараты, оснащенные стрелковым вооружением. Танки способны преодолевать бездорожье, пройдут там, где не может пройти артиллерия на конной тяге. Если фронт не получит оружия, к Рождеству он будет прорван. Уже сейчас снарядов на фронте всего на две недели, патронов — на месяц, солдаты воюют в сапогах на картонной подошве. Может, это золото спасёт Россию.
— Господин адмирал, — по-прежнему подчёркнуто дерзким тоном обратился к фон Эссену Сипягин. — А вы-то сами уверены, что это золото предназначено для военных целей? Я имею основательное подозрение, что некоторые высокопоставленные крысы, хорошо известные всей России и вам лично, ваше превосходительство, уже решили бежать с государственного корабля!
— Господин капитан-лейтенант! — прервал его адмирал. Его тихий глуховатый голос внезапно наполнился властностью, так что Сипягин невольно поднялся, опрокинув недопитую рюмку. — Здесь не митинг партии социалистов-революционеров и не место для высказывания подозрений и других политических речей. Вы получили приказ — извольте его выполнить! И если понадобится, то ценой собственной жизни, как требует того от вас офицерская присяга и честь дворянина. Можете быть свободны. А вы, Николай Алексеевич, — обратился главком флота к Трефолеву, — задержитесь, пожалуйста.
Сипягин с медленной чёткостью отдал честь, щёлкнул каблуками, повернулся и вышел, слегка споткнувшись о комингс. Фон Эссен махнул Трефолеву рукой:
— Сядьте поближе, Николай Алексеевич. Парфён! — позвал он.
Вошёл адмиральский денщик.
— Принеси и мне рюмку.
— Но ваше высокопревосходительство! — отшатнулся Парфён. — Господин адмирал, Николай Оттович, батюшка! Ведь доктор не велели! — завопил он.
— «Не велели!» — передразнил его фон Эссен. — Обоим не велели! Мне — по хворобе. Тебе — чтобы я не соблазнялся. А от кого уже второй день ромом разит?
— Так я только пробку открыл — понюхал, чтоб проверить, — хитрая рожа Парфёна излучала саму невинность. — Искал постное масло, ну и забыл, в какой оно бутылке. Вот проверил!
— Зачем тебе постное масло? Для таких хлопот у нас кок есть. Скажи мне ещё, что ты не знал, конечно, что в этой бутылке ром.
— Откуда же мне знать, Николай Оттович? Я же не пью ее, проклятую! Только если вы рюмочку нальёте, да вот доктор запретили.
— А коньяк нюхал?
— Боже упаси! — закрестился Парфён, — коньяк издалека в бутылке виден! Я только ром.
— Ладно, можешь и рюмку коньяку понюхать. Но не больше. И чтоб доктору не посмел донести, мерзавец! Ступай!
Парфён налил адмиралу рюмку и выскочил с открытой бутылкой в руке.
— Сейчас хорошо понюхает, — пожаловался фон Эссен. — Завтра придётся новую открывать.
Он пригубил рюмку, поставил ее и откинулся в постели на спину. Помолчал.
— Дело идёт к концу, Николай Алексеевич, — тихо произнес фон Эссен. — Не в этом году, так в следующем точно. Все прогнило. La finita! Конец тысячелетней Державе. Помолчите, капитан! — повысил он голос, заметив, что Трефолев хочет что-то сказать. — Вы все знаете и понимаете не хуже меня. Вот Сипягин: я его терпеть не могу, я ему не доверяю — ему лично как человеку не доверяю — и его экипажу. А ведь он-то, по гамбургскому счету, прав. Вам доверяю. Но вы не правы. Finita! — повторил он. — Ну да все равно, пусть все летит к дьяволу, мы должны сделать своё дело, к которому приставлены и от которого нас никто не увольнял. Возьмите пакет, — приказал он, и Трефолев взял со стола толстый пергаментный конверт, перевязанный шёлковым шнурком и скреплённый шестью печатями красного воска на обеих сторонах. — Здесь коносаменты груза. Прошу лично проследить за погрузкой каждого ящика и доложить об исполнении искровкой. Хотя, наверное, из-за расстояния связь будет невозможной… Расписки получателя должны быть скреплены королевскими печатями. Получать груз будут не капитаны, а представители двух банков Великобритании. Особо отметьте себе: ящики, отмеченные государственным гербом, должен взять «Гамильтон», коносаменты с личным вензелем императора погрузите на «Святой Георгий».
— С личным вензелем императора? — удивлённо переспросил каперанг Трефолев.
— Именно, — кивнул фон Эссен. — В ящиках с вензелем золото не государственное, а личная собственность Романовых. Двенадцать тонн. У них собственные прииски в Сибири, в Нерчинске. Разве не знали?
— Нет, Николай Оттович, — ответил Трефолев.
— Мало кто знал.
— Так значит, царствующая фамилия…
— Ничего не значит! — перебил каперанга фон Эссен. — Я же сказал: оплата оружия. И мне тоже самое было доложено… На эти деньги можно воевать полгода. Не исключаю, что августейшая семья приложила свои сбережения к государственным и тем самым совершила, так сказать, патриотический поступок.
— В это верить весьма приятно, — сказал командир «Резвого».
— Будем верить, — вздохнул фон Эссен. — Николай Алексеевич, прошу вас… Вы должны вернуться, непременно, чтобы доставить эти документы в Адмиралтейство, а лучше бы мне в руки.
— Так точно, ваше превосходительство! — поднялся Трефолев. — Разрешите откланяться?
Адмирал вздохнул, потом приподнялся на койке.
— На дорожку, Николай Алексеевич!
Он с трудом встал с койки, осушил свою рюмку, обнял каперанга, трижды поцеловал его и перекрестил:
— С Богом!
Оба контрминоносца проскочили Каттегат и Скагеррак благополучно, проскользнув мимо мыса Скаген двумя черными тенями. Десять лет назад, в японскую войну, все военные корабли в России красили в чёрный цвет. Поэтому в Цусимском проливе русские корабли представляли собой хорошую мишень, в отличие от японских, которые были защитного серо-стального цвета. Русским комендорам только и оставалось, что целиться по трубам вражеских кораблей. Да и то лишь, когда японцы достаточно дымили. Но японцы, как правило, дымили плохо. Они использовали в своих котлах лучшие сорта угля из кардиффских шахт — английского, дававшего много тепла и мало копоти. «Нейтральная и дружественная» Англия щедро снабжала Японию и углём, и оружием. Топки русских кораблей приходилось загружать всякой угольной дрянью вплоть до торфа. Русский корабль находился ещё за горизонтом, но его дымы уже были видны отовсюду.
В эту войну русские корабли уже покрывали серо-зелёной «шаровой» краской. Однако «Дерзкий» и «Резвый» сошли со стапелей иссиня-черными, словно воронёные. Такую краску им выбрали намеренно, с вызовом германцам: «Попробуй, догони!»
На всем пути следования море оказалось чистым. Похоже, грандиозная секретная операция русской и английской разведок удалась. Но уже на самом подходе к нужному квадрату, из волн неожиданно показался сначала перископ, потом выплыла субмарина. Открылся люк, на ветру заполоскался кайзеровский вымпел. Потом подлодка «взяла стойку» — вышла на огневую позицию.
Русские корабли двигались в кильватере с крейсерской скоростью в 35 узлов. Впереди «Дерзкий», за ним «Резвый». Германец двинулся наперерез «Дерзкому».
Подойдя на расстояние меньше кабельтова, немец дал выстрел из правого торпедного аппарата. Но «Дерзкий» неожиданно застопорил ход и ушёл влево. Торпеда исчезла за горизонтом.
Потерпев неудачу, германец стремительно приблизился к «Дерзкому» и пошёл параллельным курсом. Русский корабль резко прибавил ходу — словно прыгнул вперёд. Уже через три минуты дизели подлодки оказались на пределе. Она выпустила ещё одну торпеду по «Дерзкому». И снова он легко от нее ушёл. Немцы растерялись: таких бегунов они ещё не видели. Лодка пристопорила ход. И тут в её корпусе раздался адский грохот.
Это были последние в жизни звуки, которые услышали германские подводники. Вслед за грохотом наступила тьма, вода хлынула в корпус субмарины. Лодка, распоротая, словно гнилая ткань, форштевнем настигшего её сзади «Резвого», мгновенно погрузилась в воду.
Немцам, можно сказать, мере повезло. Ещё через секунду после тарана сдетонировали торпеды, субмарину разорвало мощным взрывом на куски. Германский экипаж погиб мгновенно, ничего не успев понять.
Выйдя на нужный квадрат, «Дерзкий» и «Резвый» бросили якоря. Наступила ночь — не мутная и тоскливая, как на Балтике, а яркая, весёлая, зелёная, с голубовато-белой полной луной — такой яркой, что, казалось, на ней кто-то именно сегодня заботливо стер пятна, чтобы она светила сильнее.
Ближе к двум ночи на горизонте появились мерцающие точки топовых и бортовых корабельных огней, потом показались силуэты судов, которые быстро увеличивались, приближаясь к контрминоносцам. Однако вскоре они стали уходить в сторону. Трефолев крикнул в рупор вахтенному офицеру:
— Владимир Александрович, очевидно, англичане нас не видят. Дайте им сигнал «слепым огнём» и запросите пароль.
На семафор «Резвого» ответили оба корабля и скоро приблизились — два огромных линкора, рядом с которыми контрминоносцы казались скорлупками.
— «Гамильтон» и «Сент Джордж» извиняются за опоздание, — сообщил Трефолеву вахтенный офицер лейтенант Овсеев. — Приглашают.
— Шлюпку, — ответил каперанг.
На «Гамильтоне» его встретили командиры обоих кораблей, здесь же были двое пожилых джентльменов — представители «Лондон-банка» и «Бэринг-бразерс-банка». Оба предъявили свои полномочия.
— Начнём, пожалуй, как предлагал Евгений Онегин, — произнес Трефолев по-русски.
Кажется, его поняли без перевода. Началась погрузка. Металлические ящики с рельефными двуглавыми орлами поступали в распоряжение сэра Хейли из «Лондон-банка», ящики с императорскими вензелями принимал сэр Голдстейн из «Бэринг-бразерс-банка». Ему пришлось трудиться больше своего коллеги: личного золота Романовых оказалось не двенадцать тонн, как сказал фон Эссен, а четырнадцать, в то время как государственного было всего шесть тонн. «На шесть тонн не разгуляешься», — подумал каперанг Трефолев. Теперь он не очень верил, что царь действительно решил потратить свои личные запасы ради Отечества. Но ему было все равно. Он, как и фон Эссен, тоже устал. Внезапно ощутил, что за спиной, оказывается, осталась японская война, Цусима, теперь вот идёт бездарная нынешняя война, интриги большевиков на корабле, шпиономания среди офицеров… На прошлой неделе мичман Голохвостов застрелил лейтенанта Раттенау — прекрасного минёра. Причём, Голохвостов в тот момент был совершенно трезв. Он кричал, что немецкое отродье Раттенау подавал шпионские сигналы носовым платком, когда «Дерзкий» стоял на рейде Кронштадта. Интересно, кто мог увидеть этот платок с кронштадтского пирса? Голохвостова это не интересовало. С трудом инцидент удалось замять, выдав его за несчастный случай. Голохвостова пришлось списать на берег. А Раттенау очень жаль. Какой он немец! Шесть поколений его предков жили в России.
Офицеров с немецкими фамилиями тогда убивали выстрелами в спину каждый день и в армии, и на флоте. Эти убийства стали чем-то естественным и обычным, особенно после того, как до войск дошли выступления одного из самых ярких думцев Павла Николаевича Милюкова — профессора в очках с простыми стёклами, которые он носил, видно, для солидности. Милюков твердил направо и налево, что в России повсюду немцы — изменники и шпионы, и первая среди них германская шпионка — императрица Александра Феодоровна.
Трефолев никогда не был монархистом и вообще при случае подчёркивал на людях, что политика так от него далека и так же не интересна, как невидимые спутники планеты Нептун. Но когда он в один из дней обнаружил на своём столе в каюте очередной номер «Пулемёта», захватанный и затёртый, — Трефолева охватило омерзение. В журнале была напечатана большая цветная литография, на которой мерзавец-художник изобразил царицу с Гришкой Распутиным в таком ракурсе, какого каперанг не видел даже на порнографических карточках, запрещённых в России, но открыто продававшихся в Париже. Журнал Трефолев выбросил в иллюминатор и тотчас же тщательно вымыл руки. И удивился, почувствовав, что ему стало немного жаль императора, императрицу, его детей, которых сегодня не обливал помоями только ленивый. «Интересно, — подумал он, — кто это пытается меня распропагандировать? Голохвостов подсунул, кроме него некому! Благодарит за то, что спас его от трибунала…»
К шести часам утра погрузка закончилась. Трефолев получил от англичан акты передачи и накладные, тщательно их проверил и приказал старшему офицеру Корневу зашить бумаги в клеёнку и залить парафином. Попрощался с англичанами, вернулся на корабль. Пакет он положил себе за пазуху. Своему сейфу Трефолев решил не доверять.
«Дерзкий» и «Резвый» стремительно двинулись курсом зюйд-ост, потом вышли на ост и скоро скрылись за горизонтом. Королевские дредноуты медленно развернулись на вест. И в то время, когда «Гамильтон» и «Сент Джордж» уже приближались к устью Темзы, русские корабли вышли из пролива Зунд и двинулись дальше, идя параллельно друг другу. Это обстоятельство оказалось роковым. Три немецких подлодки внезапно всплыли по правому борту «Резвого», три — по левому борту «Дерзкого». Германцы открыли почти одновременно огонь из наличных торпедных аппаратов, бортовых пушек и пулемётов.
От первого же торпедного залпа корпус «Резвого» сразу переломился пополам. Из глубины разлома в небо хлынули столбы огня, дыма и кипятка из всех котлов. Стали рваться мины и снаряды. В считанные секунды «Дерзкий» со всем экипажем ушёл под воду, никто не спасся.
«Резвый» продержался больше: сначала германские торпеды прошили насквозь его носовую часть на уровне ватерлинии, и корабль на полном ходу стал зарываться в воду, но не тонул. Немцам пришлось добивать «Резвого» ещё целых полчаса. Когда контрминоносец ушёл под воду, представители цивилизованной и высококультурной германской нации принялись расстреливать русских, барахтающихся в воде. Немецкие моряки развлекались. На палубы лодок высыпали экипажи и стреляли по тонущим из револьверов, из карабинов, как по мишеням в тире. Тут же заключались пари, огорчались проигравшие и ликовали победители. «Японцы, конечно, варвары, — успел подумать каперанг Трефолев прежде, чем потерял сознание. — Они не расстреливали нас в воде под Цусимой, а спасали. И с уважением салютовали нам, своим врагам…»
Он последним из команды надел спасательный пробковый бушлат. При других обстоятельствах он, по обычаю русских военных моряков, предпочёл бы остаться без спасательного плавсредства на корабле. Но сейчас у него на груди лежал залитый парафином пакет, который нельзя отправлять на дно. И ещё Трефолев подумал: «Это была засада… Измена. Кто предал? Императрица?.. Распутин?..» — и потерял сознание, контуженный немецкой пулей, которая ударила его в висок по касательной. Немцы стрелять в него больше не стали, решив, что он уже мёртв.
Капитан Трефолев не знал и знать не мог, сколько часов он провёл в воде, когда к его щеке прикоснулось что-то твёрдое и холодное. Потом его в грудь толкнул крюк рыбацкого багра, зацепил за китель и подтянул каперанга к шершавому просмоленному борту шлюпки.
Каперанг с трудом открыл глаза. Сквозь мутную пелену он увидел, что на него глядят, перегнувшись через просмолённый борт баркаса, двое. Один — пожилой, рыжебородый, на голове жёлтая зюйдвестка, одет в непромокаемый плащ — такие носят английские и шведские рыбаки. Рядом с ним на капитана глядел во все глаза мальчик лет одиннадцати в такой же зюйдвестке, но маленькой, и в таком же непромокаемом плаще, который был ему велик.
— Who are you? — спросил рыбак.
— I’m Russian sailor. Help me… — с трудом выдавил из себя Трефолев.
3. Ельцин убивает лошадь
СКВОЗЬ СОН президент Ельцин почувствовал, как по его ногам потекло что-то тёплое и приятное. Потом что-то произошло с брюками. В них стало почему-то холодно. Ощущение комфорта и приятности пропало, сменившись раздражением. И ему захотелось брюки немедленно снять.

С трудом президент разлепил веки, сел и огляделся. Вокруг него стояла тишина. Сначала Ельцин не понял, где находится. Потом догадался: «Ага, самолёт. Я в самолёте. Моторы заглушены. Стало быть, приехали».
Но что-то в этой тишине ему не понравилось. Сквозь расплывающуюся муть он увидел, что перед ним стоит жена, губы ее были сжаты, в глазах застыли боль и печаль. Рядом с ней — его личный телохранитель и начальник охраны верный пес Коржаков. Этот криво улыбался и, встретившись взглядом со своим шефом, одобряюще ему подмигнул.
Ельцин посмотрел в иллюминатор и обнаружил за толстым стеклом не Шереметьево, а какой-то чужой аэродром. Над диспетчерской вышкой развевался незнакомый флаг. У черных выходных дверей стеклянного аэровокзала стояли несколько незнакомых мужиков под огромными зонтиками, которые держали над ними то ли полицейские, то ли военные.
— Что это там за кодла собралась? Куда мы приехали? — спросил президент у Коржакова. — В Домодедово?
— Там премьер-министр Ирландии Рейнольдс со свитой. Мы в Ирландии. Аэропорт Шеннон.
— А чего нас сюда занесло?
— Дозаправка. И визит вежливости. Все по плану.
Ельцин помолчал.
— Что ты на меня вылупилась, как Ленин на буржуазию? — рявкнул президент на жену: ему показалось, что она собралась заплакать.
Не отвечая, жена молча скользнула взглядом вниз. Он тоже глянул вниз. Гульфик и левая брючина были мокрыми и издавали знакомый терпкий запах его собственной мочи.
— Шта-а-а? Это Костиков меня облил? — спросил Ельцин, внезапно вспомнив, как он в прошлом году во время прогулки на теплоходе по Волге приказал бросить за борт своего пресс-секретаря. Тот начал читать стихи, подлец, как раз в тот момент, когда президента посетила мысль, а он все никак не мог высказать отяжелевшим от алкоголя языком. «Бросить гада за борт!» — наконец выжал из себя возмущенный президент, и пресс-секретарь мгновенно оказался в воде. Костиков даже не успел тогда закричать.
— Ты сам обмочился, — сказала жена и заплакала.
— Врешь! — но он уже понял, что жена не врет.
«М-да, угораздило, — подумал президент. — Не надо было смешивать виски с шампанским…» Он помолчал немного и вдруг решительно махнул своей трехпалой рукой:
— А, пропади оно все пропадом! Пошли, мужики, на выход!
— Ты с ума сошел?! — закричала жена. — Какой выход? Как ты людям покажешься в мокрых штанах?
— Это не люди, — возразил Ельцин. — Это иностранцы.
— Все равно не пущу! Только через мой труп!..
Послышался мягкий глухой стук о борт самолета: это снаружи подали трап к выходной двери. «И правда, может, не надо ходить? Еще, сволочи, на пленку заснимут, по телевизору покажут. Коммуняки будут вопить два года, радоваться… Описаются… до штанов…» — засомневался Ельцин.
А вслух сказал, обращаясь к Коржакову:
— Ну что тут сделаешь — бабы! Кто их переспорит! Нет, пойду!..
Он поднялся, кряхтя и ругаясь и морща нос от вони собственных брюк.
— Тут что — одежды для президента уже не найдется?! — зычно, словно и не было в нем, по крайней мере, пол-литра виски и двух бутылок шампанского, крикнул Ельцин. — Разгоню всех к чертовой матери, поувольняю бездельников! Коржаков! Ты что там копаешься?!
— Я здесь, Борис Николаевич! — бросился к нему Коржаков, сверкнув лысиной под тусклым плафоном салона. — Штаны! — с ненавистью крикнул он официанту. Но тот стоял, разинув рот, потом, спохватившись стал стаскивать с себя брюки.
— Да не твои, болван, а президентские!
— Н-н-е знаю… — пробормотал насмерть перепуганный официант. — У меня их нет…
— Наина Иосифовна!… — взмолился Коржаков к жене президента. — Да что же это такое? Неужели и штанов больше нет? Хотя бы запасных каких-нибудь?
— Есть. Но я не дам! — твердо ответила жена.
— Вот видите, Борис Николаевич! — обрадовано закричал шефу начальник охраны. — Нет штанов! А в трусах на улице холодно. Вы только посмотрите, там же ветер собачий! Дождь страшный хлещет! Одно слово — Ирландия. Да чтоб ее дождь намочил — страна алкоголиков!
— Как ты сказал? Алкоголиков? — внезапно заинтересовался президент. — Они что здесь — тоже водку пьют?
«Ну, дернула же нелегкая! — огорчился главный охранник. — Сейчас потребует выйти, добавить с ними, огорчение смыть!.. Что же делать?..»
— Это все болтовня, — сказал он твердо. — Пьют хуже наших, потому что все они — слабаки! С первой же рюмки с копыт валятся. С ними ни один приличный президент пить не будет!
— С первой же рюмки?.. — задумался Ельцин. — В самом деле, разве с такими слабаками можно пить? Опозорят на весь свет.
— Опозорят, падлы! — радостно закричал Коржаков. — Не ходите к ним, Борис Николаевич, тьфу на них, что мы там забыли!
— Нет! — неожиданно заревел президент. — Я все-таки выйду, покажу им, как надо пить! Пусть их тоже заснимут на телевизор. Пусть покажут — всем! Пусти! — он оторвал от себя ласково-стальные руки своего верного пса и попробовал подняться.
Тот понял, что теперь катастрофа неминуема. И спрятаться от позора будет негде. Даже в самом глухом сибирском деревенском углу. Даже в самом далеком уголке Земли. Вся планета будет скалить зубы и издеваться. Можно пережить все, если есть куда спрятаться. А куда бежать? Не на Луну же?! Коржаков крепче прижался с своему начальнику и богу, которого он, впрочем, уже начал презирать, хотя и продолжал по-своему любить. Даже в эту минуту он был готов умереть за него. Но только не пустить его на позор.
Тут неожиданно Ельцин ослабил хватку, захрипел, рухнул на диван, потом медленно сполз на пол, громко стукнувшись затылком о ковровую дорожку салона. Его лицо стало покрываться синевой.
— Врача! — закричал Коржаков. — Врача немедленно, иначе всех сейчас перестреляю!
Он никогда в жизни не кричал на подчиненных. Никогда и представить себе не мог, что способен, но это прорвалась радость: «Сердечный приступ! Откачаем! Главное, теперь никуда не пойдет!»
Врачи возились с президентом минут двадцать, ввели ему сосудорасширяющее и тут же седативное — в двойной дозе. Вскоре он медленно открыл глаза, узенькие и совершенно заплывшие, дохнул густым перегаром. Попытался встать.
— Куда, Боренька? Тебе нельзя! — прижала его к дивану своей грудью жена. — Не шевелись даже! У тебя же сердце!
— Сделайте меня здоровым, — жалобно простонал президент. — Сейчас же сделайте меня здоровым…
— Дома сделают, в Москве, — ласково заговорил Коржаков, — там вас они сделают совсем здоровым, а сейчас оставайтесь в самолете.
Президент все-таки приподнялся, посидел минуту, помолчал, посмотрел на свои брюки, которые продолжали издавать острую вонь, будто в ноздри кто-то тыкал мелкими иголками. И заплакал.
— Что же это такое?.. Что вы со мной сделали? — из его узких глаз двумя свободными ручьями полились слезы, а из носа сопли. — Позор! Позорище! Этого я вам ни-ког-да не за-буд-у! — он произнес эти слова с такой же интонацией, с какой в 1993 году адресовал их Верховному Совету, перед тем как расстрелять его из танковых пушек интермитными снарядами — от живых людей остается только горстка пепла. И погрозил пальцем Коржакову, жене, потом всем остальным, рукавом вытер нос.
Помолчал. В салоне повисла тишина.
— Кто выйдет к этим алкашам? — уже спокойнее спросил Ельцин.
— Все в порядке, Борис Николаевич! — успокоил его Коржаков. — Вот Олежек уже галстук надел!
Заместитель премьер-министра Сосковец, не ожидая команды, приближался к закрытой двери салона, поправляя на ходу галстук. Летчики начали открывать дверь.
Президент опять замолчал и посмотрел в иллюминатор. За толстым стеклом бушевал дождь. Иллюминатор заливало, но, тем не менее, можно было разглядеть, что творилось у выхода на летное поле.
Вот Сосковец, без шляпы, без зонтика, быстрым шагом подошел к премьер-министру Рейнольдсу. Ирландец энергично тряхнул руку русского коллеги, черные волосы премьера взметнулись. Оба чиновника похлопали друг друга по плечам, потом заговорил Сосковец, и оба при этом пристально вглядывались в самолет, а Ельцин пытался почесть в лица обоих: что Сосковец сейчас врет ирландцу? Ельцин знал, что Рейнольдс его не видит, и хмуро показал ирландскому премьер-министру в иллюминатор фигу.
Постепенно лекарства дали себя знать, Ельцин отяжелел и вытянулся во весь рост на бархатном диване. Еще утром, на завтраке у своего коллеги и друга, американского президента, он был почти счастливым человеком, чувствующим себя хозяином всей планеты. Он прекрасно знал, что сексуальный маньяк Клинтон, как и желтомордый орангутанг Миттеран, жирный боров Коль, длиннозубая ведьма Тэтчер, а вслед за ними всякая шелупонь типа макаронника и мафиози Берлускони относятся к нему, президенту России, с насмешкой, которую уже и не скрывают. Это очень терзало Ельцина и служило источником разных печальных переживаний.
Время от времени он набирался куражу и демонстрировал своим коллегам — президентам, нынешним и бывшим, что он тоже не карточная шестерка. Бывшего американского президента Ричарда Никсона, который заглянул в Россию как бы невзначай, на огонек и первым делом поспешил встретиться с Зюгановым («Разнюхивают, заразы, замену мне ищут», — догадался тогда Ельцин), он подверг публичной порке перед телекамерами. И так жестоко, от души, что Никсон в глубоком огорчении тут же рванул к себе обратно, в свой дистрикт Колумбия. Через несколько дней дряхлый американский козел, так и не придя в себя от стресса, дал дуба. В другой раз он устроил выволочку самому Клинтону, который упрекнул Ельцина в том, что, дескать, его русский друг Boriss, вместо того, чтобы дать Чечне самостоятельность, как того требует мировая демократия, занялся истреблением мирного населения. Мол, если уж не можешь справиться с восставшими, так и скажи. Русская армия воевать не в состоянии. Только один способ, только один вид оружия оказался доступен и понятен русским генералам и главнокомандующему Boriss’y лично: пушечное мясо. И теперь Boriss Yeltzin пытается завалить чеченских боевиков трупами русских солдат, новобранцев, которые еще неделю назад держались за мамину юбку и даже не знают, как стрелять из автомата. За год в Чечне погибает в восемь раз больше солдат, чем погибло за все десять лет войны в Афганистане. Русских солдат в Чечне даже не кормят. Русские солдаты кормят себя сами. Грабят местное население, торгуют патронами: десять русских патронов — банка русской же тушенки. Понимают, что завтра этими же патронами чеченцы станут их убивать. Но если не торговать, нужно умирать с голоду сразу.
Ельцину принесли полный текст выступления Клинтона, он читал и скрежетал зубами. Вечером, поуспокоившись, заявил по телевидению:
— Тут друг Билл решил меня немного поучить. Ничего, пусть учит. Но если берется меня поучать, пусть не забывает, что у его друга Boriss’а есть еще ядерные ракеты — в случае чего и шандарахнуть можно.
Друг Билл, правда, не испугался, даже наоборот, поржал, как он это умеет. Ну, ничего, все-таки получил по носу.
Но на приеме в Белом доме все было по-другому. Русский президент просто купался в лучах доброжелательства и всеобщей любви. На ланч в узком кругу собрались крупные чиновники Белого дома, два-три министра, бывший госсекретарь Александр Хейг и нынешний Джордж Бейкер. Был глава банковской корпорации «Симантек», какой-то писатель и какая-то молодая женщина потрясающей красоты: Ксения Ксирис, русская графиня, дальняя родственница императора Николая II и князя Феликса Юсупова, убийцы Распутина. Каждый из приглашенных желал выпить с ним, поговорить по душам, спросить, уважает ли его русский президент…
Постепенно веки у Ельцина отяжелели, салон самолета поплыл куда-то вбок и вниз, и, погружаясь в цветной калейдоскопический водоворот. Ельцин успел подумать: «Что же это — я умер, что ли? Значит, правду в книжках пишут — сначала после смерти цветной водоворот, потом темный туннель, потом свет в конце туннеля, как я обещал России после свержения коммунистов…» И тут он, действительно, промчался через туннель навстречу чудесному солнечному свету, который источал тепло, умиротворение и любовь.
Он погрузился в эти бесконечные волны щемящей любви, потом глянул вниз и увидел свое тело на самолетном диване — проспиртованное, грязное и вонючее. Увидел до мельчайших подробностей каждый седой волосок на голове, свою левую трехпалую руку, увидел свое сердце, его коронарные сосуды, забитые, словно цементом, холестериновой дрянью. Ему стало жаль себя: «Укатали сивку… Пора на покой». Он хотел подняться еще выше, чтобы полностью и навсегда погрузиться в море любви. Но с удивлением обнаружил, что не может. Не пускала тонкая, словно паутина, но прочная, как гитарная струна, серебряная нить, привязанная одним концом к его полуразвалившемуся телу, другим концом — к нему самому. Мало того, она стала уменьшаться и властно потянула его вниз. Он влетел в свое тело, отметив его необычную бледность, и обрушился вниз, в темноту и так летел, пока не очутился в своей родной деревне Будки, заброшенной в сибирской глуши. На обочине пыльной дороги он увидел старую костлявую гнедую кобылу с огромным брюхом, стреноженную и привязанную за веревку к колу, вбитому в землю. Он узнал ее: это была дедова кобыла. «Жеребая», — догадался Ельцин. И приблизился к лошади. Та, испугавшись, отскочила в сторону, вырвала из земли кол. Но уйти ей не удалось. Запутавшись в высокой траве, гнедая кляча тяжело рухнула набок. И тут черная ярость охватила его: «Ах, так ты — бежать? Не слушаться? Меня не слушаешься, сволочь?!» Он схватил с земли булыжник и принялся бить упавшую лошадь — по шее, по голове, по глазам. С каждым ударом камень чавкал, кровь побежала ручьем, на голове лошади треснула шкура, и показалась бело-розовая кость. А он все бил и бил уже затихшее бездыханное животное — бил с оттягом, выхаркивая воздух, словно рубил дрова. И остановился лишь тогда, когда сквозь кровавый туман бешенства увидел, чтоб бьет не кобылу, а окровавленную пожилую женщину, крестьянку, — то ли собственную жену, то ли мать.
Она лежала, оцепеневшая и почти остывшая, на пшеничном поле, и кровь пропитывала сначала стебли, потом колосья, потом зерна стали кровавыми и затвердели. «Убил», — с удовлетворением отметил он и стал вытирать окровавленные руки о траву — кровь не оттиралась.
«Что за чертовщина приснилась? — подумал Ельцин, открывая глаза. — Что это я — на том свете, что ли, побывал?» Он попытался удержать в памяти увиденное, но цветная и яркая картина расползлась, растаяла, словно гнилое лоскутное одеяло, и он начисто и навсегда забыл видение. Остались только страх пополам с бешенством. Но постепенно и они отступили. И он снова уснул. Проснулся, когда самолет уже стоял на посадочной полосе, заглушив моторы.
— Глянь-ка! Журналюги уже здесь! — с досадой пробасил Сосковец. — Что будем говорить? — обратился он к Коржакову. Но тот уже исчез за бронированными дверьми салона связи. Здесь радист-шифровальщик соединил его с начальником группы охраны аэропорта Домодедово.
— Какая сволочь пропустила журналистов? — кричал он начальнику охраны, пожилому полковнику, у которого от каждого слова Коржакова артериальное давление поднималось на двадцать миллиметров.
— Так ведь приказа не пускать не было. У всех пропуска в порядке, — с трудом шевеля губами, выдавил из себя почерневший генерал.
— «Не было, не было!» — злобно передразнил его Коржаков. — Думать надо! У тебя что — между погонами голова или ночной горшок?
— Голова, — признался полковник.
— А я думаю, что горшок с дерьмом. И генеральские погоны рядом парашей находиться не могут.
— Так точно, не могут, — почти теряя сознание, согласился начальник группы. И, собрав последние остатки мужества, спросил: — Когда сдавать дела, Александр Васильевич?
— Какие дела? Что за дела ты еще выдумал? Ну и народ в моем ведомстве работает! Чуть дашь по рогам — дела бегут сдавать! — он перевел дух. И сказал извиняющимся тоном. — Ты, Сергеич, не сердись на меня… Не прав я. Телевизор смотрел? Репортаж из Ирландии показывали?
— Показывали.
— Ну вот видишь… И что говорили? Почему не вышел президент?
— Ничего не говорили. Сказали, что в Шенноне самолет президента встретил ихний премьер. С ним имел беседу вице-премьер Сосковец…
— Понятно, — и Коржаков отключил связь.
— Товарищ генерал! — сообщил ему радист. — Михаил Никифорович Полторанин на связи — по каналу один.
— Давай!
Полторанин, бывший ведущий корреспондент газеты «Правда» по отделу партийной жизни, учивший всю страну коммунизму, верно служил Ельцину, так же как и Коржаков, но по другой причине. Коржаков пришел к Ельцину из благородства, когда тот был один и изгнан, и предложил свою службу. Правда, рассказывая об этом эпизоде из своей жизни, Александр Васильевич из скромности умалчивал, что уже тогда знал: Запад сделал ставку на Бориса и бросит все свои силы, все ресурсы, всю мощь, вплоть до военной, чтобы хозяином Кремля стал человек, который был бы обязан Западу всем и отрабатывал свой долг исправно и до гробовой доски. Полторанин тоже давно понял суть человека, с которым его связала судьба, но бросить его не мог по другой причине: ему просто некуда было идти. Его ненавидели как бывшие коллеги-коммунисты, так и новые сокорытники-демократы. И те, и другие постоянно спрашивали Полторанина, когда же он лгал? Когда по зову души работал в «Правде»? Или когда, опять же по зову души, стал ее уничтожать, демонстрируя свой антикоммунизм — такой же дремучий, как коммунизм?
— Ну что там? — спросил он не здороваясь.
— Да опять нажрался, как скотина. Стыдно людям в глаза смотреть, — ответил Коржаков.
— Что говорить будем?
— Не знаю, — вздохнул Коржаков. Он помолчал. И тут его осенило: — Знаешь, надо валить все на меня! Президент устал, заработался… а тут разница во времени… В общем, заснул. А я попрал своими лакейскими ногами дипломатический протокол и запретил будить нашего родного, притомившегося… Из соображений личной преданности и в силу своей беспринципности.
— Хорошо, конечно, — сказал Полторанин. — Но никто не поверит. Пока, — он отключился.
Выйдя в салон, Коржаков увидел, что Ельцин сидит в той же позе на диване и с интересом разглядывает свои новые сухие штаны.
— Это чьи? — спросил он Коржакова. — Форменные?
— Да, форменные. Командир экипажа уступил. Пришлось ему сажать самолет в трусах. Говорит, что никогда еще не сидел за штурвалом без штанов.
Ельцин ухмыльнулся.
— Надо наградить мужика!… Героя… Героя России давать, наверное, многовато, но насчет ордена надо подумать. Выручил все-таки. Президента, а не кого-нибудь! Ленина надо бы ему или Трудового Красного Знамени.
— Так вы же отменили эти ордена, — напомнил Коржаков. — Дайте ему новый орден «За заслуги перед Отечеством».
— Можно, — согласился президент. — Нет, лучше я дам ему Андрея Первозванного. И ленту.
— Гениально, Борис Николаевич! — одобрил Коржаков. — Народу понравится.
— Вот видишь! Понравится, конечно!.. Еще бы: правильное решение президента — дать высший орден государства за штаны. Ах ты мерзавец! — неожиданно гаркнул Ельцин. — В тираж списать меня хотел? Думаешь, президент уже ничего не соображает? Думаешь, президент все мозги пропил? Хотел меня на посмешище с орденом выставить? Отвечай! — рявкнул Ельцин, наливаясь яростью. — Отвечай — так думал?
— Ну что вы, Борис Николаевич, никогда я так не думал, — запротестовал Коржаков. — Вы лучше в окно посмотрите.
Ельцин посмотрел.
— Уже собрались… гиены! — злобно произнес он и спросил уже спокойнее. — Что говорить будем?
— Валите все на меня.
— Правильно, — кивнул Ельцин, с усилием поднялся и нетвердой походкой направился к трапу.
К телевизионщикам он вышел, хитро улыбаясь, и даже успел похлопать по попкам двух молоденьких журналисток.
— Представляете, а?! — обратился он к прессе, не дожидаясь вопросов. — Вот шельмецы! Сели мы, понимаешь, в Ирландии, аэропорт Шеннон, там сам премьер-министр, мой коллега, можно сказать, по работе господин Рейнольдс вышел меня встречать — визит вежливости, памаш… Стоит, бедный, мокнет под дождем. А эти шельмецы — ну, может, я слишком сильно выразился… эти работнички, — он указал пальцем на Коржакова, — меня не разбудили! А теперь выкручиваются: «Президент устал, не хотели будить, президент должен отдохнуть!» Ну?! Как это называется? На то я и президент, чтобы не отдыхать!.. — тут его горло вдруг перехватил непонятный страх с яростью пополам, и Ельцин замолчал. Потом прохрипел: — Ну, я врезал, кому надо — как следует!..
Махнул трехпалой рукой и направился к выходу.
Этот яростный животный страх теперь будет его душить все время. Особенно, по ночам, отпуская лишь ненадолго. И избавиться от него не помогут ни водка, ни лекарства, ни операция на сердце, ни экзотические лекари из Китая и Таиланда.
С трудом он влез в подкативший «ЗИЛ».
— В Кремль, — коротко приказал Ельцин.
— А может, сразу домой? — спросил Коржаков.
— Тебе что — заложило? Тогда я найду охранника помоложе — не глухого. Сказано в Кремль — поезжай!
В кремлевском кабинете он долго сидел в кресле в пальто и шапке. Потом сказал Коржакову:
— Чаю неси, горячего. С лимоном. Пить хочу…
И горестно вздохнул, принимая от Коржакова тяжелый серебряный подстаканник. Сделав глоток, повторил:
— Пить хочу… Что же это подлец Клинтон подсыпал мне в виски?
Коржаков не ответил, только медленно покачал головой. Ельцин усмехнулся:
— Подсыпал — уверен на сто процентов. Ну, скажи, разве я так напивался когда-нибудь?
— Да, Борис Николаевич, уж так не бывало, — Коржаков передернул плечами, вспомнив, как бывало. Если Ельцин перебирал, он это, как правило, сознавал и останавливал пьянку или запой своими, порой неожиданными способами. Однажды возвращаясь с дачи в Завидове, где они с Назарбаевым пили по-черному — русский президент таким образом извинялся, что развалил СССР без участия казахского, — он велел остановить свой членовоз около придорожного озера: заметил в нем полынью. Подошел к ней, разделся догола в тридцатиградусный мороз на глазах у назарбаевских жены и дочки и сиганул в прорубь. Плескался там минут десять, пока Коржаков с помощниками не вытащил президента силой. Но президент кочевряжился, не хотел одеваться, уворачивался, болтая причинным местом направо и налево. На следующее утро — как ни в чем не бывало: только легкий насморк прошиб. Да — так, как сегодня, Ельцин еще не напивался.
— Самое главное, ничего не помню, — пожаловался он. — То есть, всех помню — кто что делал. Задницу этой бабешки помню — хорошая попка, как волейбольный мячик без покрышки. А что они говорили и что я пообещал, ничего не помню.
— Вы пообещали Гольдману и Ксирис закончить дело с царем, которое начали в семьдесят восьмом году.
— А как я его начинал? — поинтересовался Ельцин. Ему внезапно стало холодно.
— Не знаю, — ответил Коржаков. — Этого я не слышал, потому что подошел позже. Слышал только — Гольдман сказал, что царь оставил в банках Лондона еще в ту войну, до революции двенадцать тонн золота.
— Шесть, — задумчиво поправил его Ельцин.
— Нет, двенадцать, — возразил Коржаков. — Шесть — это не то золото. То — государственное, собственность империи. Его царь передал в залог военных поставок. А двенадцать тонн — личное золото царя. Англичане золото взяли, но оружия не поставили. По идее и по закону, это золото у них надо отобрать. Кстати, не только англичане у нас стибрили столько, что можно было десять перестроек спокойно провести и сто демократизаций с реформами без того, чтобы народ подыхал с голоду.
— Ну, ты не очень-то с народом! — прикрикнул на него Ельцин. — Голодает… Где ты видишь, чтоб народ голодал? Выйди на Тверскую — ты когда-нибудь видел в витринах столько продуктов? Есть даже киви!
— Тверская не Кострома, — отмахнулся Коржаков. — И зарплаты там другие, вернее, совсем никакие… их и не платят. А что касается золота вообще — тут много интересного. Знаете, сколько у нас украли французы? После первой мировой войны?
— Много?
— Не то слово. Очень много. Девять эшелонов золота Ленин в восемнадцатом году отправил немцам — как контрибуцию. В уплату за Брестский мир. Рассчитывал, что мир продлится недолго и Советская Россия все получит обратно. Через восемь месяцев — осенью восемнадцатого — в Германии революция, кайзера скинули, немцы капитулировали перед союзниками, а когда дошло до репараций и возврата нам золота, оказалось что французы его захапали у немцев и отправили в подвалы парижского банка. Там оно и лежит.
— Почему же мы его не отберем? — спросил Ельцин. — А вот Черномырдин еще предлагает вернуть французам царские долги.
— Какие к черту долги, Борис Николаевич! — воскликнул Коржаков. — Они нам должны в сто раз больше! А сколько нашего золота у японцев? Еще колчаковского! Правда, япошки — народ цивилизованный, честный. Они готовы отдать. Но не частной компании или акционерному обществу, как предлагает взять золото Чубайс. А только российскому государству!
— Ну, государству… С этим государством знаешь как… Чуть зазеваешься, все разворуют.
— А Чубайс не разворует?
— Ты Чубайса не тронь, — строго сказал Ельцин. — Ты ничего не знаешь. На нем все держится. Чубайс — единственный гражданин России, кого приняли в Парижский клуб. Меня вот не приняли, не захотели, а Чубайса приняли.
Коржаков хотел воскликнуть: «Чубайс им тащит больше, всю Россию по кускам отдает!», но сдержался и вслух произнес:
— А еще Гольдман сказал…
Но Ельцин уже вспомнил, что еще сказал Гольдман…
***
Вот как вспоминает об этом эпизоде сам А. Коржаков.
«…В тот сентябрьский день 94-го между президентами России и США шли обычные, в рамках визита переговоры. Встречу решили устроить в парке, перед музеем Рузвельта под Вашингтоном.
Погода выдалась на славу: дул легкий прохладный ветерок, солнце заливало ярко-зеленые ухоженные лужайки, обрамляющие дом. Ельцин и Клинтон с удовольствием позировали перед фотокамерами, И я тоже сфотографировал улыбающихся друзей — Билла и Бориса…
Сфотографировав Билла и Бориса еще раз, я вышел из столовой. Во мне росло раздражение, и хотелось немного успокоиться, созерцая окружающее благополучие. Я всегда чувствовал, когда радостное настроение Ельцина перерастает в неуправляемое им самим вульгарное веселье. Крепких напитков за завтраком не подавали, зато сухого вина было вдоволь. Не секрет, что на официальных встречах принято, дозировано принимать спиртные напитки: чокнулся, глоточек отпил и поставил бокал. Тотчас официант подольет отпитый глоток. Если же гость махом выпивает содержимое до дна, ему наполняют бокал заново.
Во время завтрака Борис Николаевич съел крохотный кусочек мяса и опустошил несколько бокалов. Клинтон еще на аперитиве сообразил, что с коллегой происходит нечто странное, но делал вид, будто все о'кей.
Из-за стола шеф вышел, слегка пошатываясь. Я от злости стиснул зубы. Вино ударило в голову российскому президенту, ион начал отчаянно шутить. Мне все эти остроты казались до неприличия плоскими, а хохот — гомерическим. Переводчик с трудом подыскивал слова, стремясь корректно, но смешно перевести на английский произносимые сальности. Клинтон поддерживал веселье, но уже не так раскованно, как вначале — почувствовал, видимо, что если завтрак закончится некрасивой выходкой, то он тоже станет ее невольным участником.
Облегченно я вздохнул только в аэропорту, когда без инцидентов мы добрались до самолета.
Когда шеф лег в своей комнатке, к нам подошла Наина Иосифовна и предложила мне перейти в общий салон, где обедали. Со столов уже убрали, и можно было прилечь, вытянув ноги на узких диванах.
Приглашение жены президента я принял с удовольствием — улегся на диване, накрывшись пледом и положив под голову пару миниатюрных подушек. Заснул моментально.
Вдруг сквозь сон слышу панический шепот Наины Иосифовны:
— Александр Васильевич, Александр Васильевич…
Я вскочил. Наина со святым простодушием говорит:
— Борис Николаевич встал, наверное, в туалет хотел… Но упал, описался и лежит без движения. Может, у него инфаркт?
Врачей из-за щекотливости ситуации она еще не будила, сразу прибежала ко мне. В бригаде медиков были собраны практически все необходимые специалисты: реаниматор, терапевт, невропатолог, нейрохирург, медсестры, и я крикнул Наина:
— Бегом к врачам!
А сам вошел в комнату президента. Он лежал на полу неподвижно, с бледным, безжизненным лицом. Попытался его поднять. Но в расслабленном состоянии сто десять килограммов веса Бориса Николаевича показались мне тонной. Тогда я приподнял его, обхватил под мышки и подлез снизу. Упираясь ногами в пол, вместе с телом заполз на кровать.
Когда пришли врачи, президент лежал на кровати в нормальном виде. Начали работать. Была глубокая ночь. В иллюминаторы не видно ни зги, под ногами океан. Через три часа у нас запланирована встреча в Шенноне.
Доктора колдовали над Ельциным в сумасшедшем темпе — капельницы, уколы, искусственное дыхание. Наина Иосифовна металась по салону, причитая:
— Все, у него инфаркт, у него инфаркт… Что делать?!
Охает, плачет. Я не выдержал:
— Успокойтесь, пожалуйста, ведь мы же в полете, океан внизу.
Все, конечно, проснулись. Начало светать. Я говорю Сосковцу:
— Олег Николаевич, давай брейся, чистенькую рубашечку надень, на встречу с ирландским премьером пойдешь ты.
Олег опешил. А что делать?! Нельзя же Россию поставить в такое положение, что из официальной делегации никто не в состоянии выйти на запланированные переговоры.
Доктора тем временем поставили диагноз: либо сильный сердечный приступ, либо микроинсульт. В этом состоянии не только по самолету расхаживать нельзя — просто шевелиться опасно. Необходим полный покой.
Сосковец сначала отказывался выйти на переговоры вместо Ельцина, но тут уже и Илюшин и Барсуков начали его уламывать:
— Олег, придется идти. Изучай документы, почитай, с кем хоть встречаться будешь.
У Олега Николаевича память феноменальная, к тому же он читает поразительно быстро.
Приближается время посадки, и тут нам доктора сообщают:
— Президент желает идти сам.
— Как сам? — я оторопел.
Захожу в его комнату и вижу душераздирающую картину. Борис Николаевич пытается самостоятельно сесть, но приступы боли и слабость мешают ему — он падает на подушку. Увидел меня и говорит:
— Оденьте меня, я сам пойду.
Наина хоть и возражала против встречи, но сорочку подала сразу. Он ее натянул, а пуговицы застегнуть сил не хватает.
Сидит в таком жалком виде и пугает нас:
— Пойду на переговоры, пойду на переговоры, иначе выйдет скандал на весь мир.
Врачи уже боятся к нему подступиться, а Борис Николаевич требует:
— Сделайте меня нормальным, здоровым. Не можете, идите к черту…
Меня всегда восхищало терпение наших докторов.
Приземлились. Прошло минут десять, а из нашего самолета никто не выходит. Посмотрели в иллюминатор — почетный караул стоит. Ирландский премьер-министр тоже стоит. Заметно, что нервничает. Олег Николаевич стоит на кухне, в двух шагах от выхода, и не знает, что делать.
Ельцин обреченно спрашивает:
— А кто тогда пойдет?
— Вместо вас пойдет Олег Николаевич.
— Нет, я приказываю остаться. Где Олег Николаевич?
Свежевыбритый, элегантный Сосковец подошел к президенту:
— Слушаю вас, Борис Николаевич.
— Я приказываю вам сидеть в самолете, я пойду сам.
Кричит так, что, наверное, на улице слышно, потому что дверь салона уже открыли. А сам идти не может. Встает и падает. Как же он с трапа сойдет? Ведь расшибется насмерть.
Тогда принимаю волевое решение, благо, что Барсуков рядом и меня поддерживает:
— Олег Николаевич, выходи! Мы уже и так стоим после приземления минут двадцать. Иди, я тебе клянусь, я его не выпущу.
И Олег решился. Вышел, улыбается, будто все замечательно.
Когда он спустился по трапу, я запер дверь и сказал:
— Все, Борис Николаевич, можете меня выгонять с работы, сажать в тюрьму, но из самолета я вас не выпущу. Олег Николаевич уже руки жмет, посмотрите в окно. И почетный караул уходит.
Борис Николаевич сел на пуфик и заплакал. В трусах да рубашке. Причем свежая сорочка уже испачкалась кровью от уколов. Ельцин начал причитать:
— Вы меня на весь мир опозорили, что вы сделали.
Я возразил:
— Это вы чуть не опозорили всю Россию и себя заодно.
Врачи его уложили в постель, вкололи успокоительное, и президент заснул…»
4. Король Георг V в роллс-ройсе

ИНЖЕНЕР Найджел О’Брайен повернул заводную ручку — раз, другой. Новенький двухместный роллс-ройс слегка осел на рессорах, мотор чихнул, выпустив из глушителя клуб сизого дыма, и умолк.
— Ваше величество, — сказал инженер, — вам следует нажать кнопку обогатителя — горючая смесь слишком концентрирована. Не зажигается. Свечи мокрые.
Георг поискал глазами. Вот, кажется, эта кнопка из черного дерева с золотым колечком, которую дворцовый шоффэр Джонс назвал как-то «подсосом». Король нажал, тросик ушел внутрь приборной панели, отделанной черным, красным и сандаловым деревом.
— Теперь дроссель, — услышал он голос инженера.
Георг нажал педаль газа так, что всей подошвой сапога уперся в пол салона.
— Пробуем еще раз, — предупредил О’Брайен и снова крутанул заводную ручку.
Внезапно по всему автомобилю прошла дрожь, послышался хлопок, другой, и двигатель заревел, окутывая площадку загородного гаража густым черно-синим облаком. Король, впервые севший за руль, застыл в восторге, ощущая живую дрожь железной машины, которая только что была всего лишь двумя тысячами фунтов холодного мертвого металла.
— Отпустите газ, милорд! Уберите ногу с педали! — заорал О’Брайен. — Оглохли, что ли?
Король послушно убрал ногу, и рев превратился в ласковое мурлыканье. Инженер сел рядом, слева.
— Можно ехать? — спросил Георг.
— Пусть еще немного разогреется, — ответил О’Брайен, вытерев пот с веснушчатого лба белым полотняным платком. — А пока давайте повторим последовательность действий. Итак…
— Нажимаю левую педаль сцепления, чем отключаю мотор от трансмиссии, — начал король. — Левой рукой отпускаю ручной тормоз…
— Нет, Ваше величество, — поправил его ирландец, — левой рукой вы включаете первую ступень силовой передачи тяги мотора на задние колеса! Тормоз потом.
— Да, прошу прощения… Сначала первую ступень силовой передачи… — король замолчал.
— После чего, — подсказал О’Брайен, — можно снять автомобиль с тормоза, медленно отпустить педаль сцепления и одновременно — подчеркиваю, одновременно! — и тоже медленно нажимать на педаль газа!
Георг кивнул.
— Тогда, полагаю, можно ехать, — разрешил инженер.
Король нащупал ногой педаль сцепления, потом взялся за рычаг ручного тормоза.
— Неправильно! Ведь только что сказал — неправильно! — раздраженно сказал ирландец. — Сначала передачу!
В другое время король отметил бы, что инженер слишком много себе позволяет, но сейчас он был поглощен сладким страхом от дрожи мотора, которая отзывалась во всех его костях и косточках. Он медленно и аккуратно выполнил все по инструкции.
— Ну, вот теперь уж точно можно ехать, — кивнул О’Брайен.
Король вдруг почувствовал, что весь покрылся потом. Он обнаружил, что его левая нога приросла к педали сцепления.
— Смелее, Ваше величество, поехали, — приободрил его инженер.
Король отпустил сцепление, машина дернулась, мотор чавкнул и заглох.
— Что случилось? Что-нибудь сломалось? — испугался король.
— Ничего не сломалось, Ваше величество. Слишком резко вы отпустили сцепление и слишком мало дали горючего газа в мотор. И то, и другое надо делать нежно. Очень нежно! — проворчал О’Брайен, выходя из машины.
Он завел мотор и вернулся.
— Вот хорошо немцы придумали, — буркнул инженер, — специальный электрический пускатель, стартером называется. Можно заводить автомобиль, не выходя из него. Едем!
Георг несколько раз глушил мотор, но все-таки с шестой попытки ему удалось тронуться с места. Он толчками двинулся на первой передаче к выезду.
— Не цепляйтесь так за руль, Ваше величество! — заметил инженер. — Вы его задушите.
— Задушу руль? — удивился король, обернувшись к О’Брайену.
— Да, и не сможете вовремя повернуть… Да смотрите же на дорогу, черт бы вас побрал! — рявкнул О’Брайен. — Только на дорогу! Правее! Нет — тормоз! Тормоз, я сказал!
Георг уставился себе под ноги, на педали, лихорадочно вспоминая, какая из них тормозная. Но было поздно. Сначала раздался звон стекла, потом глухой металлический удар. Рамная машина выдержала. Ударившись о правый столб кованых ворот, роллс-ройс остановился. Разбилась только правая фара, бампер принял на себя оставшуюся силу удара.
Взбешенный О’Брайен выскочил из машины и бросился вперед. Осмотрев автомобиль, сделал длинный вздох.
— Радиатор цел, бампер тоже. Мотор не пострадал, — сообщил он.
Георг виновато хлопал глазами.
— Извините, Ваше величество, — проговорил инженер. — В такой ситуации… Переведите, пожалуйста, рычаг переключения передач на нуль.
Король с усилием включил нейтральную.
— Сцепление надо выжимать, сцепление… — проворчал О’Брайен и добавил: — Теперь уберите контакт.
Георг поворотом вертикального рычажка на панели выключил зажигание.
— Чуть нажмите акселератор, — О’Брайен несколько раз повернул заводную ручку. — Контакт!
— Да, контакт! — послушно отозвался король и повернул рычажок направо.
Мотор завелся мгновенно, но звучал он несколько по-другому, чем до удара. Инженер некоторое время прислушивался, слегка покачал головой.
— Прибавьте газу! Еще! Максимально!
Он слушал некоторое время ревущий мотор. Потом кивнул:
— Уберите ногу. Порядок. Дайте задний ход.
— Задний? — переспросил король. — Вы сказали, задний?
— А какой же? Куда вперед? Валить ворота? Рычаг передач влево и назад!
Король медленно перевел рычаг. Передача включилась на удивление мягко.
— Все согласно правилам, Ваше величество. Отпускаете сцепление и нежно прибавляете газу.
Король отпустил сцепление, но опять слишком рано. Автомобиль дернулся, однако, Георг успел прибавить газу. Роллс-ройс с ревом отскочил от ворот, едва не сбив дворецкого, который стоял с серебряным подносом в руках и наблюдал за поединком своего хозяина и автомобиля. Старик едва успел отскочить. Поднос вылетел у него из рук, звякнул под задним колесом и исчез.
— Стоп! — скомандовал инженер.
Георг ударил по тормозам, одновременно по сцеплению — автомобиль стал, как вкопанный. Мотор продолжал работать.
— Неплохо, — скупо отметил О’Брайен. — Теперь нейтральную. Отпустите тормоз. Нормально.
— Вы уверены? — осмелев, переспросил король.
— Да, — подтвердил инженер и сел рядом. — Как правило, у новичка езда задним ходом с первого раза не получается. Это успех. Поехали, Ваше величество…
Георг почувствовал себя счастливым. Он медленно, с абсолютным спокойствием мягко тронулся с места и аккуратно выехал за ворота.
Они проехали на первой передачи около ста ярдов.
— Теперь вторую! — приказал О’Брайен.
Король выжал сцепление, однако, газ отпустил недостаточно, мотор взревел, но только что родившийся шоффэр, не теряя самообладания, успел перевести на вторую. Ройс чуть прыгнул вперед и пошел резвее.
— Прибавьте до пятнадцати миль в час, — послышался голос инженера.
Георг прижал педаль и — о чудо! — машина послушалась, словно живая. С непреодолимой силой она покатила еще быстрее, трясясь на выбоинах грунтовой дороги.
— Теперь третью!
Король включил последнюю, самую быструю скорость, мотор заработал тише, однако, автомобиль двинулся еще быстрее, подняв за собой шлейф пыли. Так они ехали минут двадцать в молчании. Король, охваченный счастьем, упивался пением мощного мотора, чудом движения, как вдруг из придорожной канавы выбрался жирный белый гусь и стал посреди дороги, обрушив на приближающийся автомобиль град ругательств.
— Что делать?! — в отчаянии крикнул Георг.
— Увы. Теперь уже ничего, — усмехнулся ирландец.
Он несколько раз нажал грушу клаксона.
В последний миг гусь умело увернулся, и автомобиль только слегка задел его задним крылом. Гусь опрокинулся на спину, беспомощно перебирая черными лапами, но сумел вскочить, вытянул шею в сторону королевского автомобиля и обрушил на него еще более яростные проклятия.
— Ничего, в другой раз будет умнее, — заметил Найджел О’Брайен и тут же прикрикнул: — Смотреть только на дорогу! И только на дорогу! Нельзя смотреть на меня, на педали, на рычаги, на свои руки. И не душите руль. Колеса сами поведут вас прямо. Ваша задача, милорд, только удерживать их от поворотов на ухабах и менять направление, только когда это понадобится. Автомобиль не такой уж глупый, он все делает сам. Ему лишь надо чуть-чуть помогать.
Они вернулись через два часа. Король на первой передаче медленно и аккуратно въехал во двор, заглушил мотор. Некоторое время он сидел молча, не в силах унять мелкую сладкую дрожь во всем теле.
— Ну вот, Ваше величество, — откинувшись на спинку сиденья, проговорил О’Брайен. — Ваша первая поездка оказалась весьма успешной. Автомобиль цел, и вам даже удалось избежать почти неизбежных жертв.
— Благодарю вас, О’Брайен, — ответил Георг. — Мне вдвойне приятно слышать эти слова от вас, поскольку я знаю, чтобы вы мне льстить не станете. Позвольте пожать вам руку, поблагодарить за урок и пригласить на обед — запросто, без церемоний. Тем более что чай по моей вине вы пропустили.
Когда были убраны тарелки и официант разлил по рюмкам коньяк, Георг, доставая сигару из эбенового с серебряной инкрустацией ящика, спросил:
— Как вы думаете, О’Брайен, не сменить ли мне автомобиль? Особенно после сегодняшнего происшествия?
Инженер залпом выпил свою рюмку и задумался. Король незаметно сделал знак официанту, чтобы тот не наливал О’Брайену второй раз: Георгу еще не приходилось встречать ирландца, который не был бы алкоголиком.
— Видите ли, Ваше величество, все зависит от того, что вы хотите от вашего автомобиля, — он красноречиво повертел в руках рюмку и посмотрел на официанта, но тот словно окаменел. Ирландец кашлянул еще раз, но официант его опять не понял. И он продолжил. — Если просто спокойной и надежной езды, то вряд ли найдете лучше немецких машин. Хотя германская промышленность работает сейчас исключительно на военные цели и, по моим соображениям, она года через два выдохнется, точнее, ее ждет полный коллапс, тем не менее, автомобили фирмы Бенца пока остаются самыми надежными и удобными в эксплуатации. Видите ли, все дело в том, что у них появилось то, что называется технологией. А у нас каждый произведенный автомобиль — отдельное событие, хотя с инженерной точки зрения они мало чем уступят немецким. У немецких меньше комфорта, нежели у итальянских или французских. Они более просты и не так сильны, как английские. Но если бы я выбирал машину для себя, то, несмотря на весь свой патриотизм, взял бы немецкую.
— Вы родились в Северной Ирландии?
— Нет, я из Дублина.
— А что вы скажете об американских машинах?
— Прекрасные аппараты! И технические решения великолепные. Но я их терпеть не могу. Мне, знаете, как-то противно находиться в американской машине.
— Вот уж не ожидал! И почему же, позвольте спросить?
— Мой ответ, Ваше величество, не имеет никакого технического обоснования, мало того — в нем не будет даже логики. Да, этот молодой американец, основатель и хозяин фирмы «Форд мотор», конечно, очень неглуп. Он собирает автомобили по методу поточно-массового производства. Его автомобили хороши. Но это не относится к другим американским машинам, в первую очередь, к машинам для богатых. Скажу так: в основу дорогого американского автомобиля заложено такое качество, как наглость. Когда я сажусь, например, в паккард или кадиллак, мне так и слышится голос его создателя — разбогатевшего грабителя: «Я сделал его хорошим не для того, чтобы он был хорошим, а чтобы ты, О’Брайен, знал: я хочу тебе утереть нос и я утру!» Извините, Ваше величество — я иногда позволяю себе не совсем… парламентские выражения.
— Мы не в парламенте, — усмехнулся король. — Кроме того, О’Брайен, вам это только кажется. По крайней мере, я пока не слышал от вас ничего непарламентского. Даже сегодня, — улыбнулся Георг, а сам подумал: «Да он, оказывается, еще и философ. А может, скрытый социалист? Еще не хватало: личный инструктор короля — социалист!» Однако вслух произнес: — Но мы говорим о машинах для личной езды. А для официальных выездов?
— По-моему, ничего лучше роллс-ройса пока не придумано.
Король удовлетворенно кивнул: в гараже виндзорского дворца стояли шесть роллс-ройсов модели «Серебряный призрак».
О«Брайен снова взялся за рюмку, посмотрел на бутылку, которую наготове держал официант. Король молчал, раздумывая, позволить инженеру еще выпить или нет. К счастью, в этот момент за окнами раздался звук мотора, во дворе остановился автомобиль. Король подошел к окну, которое одновременно служило выходом в сад. Он увидел, как из подъехавшей машины медленно выбирался министр финансов. «Наконец-то», — Георг ждал его доклада уже сутки. И через минуту дворецкий доложил:
— Его превосходительство сэр Дэвид Ллойд Джордж!
О«Брайен понял, что ужин окончен, и попросил разрешения уйти. Пожимая ему руку, король спросил:
— Надеюсь, завтра мы можем совершить еще одну тренировочную поездку?
— Если позволит погода, Ваше величество.
Ллойд Джордж положил перед королем всего один машинописный листок с текстом на веленевом бланке своего министерства с грифом: «Совершенно секретно. Только для чтения Его Величества Георга и министра финансов сэра Дэвида Ллойд Джорджа». Пробежав глазами короткое донесение, король задумался. Потом спросил.
— Можете сообщить подробности?
— Они печальны, милорд. Но больше для вашего кузена императора Николая.
— Что же?
— На обратном пути оба русских корабля были встречены отрядом германских субмарин. После короткого боя корабли были потоплены.
— Немцы взяли пленных?
— Нет, милорд. Никто из русских не спасся. Все погибли.
— Однако, господин министр! — удивился Георг. — Откуда немцы могли узнать, что именно в этом месте они встретят русские корабли. Понимаю, если бы на их пути оказалась одиночная немецкая подлодка или две. Тогда понятно, досадная случайность. Но целый отряд? Лорды адмиралтейства гарантировали абсолютную секретность операции. Абсолютную!
— Она и была обеспечена абсолютно, — сохраняя печальное выражение лица, ответил Ллойд Джордж.
— Вы уверены?… — король замолчал, пристально глядя в глаза министру финансов.
Ллойд Джордж выдержал взгляд монарха и ничего не сказал. Король отвел глаза в сторону.
— Что ж, полагаю, сэр Дэвид, нужно послать для кузена Ники две телеграммы соболезнования. Одну от меня и другую — от правительства.
— Они уже готовы, милорд. Осталось подписать, — и он положил перед королем тексты телеграмм.
Правительственную Георг завизировал сразу. Свою прочел внимательнее. «Дорогой Ники! Только что узнал об огромном несчастье — гибели твоих двух замечательных кораблей и мужественных моряков. Это большое горе не только для нас, монархов, которых связывают тесные родственные и государственные отношения, но и для наших стран-союзниц, для которых гибель столь славных, мощных современных кораблей — огромная военная потеря. Прими мои глубокие соболезнования». Подумав, король дописал: «Искренние слезы душат меня, несмотря на то, что задуманное прошло успешно и подвиг твоих героических экипажей внес огромный вклад в будущую победу над общим врагом. Уверен, надо поставить вопрос перед моим правительством об открытии памятника твоим героям в Лондоне или Ливерпуле».
— Вот так, — сказал король и придвинул лист к Ллойд Джорджу.
Тот прочел и покачал головой.
— Полагаю, слова об успешном выполнении задуманного несколько противоречат общему стилю траурной телеграммы. И требованиям секретности.
— Да, — тотчас согласился король, вычеркнул ненужные слова и поставил подпись:
«Всегда твой любящий брат Georg Rex».
5. Бизнес Ельцина
ЕЛЬЦИН ВСПОМНИЛ, что сказал Гольдман, но то было позже, а сначала он не мог отвести глаз молодой женщины потрясающей красоты. Ей было лет тридцать, не больше, она была укутана в полупрозрачную бело-розовую хламиду, вышитую золотой сканью. Приглядевшись, Ельцин без труда рассмотрел ее небольшую, но крепкую грудь, узкую талию и широкие бедра. «Ну, понимаешь, вона какая у них тут мода! Бюстгальтеры не носят! — обалдело осознавал русский президент. — Совсем обнаглели. Будто с порнушного журнала сошла».
Женщина заметила его взгляд и тут же подошла мягким, но решительным шагом. Бокал она взяла с собой.
— Здравствуйте, Борис Николаевич, — сказала она по-русски с едва заметным акцентом, ослепительно улыбаясь и протягивая ему руку. — Как идут ваши дела, как себя чувствуете?
— Ничего, — нисколько не удивившись, буркнул он. — А что, ты меня знаешь?
— Кто же вас не знает. И я знаю. А меня вы не хотите узнать поближе? — спросила красотка, чуть прищурив глаза.
— Нет, — ответил Ельцин. — Б… ство не входит в мои служебные обязанности.
Красотка расхохоталась.
— О, как это сильно и мужественно сказано! — она захлопала в ладошки. — Про вас говорят, что вы такой мужественный. Вы ведь джентльмен, правда? Так говорят о вас все дамы.
— Да, — хмуро подтвердил Ельцин и решил говорить ей «вы». Он огляделся, ощупал взглядом женщин вокруг и спросил:
— А где вы видите здесь дам? Я вижу только одну. Вот эту!
И, подойдя вплотную к красотке, нежно и оттяжкой хлопнул ее по упругой, словно волейбольный мяч, аппетитной попке.
Она даже и бровью не повела. Кровь ударила Ельцину в голову и звоном отозвалась в затылке. «До чего же хороша, чертовка! Что называется — бес в ребро… Нет, надо срочно выпить, иначе погиб», — решил он.
— А Хиллари? — спросила чертовка. — Разве вы не считаете ее дамой?
— Сначала выпьешь со мной, потом скажу, — пообещал Ельцин. Он поманил левой трехпалой рукой официанта и приказал, нимало не заботясь о том, поймет он его или нет:
— Ну-ка гив мне по-быстрому шампанского… Или, стой! У тебя какой-нибудь бабоукладчик есть? — и, усмехнувшись, искоса глянул на женщину.
Официант удивленно поднял брови.
— Как вы сказали, господин президент? — на сносном русском спросил халдей. — «Бабоуклядчик»? Это вино? Или что-то другое?
— Ну! Не понял, что ль? Ликер давай! Амаретту там или еще чего!
Красотка залилась низким бархатным смехом («У, гадина, до костей пробирает», — вздрогнул Ельцин):
— Я всегда знала, что вы шутник, Борис Николаевич! На таких party обычно ликеров не бывает, только шампанское, виски и по особому заказу водка или бренди. Я хочу шампанского.
«Щас получишь», — мстительно подумал Ельцин и приказал официанту:
— Шампанского! Но только «Советского», из Питера.
Тот задумался.
— Что — нету? — недовольно протянул Ельцин. — Да откуда же оно у вас тут найдется!.. Уже ничего советского в мире нет… — Он вздохнул, обращаясь к красотке. — Придется пить, какую дрянь нальют.
Официант сказал:
— Есть французское, есть калифорнийское, сэр.
— Ладно, малый, отбой, — передумал президент. — Тащи водки. Хотя нет: водку я пью только после трех часов. Ночи, по московскому, — уточнил он. — Неси шампанского. Вашего.
Тот принес два бокала.
Ельцин пришел на прием, уже будучи немного пьяным. В таком состоянии легкой эйфории, его так и тянуло что-нибудь отколоть, покуражиться над своими фактическими хозяевами, к которым он, как сам понимал, теперь прикован, как раб к галерной скамье.
— Ну, разве можно эту газированную ослиную мочу сравнить с «Советским шампанским»? — через некоторое время спросил он у официанта, осушив бокал одним глотком.
— Невозможно, сэр, — неожиданно согласился официант. — Но ведь вы сами, господин президент, уничтожили СССР, откуда теперь взяться «Советскому шампанскому»? — дерзко ответил он, глядя Ельцину в глаза.
Вообще-то официантам, работающим в Белом доме, запрещено вступать с гостями в контакт — только в случаях крайней необходимости или если прикажет начальство: большинство обслуги было агентами спецслужб. Этот официант уже два десятка лет числился в штате ФБР, считался опытным кадром. Он, по долгу службы и по внутреннему убеждению, ненавидел СССР, но уважал русских как достойных врагов. Они делали плохие автомобили и штаны, но производили замечательные самолеты, ракеты, станки, ядерные реакторы… Писали хорошие книги, сочиняли изумительную музыку. По части науки им тоже равных не было. Теперь людей, собственными руками разгромивших свою страну, уважать было не за что. И их президент в представлении официанта был просто мразью, не достойной не только уважения, но и внимания вообще. Ельцин почувствовал неприязнь белодомовского халдея и повернулся к нему спиной.
— Так что Хиллари? — спросила красотка, принимая бокал. — Вы ее тоже не считаете дамой?
— Комолая телка — вот кто она такая, — рубанул президент, нисколько не заботясь о том, что каждый его чих записывается. Впрочем, от него фэбээровцы и не такое слышали и от души ржали, расшифровывая и переводя на английский его разговоры. — А бодливой корове, понимаешь…
— … Бог рог не дает! — договорила красотка.
— Ну! Моя давно наставила бы мне большие и ветвистые, если б я с этой Монькой Левинской в ванне не имел сексуального контакта, как не имел его мой друг Билл… Я бы эту Моньку…
— За что пьем? — дерзко перебила красотка и подняла бокал.
— Надо хоть познакомиться! — предложил Ельцин.
— С большим удовольствием! — она протянула руку. — Графиня Ксения Ксирис, она же княгиня Юсупова-Сумарокова-Эльстон-Романова.
Он осторожно пожал ее легкую, как пушинка, лапку.
— Можно называть меня Ксенией Павловной, — она слегка присела и прикоснулась своим бокалом к ельцинскому.
— Ельцин Борис Николаевич, — дурашливо в три погибели поклонился он.
— Как, тот самый? — подыграла Ксения.
— Нет. А ты?
— А я та самая. Внучатая племянница государя Николая Александровича, принадлежу Дому Романовых.
— И много вас? — спросил Ельцин. — Таких Романовых?
— Как считать, — ответила Ксирис. — Официально Дом Романовых насчитывает около трехсот человек. На самом деле больше. Князья Юрьевские тоже должны считаться Романовыми — это потомки от второго брака Государя Александра Второго и княгини Екатерины Долгорукой. Но Романовы их не признают своими.
Про Александра II Ельцин когда-то читал. Ещё в школе.
— Козёл он был, твой Государь, и развратник, понимаешь, — возмутился Ельцин. — Ну как можно — в одной хате, хоть и в зимней, под одной крышей держать жену и полюбовницу. И детей от обеих. Какой вы пример показывали трудовому народу! И еще хотели, чтоб народ вас полюбил в семнадцатом году. Я вот всю жизнь только с одной Зойкой! А в наших сибирских краях такие бабы, понимаешь! Ух, едрёна вошь!
— Это ваша любовница?
— Нет. Супружница.
Ксирис широко раскрыла глаза.
— Так ведь вашу жену зовут Наиной! Забыли? — хихикнула она.
— Тут забудешь, — проворчал Ельцин. — Зойка — ее настоящее имя. А ей не нравится. Стала называть себя Наинкой. Теперь только на эту кличку отзывается.
— Ах, вот как! Только странно, почему она такое выбрала? — удивилась Ксирис. — Наина у Пушкина в «Руслане и Людмиле» — старая злая колдунья… А, впрочем, не важно. И вы ни разу не изменили Наине Иосифовне?
— Ни разу! — и в подтверждение своих слов Ельцин с размаху хлопнул бокал об пол.
На звон несколько гостей оглянулись в сторону русского президента и снова отвернулись. Президент Клинтон только усмехнулся: «Boriss — широкая русская душа», — сказал он греческому послу Микису Ставракису. Клинтон как раз убеждал посла, чтобы Греция надавила на греческое правительство Кипра и заставила его не покупать у русских их знаменитые зенитно-ракетные комплексы С-300, которые наводили ужас на летчиков НАТО. От этих зениток вертикального взлета не было спасения даже знаменитой «невидимке» — истребителю-штурмовику F-117а. У русских тоже есть свой «стеллс», еще покруче, но С-300 «невидимок» сбивает, словно мух.
Ставракис покосился на Ельцина и ничего не сказал.
— Необходимо разъяснить вашим соседям и союзникам, — втолковывал Клинтон, — у кого они собрались покупать С-300. Их делают пьяные русские рабочие. А если президент Ельцин продаст президенту Макариосу такие зенитки, которые без водки работать не смогут? Где Макариос возьмет столько водки? — он хохотнул.
Посол выдержал небольшую паузу.
— Это шутка? — невозмутимо спросил он.
— Нет, — отпарировал Клинтон. — Это не шутка. Мистер Ставракис, вы, безусловно, лучше меня понимаете, что под влиянием русских Кипр может превратиться во вторую Кубу — у вас под боком. Русские туда влезут. Ведь для обслуживания С-300 понадобятся специалисты, потом проблемы эксплуатации, запасных частей, ремонта, обучения персонала. Это таит колоссальную опасность для всей Европы, но, прежде всего — для Греции. Русские будут держать под прицелом самых важных наших союзников по НАТО — вас, Турцию, весь Ближний Восток, Северную Африку. Кто может поручиться, что русские не поставят на Кипр наступательное вооружение, например, ракету «москит», которую наши эксперты прозвали «убийцей авианосцев»? И что Макариос не перепродаст часть С-300 или «москитов» Милошевичу? Очень даже реально. Я знаю, Ельцин согласен дать оружие в кредит кому угодно.
Грек молчал.
— И тогда, — закончил свою мысль Клинтон, — русские будут контролировать Босфор и Дарданеллы. Сбудется тысячелетняя бредовая и крайне опасная идея русских националистов. Потом — Стамбул, освобождение Святой Софии… Потом падет Белград, за ним — Афины, и посыплются костяшки, как в домино. Стоит им только начать. И от Кипра тоже ничего не останется. И от Греции. Будет один сплошной ГУЛАГ. Понимаете, друг мой?
Клинтон говорил вещи очевидные, и Ставракис все понимал. Но, как грек, он ненавидел своего ближайшего соседа по НАТО — Турцию. Эта ненависть у греков была наследственной и передавалась из поколения в поколение уже пятьсот лет. А в настоящую минуту на лужайке Белого дома Ставракис еще больше ненавидел Америку, подмявшую под себя всю планету. И наконец, больше всех на свете он ненавидел этого долговязого наглого саксофониста Клинтона, который распоряжается целыми странами и народами, словно коровами у себя на ферме, а в святая святых Америки — в Белом доме — занимается оральным сексом со смазливой еврейкой, о чем потом злорадно судачит вся планета. «Ковбой, — подумал Ставракис, — коровий мальчик — куда уж дальше».
— Я недостаточно ясно высказываюсь? — спросил его Клинтон.
— Нет, не в том дело, — ответил Ставракис, — яснее некуда. Вы всерьез полагаете, что сегодняшняя Россия способна превратить Кипр во вторую Кубу? По-моему, все там очень изменилось. Они предают своих союзников, торгуют своими шпионами, отдают территории. Какой опасности можно ожидать от такой страны — она гниет заживо.
Клинтон от души расхохотался.
— Конечно, конечно, вы правы, мистер Ставракис, — отсмеявшись, заявил Клинтон.- Президент Борис — наш друг. Он скорее отрубит себе два пальца и на правой руке в дополнение к левой, нежели решится нас чем-либо огорчить. Но кто придет после него? Может прийти Зюганов. Обратите внимание на жесткую закономерность, с которой в России меняются правители. Все зависит от наличия или отсутствия волос на голове претендента. Лысые и волосатые там сменяют друг друга с неумолимой закономерностью. Александр III был лысым или почти лысым, Николай II — волосатым. Ленин — лысый, Сталин — волосатый. Хрущев — лысый, Брежнев — волосатый. Андропова можно не считать, он и не правил почти, как и Черненко, но оба они подтверждают закономерность. Дальше: Горбачев — лысый, Ельцин — волосатый. А ведь Зюганов лысый!
— Будем надеяться, что такое чередование — просто шутка природы, — усмехнулся Ставракис.
— Да, будем надеяться, — согласился Клинтон. — Но мы не допустим, чтобы Россия предавалась иллюзиям о возврате своей мощи. Поэтому придется нам самим подыскивать для нее следующего лысого или лысеющего президента… — Клинтон тяжело вздохнул, оглянулся на Ельцина и увидел, что тот машет своей трехпалой клешней, зовет к себе:
— Ну что ты там, Билка, копаешься? Ступай сюда — что я тебе щас покажу!.. — крикнул он на всю лужайку.
Клинтон повернулся спиной к Ставракису, подозвал переводчика и, даже не кивнув послу, направился к Ельцину.
— Смотри, Билл! — Ельцин чуть не ткнул пальцем в грудь Ксирис. — Скажи, ты видел когда-нибудь такую?
— Такую еще нет, — засмеялся Клинтон и воровато оглянулся на Хиллари. — А что?
— Вот и я о том же. Она же совсем голая, даже без трусов.
— Голая? — удивился Клинтон. — Не вижу.
— Как ты ее вообще сюда пустил? Надо же смотреть! Чем твоя охрана занимается?
Ксирис ошарашено, во все глаза вытаращилась на Ельцина. Клинтон вежливо отвел взгляд.
— Нет, ты морду не отворачивай! — приказал Ельцин Клинтону. — Раз уж пустил ее сюда, то смотри, какие у тебя гости, — и, схватив Клинтона за подбородок, повернул его лицо снова к Ксирис.
— Boriss, я все хорошо вижу, — с легким раздражением ответил Клинтон. — У миссис Ксирис очень интересный и модный костюм. Он, наверное, ей очень идет. Хотя в таких вещах я понимаю мало, но, пользуясь моментом, отмечу, что мы находимся в столице мировой демократии, где каждый одевается, как хочет.
— А если я завтра к тебе тоже голый приду?
— Приходи, — разрешил Клинтон. — Только имей в виду, без галстука тебя мажордом не пустит.
— Ну, ты и жук, ну молодец! — Ельцин обнял Клинтона за плечи. — Видишь, Аксинья, он не дурак, шутки понимает. А то у нас в России говорят, что раз американец, то, значит, тупой, как сибирский валенок, и наглый, как верблюд.
Клинтон улыбнулся и ободряюще подмигнул Ксирис. А Ельцину сказал:
— Boriss, друг мой, говорят, что ты хочешь продать С-300 греческому Кипру. Прости за прямой вопрос, сколько обещал тебе заплатить Макариос? Ладно, можешь не говорить, понимаю: коммерческая тайна.
Ельцин некоторое время с пьяной ухмылкой смотрел на Клинтона.
— Ну! Ты уже и здесь унюхал? Ну, Блин Клинтон, даешь! С тобой ведь и в карты, наверное, нельзя садиться играть: обдуешь!
— Ты слишком высокого мнения обо мне, Boriss, — хохотнул Клинтон. — Мне еще учиться и учиться. Может, когда-нибудь оправдаю твои надежды. Так сколько дает Макариос?
— Т-с-с! Тихо! — Ельцин прижал палец к губам. — Государственный секрет. Никто не знает.
— Не хочешь говорить? — улыбался Клинтон. — Даже мне?
— Даже тебе.
— Правильно, Boriss. Нельзя раскрывать секреты своего государства, — согласился Клинтон. — Но здесь тайны уже нет. Я знаю: он дает тебе два миллиона зеленых за каждый комплекс — вдвое меньше, чем твои игрушки стоят на самом деле. А тебе нужна валюта.
— Да что тебе до Макара? — удивился Ельцин. — Хочет — пусть покупает. Ты что — хочешь предложить больше? Тебе тоже нужны мои С-300?
— Нужны, конечно. Я тоже хочу их у тебя купить. Я бы взял комплексов пятьсот-шестьсот — в десять раз больше, чем их сейчас установлено по всей планете, — ответил Клинтон.
— Так бери! Отдам хоть завтра!
— Мне завтра конгресс на них денег не даст, — вздохнул Клинтон. — Ничего не могу поделать… Boriss, я понимаю, ты хочешь сделать свой бизнес. Но не надо продавать С-300 Макариосу. Он нехороший человек. И тем более, Боже упаси тебя продавать их Милошевичу! Этот бывший коммунист начнет стрелять сначала по хорватам, потом по албанцам, потом по мне. Потом до тебя доберется. Вот и греческий посол, Ставракис, так же думает. Он мне только что сказал.
— А разве мои зенитки достанут до Вашингтона? — удивился Ельцин.
— Если Милошевичу очень захочется — достанут, — заверил его Клинтон. — Но я хочу тебе помочь и предложить тебе лучший бизнес. Можно заработать сразу шесть, а то и десять миллиардов. Притом без всякого риска, — добавил американский президент.
— Ну-ка, я послушаю.
— Видишь того парня? — Клинтон указал подбородком на толстяка в безукоризненном смокинге, лысого, с небольшими островками курчавых волос на черепе. В углу его мясистых, брезгливо изломанных губ торчала черная бразильская сигара.
— Ну! — подтвердил Ельцин.
— Это мистер Гольдман, он же лорд… лорд…
— Лорд Айшир, — уточнил сам толстяк, который в мгновение ока, словно НЛО, оказался рядом и слегка поклонился.
— Лорд Эшир… — продолжил Клинтон.
— Лорд Айшир, — снова уточнил толстяк, остановив на Ельцине внимательный взгляд своих круглых черных глаз.
— Да, конечно, — подтвердил Клинтон. — В общем, мистер… э-э… мистер лорд — вице-президент лондонского банка «Бэринг-бразерс». Он тебе все сейчас расскажет, как можно заработать шестьдесят миллиардов долларов — как это у вас в России говорят — шестьдесят лимонов, — засмеялся Клинтон.
— Арбузов, — буркнул Ельцин. — Не лимонов, а арбузов.
— Ну конечно, как же я мог забыть! — снова заржал Клинтон. — Короче, сейчас мистер Эшли…
— Айшир, — терпеливо поправил толстяк.
— … Мистер Мишер тебе все объяснит. А я пока не буду вам мешать, — сказал Клинтон и двинулся к Хиллари. Когда он поравнялся с Ксирис, та вопросительно посмотрела на него. Клинтон ответил ей утвердительным кивком и пошел дальше.
За все время своего президентства Клинтону удавалось добиться от Ельцина всего. Один только раз «друг Boriss» покочевряжился, когда США от имени НАТО поставили Милошевичу ультиматум: уходить из Боснии и Герцеговины немедленно и навсегда, иначе ракеты «томагавк» завтра же накроют Белград. Тогда президент разорванной на части Югославии Слободан Милошевич бросился в Москву, попытался упросить Ельцина стать посредником между сербами и хорватами с босняками. Взывал к идее славянского братства. «Железный Слобо» чуть не плакал и заявил Ельцину, что готов стать перед всей Россией на колени на Красной площади, только бы она спасла своих славянских братьев от геноцида. А то, что хорваты и босняки при самой открытой и сильной поддержке США устроили сербам стопроцентный геноцид, почище гитлеровского по отношению к евреям, не видели только безнадежно слепые или американцы.
Ельцин в этот же вечер сообщил телевидению, что теперь он сам решит проблему Балкан. Раз уж больше ни у кого не получается. И пригласил в Москву для переговоров лидера хорватов Туджмана и босняков — Изетбековича. Но вождя боснийских сербов Караджича, которые из последних сил противостояли головорезам Туджмана и Изетбековича, он не назвал.
Приехал в указанное время только Милошевич. Туджман и Изетбекович откровенно поиздевались над миротворцем Ельциным, которого отныне уже во всем мире считали шутом. Кое-кто прибавлял: кровавым шутом. Борисом Кровавым.
Он тогда сильно обиделся — публичное оскорбление в планетарном масштабе его все-таки достало. И тут Милошевич воспользовался моментом: через Макариоса попросил зенитно-ракетный комплекс С-300.
Накануне нынешнего разговора на лужайке Белого дома Клинтон еще раз изучил справку по С-300.
Страшное оружие. Оно поражает вообще любые воздушные цели, в том числе крылатые и даже баллистические межконтинентальные ракеты. Вертикально взлетающей ракете ЗРК С-300 вообще не нужно время на прицеливание. Русские оснастили ее фантастически мощной электроникой, и ракета ищет цель сама, не сбиваясь с пути и не отвлекаясь на ловушки. Летчик от любых других зениток может еще спастись, перейдя на бреющий полет — достаточно 156 метров от земли: во всем мире зенитки бьют снизу вверх. Но ракета С-300 обрушивается на цель, словно сокол на дичь, сверху! И летит со скоростью, в три раза превышающей скорость пули знаменитой американской винтовки М-16, то есть 3 километра в секунду. Аналогичная американская система М1М-104 или «пэтриот», в которую были вложены сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков, оказалась хуже во много раз. Ее надо наводить на цель, дальность действия ее на треть меньше, чем С-300, минимальная высота действия 600 метров, то есть на бреющем полете от нее можно спокойно уйти. Масса боезаряда у «пэтриота» в два раза меньше, чем у С-300, время развертывания 30 минут, а у русских — 5 минут. И, наконец, русские с одного комплекса С-300 могли выпускать сразу 12 ракет, а М1М-104 могла выпускать сразу только 8 «пэтриотов».
Операция «Решительная сила», как потом натовцы назовут свое бандитское нападение на Югославию, существовала пока только на бумаге, но Клинтон готовился к ней уже сейчас.
Аналитики ЦРУ абсолютно правы. Это русское оружие нельзя выпускать за пределы России.
Есть сведения, что они готовы выпустить еще более совершенную систему С-400, которая вот-вот начнет производиться в Петербурге. Если и эти ЗРК расползутся по земле, на американской политике авианосцев можно ставить крест. Да и военно-воздушные силы как род войск можно ликвидировать. Ведь даже какой-нибудь Мадагаскар развернет три-четыре С-400 и плевать будет на любые угрозы и требования Америки.
Самое радикальное и верное решение вопроса — заставить русских самих свернуть и производство ЗРК, и подготовку специалистов к ним.
Вскоре агентом ЦРУ будет убит на пороге собственной петербургской квартиры главный конструктор С-300 и С-400 Валентин Смирнов. Еще через пару лет выяснится, что Ельцин, а до него Горбачев настолько опутали Россию внешними долгами, большей частью которых распоряжались американские банкиры, что без разрешения США Россия и пикнуть не смеет о продаже С-300 куда-либо, а уж Милошевичу — и подавно.
Впрочем, скоро в Петербурге будет куплен (в рамках объявленной приватизации) «Северный завод», выпускавший удивительные зенитно-ракетные комплексы. Куплен частной английской фирмой! Тогдашняя губернаторша Матвиенко объясняла горожанам: «Новые хозяева принесут новые технологии». Даже не потрудилась соврать получше. Впрочем, в те времена вся Россия представляла собой один большой сумасшедший дом, сбитый с толку народ охотно верил любой чепухе. В том числе и тому, что не имеющие никаких технологий производства ЗРК англичане что-то «принесут». Запад вообще никогда ничего не приносил в Россию. Он только брал. К счастью, при Путине иностранцев с завода погнали, С-300 с производства сняли, вместо них пошли С-400, но некоторые секреты уже были похищены, и вот уже Израиль объявил, что нашёл противоядие против С-300. Правда, пока не доказал.
«Мистер лорд» смотрел на Ельцина и молчал. Ксения Ксирис подошла к президенту вплотную и прижалась к нему боком.
— Решила доконать меня, проказница? — спросил Ельцин, прищурив свои заплывшие глазки так, что их совсем не было видно.
Вместо ответа Ксирис проникновенно спросила русского президента:
— Борис Николаевич! Зачем вы взорвали дом Ипатьева, где расстреляли государя Николая Александровича с семьёй? Ведь это была святыня. Там погибли мои родственники, святые великомученики. Вы когда-нибудь видели икону с изображением всего семейства? Могу показать, — и она показала Ельцину на свою грудь. Там в уютной и потрясающе глубокой ложбинке лежала маленькая иконка на цепочке. Похоже, она только что надела эту иконку. Пять минут назад Ельцин ее не видел.
Ельцин хмуро посмотрел на иконку, потом на Ксирис. Пьяная пелена стала спадать с его глаз.
— Ты, милая барышня, не знаешь, что такое указание Политбюро ЦК КПСС, — усмехнулся Ельцин.
Она держала в руке тот же бокал и слегка облизывала его края кончиком своего розового, как у котёнка, языка.
— Я представляю себе, что такое указание Политбюро, — возразила она, — Партийное поручение — больше чем приказ, не так ли, Борис Николаевич? Ведь это серьёзнее, чем приказ по начальству?
— Все-то ты знаешь, Аксинья! — крякнул Ельцин, отодвигаясь. — А ты что скажешь на это? — спросил он у толстяка. — Как тебя звать-то?
— Джекоб Гольдман, — сверкнул лысиной толстяк.
— Господин Гольдман не понимает по-русски, — сказала Ксирис.
— Совсем? — удивился Ельцин.
— Почти.
— Ну, так чего он хочет? — спросил президент.
— Он тоже ждёт вашего ответа, — улыбнулась Ксения Ксирис.
— Тоже родственник императора?
— Шутить изволите, ваше превосходительство, — снова улыбнулась Ксирис, но на этот раз в уголках ее изогнутых губ скользнула тень брезгливости. — Разве может человек его племени быть родственником русского императора?
— А кто вас там разберёт, — буркнул Ельцин. — У тебя же самой муж из этих… как тебя… Цацкис? Маргулис?
— Ксирис, — отпила глоток Ксения. — Ксирис — греческая фамилия. Мой муж — известный предприниматель. Вино и оливки. Между прочим, родственник болгарского царя Бориса. Православный.
— Борис Николаевич прав: среди евреев тоже немало православных, — неожиданно на чистом русском языке подал реплику Гольдман. — Вот покойный священник Александр Мень хотя бы к примеру.
— Это который из тех? — поинтересовался Ельцин. — Ему ещё другой, такой же, развалил башку топором. Наперсничек, как в старину говаривали.
Раскрывшиеся глаза Ксирис заняли половину ее прелестной мордочки и по величине стали приближаться к размеру ее груди. А Гольдман медленно стал краснеть и надуваться. «Точь наш индюк в деревне Будки», — отметил Ельцин, но неточно: лицо лорда приобрело коричнево-синюшный оттенок, как у первого и последнего президента СССР товарища Горбачёва.
— Ну! — обратился к нему Ельцин. — Ты же говорил, что по-русски ни бум-бум!
— Он так не говорил, — возразила Ксения.
— Я так не говорил, — возразил Гольдман. — Это вы так решили заместо меня, господин президент или товарищ первый секретарь обкома, как я вас называл ещё в семьдесят шестом году. Я работал тогда, как и вы, в Свердловске. Заместителем начальника областного управления торговли.
— Ах, вот оно что! То-то, памаш, мне твоя харизма знакома! — протянул Ельцин. — Эмигрант, значит. Отщепенец. Лорд Шушер.
— Айшир, — поправил Гольдман.
— Все равно. Как тебя по-русски звать-то?
— Яков Исидорович, — выдавил из себя лорд Айшир.
— Ну, так чего ты хочешь, Яша? — спросил Ельцин, ощутив внезапную скуку. Он поманил официанта. Тот приблизился с подносом, на котором стояли бокалы с виски, налитым на два пальца.
— Борис Николаевич, зачем же вы так отца Меня неприлично… Разве у вас есть доказательства насчет его нравственности? — укоризненно спросила Ксирис.
— Это не есть с вас большой и хороший о’кей, — подтвердил лорд Айшир. — Совсем не о’кей, товарищ первый секретарь обкома! — убеждённо повторил банкир.
Ельцин слил четыре стакана в один и проглотил залпом.
— Борис Николаевич, дама ждёт ответа, — нежно напомнила ему Ксирис, чьи глаза снова приобрели обычный размер, и коснулась пальчиками его левой руки — того места, где вместо пальцев у него были белесые шрамы, покрытые пигментными пятнами.
— Как тебе ответить, красавица. Так… болтали про этого попа, — проговорил президент, чувствуя, как по жилам поползло долгожданное алкогольное тепло. — За что купил, за то и продаю.
Но это был какой-то необычный виски, такую марку он ещё не пробовал. Ожидаемой хмельной волны не последовало. Ельцина охватывало какое-то приятное оцепенение. Ему вдруг стало все нравиться. Он увидел всех гостей сразу одновременно и каждого в отдельности. Какая-то способность открылась в нём — видеть всех на лужайке одновременно и слышать одновременно всех и в то же время — каждого в отдельности. Он понял, что хорошо, оказывается, знает и английский, и немецкий и греческий языки и еврейский тоже. Хотя пять минут назад он знал только «гутен морген» и «гуд бай». Проспиртованный мозг Ельцина, тем не менее, дал сигнал: «Пьянеешь. Нельзя смешивать виски с шампанским». Но Ельцин отмахнулся: «Ну и что? Хорошо ведь. И ведь я не Ельцин вовсе. Я, наверное, Бог для них всех, я их всех слышу, вижу, понимаю. Я что хочу, то с ними и сделаю. Какие же все хорошие ребята — и Билл, и Яшка, и девка эта, Ксюшка, люблю я их всех!..»
Он покачнулся и прислонился к Ксирис. Она оказалась на удивление крепкой бабёшкой и едва заметным, но сильным толчком локтя вернула Ельцина в вертикальное положение.
— Я о доме Ипатьева. И о расстреле государя императора, — напомнила Ксирис.
— Андропов, — откашлялся Ельцин, — Андропов, памаш, тогда решил взорвать евонный дом… Он тогда уже плохо соображал. У него был кардиостимулятор.
Яков Исидорович, лорд Айшир, удивлённо глянул на президента.
— Со стимулятором ходил Брежнев, а не Андропов, милый вы мой Борис Николаевич! — улыбнулась Ксения Ксирис.
— Да, правильно, — согласился Ельцин. — Со стимулятором ходил Брежнев, а решал все Андропов.
Взгляд Ксирис затуманился. Ельцин снова поманил пальцем официанта, у которого был такой странный виски с таким необычным вкусом. Но тут как черт из табакерки, откуда-то выскочил Коржаков.
— Хватит, Борис Николаевич, — шепнул он. — Нам скоро на самолёт.
— Пошёл вон в будку, пёс! — ласково приказал Ельцин. — И не лезь под царскую руку — можешь без башки остаться!
Лицо Коржакова залилось краской. Он застыл на несколько секунд. За это время официант успел наполнить стакан президенту, а Ельцин — выпить. После чего у президента начисто отшибло память.
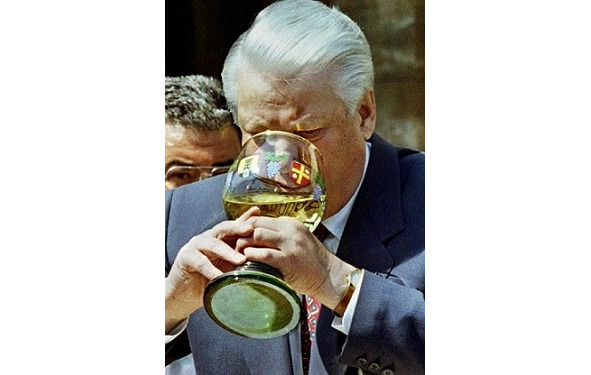
Он помнил только, как продолжал любезничать с Ксирис, как на прощанье щупал ее резиновые ягодицы, хотя Коржаков указывал ему на камеры слежения. Потом все смеялись остротам отошедшего от обиды Коржакова и внимательно слушали Гольдмана, говорившего что-то короткое, но очень важное; Ксения при этом кивала молча головой, а потом тоже говорила о чем-то страшно интересном и остро-таинственном. После чего Ельцин сказал: «Наше слово твёрдое, царское». И что ещё? Ах, да: «Похороним царя-батюшку с почестями». Потом подошел какой-то длинный мужик в очках. Кажется, это был Клаус Кинкель, министр иностранных дел Германии. Ему Ельцин пообещал восстановить республику немцев Поволжья, а тем, кто не захочет жить в республике, построить дома в Питере и в Москве или в окрестностях обеих столиц. Построить компактно, чтобы каждая такая стройка стала отдельным населённым пунктом только для немцев, вроде Кукуевой слободы, которая существовала ещё при Петре Первом. Ельцин ему все пообещал, пожал Кинкелю руку. Тот уже повернулся, чтобы отчалить, но Ельцин догнал его и снова несколько раз пожал длинному колбаснику руку, повторяя: «Наше слово царское, верное». И ещё что-то пообещал… Что? Ну?! Никак не вспомнить…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.