
Любимой маме, Галине Вячеславовне
Все события и персонажи книги — вымышлены. Любое совпадение с реальностью — случайно
Авторы
Пролог
Twitter.com, публикация пользователя @director_roth от 15 августа 2013 года:
«О чем будет новый фильм? Это действительно интересно. В моем распоряжении оказались сведения о том, что на территории одной из восточноевропейских республик, посещаемых ежегодно сотнями тысяч туристов, творится нечто ужасное. Там похищают людей — представителей разных национальностей, — которых потом пытают и убивают только по одной причине: по национальной принадлежности. Заказчиками этих убийств являются олигархи всего мира. Скажем, какому-то богатею вдруг захотелось лишить жизни словака, потому что тот некогда обидел его родителей. Он платит огромные деньги организаторам синдиката, которые похищают приехавшего в страну незадачливого туриста и отдают его в руки палача… О чем здесь можно и нужно сказать? Да о многом — начиная с механизма работы спрута и заканчивая тем, что власть денег в современном мире перегибает палку, посягая уже не на вершину человеческой власти над человеком, но заявляя о власти Божьей. Возможно ли за деньги купить права, принадлежащие Создателю? Как Вы считаете?»
О начале съемок Рот объявил через неделю после твита, вызвавшего бурю негодования среди журналистов и читателей. Съемки должны будут проходить не в США, а в Европе, и потому накануне вылета съемочной группы было решено провести пресс-конференцию автора фильма на Юниверсал.
В назначенный день, несмотря на непогоду — дождь лил всю ночь и все утро и превратил улицы Лос-Анджелеса в речные направления, — человек 100 журналистов столпились в конференц-холле Юниверсал Сити, где с минуты на минуту с нетерпением ждали появления самого режиссера. Он застрял в пробке и немного опаздывал — хотя пишущая братия думала, что это лишь его тактический ход: заставить акул пера испытывать томительное ожидание наедине со своими вопросами и домыслами.
Пит Брейгель, заглянув в зал и увидев количество собравшихся, нетерпеливо набрал на телефоне номер Рота.
— Где ты, черт тебя дери?
— Перекрыли 47-ю авеню — там ветром ночью свалило два дерева, — так что пришлось ехать в окружную. Немного застрял. Думаю, это минут на 10, не более.
— Поторопись, они все собрались.
— Много?
— Больше, чем ты думаешь.
— Это же здорово, Пит, расслабься.
— Мне-то что? Отвечать на вопросы предстоит тебе.
— Поверь мне, я найду нужные слова. А ты как продюсер должен радоваться — мы еще к съемкам не приступили, а уже такой ажиотаж.
— Как продюсер я знаю, что важно не столько заявить о себе, сколько оправдать потом ожидания. Жду.
Элай Рот приехал спустя 15 минут и сразу поднялся в конференц-холл. Журналисты сходу начали заваливать его вопросами — не столько о фильме, сколько о твите.
— Скажите, Вы планируете снимать фильм об убийствах на территории Балканского полуострова?
— Точнее, Чехии.
— Не будут ли власти страны против изображения их государства в столь неприглядном свете от режиссера-американца?
— Думаю, мы урегулируем наши разногласия. Ни для кого не секрет, что преступность существует всюду. По всему миру похищают и убивают людей — и далеко не сам этот факт характеризует власти государства и само государство как плохое или хорошее. Другое дело, что с этими маргиналами необходимо бороться, что и делают государственные юрисдикционные органы как США, так и Чехии. А поскольку наш фильм, по старой голливудской традиции, будет с хэппи-эндом, то и переживать о падении престижа Чехии в результате премьеры, я думаю, не следует.
— В своем аккаунте в «Твиттере» Вы написали, что получили некую правдивую информацию о том, что в одной из восточноевропейских республик похищают, пытают и убивают людей на заказ, только ввиду их национальной принадлежности.
— Да, это так.
— А откуда у Вас такая информация?
— Из закрытых пока источников в правоохранительных органах, в том числе и международных.
— Интерпол?
— Если угодно.
— Если Вы обладаете такой информацией и ею обладает сам Интерпол, то почему они не пресекут деятельность этого мафиозного синдиката?
— Полагаю, вопрос не ко мне. Да и потом — если в СМИ эта новость не приобрела широкого резонанса, это вовсе не означает, что работа организации не пресечена. Но даже если так — фильм будет призван привлечь общественное внимание к данной проблеме и, по мере сил, прекратить нарушение прав человека.
— Как Вы полагаете, что движет людьми, которые выбирают в качестве времяпрепровождения столь кровавые развлечения?
— Сложно сказать, но я думаю, что капитал во все времена порождал чувства безнаказанности и вседозволенности. Еще Карл Маркс говорил о том, что в основе любого крупного состояния лежит преступление. Ему же вторил Бальзак. Человек, совершивший преступление единожды и не привлеченный к ответственности, а лишь обогатившийся в результате этого, будет совершать преступления снова и снова. И всякий раз их масштаб и опасность для общества будут только возрастать.
— Не считаете ли Вы, что фильмом оскорбите даже не правительство, а самих граждан Чехии?
— Я не утверждаю, что это делают граждане Чехии. Олигархи всего мира прибегают к столь грязным развлечениям, купаясь в ничем не ограниченной роскоши. Мы с Вами живем в цивилизованном мире, где богатство, возможно, и дает власть над людьми, но не позволяет попирать общечеловеческие ценности. В этом, а вернее, в желании прекратить это — центральный смысл фильма.
— Раскройте чуть детальнее сюжет?
— Двое американских студентов и затесавшийся с ними исландец путешествуют во время каникул по Европе. В Амстердаме они встречают русского, который, видя их тягу к сексуальным экспериментам, рекомендует им отправиться в одну из республик на постсовестком пространстве, где низкий уровень жизни населения делает женскую его половину чрезвычайно доступной. В поисках приключений наши герои отправляются в Чехию, где и попадают — не без участия оных жриц любви — в лапы того самого синдиката.
— Но конец у фильма будет все же позитивный?
— Насколько это возможно по описанному мной сюжету.
Смех в аудитории.
— А Интерпол не будет против огласки тех секретов, что оказались в Вашем распоряжении?
— Свобода слова — есть величайшее достижение демократии. Среди прочего, она заключается в отсутствии необходимости спрашивать у кого бы то ни было разрешения вообще, и у правоохранительных органов в частности, особенно, когда речь идет о жизнях многих людей.
— Где будут проходить съемки? В каких интерьерах?
— Максимально приближенных к действительности. В частности, закрытый блок спецпсихбольницы, где содержались особо буйные больные, изолированный вот уже лет 50 как, будет одним из мест действия.
— Там все и происходило?
— Да.
— Существует поверье, что в таких местах небезопасно кармически да и физически появляться в ближайшее время после того, как подобный ужас там происходил. Вы не суеверный человек?
— Может быть, но призраки не входят в число суеверий, которые меня преследуют. Есть множество других — начиная от черных кошек и заканчивая подъемом с правой ноги каждое утро.
Снова смех.
— Сколько времени Вы планируете посвятить съемкам?
— Больше времени ушло на подготовку и пробы в Америке. Думаю, что весь материал отснимем максимум за месяц.
— Когда Вы вылетаете? Группа летит с Вами?
— Да, это произойдет сразу после того, как Вы отпустите меня, господа журналисты.
— Почему, если съемки будут проходить в Чехии, Ваш билет заказан на Сараево?
— Вы задаете вопросы, не относящиеся к фильму. Благодарю Вас, пресс-конференция окончена…
— Последний вопрос. Каково рабочее название фильма?
— «Хостел».
— Но почему «Хостел»?
— Могут быть у режиссера профессиональные тайны? Не загоняйте меня в угол, господа, Вы снижаете рейтинг фильма в глазах будущих зрителей.
В аэропорту вся съемочная группа была спустя час. Впритык успев на регистрацию, наскоро попрощавшись с женами и детьми, сотрудники Юниверсала и актеры заняли места в зафрахтованном самолете, который вылетел без задержки — в 17.40.
Вечером в аэропорту Сараево их встретили, как и договаривались, люди Драгана. Сам он не приехал — было поздно, да и работы сегодня никакой не намечалось. Планировалось разместиться в отеле и отдохнуть, чтобы утром с места в карьер приступить к работе.
Около 11 часов несколько черных мерседесов и один матовый микроавтобус той же фирмы были у ворот гостиницы. Драган вышел из машины, чтобы поприветствовать американских коллег.
— Рад видеть вас на сербской земле, дамы и господа, — он протянул руку Элаю. Они тепло поздоровались.
— Когда в последний раз сербы говорили это американцам? — горько пошутил Дерек Ричардсон, исполнитель одной из главных ролей.
— Кто старое помянет, тому глаз вон, — отмахнулся Драган и жестом пригласил гостей усаживаться по машинам. Они с Ротом ехали вместе.
— Послушай, — спросил Драган, когда они остались в машине вдвоем. От водителя пассажиров, сидевших на заднем сиденье, отделяло плотное воздухонепроницаемое стекло. — Они знают, кто я такой?
— Нет. Это посеет панику среди моих коллег, а мне с ними еще работать. Сам понимаешь…
— Но как ты им потом все объяснишь?
— Как знать, может, еще и не придется. Меня больше занимает другой вопрос.
— ???
— Ты не боишься, что после съемок с бизнесом придется покончить? Начнется резонанс, общественное внимание… Шила в мешке не утаишь.
— Нет, не боюсь. Здесь есть несколько причин. Во-первых, без надежных контактов с местной полицией и Интерполом я не смог бы столько лет содержать и обслуживать столь… специфический проект. Причем связи уходят корнями очень глубоко — настолько глубоко, что вырвать их не получится, это подорвет всю подземную древесную систему. А во-вторых, даже если что-то и случится, что маловероятно, то жалеть об этом я не стану. Все это на протяжении последнего года я делал во имя одного человека, а его больше нет.
— Дай угадаю. Его тоже принесли в жертву? На него поступил заказ?
— Нет, тут другое. Видишь ли, раньше я любил дело, которому служил, как мне казалось, отдавался ему со всем рвением, что было у меня в душе. А сейчас ненавижу. А когда человек начинает ненавидеть свою работу, работу пора менять. Или вовсе уходить на покой — всему выходит срок, и машинам, и людям.
— Это из-за того человека? Из-за того, что он погиб?
— Да, но виновата не собственно организация. Виноваты те, кто за ней стоял все эти годы — акулы мирового капитала, как раньше писали в учебниках той страны, в которой я вырос и на которую тоже достаточно долго гнул спину. Сначала у станка, потом с автоматом в руках. Они начали все это. Месть — вещь благородная, но с ней нужно быть аккуратным. Нужно следить, что месть не превратилась в источник удовлетворения ежедневных потребностей. Я где-то эту грань упустил, но тот человек, о котором мы начали говорить, обратил мое внимание на недосмотр. Когда я все понял, было уже поздно — маховик раскрутился донельзя…
— А что сейчас? Синдикат работает? Колеса маховика вращаются?
— Сейчас, как видишь, ты причиняешь мне убытки своими съемками.
— И большие убытки? Дорого?
— Не дороже человеческой жизни.
— Так может расскажешь мне о том, кто способен даже в таком суровом человеке как ты пробудить сентиментального правдолюбца?
Драган с некоторым презрением посмотрел на своего собеседника — тон его казался ему надменным и вычурным.
— Мы приехали.
Картина, открывшаяся взору членов съемочной группы, ужасала и несколько шокировала. Перед ними стояло огромное — длинное, но не очень высокое — этажа в четыре — здание старой постройки. Когда-то здесь были нормальные подъездные пути, но война разрушила их и оставила лишь направления. Однако, ворота были крепкие, надежно охранялись. По бокам от пути следования кортежа располагались вольеры с собаками — все, как и положено в подобных случаях. Само здание серое, мрачное, больше напоминало некий заброшенный завод или мастерскую. В небо тянулась огромная дымовая труба.
— А это здесь зачем? Ты же говорил, что это была лечебница для душевнобольных.
— Для буйных. В основном, для преступников.
— А труба?
— А их отапливать, по-твоему, не надо? Зимы здесь холодные, да и горы недалеко — это все же не Америка.
Путь внутрь лежал через проходную. Она была разбита и разгромлена. Некогда она занимала два этажа, но сейчас от помещения осталась лишь маленькая каморка да следы былого величия — каркасные сваи да балочные перекрытия.
— А плиты куда дели?
— Что-то разрушено в результате ваших бомбежек, что-то местные хулиганы да мародеры растащили.
Но самое интересное начиналось потом.
Весь корпус, дорога в который лежала через проходную, занимал четыре этажа с подвалом и чердаком. Подвал использовался для переодевания — там размещались специальные большие комнаты типа раздевалок или гардеробных, а также душевые. Там каждый приезжающий имел возможность переодеться в любой костюм, какой ему было угодно — обычно, по словам Драгана, дресс-предпочтения озвучивались в канун приезда дорогого гостя в столицу Сербии. Здесь, как в театре, костюмы были на любой вкус — и маски чумных докторов, и кожаные комбинезоны, и латексные облегающие одеяния, и латы древних рыцарей, и тоги римских императоров.
Этажом выше начиналось основное место действия. Здешние боксы были оборудованы различными столярными инструментами — тесаками, отвертками, ножами, пилами, резаками, ножовками, зубилами, — верстаками, а также простыми незамысловатыми стульями или табуретами, привинченными к полу. Дверь каждого бокса запиралась на электронный замок — и открывалась с пульта охраны, расположенного в конце коридора. Там же сидел дневальный, который с помощью мониторов отслеживал происходящее в каждой из изолированных комнат. Стены здесь были толстые, а потолки низкие. Освещение тусклое, в лучах которого едва можно было различить очертания собеседника — другого редкие и маломощные флуоресцентные лампы не могли создать, да и ни к чему оно было здесь. Окон, понятно, не было ни в коридоре, ни в камерах — буйным больным дневной свет был ни к чему.
Передвижение между этажами осуществлялось с помощью старого механического лифта. Полы, стены, потолки — все, казалось, было пропитано кровью, хотя внешних следов этого найти было нельзя, Драган подготовился к приезду гостей и поручил своим людям навести здесь идеальную чистоту. Давило здесь все — начиная от потолков и заканчивая спертым воздухом. Находится здесь больше десяти минут не смог бы, наверное, ни один человек даже с железными нервами.
— Послушай, ты говорил, что труба нужна здесь на зимний сезон, — спросил Рот. — А когда мы подъезжали, я видел, что из нее валит дым?
Драган посмотрел на пытливого режиссера и сказал группе.
— Вы останьтесь здесь, а мы с Вашим руководителем отойдем ненадолго.
Они вдвоем снова спустились в подвал и прошли в самую его глубину. Тут режиссер с удивлением открыл для себя, что есть еще один лифт — сооруженный, видимо, для персонала, в другом конце параллельных коридоров. Он вел напрямую в бойлерную, которая на деле давно была переоборудована под крематорий. Они остановились прямо перед входом туда.
Элай понял, что это за место, судя по трупному запаху и кровавому шлейфу, что тянулся от закрытого лифта к дверям котельной.
— Понял, что здесь? Мне не хотелось бы заходить туда, там сейчас работает мой человек…
— Он… коронер? Он избавляется от трупов?
— Уничтожает их. Захоронить такое количество тел означает оставить массу следов и документальных, прежде всего. Да и никто не дал бы нам разрешение на такое захоронение, времена братских могил, по счастью, канули в лету. Но здесь опять меня ждала удача — крематорий остался еще с коммунистических времен, когда товарищ Броз устроил здесь свой персональный ад для личных врагов. Иначе я бы на его постройке разорился — это дорогое удовольствие, а денег у меня тогда было немного. Благо, строили раньше на совесть.
— Выходит, все, что писала про Тито наша печать — о том, что он, в отличие от Сталина и Чаушеску, не замарал себя массовыми убийствами — сущая чепуха?
— Не всему и не всегда нужно верить. Да и потом история пока не знает правителя, который властвовал бы сорок лет, не пролив ни капли крови. Человеческая природа такова, что в качестве средства управления собой воспринимает только кнут, а не пряник.
— А здесь что? Это что за бочки?
Рот ударил рукой по железным кегам высотой с человеческий рост, собранным здесь же и аккуратно поставленным в отдельной каморке напротив бойлерной.
— Ты просил, чтобы все было натурально — я учел твое пожелание. Это кровь.
— И сколько здесь?
— В этом мы нужды не испытываем. 1200 литров в четырех бочках — по 300 литров в каждой. Если будет нужно еще, говори, я все сделаю. Было желание также оставить тебе здесь кое-какие органы, но я счел, что твои люди неправильно воспримут мое рвение, — Драган улыбнулся. Рот с удивлением посмотрел на него. Несмотря на весь ужас и отторжение места, в котором они находились, Чолич сохранял завидное спокойствие и даже умудрялся шутить. «Да, — подумал режиссер. — Для него за столько лет это и впрямь всего лишь бизнес…»
Первый день съемок прошел тяжело, но плодотворно. На второй и третий день Рот начал замечать, что актеры после съемок здорово напиваются. На его вопрос, чем вызвано такое поведение и резонное замечание о том, что так никто не доживет до конца съемок, актеры ответили, что пребывать в таком месте девять часов в день им морально тяжело. Режиссер изложил Драгану содержание их беседы.
— Что ж, это логично. Когда знаешь, что несколько тысяч человек были зверски замучены здесь… Что ж, у меня есть решение…
Рот в нем не сомневался — на следующий день в проходной актеры и режиссер с удивлением обнаружили целый симфонический оркестр. Драган оплатил работу музыкантов, которые должны были скрашивать впечатление от места исполнением творений Вивальди и Шуберта.
— Боже, Драган, — воскликнул Рот. — Это и впрямь потрясающее решение! Я вижу улыбки на лицах!
— Не благодари. Неизвестно, кому здесь тяжелее — мне или твоим актерам. Они не знают того, что знаю я, а потому, оплачивая оркестрантов, я инвестировал, скорее, в восстановление собственной психики.
Послышалась команда режиссера: «Мотор!» — и под звуки «Времен года» актеры направились в мрачные помещения человеческой бойни. Бетонные стены позволяли отражать звук даже в самых дальних уголках коридоров — и тогда Рот задумался о том, что неплохо бы перефразировать Шекспира, сказав: «Когда говорят музы, пушки молчат». А Драган Чолич подумал, что, звучи такая музыка во времена кровавой братоубийственной войны, обагрившей его землю несмываемой кровью его же народа, быть может, жертв было бы меньше.
Мюнхэ
Меня зовут Мюнхэ. Согласна, странное имя для сербки. Тогда уж надо рассказать все до конца. Мое имя по метрике Эмма Мюнхэ Арден Лим. Это слово, «мюнхэ», в переводе с тибетского означает «вечность». Сама я этого языка не знаю, да и на Тибете никогда не была, но так случилось, что имя это досталось мне от отца. Он увлекался востоком, и Тибетом в частности. Потому и решил наречь меня чудным для наших краев, как и для всей Европы, словом. И именно потому, что оно было непривычно для окружающих меня людей, а иногда и вовсе резало слух, оно и стало для меня именем нарицательным. Редко и мало кто с детства звал меня Эммой, предпочитая экзотическое восточное малопонятное имя привычному, славянскому.
Хотя и с этим были определенные трудности, еще в детстве. Оно пришлось как раз на 1990-е — разгар междоусобиц, первые кровопролития, начало войны. Так случилось, что началось-то все как раз на религиозной почве. Православные сербы, давно считавшие себя несправедливо обиженными, решили выплеснуть злость на католиков-хорватов и мусульман-боснийцев, а потому восточные имена сразу начали вызывать отторжение среди детей, которые как всегда являлись лакмусовой бумажкой отражения настроений своих родителей. Любое слово, хоть мало-мальски связанное с исламом, сразу наводило учителей и школьников на нехорошие мысли — вот, мол, мусульманка, кровь нашу пьет, а ее родители наверняка наших братьев-сербов убивают. Такое случалось со мной, правда, к счастью, редко. Несколько раз, еще в начальной школе, мне что-то такое говорили… Но всего несколько раз — в основном, все, кто со мной учился, знали, что мой отец — врач из миссии «Врачи без границ», который приехал сюда еще в конце 1980-х и с начала войны помогал раненым сербам, лечил их, всей душой страдал и болел за то, за что они сами проливали кровь.
Он не был сербом. Его звали Петер Арден Лим, он был чистокровный немец, выходец из бюргерской семьи. Отец его участвовал в Сопротивлении и умер от болезни, вызванной старой раной, незадолго до моего рождения, так что я не застала деда в живых. Мать его — типичная немецкая фрау — гостила у нас однажды, еще до начала бомбардировок, а потом я видела ее после нашего переезда, когда отца уже не было.
Петер Арден Лим приехал в Сербию как врач-международник. В конце 1980-х противоречия между бывшими союзными республиками стали обостряться. Хорватия жила еще относительно неплохо — благодаря своему географическому положению и тому, что она была родиной Тито, у нее были обширные внешнеэкономические связи, велась международная торговля. А остальные? Остальные выживали как могли, и потому после смерти маршала все трудности, связанные с членством в составе конфедерации, стали напоминать о себе. Не прошло это и мимо Сербии, которая резко стала испытывать нуждаемость во всем, включая медикаменты и квалифицированный врачебный персонал. Отец был тогда молод, полон энтузиазма, и на волне бархатных революций прикатил в забытую Богом страну на окраине бывшей СФРЮ. Сразу возглавил здесь местное отделение миссии «Врачи без границ».
Стоит ли говорить, что с началом войны он стал практически незаменимым и всеми уважаемым человеком даже среди тех, кто еще вчера его не знал?.. В их числе была и моя мать — коренная сербка, Анна Протич, которая влюбилась в неприметного сероглазого юношу, видя в его образе настоящего Спасителя, когда он вырезал пулю из ноги ее отца, вступившего в перепалку с соседом-мусульманином.
Да, мать рассказывала, что религиозные противоречия всегда были сильны здесь, но пока был жив Тито, не доходило до столкновений. Стоило ему умереть — как уже слепой бы понял, что гражданская война неизбежна. Но все это от матери я услышала уже став взрослой. Тогда, в школьные годы, когда на моих глазах соседи убивали друг друга, я искренне не понимала сути происходящего, не знала, кто такой был Тито, но очень хотела, чтобы это поскорее закончилось. И, как мне казалось, отец был некоей фигурой, от которой зависит исход этого точечного кровопролития. Я думала так, судя по уважению, которое ему выказывали и стар, и млад.
Мы жили в Белграде, правда, не в центре, а на окраине, но все же это была столица. Поэтому мы не видели всего того ужаса, который творился в глубинке, но отдельные отголоски, долетавшие сюда, были столь ужасающими, что понимание войны пришло ко мне с ранних лет как осознание чего-то ужасного — пожалуй, самого ужасного, что люди могут сделать друг с другом. Сейчас принято смеяться над пожилыми людьми, которые живут только страхом войны и днем и ночью молятся о том, чтобы она не повторилась. Это нелепо наверное, но я — из их числа. Не по возрасту, а по тому, как сильно война изменила мою жизнь — жизнь совсем еще маленькой девочки, мало чего понимавшей в жизни. Банально, но за столом я могу произнести тост «Лишь бы не было войны!», и любящие меня друзья поймут и поддержат меня — так сильно запали мне в душу первые дни того ужаса, который только еще ожидал мою родину…
Да, Сербию я всегда считала своей родиной по крови, хотя мой отец был немец. Я не похожа на него ни внешне, ни ментально — он был спокойным и рассудительным, я же вспыльчивая и взрывная. Точная копия своей матери, я повторю ее не только во внешних чертах, но и в едва уловимых генетических — в образе мыслей, в оценке событий, в словах, в поступках. Конечно, мне следовало бы быть более сдержанной, но сербской крови не прикажешь остановить свое бурное течение, подобно горной реке, в моих жилах. Эта удивительная страна — со скалистыми берегами, холодными реками, редкими зелеными плато и синим-синим небом — рождает поистине удивительных людей. Их часто ругают — за их амбиции и шовинизм, за желание выпятить национальную гордость вперед себя и привлечь к себе всеобщее внимание. Да, может быть, с этим своим менталитетом они для кого-то смешны. Но можно и найти этому оправдание. Много веков Сербия, самодостаточная страна, способная кормить себя и жить в гармонии с природой, отведенной ей Богом, находилась под игом. Турки, австрийцы, немцы, итальянцы, хорваты — кто только не покушался на национальную независимость и гордость этой страны! И все эти века сербы сражались. Одерживали пирровы победы, лили много крови — в основном, своей — а спустя время снова отдавали свой суверенитет кому-то, пришлому со стороны. Потом снова война, новый захватчик, война, захватчик и так — кажется, всю историю Сербии. Может быть, поэтому чувство национальной гордости так в нас сильно.
А может быть, любовь к Сербии идет во мне от того, что я мало времени в жизни посвятила этой родной для меня стране. Это решение было принято не мной, а моей матерью, но я не сужу ее за это.
Прямо скажем, родилась я уже в обстановке конфликтующих сторон — соседи без конца дрались на религиозной почве, поджигали друг другу машины, занимались членовредительством. Обстановка кругом царила раздражительная, люди беспочвенно злились друг на друга, стравливали собак и детей, но до крови не доходило. Все изменилось 1 марта 1992 года. В тот день отца командировали в Боснию, в Сараево. Там жило тоже много сербов, помогать которым отец, хорошо знавший сербскую историю и потому питавший к местному населению большое уважение, считал делом чести. Он поехал туда не просто так…
В этот день, в воскресенье второй день подряд проходил референдум о независимости Боснии и Герцеговины. В этот день в центре столицы республики проходила сербская свадьба. В 14 часов 30 минут в церкви Преображения Господня обвенчались Милан Гардович и Диана Тамбур. После этого участники празднества переместились в дом святой Фёклы на Башчаршии в ожидании свадебного обеда.
В это время на стоянке у входа во двор церкви остановился автомобиль Volkswagen Golf белого цвета, в котором находилось четверо мужчин: Мухамед Швракич (сын основателя вооружённого формирования боснийских мусульман в Сараеве «Зелёные береты»), Суад Шабанович, Таиб Торлакович и 29-летний Рамиз Делалич — участник «Зелёных беретов». Все это мы узнали уже позже из газет, а отец стал едва ли не прямым участником событий. Они вышли из машины и набросились на отца жениха, Николу Гардовича, который держал в руке знамя Сербской православной церкви (трёхцветный флаг с сербским крестом посередине). Делалич произвёл выстрел из пистолета и убил его. Сообщник Делалича нанёс ранение православному священнику Раденку Миковичу. После чего преступники сожгли православное знамя.
После Делалич будет говорить так:
— Мы увидели колонну автомобилей, которая проследовала к Башчаршии на большой скорости; мы погнались, чтобы узнать, что происходит… Они вышли из машин и начали петь. Выставили на показ какие-то свои сербские флаги. Мы остановились перед ними и спросили, куда они идут. Мы сказали им, что это не Сербия, что это — Сараево, это Башчаршия. Мы… стреляли в людей, которые держали в руках флаги…
После этого сербы поставили в городе ряд баррикад, выдвинув требования провести расследование и наказать виновных. Это событие они восприняли как начало антисербских действий. Боснийские мусульмане также поставили баррикады в городе. В произошедших перестрелках с обеих сторон погибли четыре человека. Сербские и мусульманские политики выступили с призывами к мирному диалогу. Республиканским МВД было проведено расследование, которое назвало виновного в нападении на свадьбу. Им был известный сараевский бандит Рамиз «Чело» Делалич, связанный с военизированным крылом мусульманской Партии демократического действия Алии Изетбеговича. Однако к ответственности за нападение Делалич привлечён не был. Начались вооруженные столкновения между боснийскими сербами и мусульманами, в которых в первый же день было ранено и убито свыше 100 человек.
Отец отправился туда, чтобы помогать сербам, но власти Боснии восприняли приезд врачей миссии отрицательно. Своим они помогали сами, а в сербах у них никакого интереса не было. Всю неделю, пока отец был там, как потом рассказывала моя мать, мусульмане не сводили с него дула автомата — будь на его месте сербский врач, его давно бы убили. Сам факт принадлежности к международной организации и национальность спасли Петера от гибели, пока вокруг Сараева строилась одна из крупнейших в мире баррикад — на протяжении следующих четырех лет она будет служить тюрьмой для всех жителей столицы. Четыре года сербские силы будут осаждать Сараево, требуя эвакуации сербов, пока запертые там бошняки будут убивать их одного за другим. По счастью, отца там уже не будет. Оказав некую первичную помощь раненым, он по личной просьбе тогдашнего главы Боснии Изетбеговича покинул Сараево и вернулся в Белград.
Вернулся он в прескверном расположении духа. Несмотря на возраст, я почему-то запомнила их разговор с матерью, состоявшийся как-то ночью.
— Дела очень плохи, Анна, — говорил отец. — Со дня на день в Белграде и его окрестностях начнет литься кровь.
— Почему ты так думаешь?
— Подумай сама — сколько веков жили в мире и согласии боснийские хорваты и сербы? А сейчас… То, что я видел, даже не потрясло, а убило меня. Перевернуло все до глубины души. Они убивали друг друга только из-за национального флага! А сейчас строят вокруг города баррикаду… Въехали мы туда беспрепятственно, а на выезде с трудом преодолели четыре кордона — нас обыскивали то сербы, то хорваты, то бошняки, и всякий раз мы не знали, останемся ли живы, доедем ли до своих семей…
— Ты думаешь, что это веяние дойдет и сюда?
— А ты сама не видишь? Ты не видишь, что люди уже и без того на краю взаимной терпимости, которая тает как снег по весне? Все уже практически подошло к гражданской войне, и только маленького толчка не хватает. Но поверь мне, скоро он случится…
— Что же ты предлагаешь делать?
— У нас маленький ребенок. Нам лучше будет уехать в Германию. Во всяком случае, вам с Мюнхэ. Я разговаривал с матерью, она готова принять вас в любой момент.
— А как же ты?
— За эти годы эта земля стала мне родной. Я не могу взять и бросить ее, когда она больше всего во мне нуждается!
— Хорошенькое дело! А мне ты предлагаешь поехать без мужа и родителей неизвестно куда, за тридевять земель от родины?! Ведь я здесь родилась, и все, что здесь происходит или будет происходить, так или иначе меня касается…
— Но ведь у нас есть Мюнхэ! Мы должны больше думать о ней, мы не можем просто так рисковать ее жизнью!
— Будь что будет, но без тебя я никуда не уеду. Если станет совсем плохо — уедем вместе. В конце концов, я все-таки твоя жена, и быть с тобой, и поддерживать тебя в трудную минуту — это моя обязанность…
На следующее же утро начались манифестации. Я шла из школы и видела, как огромные массы народа — тогда еще под надзором милиции — собирались в центре Белграда. На большой трибуне при большом скоплении людей выступал Милошевич. Краем глаза я видела и слышала его — того, с кем все связывали возрождение былого величия сербов.
И тут хочешь-не хочешь, вспомнишь побасенки о великодержавном шовинизме, свойственном сербам. Да, борьбу за независимость надо уважать, но как быть с тем, что иногда это упорство приводит к бессмысленному кровопролитию?! Говоря красиво и громко, Милошевич давил на самые больные места сербов, пробуждая в них этот праведный гнев, а вернее — звериную ярость. Именно за периодические ее вспышки я до сих пор ненавижу себя.
— Сербы! Граждане свободной и вольной республики! Сегодня наших братьев в Боснии убивают наши вечные соседи — хорваты! Пока был жив Тито, они пользовались привилегиями в международной торговле и снимали сливки с того, что сербы зарабатывали для них своим горбом! Сейчас они тоже хотят главенствовать — пока в Боснии. Когда перебьют там всех сербов, куда они пойдут? Сюда. А мы?! Мы будем сидеть сложа руки и смотреть, как исконно сербские территории стонут под гнетом нового, уже внутреннего, врага? Сколько захватчиков перебывало на нашей земле с момента обретения нами государственности?! Пальцев не хватит на руках и ногах подсчитать! И что мы будем делать? Какие уроки мы вынесли?! Подставим голову и плечи под ятаган нового оккупанта, или, подобно нашим героическим предкам, будем сражаться с оружием в руках против тех, кто уже сегодня обратил против нас оружие?! Не посрамим славную боевую традицию наших предков, и отстоим честь и свободу наших братьев-сербов!..
Тогда я посмотрела на него как-то по-особенному. Я почему-то почувствовала себя кем-то из его домашних — плохо понимая, что в действительности происходит в моей голове и как в дальнейшем моя судьба на метафизическом уровне пересечется с судьбой его семьи, я в принципе спроецировала свое будущее.
Месяц спустя война в Боснии разгорелась с новой, первозданной силой. Хорваты начали строить в Боснии концлагеря для сербов, где последние содержались в условиях, едва ли лучше, чем в гитлеровских застенках. Люди погибали там от отсутствия врачебной помощи, от голода, болезней, но самое страшное — от пыток. От пыток тех, кто еще вчера был их соседями, друзьями, сослуживцами. Не профессиональные военные, но простые люди, держа в руках оружие, с диким неистовством бросались мучить своих же собратьев…
Отец снова поехал туда, на этот раз в концлагерь. И оттуда уже не вернулся. В один из дней к нам домой пришел какой-то военный. Они о чем-то говорили с матерью на пороге минут десять, после чего Анна вся в слезах вошла в мою комнату и велела собирать вещи.
— Мы уезжаем, — сказала она.
— Где папа? — только и могла говорить я — до самого аэропорта, откуда уже вечером самолет унес нас в Германию, на родину моего отца, последним пристанищем для которого стала столь любимая им сербская земля Боснии и Герцеговины…
Мы отправились в Германию, к бабушке по отцу, которая сначала, конечно, была безутешна, а потом много раз благодарила мать, что та увезла меня оттуда — когда по телевизору показывали бомбардировки НАТО, предательство русских, позорное поражение сербов и суд над Караджчием и Младичем. А меня все же всегда продолжало туда тянуть. Может, потому что в силу нежного возраста я недопонимала ужаса войны и всерьез считала, что если вернуться туда, где остался папа, то вполне можно будет его там найти. Может, потому что чувствовала, что человек нужен там, где его родина, и в отрыве от нее сложно жить на чужбине. Уже будучи студенткой Лейпцигского университета я отложила в памяти фразу эмира Бухары Сейида алим-Хана, умиравшего в начале века в Иране, в эмиграции: «Эмир без Родины — нищий. А вот нищий, умирающий на Родине, и есть самый настоящий эмир». А скорее всего все же потому, что гены матери были во мне сильнее. Они и тянули меня в Сербию подсознательно, полностью лишая слова гены отцовские — в Германии я чувствовала себя как на чужбине.
Вообще что касается подсознательных ощущений и чувств, то тут мне надо отдать должное — они всегда почему-то затмевали разум в общей картине моего бытия. Помню, как еще в школе, возвращаясь с уроков, я встретила неподалеку от дома собаку с раненой лапой. Я долго смотрела на нее и на минуту мне вдруг показалось, что я почувствовала ее боль. Я схватила ее в охапку и потащила домой. А когда дома мы с отцом обработали ее рану, перевязали и оставили животное возвращаться к жизни в нашей кладовке, то с удивлением обнаружили, что у меня похожая кровоточащая рана на левой ноге. Отец и мать все пытали меня тогда, где это я умудрилась схлопотать такой стигмат, а я старалась им объяснить, что почувствовала боль собаки и приняла ее на себя. Тщетно, они мне не верили. Я плакала, но все было без толку.
Когда отец первый раз ездил в Сараево, после расстрела той злополучной свадьбы, я еще не знала всех подробностей этого, но почему-то — и помню это сейчас, несмотря на значительный временной промежуток — когда засыпала четко видела перед собой свадебный кортеж. Я понимала, что папа вряд ли отправился на свадьбу, но мысль о том, что он сейчас где-то рядом с похожим пейзажем, никак не оставляла меня. Причем его я в той картине не видела — я словно бы знала, что он появится там позже.
Когда мы с бабушкой смотрели по телевизору ужасающие кадры бомбежек Белграда силами НАТО, а потом в этих же программах рассказывали о беженцах или тех, кто пострадал в результате бомбардировок, я так четко представляла себе этих людей, их лица, их слова, мысли и чувства, что мне самой становилось страшно. И потому, наверное, я до сих пор так неистово боюсь войны. Я практически не видела ее своими глазами, но чувство того, что она буквально проходит мимо меня, появлявшееся в такие минуты, напугало меня на всю оставшуюся жизнь.
Учась в университете, я узнала, что это — никакое не чудо и не мои выдумки.
— Чувство эмпатии, — говорил мне профессор Рихтер, — развито у всех людей, но в разной степени. Кто-то просто способен понять эмоции своего собеседника, кто-то — объяснить их происхождение, а кто-то — даже предугадать, какой комплекс действий осуществит его визави через некоторое время. Причем необязательно даже реально контактировать с человеком — можно видеть или осязать его вещи, видеть его по телевизору, но не в роли в кино, а в реальных декорациях, — и уже уметь сочувствовать, сопереживать ему так, что практически становишься с ним единым целым. Иногда в науке это называют даже идентификацией с объектом.
— То есть? — уточнила я. — На некоторое время я теряю свою собственную индивидуальность и становлюсь как бы отражением того, о ком думаю в настоящий момент?
— Именно так. Если ты сильно этого захочешь, то способна прочувствовать даже то, что чувствовали, скажем, твои далекие предки или люди, с которыми ты и вовсе никогда не была знакома.
— А что для этого нужно?
— Только твое желание и хорошее знание обстановки, в которой существовал или существует тот или иной субъект. Скажем, если ты представишь себе интерьеры Овального кабинета и прочтешь две-три биографии Клинтона, то вполне сможешь почувствовать даже то, что он чувствовал во время общения с Моникой Левински…
Профессор Рихтер шутил, но мне было уже не до юмора.
— Тогда получается это нечто вроде машины времени?
— Не совсем. Машина времени подразумевает способность влиять на события. Ты влиять не сможешь, но сможешь очень отчетливо воссоздавать для себя те или иные картины. Очень хорошо для ученого-историка, кем ты, к сожалению, не являешься…
Профессор был прав — история хоть всегда и была моим хобби, училась я все же на юриста-международника. Почему такой выбор? Все просто. За этой профессией стояла реальная возможность вернуться в Сербию, куда меня так неистребимо тянуло все годы вынужденной эмиграции. Хотя говорят, что место, в котором прошла молодость человека, является определяющим для него и его потом всю жизнь туда тянет, на меня это высказывание распространить можно с трудом. В Германии была моя первая, как я думала, любовь — потом уже стало понятно, что любовью там не пахнет. Искренние чувства, поняла я, я смогу испытать только на родной земле, все остальное всегда будет для меня обманом. Нет, я не чувствовала в себе порывов Индиры Ганди или Беназир Бхутто, я была далека от политической борьбы, просто… гипертрофированный патриотизм, он же треклятый сербский шовинизм, очень громко клокотал внутри меня — как внутри каждого серба, оказавшегося на чужбине.
Я выросла и получила степень бакалавра в университете. Мамины гены, которые были редкостью в бюргерской Германии, сделали из меня одну из первых красавиц не только города, но и, пожалуй, всей страны. Понятное дело, что никуда не деться было от мужского внимания, которое я где-то отсеивала, а где-то притягивала — когда была в том необходимость. Сказать же, что за 25 лет я кого-то хотя бы раз любила, я не могла.
Все чаще возвращалась я к словам профессора Рихтера, который говорил, что наличие у меня чрезмерно развитой эмпатии могло бы сделать из меня неплохого ученого-историка. Тяга к истории родной страны вторила то же самое. И потому я решила вернуться. Конечно, за эти годы мать осела в Германии и не разделяла моего желания — мне от этого было только легче. Поеду одна, решила я для себя, а там будь что будет. Отговорить меня ни она, ни бабушка уже не могли — война закончилась, и объективных препятствий к тому, чтобы мне вернуться на родину, уже не существовало. Я вступила в переписку с Белградским университетом, который, узнав о моих успехах в Лейпциге, выразил горячее желание принять у себя гражданку ФРГ с сербскими корнями.
Итак, я вернулась и стала учиться, как и все. Родной воздух немного раскрепостил меня, позволил по-новому посмотреть на страну. В течение первых же шести месяцев я объехала ее вдоль и поперек. Меня переполняла радость. Такой общительной я никогда не была за все время жизни в Германии. Я была открыта для всего и для всех. В том числе и для тех, о ком совершенно ничего не знала, но кто принадлежал этой стране десятилетиями и участием в значимых для нее исторических событиях.
И такой человек вскоре появился на моем горизонте. Его звали Лукас Хебранг. Он был помощником бывшего президента Хорватии Туджмана. Во втором семестре он появился на пороге нашей альма-матер, чтобы прочесть нам лекцию о взаимоотношениях наших народов в период войны в Боснии. Он был племянником знаменитого Андрии Хебранга — бывшего соратника Тито, который поддержал Сталина в его ссоре с последним и был убит в тюрьме в 1949 году. Когда генерал-диссидент Франьо Туджман в начале 1990-х вернулся в Хорватию из политической эмиграции, он стал его правой рукой и возглавлял его предвыборный штаб на выборах Президента, которые тот выиграл и вплоть до своей смерти в 1999 году занимал высший пост в государстве. После этого Хебранг сошел с политической арены и занялся бизнесом в государственных масштабах. И вот сегодня этот убеленный сединами, но от того еще более привлекательный в неискушенных девичьих глазах человек явился перед студентами не просто как свидетель, а как участник исторических событий — очевидно, что для будущих историков эта встреча была незабываемой.
— Я до сих пор полагаю, — ровным, уверенным голосом вещал он, — что причины проигрыша сербов и в войне в Боснии, и вообще во всем Балканском конфликте кроются только в Милошевиче. Его неумелое руководство — ну что ожидать от подкаблучника? — и личные амбиции пробудили в сербах их праведный гнев, который копился веками и был предназначен для захватчиков, но никак не для их братьев — хорват. Да, я не спорю, что и хорваты вели себя не лучшим образом, но наш руководитель — генерал Туджман — горячо осуждал братоубийственную войну. А Милошевич ее культивировал. Как говорится, «кому война — кому мать родна». Спросите, почему? Очень просто. Он не способен был укрепить свой политический авторитет иначе, чем за счет многомиллионных человеческих жертв, пусть даже и среди своего народа. А власть ему была нужна, потому что того требовала его жена — дочь крупного партийного чиновника, которая мыслить не могла без властных привилегий. Так и вышло, что хвост вилял собакой, как говорят американцы, а жертвы, которые понесли сербы, превысили даже их потери во Второй мировой войне…
Я слушала его и поражалась — насколько он был прав. Я сама слышала выступление Милошевича, этого серого человека с серым лицом в сером костюме, и мне не нужно было доказывать, что он манипулировал озлобленным и оголенным как нерв сербским населением в те годы. Наши взгляды с человеком, бывшим очевидцем и участником событий, сошлись. Мысленно я ликовала — как знать, вдруг и впрямь выйдет из меня неплохой историк собственной страны?..
После лекции я решила познакомиться с ним поближе. Что мой порыв найдет взаимность я не сомневалась — людей всюду притягивает экзотика. Если в Германии на меня смотрели как на чернобровую и горячую сербку, то здесь — как на приехавшую из сытой Европы заносчивую девочку, водить знакомство с которой желал бы каждый из мужчин, попавшихся мне в ту пору на жизненном пути.
— Господин Хебранг, я пришла, чтобы выразить Вам свое восхищение услышанным…
— Стоит ли, я ведь всего лишь изложил свои взгляды на тогдашние события, пропущенные сквозь призму не просто участника событий, но солдата хорватской армии.
— Солдата, — улыбнулась я. — Только ли солдата? Вы довольно скромны…
Собеседник улыбнулся мне:
— Да, конечно, моя роль в истории моей родины чуть более велика… И, я вижу, Вас это занимает?
— Несмотря на то, что я сербка и мой отец едва не стал жертвой боснийских хорватов, а затем без вести пропал в одном из созданных вашими соотечественниками концлагерей, я так же, как и Вы считаю Милошевича во многом виновным в том, что случилось со страной. Это не означает, что Туджмана я считаю святым, но…
— Это просто потому, что Вы о нем ничего не знаете, — Хебранг не дал мне договорить.
— Надо полагать, что если с этой задачей не справились преподаватели нашего университета, то сможете справиться Вы, который сами знали Туджмана ближе, чем кто бы то ни было?
— Не думаю, что общество пожилого человека, уже давно не столь интересного для публики, как раньше, может увлечь столь эффектную девушку, да еще и приехавшую из Германии, чтобы изучать родную историю… — наигранно смутился Хебранг.
— А Вы неплохо осведомлены!
— Это моя работа. Не забывайте, что в штабе Туджмана я отвечал за безопасность, в том числе информационную.
— А чем Вы занимаетесь сейчас?
— Международная торговля. Импорт, экспорт. Долго и неинтересно.
— Отнюдь. По первому образованию я — юрист-международник, так что для полноты картины мне бы хотелось вникнуть в вашу биографию как участника событий…
— На такую откровенность нельзя ответить отказом. Сегодня в гостинице «Москва» я даю фуршет по случаю завершения сделки по продаже большой партии турецкого газа. Приходите, будет интересно. Думаю, там мы сможем пообщаться менее формально.
Старик очевидно подбивал ко мне клинья. У меня же в голове крутилось только одно. Если Рихтер был прав и я обладаю повышенным чувством эмпатии, то столь глубокое погружение в психологию и нравы правящей верхушки Хорватии, возможно, позволить мне хоть как-то прикоснуться к тайне гибели моего отца. Понятно, что Хебранг вряд ли даже слышал о нем с высоты того положения, которое он занимал при Туджмане, но попробовать оказаться хотя бы в приближенных к тогдашним условиях, прикоснуться рукой к загадкам Балканского конфликта — это увлекало меня и манило как яркий свет мотылька. Да и потом Хебранга я не боялась — в Германии и более статусные герры строили на меня свои планы, которые я ловко разбивала, успев воспользоваться ими в своих интересах. Так что вряд ли спустившийся с гор хорват сможет покорить мое сердце…
В холле гостиницы «Москва» было столпотворение — журналисты, светские львы с дамами, певцы, военные, все собрались на дармовщинку. Разумеется, украшением подобного мероприятия всегда становится красивая девушка, особенно, если она столь же недоступна, как и я — лучше иностранка. Хостес встретил меня и проводил прямо к Хебрангу, который стоял в дальнем углу конференц-зала с бокалом шампанского в руках. Увидев его, я была приятно удивлена — стать этого пожилого человека стильно украшали классический костюм от кутюр, резная трость и какое-то необычайно интеллигентное выражение, которое он придал своему лицу на этом мероприятии. Его окружали толстые и умащенные бизнес-партнеры — куда менее элегантные, но, судя по виду, не менее состоятельные.
— О, а вот и госпожа Мюнхэ, — приветствовал меня хозяин торжества.
— Меня зовут Эмма, — с напускной скромностью ответила я.
— Оставьте. Все с детства называют Вас Мюнхэ…
— Ваша осведомленность несколько обескураживает меня, я иногда теряюсь, что бы ответить…
— А Вы не отвечайте ничего. Вы ведь пришли сюда задавать вопросы, а не отвечать. И я готов давать ответы, вот только представлю Вас своим коллегам.
Он взял меня под руку и повел вдоль зала. Я понимала, что в одночасье стала королевой мероприятия, но все это интересовало меня постольку поскольку. Да, среди его партнеров я отметила только одного — он был не на одно лицо с остальными. Невысокого роста, коренастый, с чертами лица самоуверенного и сильного человека, видавшего виды — так обычно выглядят отставные военные. Глаза его были скрыты за черными очками, и это лишь прибавляло ему таинственности и значительности. Его звали Драган Чолич. Хебранг рассказал мне, что он и вправду бывший военный и принимал участие в боевых действиях на стороне войск Младича. Это не могло не вызвать во мне уважения, но иного рода, чем к Хебрангу — к последнему я уже тянулась едва ли не как к отцу или к деду, а Чолич отталкивал меня своей ледяной загадочностью. Я подумала, а вернее, почувствовала, что на его руках — кровь многих невинных жертв. Чего не было у Хебранга — потому, наверное, я нисколько его не опасалась.
Когда спустя 5 часов фуршет закончился, мы с Хебрангом остались вдвоем в его шикарном номере люкс, куда он заказал роскошный ужин со столь любимым мной «Кьянти» — отказаться от такого я не могла.
— Итак, Вас интересует Туджман?.. Что ж, попробую Вам его нарисовать таким, каким видел его я и видела вся Хорватия. При Тито он был диссидентом. Отслужил в армии, дослужился до генерала, потом был переведен в почетную отставку на должность директора какого-то военно-исторического института. И здесь, видимо, он и начал раскрываться как будущий политик. Он соприкоснулся с историей…
— Но историком он был весьма посредственным, насколько я помню? Его ревизионистские взгляды были с опаской встречены научным миром? Он оспаривал понятие холокост, утверждал, что в природе не существовало Ясеноваца и лагерей смерти на территории Хорватии…
— Именно поэтому он стал не историком, а политиком, — улыбнулся Хебранг. — Пока был жив Тито и Туджман отсиживался в политической эмиграции в США, никто про него здесь и не вспоминал. Но диссидентское движение набирало обороты во всех странах ОВД, и потому генерал упорно не сдавал своих позиций. В конце 1980-х, когда Хорватии вновь потребовался сильный лидер, он вернулся домой.
— Только чем он принципиально отличается от Милошевича? Как по мне, так они оба — всего лишь стервятники, набросившиеся на Боснию и готовые отправить под нож всю Югославию в своих меркантильных политических интересах…
— Милошевич да, и я уже говорил, почему. А Туджман — нет. Он был идеалист. Он свято верил в то, что писал, даже при всей абсурдности содержания своих книг. Верил в каждое свое слово, в идею, которой, как сам считал, служил. Поэтому ставить их на одну доску нельзя. Как всякий военный, он был заражен некоей идеей, которую вбил себе в голову и носился с ней как с писаной торбой. Но идея была для него всем. Он никогда не давал приказов строить концлагеря или устраивать карательные операции. Он верил в то, что правда доказывается в открытом бою. Так что винить его во всем, что происходило в те годы в Хорватии, нельзя…
Мы еще долго говорили с ним в тот вечер. Мне казалось, что я словно бы посидела за одним столом с первым президентом Хорватии, но все было без толку — сформировать его образ у меня не получалось. Наверное, дело было в том, что всякий раз, когда во мне просыпалась необузданная эмпатичность, распространялась она только по гендерному признаку — только на женщин. Я могла сопереживать несчастной собаке или старухе, школьнице или студентке, нищенке из метро или княгине Монако, но никогда не пробовала делать это с мужчинами…
Однако, несмотря на это, расставаться с Хебрангом я не спешила. Мне было интересно с ним, он увлекал за собой. В моей достаточно насыщенной знакомствами жизни столь интересного собеседника еще не встречалось. Он стал на некоторое время моим покровителем, наставником, опекуном по жизни. У нас с ним не было секса, но мы часто проводили вместе — за интересными беседами — даже ночи. Так было, пока он не предложил мне прокатиться с ним в турне по Европе. Я согласилась. Взяла в университете академический отпуск и, не зная броду, сунулась в возможно самую глубокую реку в своей жизни — о чем не жалела ни тогда, ни сейчас.
Мы вместе побывали в Швейцарии, Италии, Португалии и вдруг он почему-то решил на пару дней заехать в Турцию — перед самым концом отпуска. Я не стала возражать, подумав, что турецкое солнце и пляжи пойдут на пользу моей изголодавшейся по ультрафиолету коже. Первый день мы провели с ним вместе, разошедшись ночью по номерам. Засыпая, я думала, что пожалуй, это — ярчайшее знакомство за всю мою жизнь, которое, возможно, будет иметь совершенно непредсказуемое (или, наоборот, предсказуемое) продолжение… Однако, утром моим планам суждено было рухнуть…
— А где господин Хебранг из номера 404?
— Он выписался сегодня утром, — отвечал мне улыбчивый администратор, коего я раньше почему-то не видела.
— Как? Мы должны были уехать вместе…
— Ничем не могу помочь, мисс. Он выписался.
Номер его был отключен. Это совсем не походило на его поведение. Я опрометью бросилась в полицейский участок, в дверях которого меня остановил знакомый голос.
— Мюнхэ?
Я обернулась. Передо мной стоял шикарный черный мерседес, из которого показался Чолич.
— Драган? Как хорошо, что Вы здесь. Лукас пропал, и мне нужна Ваша помощь. Как давно Вы выходили с ним на связь?
Чолич приложил палец к губам и поманил меня к себе:
— Вы слишком громко говорите для этих мест. Могут подумать, что случилось Бог весть что.
— По-моему, это и случилось…
Через пару минут мы с ним сидели за чашкой кофе в ближайшем кафе дель мар.
— Я хочу кое в чем признаться, — говорил обычно молчаливый Драган.
— Вы меня пугаете. Где Лукас?
— Это Вы меня пугаете. Вы знаете человека без году неделя, и уже относитесь к нему едва ли не как к любовнику.
— Что за нотации? Кто мы друг другу?
— Это неважно. Важно, кем был Лукас Вашему отцу?
— И кем же?
— Палачом. Да будет Вам известно, что лагеря смерти в Хорватии находились в его компетенции. Он был прав — Туджман их не строил. Их строил Хебранг — человек, для которого по зову крови все этнические сербы это враги.
— И что теперь?
— Вас разве не мучает несправедливость? Он погубил вашего отца — пускай не сам, но с его согласия и по его приказу там убивали сербов. Меня как солдата Сербской армии это не может оставить равнодушным…
— Как бывшего солдата? Вы как бывший солдат строите с ним свой бизнес?
— Бизнес и война — вещи разные. Война стала для меня жизнью. Там я оставил семью, родину, любовь. А бизнес — всего лишь средство зарабатывания денег, которые, как известно, не пахнут… И солдат, к вашему сведению, бывших не бывает.
— И поэтому вы убили его?
Чолич вскинул брови. Он явно не ожидал от меня такой прозорливости, ведь не знал еще о моем эмпатическом складе характера.
— Я его не убивал. Может быть, он еще и вообще не умрет…
— Может быть?
— Видите ли, не только вашего отца Хебранг погубил в лагере смерти. Таких десятки и сотни тысяч. А когда международное правосудие отказалось осудить его и ему подобных мерзавцев, это еще пуще всколыхнуло волну народного гнева. А народ, как известно, состоит не только из крестьян. Он состоит и из людей обеспеченных, которые могут себе позволить…
— Заказать даже Хебранга? — не дала договорить я.
— Именно. Но заказать только доставку. Знаете, как доставляют пиццу или суши на дом.
— И его доставили? Это сделали вы?
— Это делает специализированная организация, которую я возглавляю. Что с ним будет дальше — не моя забота, я лично никого не убиваю.
— Интересный юридический ход.
— Именно так. С волками жить — по-волчьи выть. Но была бы моя воля — я бы ему голову отрезал, как это делал он в годы войны.
— Почему вы рассказываете мне это? Где гарантия, что я не отправлюсь в полицию с этими данными?
— Можете. Но с моим арестом будут проблемы — я иностранный подданный, и местные власти предпочтут с этим не связываться. Хебрангу же это никак не поможет. А рассказал я вам это только потому что… вы мне очень нравитесь, да вы и сами наверняка это понимаете… не хочу что-либо от вас скрывать…
— Однако… — выдохнула я. — Утро признаний. Даже не знаю, как мне отреагировать.
— Никак. Примите к сведению. Когда вы собираетесь назад?
— Должны были сегодня вечером, но теперь не знаю. Видимо, останусь еще на пару дней.
— Хорошо. Я живу в «Мариотте», вот моя визитка. Сообщите мне, когда соберетесь улетать, я предоставлю вам персональный самолет. Еще раз извините за откровенность. Надеюсь на ваше понимание.
«С пониманием у меня проблем нет», — иронично подумала я, глядя ему вслед.
Мысли путались в голове, но верх брала одна — я не верила ему, и все же думала, что, вернувшись, встречу Хебранга, который не иначе решил надо мной подшутить столь скверным образом. А уж коль скоро он шутит, то можно и мне.
Этот турок, Рашид Кеттель, жил с нами в одной гостинице и давно оказывал мне знаки внимания. Вернувшись в отель, я встретила его на завтраке. Сама подсела к нему за столик.
— Доброе утро. Вы один?
— Уже нет. Само солнце взошло и село рядом со мной…
— Бросьте, — отмахнулась я. — Вы ведь местный?
— Не совсем. Я из Анкары. Провожу здесь выходные. А вы, кажется, из Сербии?
— Как вы догадались?
— По диалекту. И потом меня с Сербией связывает давняя история. Вернее, еще моих предков.
— Очень интересно… Я как раз изучаю историю родной страны…
— Что ж, расскажу. Вы наверняка знаете про Георгия Карагеоргия?
— Первый правитель независимой Сербии, еще бы.
— Так вот, его супруга, Елена Петрович, до замужества встречалась с моим дальним предком, который жил в Белградском пашалыке и имел там богатые владения. Карагеоргий убил моего пращура, а Елену выкрал, будучи простым гайдуком. Так он и стал на путь нарушения закона, — улыбнулся Кеттель.
Я вгляделась в его улыбку. Молодой, как видно, обеспеченный человек, всегда знающий, чего хочет и стремящийся к своей цели, он был куда привлекательнее старика Хебранга. Так почему бы не отомстить этому престарелому шутнику именно с ним, тем более, что он так хорошо знает историю Сербии?..
— Вы полагаете, что Карагеоргий был преступником?
— Карагеоргий был идеалистом. Слишком верил в порядочность и правду, что, в итоге, привело к тому, что его обманули и бросили русские, а убил его же двоюродный брат!
— Вы, конечно, не из таких?
— Разве вам интересно, из каких я?
— Если бы мне не было интересно, я бы первая не подсела за ваш стол. Я же видела, как вы смотрели на меня все дни, которые мы с Лукасом провели здесь…
— А сейчас…
— А сейчас он уехал и оставил меня одну, и я не вижу препятствий к тому, чтобы еще пару дней провести с вами. Как вы смотрите на это?
— О, я просто умираю от счастья. Но, с вашего позволения, мне не хотелось бы прозябать два прекрасных дня с не менее прекрасной женщиной на захолустном курорте. Поедемте ко мне в Анкару, там мой дом, и я покажу вам этот прекрасный город…
Я сделала вид, что задумалась. Кеттель поспешил развеять мои сомнения.
— О, дорогая Мюнхэ, обещаю, что и пальцем к Вам не притронусь.
«А вот это как раз зря», — в шутку подумала я и улыбнулась ему.
— И вы знаете мое имя?
— Я знаю администратора гостиницы, — с чувством юмора у моего утреннего визави было все в порядке. — А также коллекционирую редкие восточные имена. Все-таки, вас очевидно тянет к востоку…
— Пока меня тянет только к вам, — подмигнула я.
Эмпатия — великая вещь еще и потому, что не изучена до конца. Не изучены причины ее появления, механизмы ее работы. Потому я и не могу сказать в какой момент и почему я вдруг… нет, не вжилась в роль, а мысленно перенеслась в Белград конца XVIII века, забыв о том, что я всего лишь Мюнхэ и став на минуту Еленой…
Елена
Так получилось, что отъезд родителей из Сербии пришелся на мое детство, причем, ту его часть, которую можно назвать еще не вполне сознательной. Всю свою сознательную жизнь я прожила в Германии статично, и решила начать путешествовать только сейчас. Этот вихрь странствий сразу захватил меня. Люди, лица, пейзажи, интерьеры, истории — все менялось со скоростью света, но все эти перемены так или иначе касались истории Сербии, которая открывалась для меня в неведомых доселе красках. Этот же вихрь пробудил во мне с новой силой чувство эмпатии. Рассказы Кеттеля о своем далеком предке, который, по слухам, ухаживал за невестой самого Карагеоргия, а также восточные интерьеры его дома, сама Турция с ее, с одной стороны, европейским лицом, и, с другой, с восточной душой — все это всколыхнуло во мне ощущение Сербии начала XIX века. Ведь, если вдуматься, в те годы Сербия жила именно в такой дуалистической обстановке. Снаружи это была часть Османской империи, где паши властвовали наряду с богатыми сербскими купцами, а с другой — все же европейское государство, населенное европейцами и христианами.
Границы пересекались так часто, что я на время утратила ощущение привязанности к определенной территории, к какой-то конкретной земле. Открывая глаза в доме Кеттеля и сталкиваясь взором с колоннами, арыками, шелками, слыша запах отменного турецкого кофе и ощущая вкус инжира на губах и языке, я, оставаясь все же сербкой и имея связи с этой землей, словно бы помимо своей воли становилась частью Белградского пашалыка 1790-х годов. И не просто частью. Мне казалось даже, что дом Кеттеля — это мой дом, и где-то рядом мои родители, которые вот-вот должны вернуться с базара, а сама я — дочь богатого купца, который так любил все восточное…
Да, страсть отца к Востоку имела место в нем. И дело даже не в его тяготении к мудреным и малопонятным заимствованным словам — все здесь, в этом доме говорило мне о том, что все же наша страна — часть Османской империи. Все это знают, но почему именно у него, Северина Йовановича, такая страсть к турецкому? Нет, нельзя сказать, чтобы он не был истинным правоверным христианином или не любил свою страну и свой народ. Просто его манит восточный колорит. Он часто говорит так:
— В исламе все правильно, потому что правильно от начала до конца. Там жена по-настоящему боится и уважает мужа, только за то, что тот отдает дому и семье практически все, что имеет — кроме, пожалуй, души, которая принадлежит Аллаху. У нас же есть только слово. «Жена да убоится мужа своего». И все. На деле это не уважение, а страх, причем не за то, что он — ее муж, а за то, что он сильнее. Стоит ему дать слабину, как она уже принадлежит другому. Потом — третьему и так далее. А все потому, что мы воспитываем дочерей не так, как надо. Они видят неуважение в семье родителей, непочтительное отношение друг к другу. Не за совесть, а за мгновенный страх, который пройдет, стоит мужу состариться или потерять свою силу, хранят теперешние жены тепло очага. Да и очаг этот — всего лишь тлеющие угольки. Да и хранят его так, что малейший ветерок вот-вот его погасит. Все идет от отсутствия веры. Никто толком ничего не понимает, а попы не удосуживаются объяснениями. Малопонятные длинные фразы твердят на своих службах денно и нощно, а, коль скоро понять их нельзя, то под конец устают…
Таких слов обычно не выдерживает мать.
— Прекрати, Северин. Вечно тебе надо возвести хулу на Бога.
— Вот тебе и пример! И ходить далеко не надо. Нет бы дослушать мужа до конца, ты обрываешь меня.
— Потому что ты говоришь ерунду.
— Как ты, женщина, существо малоумное от природы, способна понимать всю суть того, что я говорю?..
Я сижу в углу большой комнаты, обставленной в восточном стиле и занимаюсь вышиванием — обычным своим делом. Такие разговоры между родителями не редкость, и потому вызывают у меня улыбку.
— Ты хочешь сказать, что, если муж не уважает жену, жена все равно должна уважать мужа? За что?
— Хотя бы за то, как она живет! За то, что она не крестьянка и не просит подаяния! За то, что одета в шелка не хуже жен дахов!
— Ну, опять за старое…
В этот момент из гостиной слышен шум — пришли гости. Я уже знаю, кто это. Это старик Петро Йованович, дальний родственник отца, он живет на другом конце Белграда. Он приехал сюда недавно вместе с семьей из Шумадии, из какой-то деревушки. Там турки совсем стали заедать местное население, вот он и переселился в пашалык. Он беден, ему вечно не хватает денег, и отец время от времени ссужает его. Отец богат, но не могу сказать, чтобы помощь родственнику была ему не в тягость — он несколько скуп, что не добавляет ему веса и уважения ни в глазах жены, ни в глазах дочери. Хоть и не оставляет родственника совсем без средств к существованию.
Последнее время Петро приходит к нам со своим сыном. Высокий и статно сложенный, с горящими глазами, похожими на угли в костре, этот юноша не мог не привлечь к себе моего внимания. Что я почувствовала к нему? Сложно сказать. Но то, что не осталась равнодушной — это уж точно. Пока отец с матерью беседуют со старым Петро (а беседы эти, посвященные самым разным темам и сторонам человеческого существования, все же Петро мудр в силу опыта и возраста и потому всякий раз является для родителей интересным собеседником), мы часто ходим с юным Георгием по нашему саду и тоже пытаемся в свойственной нам манере говорить о жизни. Слыша краем уха, о чем говорят старшие, после мы смеемся над ними, такими устаревшими кажутся и их представления, и даже их язык. Нет, что ни говори, а молодость умнее старости, хоть и принято считать обратное.
— Как же вы видите себе будущее нашего государства?
Георгий категоричен в ответах:
— Вечно мы не будем под игом. Мы уже давали туркам отпор и не раз. Дадим его и снова — стоит только им посильнее сжать кулак, в котором, как они думают, они нас держат. Сейчас они дают богатым сербам хорошо жить, но от этого плохо сербам бедным — а таковых большинство — и еще кое-кому. И вот эти кто-то и будут движущей силой, которая вновь заставит сербов объединиться и взяться за оружие в борьбе против внешнего врага.
— И кто же это?
— Дахи.
— Богатые турки?
— Именно. Они хотят преимуществ, но паша и султан видят, что сербы не лыком шиты и чуть что схватятся за вилы. Спокойная жизнь им дороже, вот они и приравнивают в правах турок и сербов, хотя мы всего лишь часть империи турок. Но этим они злят последних. И те вот-вот начнут выказывать недовольство, закрыть глаза на которые султан тоже не сможет. Вот и окажется он меж двух огней, и выбор сделает явно не в пользу сербов — остальная империя ему больше и дороже. Тут-то мы и поднимем голову. И вспомним и битву на Косовом поле, и века рабства. Не будет тогда народному гневу предела…
Когда он произносит эти фразы, лицо его словно бы загорается. Он розовеет, его сильные, не по годам крепкие кулаки сжимаются, желваки играют на лице. Мне становится не то, чтобы страшно — я знаю, что меня он не обидит. Я испытываю то первозданное, животное чувство преклонения перед мужчиной, о котором все время говорит мой отец и которое отказывается признавать моя мать. Я робею перед ним, но мне нравится эта робость, она меня манит, мне не хочется гасить этот огонь внутри себя, который от встречи к встрече разгорается все сильнее.
И это замечает отец. Ему это не нравится.
— Скажи-ка, — говорит он мне, — что это между тобой и юным Георгием, сыном Петра?
— Ничего, — говорю я и непроизвольно прячу глаза. Зачем я это делаю, ведь между нами правда ничего не происходит. Так чего мне стесняться? Но это как-то само получается. Отец, понятное дело, начинает что-то подозревать.
— Так уж и ничего! Ты вот что — ты думать о нем забудь. Он тебе не пара. Во-первых, мы родня, хоть и дальняя, а все же. Мало ли славных родов пресеклось подобным образом — когда отпрыски вступали в сношения между собой, не заботясь о потомстве, которое сплошь состояло из уродцев! Во-вторых, он беден. Я подыщу тебе достойную партию…
Тут как всегда вмешивается мама.
— Кого ты имеешь в виду? Неужто молодого Кеттеля? Турка? Совсем с ума сошел? Родную дочь отдать за инородца и иноверца! Да еще черного как смоль!
Я непроизвольно улыбаюсь, предвкушая праведный гнев отца.
— И что? С лица воду не пить! Смотри-ка на нее! А отдать дочь за проходимца, за нищего — лучше что ли?
— Куда тебе столько денег? В могилу с собой всего не заберешь!
— Не учи мужа! Если надоела такая жизнь — вон отсюда, я не держу.
Но уходит сам. Тут, пользуясь нашим уединением, мать не преминет вставить свое слово:
— Отец хоть и жесток не в меру, но прав. Не смотрела бы ты на Георгия…
— Да я и не смотрю на него!
— Сама себя обманываешь. Глаза-то не спрячешь! Вон как светятся. Понимаю, и красив, и умен, издалека видно, только отец снова прав — с лица воду не пить. Не с лицом жить, а с человеком…
— А что, если он человек хороший?
— Это ты как поняла?
— Мы разговариваем, и очень долго всякий раз, как он приходит. Мне кажется, плохой человек не смог бы так рассуждать.
— Эх, дочка… Слова — такой брен, что по ним понять нельзя, мужчина ли говорит или женщина, не то, что уж определить характер человека…
Я не согласна с матерью — как это? Как же тогда по-другому можно его определить, как не словами?
А он, Георгий, хоть и не слышит слов родителей, а словно бы чувствует что-то, словно рядом находится, когда мы спорим. И в ту же ночь прокрадывается к нам в сад. И мне как на грех не спится в эту ночь. Я выхожу попить воды из арыка, что в саду, и тут натыкаюсь на Георгия. Два чувства борются во мне — страх быть застигнутыми врасплох, и радость, какая-то необъяснимая, но очень сильная и упорная радость оттого, что встретила наконец того, о ком думаю не один день.
— Как вы… ты здесь оказался?
— Через забор, — шепчет мне Георгий.
Мы пьем из арыка, словно загнанные лошади, но жажда не проходит ни у одного, ни у другого.
— Но зачем ты пришел?
— Отец сказал мне, чтобы я не смотрел в твою сторону, — говорит Георгий, и слова эти словно ранят в самое сердце. Я решила не говорить ему первой о словах своих родителей. — Сказал, что ты богатая, и нам не по пути. Но я уже так привык к нашим встречам и разговорам, что, кажется, уже не мыслю себя без тебя. Как воздух нужны мне твои немногочисленные слова, твой блестящий взгляд, твой запах…
Он протягивает ко мне руку. Господи, до чего же жарко было весь день, и сейчас, кажется, ни на йоту не холоднее. Я словно таю от его слов, а уж от его прикосновения к своему лицу и вовсе уже почти ничего не помню.
— И мне… Ты тоже словно бы запал мне в душу. Не могу с тобой расставаться…
— Да только отец сказал еще, что у тебя есть жених!
— Это неправда! Мой отец… он хочет сосватать меня к сыну турецкого даха, молодому Хабибу Кеттелю.
— Не бывать этому!
— Как ты горяч! Что же делать?
— Я убью его…
Нет, таких слов я не могу слышать от того, кто за считанные дни и несколько бесед под сенью нашего сада стал мне словно бы родным. Я отвечаю на его прикосновение и спешу закрыть его рот, но он уворачивается от моей ладони. Что ж, не увернется он от моих губ, которые заставят эти страшные слова исчезнуть раз и навсегда здесь, под этими липами, где мы с ним когда-то познакомились. Ах, до чего же может довести эта жара, что так опалила пашалык этим знойным проклятым летом!..
Уж не знаю, читал ли отец по моим глазам что, да только на следующий же день молодой Хабиб Кеттель появился у нас дома. Не скажу, чтоб он был некрасив — всяких турок я видала, и этот был не из худших. Статен и богат был сын даха. Да разве могла ли я смотреть на него как на мужа?
Спросила я у матери, куда же девался сам отец, едва представив мне дорогого гостя. Она отвечала, что отправился к его отцу, чтобы обсудить сватовство. Вот ведь дело какое! Меня и не спросит никто?
В тот же сад повела я молодого Хабиба. Зачем? Может быть, потому что стены дома, обставленного под сказки «1001 ночи» давили на меня и не давали сосредоточиться, а, может, потому что ждала, что вот-вот перепрыгнет молодой Георгий через забор, и, если уж не сдержит своего ночного обещания — дай-то Бог, чтоб так и было! — то украдет меня, и забуду я это нелепое сватовство как страшный сон. Но он, как на грех, не появлялся.
— А что, — дерзила я гостю после ни к чему не обязывающей трехминутной беседы, — если я вам скажу, что у меня есть жених?
— Сын Петра Йовановича?
— Вы так хорошо осведомлены…
— Да, ваш отец сказывал, но ведь он беден…
— Разве то, что человек беден, означает, что он должен быть несчастен?
— Нет, это означает лишь то, что свое счастье он должен искать среди себе подобных. Сам по себе брак с неравной тебе уже означает несчастье. Несчастье взаимного непонимания, взаимной ограниченности…
— Не могу с вами согласиться. Настанет день, — я заговорила уже словами Георгия, — когда сословные противоречия, в том числе в нашей империи, будут стерты. Так уже было раньше, в Англии например…
— И чем все кончилось? Все равно все вернулось на круги своя. Против воли Аллаха средства нет.
— Неужто Его воля в том состоит, чтобы указывать человеку, что для него лучше, отводя от него то, что он избрал для себя сам?
— В Коране сказано: «Не равны скверное и благое, даже если изобилие скверного понравилось тебе… Аллах ведает, что для человека благо, ибо душа человека повелевает зло всегда…»
«Бог мой, — подумала я, — и вот эту галиматью мой отец считает священным писанием? Да кто вообще мог до такого додуматься?.. С этим человеком мы точно ни до чего не договоримся…»
Хабиб ушел, вернулся отец, стал что-то говорить о грядущей свадьбе, но я его не слышала — казалось, все это происходило не со мной. Бессонная ночь дала о себе знать. Я валилась с ног.
Спала я в те дни скверно, кошмары мне снились, и вообще граница между сном и явью словно бы стерлась. Не понять было, где кончается одно и начинается другое. Потому все остальные события, пришедшиеся на то время, для меня проплыли словно в бреду. Я узнала от каких-то людей, что в самый канун сватовства Хабиба ко мне Георгий все же убил Хабиба и скрылся где-то в горах. Помню, что мне стало больно и обидно не от того даже, что неприятный мне человек погиб, а от того, что Георгий сделал это непонятно зачем — ему теперь вечно скрываться или отправляться на каторгу, а я как же? Ради чего было делать это, если нам все равно не суждено будет быть подле друг друга и делать друг друга счастливыми?
Скоро, правда, все изменилось. Не сговариваясь, мы снова встретились в том же саду. Я снова вышла попить воды и встретила его, своего Черного Георгия. Я уже тогда стала звать его этим именем, ведь он был и с волос, и с глаз черный как смоль, что делало его каким-то особенно красивым для меня, в отличие от остальных, кто имел смуглые черты лица. Иссиня-черные усы и волосы, жгучий взгляд — ну куда от этого всего было деться бедной неискушенной девице?
В ту ночь он был особенно зол. Он, не спрашивая, схватил меня и усадил на коня, который ожидал за забором. Спросил, могу ли я ездить — благо, этому я была обучена с детства. Мы скакали, не разбирая дороги, а мне и вовсе казалось, что я спала или была в каком-то бреду. И только, когда к утру мы почти доскакали до границы с Австрией, он решился сказать мне правду…
Чуть позже, уже после смерти Георгия, русский поэт Пушкин напишет об этом:
Не два волка в овраге грызутся,
Отец с сыном в пещере бранятся.
Старый Петро сына укоряет:
«Бунтовщик ты, злодей проклятый!
Не боишься ты господа бога,
Где тебе с султаном тягаться,
Воевать с белградским пашою!
Аль о двух головах ты родился?
Пропадай ты себе, окаянный,
Да зачем ты всю Сербию губишь?»
Отвечает Георгий угрюмо:
«Из ума, старик, видно, выжил,
Коли лаешь безумные речи».
Старый Петро пуще осердился,
Пуще он бранится, бушует.
Хочет он отправиться в Белград,
Туркам выдать ослушного сына,
Объявить убежище сербов.
Он из темной пещеры выходит;
Георгий старика догоняет:
«Воротися, отец, воротися!
Отпусти мне невольное слово».
Старый Петро не слушает, грозится:
«Вот ужо, разбойник, тебе будет!»
Сын ему вперед забегает,
Старику кланяется в ноги.
Не взглянул на сына старый Петро.
Догоняет вновь его Георгий
И хватает за сивую косу.
«Воротись, ради господа бога:
Не введи ты меня в искушенье!»
Отпихнул старик его сердито
И пошел по белградской дороге.
Горько, горько Георгий заплакал,
Пистолет из-за пояса вынул,
Взвел курок, да и выстрелил тут же.
Закричал Петро, зашатавшись:
«Помоги мне, Георгий, я ранен!»
И упал на дорогу бездыханен.
Сын бегом в пещеру воротился;
Его мать вышла ему навстречу.
«Что, Георгий, куда делся Петро?»
Отвечает Георгий сурово:
«За обедом старик пьян напился
И заснул на белградской дороге».
Догадалась она, завопила:
«Будь же богом проклят ты, черный,
Коль убил ты отца родного!»
С той поры Георгий Петрович
У людей прозывается Черный

Да, Георгий убил отца, который уговаривал его сдаться властям. А после решился украсть меня. Последнее решение его было правильным, мне бы в пашалыке жизни не было как с ним, так без него. Но ведь не додумался бы он до такого, не убив родного отца!..
Страшен и тяжек был его поступок — когда-нибудь он еще обязательно ответит за него и перед Богом, и перед людьми. А пока он получил то, чего хотел — да чего там, этого хотели мы оба. Мы получили человеческое счастье, которого оба так жаждали. Мы уехали в Тополь, где жили несколько лет довольно счастливо. Георгий поступил на регулярную службу, а я ждала его из караулов и походов. Я была спокойна за него. Но что-то сильнее нас манило обоих назад, в пашалык. Как преступников тянуло нас на место преступления — но не чтобы совершить новое, а чтобы покаяться и понять, что сербы без Сербии не живут.
Елена (продолжение)
Теперь я мысленно возвращаюсь в детали нашего бегства. После этого всепоглощающего дурмана, кромешной тьмы, в которую я оказалась вовлечена по причине своей горячечной влюбленности — я сама уже не знала, стоило ли оно того, так ли я люблю, как сама себе вообразила. Георгий словно горный орел утащил меня от привычных мне мест в свою заоблачную пещеру. И хотя, конечно, он не был мне чужим человеком, но пожалуй был единственным связующим звеном между мной и всем тем, что я любила — родиной, отцом и матерью, чувством юности и свободы. Да, именно юности и свободы — после нашего бегства в Австрию я могла сказать о себе, что постарела. Нет, у меня не стали болеть члены, мои волосы не обелила седина, но внутри меня перестал полыхать тот затяжной пожар, что способен довести до глупости и равно — до высочайшей степени внутреннего ликования. Этот пожар свойственен всем молодым. Я же, оказавшись на чужбине, остыла и успокоилась как это обычно бывает с очень взрослыми или даже пожилыми людьми.
Во многом этому способствовало состояние Георгия. Первые дни или даже недели, месяцы нашей жизни в Тополе он места себе не мог найти. У него не было работы, а мы едва сводили концы с концами благодаря моим случайным заработкам. Он не ел и не пил, и своим опустошенным, несчастным видом меня саму словно сводил в могилу. Я не привыкла и не могла видеть его таким — ведь он обещал мне здесь счастливую жизнь, а сам опустил крылья и словно бы оставил, предал меня на чужбине. Помимо того, что я сама испытывала муки от того, что оказалась вдали от родного дома — и это при том, что я никогда в жизни не уезжала от него дальше нескольких миль, — так и он вдруг впал в отчаяние, цвет его лица сделался бледно-белесым, душа еще при жизни словно бы оставляла его.
Мужчина питается жизненной силой женщины, а женщина — силой мужчины. Такого установление самой природы. Разница лишь в определении этой силы. У женщины она сосредоточена в ласке и в тепле, за счет коих поддерживается огонь в доме — тепло рождает тепло, а мужчина от природы устроен по-иному. Он человек войны, охотник, добытчик. Сама жизнь делает его суровее, но это не означает, что ему нравится быть таким. Он нуждается в тепле сродни ребенку, для которого холод этого мира становится почти первобытным ужасом. Женщина же, напротив, нуждается в опоре. Потому и задуманы мы Богом как единое целое, как части друг друга. И потому, если одна часть начинает умирать или ослабевать, следом за ней ослабевает и вторая.
Причиной всего были муки совести, которые испытывал Георгий после убийства отца. Я старалась убедить его, да и сам он понимал, что иного выхода у него не было — если бы отец отдал его властям, то его ждала бы смертная казнь. Знай я о том, что любимый умер из-за меня, смогла бы ли я жить на этом свете? Ясно, нет. Так что же? Закон природы в том, что нужно отдать меньше, чтобы сохранить больше. Наши солдаты гибнут на войнах ради того, чтобы спасти жизни своих земляков — куда более многочисленных, чем ратное войско. Убив одного человека, пускай даже и самого родного, Георгий тем самым спас две жизни — свою и мою. Я не переставала ему это говорить…
— …Я это прекрасно понимаю…
— А что тогда? Что заставляет тебя так гореть? Тоска по родителю? Так ведь и мне не легче — мои мать с отцом хоть и живы, а ведь не встретимся уж до гроба, и оттого не менее, а даже более тоскливо.
— И не в этом дело тоже. Пойми — я убил отца. Отца, который воспитывал во мне исконно сербские черты, выпестовал уважение к родине, любовь к природе, почет к старшим. И все то, что я назвал, умерло вместе с ним во мне. Конечно, не сразу я забуду те уроки и правила, которые он мне внушил, но своим выстрелом я разжег тот пожар, который уничтожит во мне все человеческое. Убить человека и убить отца — вещи разные…
— Но ведь никогда дети не живут ради своих родителей. Потому и умирают предки раньше потомков, и это правильно, и так будет всегда.
— Ты права. Но дело в том, что родители живут ради детей. Ради их блага и уж никак не ради того, чтобы пасть от их же пули по их же блажи. И потом… есть еще одно обстоятельство, которое тяготит меня куда сильнее смерти отца. Народ. Мой народ. Как я взгляну ему в глаза? Что скажу? Какие слова найду в оправдание? Не сказать ли мне, что мое желание и похоть отправили старика Петра на тот свет? Какие найти слова, чтобы оправдаться хоть как-то, хоть перед живущими, не говоря уж о Высшем Суде, чтобы не провалиться от стыда и презрения сквозь грешную землю?..
Последнее его выражение я осознала не сразу.
— Ты… ты собираешься глядеть в глаза своему народу? — спросила я с робостью и смущением, но втайне — с радостью. Неужели он подумывает о возвращении? Меня, как видно глупую женщину, тешила мысль о том, что мы можем вернуться — даром, что ему придется отправиться на каторгу, сейчас и она мне казалась не такой страшной, как разлука с отчим домом.
— Человек связан с родиной, где бы он ни находился. Он пупом прирастает к той земле, что его родила — и потому не знает история, чтобы беглец или блудный сын не возвратился в кои-то веки в родные пенаты. Возвращению быть, это факт. И я молю Бога, чтобы случиться ему при нашей с тобой жизни, ведь хоть мертвые сраму не имут, а говорить о прощении и вине им все же тяжелее, чем живым…
Слова его повергли меня если не в уныние, то в непостижимые размышления — где было так далеко ходить в мысленных дебрях простой дочери торговца? Меня угнетали вечные мрачные думы Георгия, от которых его и без того темное лицо становилось иссиня-черным.
Страшно себе представить, но тогда я впервые поняла — а после многократно слышала от других, — что именно это убийство, а вернее, та решительность, которую Георгий проявил по отношению к отцу, и переломили выбор сербов, сделав позже Георгия вождем этого свободолюбивого народа. Лихие, взрывные сербы, хоть внешне и не могли не осудить его за проявленную жестокость, в душе боготворили его. Вот только знали бы они, какую цену после он за все это заплатил…
Наконец произошло событие, внесшее суету в нашу привычную грустно-размеренную жизнь. Чтобы помочь русскому царю, австрийский король объявил войну туркам. А поскольку турецкий сателлит — Сербия — лежал ближе всего к месту их бойни, к владениям русского государя, то решил напасть на нее. Так войска султана вынуждены будут отбиваться не от одного, а сразу от двух противников, что конечно тяжелее. Георгий не стал дожидаться рекрутского набора и сам записался в гайдуки. Решение его, как и многие, которые он принимал до и после, вызвало во мне противоречивые чувства. С одной стороны, он будет воевать с сербами, со своими же братьями, что не может меня радовать. А с другой — надо было видеть его лицо, чтобы понять, что значит для него эта война. Человеком войны он был словно по праву рождения. Лицо его изменилось, засияло яростью и азартом. В глазах появился все тот же огонь, как и два года назад — при наших встречах в моем саду. Он словно бы ожил — а вместе с ним ожила и я.
Я не могла уже видеть, как на моих глазах умирает самый живой из людей, мучимый тоской по родине и по оставленному там убитому отцу. Видит Бог, если б не эта война, я бы сама оставила Георгия. Да, мне было тяжело и тоскливо. Но ведь когда ноша одной вьючной кобылы и так едва посильна для нее, то вторая просто может ее убить…
К счастью, мне не пришлось высказывать Георгию свои сомнения и опасения — несколько дней спустя после того, как известие о начале войны пришло в Тополь, он уехал. Через месяц я получила от него письмо.
«Дорогая Елена! У меня для тебя много приятных новостей. Главная из них состоит в том, что меня как потомственного серба сразу отправили в атаку на Белград. Понимаю, звучит чудовищно, но, пребывая здесь, я словно бы вернулся назад. Вдохнул родного воздуха — и напитался им еще на много лет вперед. А воздух здешний ты помнишь — в нем витает дух свободы, дух войны, дух счастья и радости. Он не оставляет равнодушным никого, кто хоть раз наберет его полной грудью. И пробуждает сразу самые лучшие чувства. Одно из них — любовь к родине и сострадание к ней, коль скоро гнетет ее враг, обременяет игом, мучает и пытает самых родных нам людей. Нет, не с сербами я воевал — те, кто против султана, ушли в горы и прячутся там, а те, кто с ним — уже не сербы. Я воевал с жестоким завоевателем, подлым гегемоном, сосущим кровь из маленькой и гордой, но вечно унижаемой нации. И не ослабить руку, не сложить оружия помогал мне именно родной воздух. Должен тебе сказать, что земля и небо, реки и степи, люди и их оружие — все словно бы выталкивает турок оттуда, где не принадлежит им и никогда не будет принадлежать ни пяди. Не в гайдуках дело и не в сербских патриотах — просто всему на свете приходит конец. И если не могут его положить люди, положит его Бог. Уверяю тебя, он настал. Скоро мы вернемся домой. Не могу сказать большего, но знаю — ты мне веришь. Потому что верю тебе…»
«Еще об одном хочу тебе сказать. Русские. Это удивительный народ, коего я раньше не встречал, но много о них слышал. Слышал от моего отца. Он рассказывал мне, что к сербам никто и никогда не относился добрее, терпеливее, справедливее. Русский прост настолько, что даже в ущерб себе от жалости к угнетенному сербу отдаст тому последнюю рубаху. Сейчас, когда мы встретились с войсками русского царя под Белградом, могу тебе сказать — так и есть. Меня поразило, насколько мы похожи. При всем величии обеих наших наций, каждый из нас прост и неприхотлив. У нас нет австрийской заносчивости и турецкой подлости, хотя души и силы побольше, чем в тех двоих. Каждый из нас владеет ружьем в совершенстве, но не применяет его где попало — а только в крайнем случае. Одним словом, я повстречал давно потерянных братьев и много дней ходил счастливый.
Еще русский рассказал мне историю о том, как больше ста лет назад русский патриарх решил изменить церковные обряды, посмотрев на наши молебны и богослужения. Не все поддержали его — пришлось сразиться с ордами темных и невежественных людей, прежде, чем идея славянского воссоединения восторжествовала. Я подумал — надо же, что значит истинная вера и любовь к братьям! Все и всех можно принести в жертву ради нашей дружбы. И, если представится мне такой случай, будь уверена — так я и сделаю».
Хороша та война, что заканчивается миром — так случилось и сейчас. Весь в наградах, Георгий вернулся в Тополь и велел мне собираться — османы заключили с австрияками мир, уступили им много плодородных земель, а всех австрийских солдат приняли на службу в армию. Георгий стал полковником и командиром войска гайдуков, рос по службе, а я с удивлением взирала на город, который покинула, казалось, еще вчера, но уже сегодня почему-то не могла узнать.
Обычно, после долгой разлуки с местом, в котором родился, человек спешит туда, где живут его воспоминания — улочки, дома, сады, фонтаны, неказистые и не бросающиеся в глаза случайному прохожему могут значить для приезжего больше, чем могилы предков. Я навестила места, где упокоились мои родители. Было ли мне грустно? Да… Конечно… Вот только слезы почему-то навернулись на глаза не сразу и как-то нехотя — только потому что надо, что ли. Что-то было в этом городе такое, что делало моих родителей уже словно бы и не моими.
Конечно, долгая разлука и гнев отца на меня и Георгия, запрещавший писать нам любому из обитателей дома сделали свое дело — между нами пролегла мертвенно-холодная стена. Хоть и не разорвешь кровные нити, сколько ни тужься, а все же даже дергать за них лишний раз не надо — память о склоке останется в сердце навсегда. Я тогда подумала, что именно наше расставание так охладило меня, что я не убиваюсь на отчей могиле. Но потом я сама сделала то, что обычно делают гости, приехав на родину, бывшую их домом, но давно уже ставшую чужим.
Я стала гулять по городу. Но не узнала его. Было в моем городе что-то, что отличало его от прежнего, времен моей юности. Не говорите только, что это я повзрослела, знаю. Дело не в этом. Есть вещи и места, остающиеся незыблемыми, сколько бы лет ни прошло с вашего расставания. Здесь не было ничего, что напоминало бы мне о прежнем Белграде. Ну, кроме стен, конечно. Хоть все так же в небе сияло солнце, по улицам ходили другие люди. Нет, в тех же костюмах и с теми же лицами — но другие. Опасливые. Чванливые. Злые. Не было прежних, улыбающихся и пусть глуповатых, но родных мне до боли сербов. Были хитрые, жестокие, с больным светом в глазах.
Да, мы веками жили с турками бок о бок. Каждый из нас равно считал эту землю своей. Мы часто говорили — еще тогда, когда я была маленькой, — что все мы вместе есть один народ, а власть наша — другой народ. Но историю и Бога не обманешь. Правда всегда останется правдой и, хоть поздно, а восторжествует. Тайное всегда станет явным, пускай даже потребуются для этого десятилетия и века. Добро победит зло, если даже ценой пирровой победы. Но так будет. Это закон, повлиять на которой не в силах даже самый сильный захватчик. Для себя он знает — чужое никогда не станет твоим. Ты можешь забрать его силой, но пройдут годы — и тот, кто стоит у нас за спинами и летает над нами, заберет его и отдаст тому, кому это принадлежит. Ведь не в руках человека порушить Божий промысел и внести сутолоку в Его планы. И потому гегемон, понимая внутренне, что конца не избежать — примеры всех древних империй говорят нам о том, — убеждает народ в обратном. Он питает его идеями войны и возможности проживать на никогда не принадлежавших ему территориях. И, каким бы благородным ни был этот народ, пусть не сразу, но он соглашается — слишком уж заманчиво взять чужое, не заплатив.
Приехав в Белград уже взрослой, я поняла — мы жили в атмосфере обмана. Мы лгали самим себе, братаясь с турками и сидя с ними за одним столом. Это было явление временное и противное Господу. Человек Божьего промысла не ведает — и потому не знает, когда Ему станет угодно прекратить эту трагикомедию. Но то, что момент настанет — дело решеное.
Сейчас он настал. Войны, наглость турок, жадность паши, нетерпимость сербов, их воинственный от природы дух — все это стало поленьями в костре, который незримо полыхал на улицах моего родного города.
Белград стал грязным, его словно бы пропитал дух беспорядка, являющегося неотъемлемой частью борьбы за свободу и независимость. Никогда не бродили здесь раньше бездомные животные, не было столько пьяных и злых людей, не воняло помоями и не было столько жидкой грязи, которая, казалось, не успевает высыхать после дождей и хлюпает под ногами, несмотря на палящее солнце. И само-то оно, солнце, стало другим. Раньше оно грело, а теперь палило, словно бы желая сжечь ненавистных басурманских захватчиков.
Отчего так было? Война всегда разруха. Если ты серб, то причиняемый тобой беспорядок от злости — чего это, мол, я буду церемониться с захваченной землей, коль она мне не принадлежит? А если турок — то от неуважения. И если серб может позволить себе так рассуждать, то турок никогда. Если уж стали тебя теснить и гнать время от времени, то знай — ты уже не захватчик, а гость. А грубого гостя никто не жалует.
Я смотрела тогда еще глазами гостя на все происходящее — и ничего не могла понять. Уж не ошиблись ли мы городом, когда приехали?..
— Я понимаю, о чем ты говоришь. Сербы так настроены от того, что дахи больше не подчиняются султану.
— Но разве не султан дает им работать и богато жить?
— Они стали требовать от него расширения территорий, а он взял и замирился с австрийцами.
— И что теперь будет? Они его свергнут?
Георгий улыбнулся.
— Он слишком далеко. Они злятся, ты права. Земли наши они давно считают своими, и потому, чтобы отделиться от султана, попытаются взять их силой. Только мы тоже к этому готовы.
— Ты станешь с ними воевать?
— Будет так, как решит народ. Я давно уже подчиняюсь ему, а не черномазому султану и уже тем более не грязному базарному торговцу!..
В одну из ночей к нам в дверь постучались — на пороге стоял турок Исмаил, смотритель водонапорной башни, с которым Георгий время от времени о чем-то беседовал.
— Где Карагеоргий? — на нем лица не было от страха. Я проводила его в комнату к спящему мужу и с тревогой стала вслушиваться в их разговор. Ничего толком не услышала, но спустя некоторое время Георгий показался на пороге в полном военном обмундировании — он успел собраться в доли секунды. Я поняла — что-то произошло.
— Что случилось?
— Срочно одевайся, — Георгий как всегда был бесстрашен, но — по глазам видно — рассержен. — Нам надо уехать.
За полночь мы вскочили на коня и мчались до самого Орашаца. Я грешным делом подумала, что снова придется возвращаться в Австрию — очередной разлуки с домом мое сердце бы не выдержало. К счастью, в нескольких десятках миль от Белграда Георгий остановил коня.
— Ты расскажешь мне, почему мы снова бежим со своей родины?
— Дахи ночью устроят резню. Перебьют всех сторонников султана, кого не удастся переманить на свою сторону, чтобы захватить власть. Вместе с ними казнят самых знатных сербов — священников, купцов, дворян. Нам необходимо было уехать…
Я не поверила своим ушам.
— Ты?! — вскричала я. — Ты, смелее которого я не видела отродясь, вдруг бежишь от врага и оставляешь свою землю и своих людей в лапах эти подлых дахи?!
— Именно потому я и не сказал тебе всего там. Есть вещи, которые нужны всему народу — например, моя жизнь. Кроме меня, некому будет сразиться с дахи, ты права, но не сейчас. Я не смог бы в одночасье поднять восстание. Нам надо подготовиться, а для того хотя бы надо быть живым. Суди как знаешь, а только время покажет. Можно убить десяток дахи и самому пожертвовать жизнью, ничего не изменив в судьбе своей страны, а можно убить тысячи и даровать наконец Сербии так горячо желанную свободу…
Я давно перестала понимать Георгия — возможно, он был слишком умным и взрослым для меня. Но в этом случае мне казалось, что я права, а он просто смалодушничал. Велико же было мое удивление, когда вечером того же дня в Орашац потянулась огромная вереница людей со стороны Белграда. Замерев на высокой смотровой башне, рядом с Георгием, созерцала я нескончаемый людской поток, что двигался из столицы пашалыка. Израненные, грязные, оборванные, но со все тем же блеском в заплаканных глазах шли сербы по тому самому пути, по которому мы проехали накануне.
— Что это? — недоумевала я. Но Георгию все было ясно — это читалось по его глазам.
Наконец десятки тысяч беглых сербов подошли вплотную к месту нашего укрытия. Раненый и едва стоящий на ногах Петр Ичко поклонился Георгию в ноги.
— Не гневайся на нас, Георгий Петрович. Пришел к тебе твой народ просить помощи и защиты. Встань во главе и оборони — не на кого больше надеяться, коль сам Бог от нас отвернулся.
— Что же, по-твоему, простой солдат сильнее Бога? — спросил у него Георгий.
— Не могу знать этого, Георгий Петрович. А только тебя одного Он милует. Помилуй и ты — встань впереди, охрани и спаси!
В глазах старого серба выступили слезы. Георгий стиснул зубы и смотрел на людей, которые были самым главным его богатством и достоянием — его час настал, в ту минуту это понял каждый.
Вскоре после этого Георгий отправил депешу в войско гайдуков, стоявшее недалеко от австрийской границы, что он возглавлял. Ответа долго ждать не пришлось — спустя пару дней, которые потребовались нам, чтобы привести больных и раненых в порядок, на помощь к Георгию прискакали несколько сотен коренных сербов, вооруженных до зубов. Оказалось, они разоружили едва ли не целое войско, чтобы не только своими руками, но и ружьями помочь своему народу отвоевать, наконец, независимость.
В дни подготовки восстания — а никто из собравшихся не сомневался в том, что ему быть, — я нередко слышала речи Георгия как перед большими народными собраниями, так и перед единицами, перед вождями. Говорил он вещи очень мудрые и прозорливые — умным он был всегда, еще с юности, а теперь к нему еще пришла военная хитрость, в совокупности с которой становилась его голова особенно опасной для турок.
— Дахи не подчиняются султану, бунтуют против его власти. Что ж, враг моего врага — мой друг. Этому научила меня австрийская война. Воевать сразу с двумя противниками означает сразу проиграть, да и вооружены янычары лучше нас. Так что на первых порах мы будем декларировать свою верность султану. Дахи ближе и опаснее. Вот и получится, что с одной стороны теснить их будем мы, с другой — полки янычар, которых султан уже выслал.
— Скажи, Георгий, — спрашивал Бойко Млатич, — а когда мы войдем в Белград, как будем воевать с янычарами? Сам же говоришь — они вооружены лучше да и сильнее?
— Верно, но мы будем дома, а они нет. Говорю вам это не как серб, а как полководец — сражение дома — полпобеды.
Отдохнув и вооружившись за счет гайдуков, сербы стали прорываться к Белграду. Тяжелейшие битвы с дахи ждали их под Мишаром и Делиградом, при Шабаце и Ужице. Многие потери нес наш народ по пути в тот город, который много веков согревал их и давал им веру в свободу и справедливость.
Разведка сообщала Карагеоргию о таких настроениях среди белградских дахи:
— Они не понимают, зачем изгнанные из Белграда сербы рвутся назад. Считают, что их там больше и они сильнее, и потому искать нам с ними столкновения — дело пустое…
Георгий ничего не отвечал, лишь хитро улыбался — его ответ мы все слышали и потому понимали: готовится восстание.
Когда я слушала рассказы отца или матери о тех восстаниях, которые сербы, наверное, всю свою историю поднимали против турок (включая знаменитое сражение на Косовом поле), я представляла себе эти выступления как какую-то огромную и беспорядочную сечу, в которой стенка на стенку сходятся хорошо вооруженная турецкая рать и босоногие, но революционно настроенные сербы, отстаивающие самое дорогое, что у них есть — свободу и возможность жить без ига. Но когда я своими глазами увидела все, что происходило в те дни в Белграде, я поняла, что к моим сказочным рисованным представлениям реальная жизнь не имеет никакого отношения.
По всему Белграду — то там, то здесь кучками собирались дахи — с одной стороны, — и сербы с другой. Все они были вооружены и передвигались по городу в полной боевой готовности. Одна группа могли смело встретить другую — и пройти мимо нее, видя, что в ее составе сосед, приятель вожака этой стайки, или просто, соразмеряя силы. Но в то же время, чем ближе становилось к закату, тем активнее становились эти передвижения… Не то, чтобы мирному сербу опасно было пройти по улицам столицы, но сама атмосфера тогдашнего Белграда подстегивала к тому, чтобы влиться в одну из этих группировок и с оружием в руках продолжить воинственное шествие по городу.
Вечерами и ночами столкновения случались все чаще, крови лилось все больше. При том, что днем ничего, как казалось, не предвещало беды — как я уже сказала, днем лагеря противников лишь одаривали друг друга грозными взглядами, сберегая силы для ночи. И тут рубили друг друга те, кто еще вчера жил под этим палящим солнцем среди скалистых гор и вечных лесов в мире и согласии. И тому, кто посмотрел бы на этот ужас со стороны, несладко бы пришлось. А тот, кто жил здесь годами, знал — каждый борется за свое право, за свою землю и ту, которую считает своей родиной, а потому ни осудить, ни остановить бойню не решился бы, наверное, даже самый смелый — если был кто-то смелее Георгия.
Что ни говори, а там, в Австрии я не видела того, кого привыкла видеть в Белграде — сильного, смелого, до отчаяния, волевого и дерзкого, привыкшего всегда брать свое, хотя бы даже и силой. Не сказать, чтобы там притупилась моя любовь к нему, но возраст мой еще диктовал свои правила — мне хотелось вечной схватки, вечного огня, жара, крови. Ему хотелось того же, но проявить себя там он не мог — разве что в бою, свидетельницей которого я не была. А здесь он снова стал прежним — тем, кого я почитала своим богом и кому так страстно отдавалась в постели, как не смогла бы даже Мессалина.
Будучи опытным уже стратегом, Карагеоргий сознательно создавал у нахальных дахи чувство превосходства, а сам тем временем увеличивал все больше число сербских группировок, привлекая свою сотню, стоявшую под Орашацем, для участия в ночных столкновениях. Численность сербов была неизмеримо выше — но основная масса пряталась за городом и выходила лишь под покровом ночи, чтобы у турок не было ощущения того, что народная армия представляет опасность для султана.
— Конечно, — говорил он, — они сегодня такие же враги султану, как и мы. Но не забывайте про зов крови — случись что, они снова породнятся, побратаются под угрозой нового врага, и тогда каждый турок станет преступать нам с оружием в руках. А значит и голову свою, и память использовать как оружие. Чем меньше будет в нем пороху, тем лучше…
Мудрость Георгия состояла и в том, что таким образом — путем не прямого открытого столкновения, как в битвах у пригородов Белграда, а медленных и поступательных действий вытеснить дахи получится незаметнее для султана. Если придет армия и выбьет его врагов, султан напугается за пашу и власть свою собственную; а если их просто всех перебьют то там, то сям в уличных драках — вроде опасаться нечего.
Получилось — султан прислал нового пашу не с армией, а с небольшим полком. И вот тут-то властитель Белграда увидел своими глазами то, что по-настоящему напугало его. Если для дахи, чтобы не вызвать их сплоченности, надо было преуменьшать свою численность, то для маленького турецкого полка, наоборот, следовало увеличить. У страха глаза велики. А уж если приукрасить это зрелище торжеством, то и вовсе сердце врага выпрыгнет из груди.
А торжество было. Сияющий, в нагрудных орденах и черной лисьей мантии, похожий на сказочного короля, взошел Георгий на аналой собора святого Петра в мартовский день 1805 года. В тот день, в его миропомазание, мы были вместе, я отделилась лишь на время самой церемонии. Глядя на него на расстоянии вытянутой руки, я подумала, что не зря все же его прозвали черным — как же идет ему это воинственное царское одеяние сегодня! Какой страх и одновременно какое уважение он вызывает у всех присутствующих!..
Митрополит Анфим совершает обрядовые процедуры… Георгий целует крест, а у стоящих вокруг него сербов и слезы на глазах, и сердца замерли. Отныне он — вождь сербов!
…Повторюсь, я в те годы практически ничего не понимала в жизни. Все эти хитросплетения, войны, дипломатические уступки казались мне чем-то заоблачным, хоть и имели непосредственное отношение к моему мужу. Я и теперь не очень в них понимаю. Знаю, что только к тому моменту Франция, заключившая дипломатический союз с Османской империей, была атакована со стороны России и Англии. Ударив по потенциальному сопернику, который вот-вот собирался разжечь мировой пожар, русские подумали, что французы через своих друзей — осман — отомстят нам за их действия. И, пока те решались, русские выслали в Белград свой полк и первые предложили нам дружбу.
В день коронации войска Карагеоргия разбили малочисленную армию турок и выгнали пашу не солоно хлебавши. Я говорила ему тогда, что без дахи султан силен и вернется вновь, но он уже все знал. Полки русских стояли под Белградом, так что когда новый паша во главе более многочисленной и сильной армии показался у городских ворот, его сдуло вихрем так, что гнев султана показался ему всего лишь легким ветерком.
«Еще об одном хочу тебе сказать. Русские. Это удивительный народ, коего я раньше не встречал, но много о них слышал. Слышал от моего отца. Он рассказывал мне, что к сербам никто и никогда не относился добрее, терпеливее, справедливее. Русский прост настолько, что даже в ущерб себе от жалости к угнетенному сербу отдаст тому последнюю рубаху. Сейчас, когда мы встретились с войсками русского царя под Белградом, могу тебе сказать — так и есть. Меня поразило, насколько мы похожи. При всем величии обеих наших наций, каждый из нас прост и неприхотлив. У нас нет австрийской заносчивости и турецкой подлости, хотя души и силы побольше, чем в тех двоих. Каждый из нас владеет ружьем в совершенстве, но не применяет его где попало — а только в крайнем случае. Одним словом, я повстречал давно потерянных братьев и много дней ходил счастливый».
Елена (продолжение)
У каждого человека — даже у святого — есть в душе и в жизни некое темное пятно, отмыть которое становится, пожалуй, единственным смыслом всех благих дел, совершаемых им в процессе жизни. Нет, конечно, есть и добрые люди, искренне желающие блага окружающим и сеющие добрые дела на всем своем пути следования по земле. Но в основном всю свою жизнь мы либо кому-то что-то доказываем, либо стараемся очиститься от чего-то дурного. Полбеды, если дурное это наказывается по людскому закону — отдал долг и свободен. Хуже, если на этой земле кары тебе не сыскать. Тогда намного страшнее, ведь никто не знает, какую кару наложит на тебя Создатель. Но, несмотря на это, грешник больше всего боится не Бога…
Могу ли я сказать, чтобы мой супруг, Георгий Черный был добрым человеком? Нет. Будь он добрым в известном всем смысле этого слова, он не добился бы для сербов того, чего добился. Конечно, именно любовь и доброта к своему народу сделала его любимым вождем, но временами мне казалось, что во имя этого народа он готов был убить добрую его половину.
Убийство отца было первым из доказательств моих слов. После уже говорил он мне, что будто бы не спасая себя ради себя он убил своего уважаемого всеми пращура, а спасая себя ради всех. В такие минуты я глядела ему в глаза и не видела в них лжи; нет, он не лгал. Он правда верил в это и никаким злом бы не погнушался, если бы уверовал в то, что оно нужно для Сербии.
Но все же его это тяготило — война не до конца искоренила в нем все человеческое. Я видела, как бледнеет его лицо, когда за столом говорят о родителях и детях, когда поминают его отца. Желваки играли на скулах, а кулаки сжимались, становясь похожими на булыжники. Так продолжалось все годы его правления, пока в один из дней я не посоветовала ему просто сходить в церковь и покаяться. По глазам его было видно, что мысль ему не очень понравилась, но изнутри он загорелся чем-то своим, только ему одному понятным.
Утром, в церкви на службе он попросил у отца Анфима слова и стал перед аналоем.
— Братья сербы! Я хочу попросить у вас прощения за ужасный и жестокий поступок, что совершил давным-давно, но о котором не забывал ни секунды своей жизни, и вы — я уверен — тоже помнили о нем. Убийство моего отца тяжким грузом легло на мои плечи и на ваши тоже. Ведь именно меня выбрали вы своим вождем. Коль скоро не принес я вины своей за этот мерзкий поступок, значит каждый из вас будет вправе считать себя убить своего отца и свою мать. И не оправдывает меня то, что сделал я это, спасаясь от каторги и смерти. Все эти годы ни один из вас не упрекнул меня в содеянном, не вспомнил об этом. Но сам я без устали упрекал себя и проклинал, надеясь изменить свое отношение к тем устоям, которые внушил мне мой отец. Ежедневно и ежечасно сталкивались внутри меня вождь сербов и отцеубийца. Тяжело и муторно было мне жить, хотя я не имел права показать вам этого — ведь моя жизнь уже давно не принадлежит исключительно мне. Так разорвем же этот круг молчания и да простит меня мой народ и моя церковь, моя страна и мой Бог!..
После этого — я видела — ему стало легче. Не мучили периодические бессонницы, не впадал он в приступы периодического частого молчания. Но за годы жизни с ним я слишком привыкла к постоянным потрясениям и потому чувствовала — новая беда не за горами. Новое испытание, которое снова заставит человека войны вспомнить о сражении — на поле битвы или внутри себя.
Надо сказать о тех людях, что окружали его все то время, пока он находился у власти и до того. Одним из самых близких к нему людей был Милош Теодорович.
Милош Теодорович был похож на Карагеоргия в том смысле, что тоже был готов на жертвы. Был весьма храбрым, отчаянным, смелым, дерзким — сербы очень уж уважают эти качества. Мало кто знает, но именно он придумал здороваться тремя перстами — как теперь делает и стар и млад. Но именно на этом сходство их с Георгием и заканчивалось. Невысокий, коренастый, с сверкающими исподлобья зелеными глазами, он не походил на такого храброго предводителя лесных восстаний, каким был Карагеоргий. В лице его читалось вместе с храбростью умение если нужно и предать кого-то. Скажем, если это коснется его кармана.
Когда я говорила об этом Георгию, он мне не верил. Командир народной дружины, который прошел с ним бок о бок все восстание, он пользовался у него практически безграничным доверием. Георгий был человек умный, опытный, прозорливый, но любая женщина обошла бы его — как обойдет любого из мужчин — в умении читать по лицам. Да и биография товарища моего супруга оставляла желать лучшего. Совершенно неграмотный, глуповатый, бывший пастух, он попал в ряды знатных сербов, принимавших участие в восстании благодаря своему брату Милану Обреновичу. Вот тот был действительно добрый и именитый человек. Будучи сводным братом Милоша (по матери), он воспитывался в лучших домах белградского пашалыка и стал к 30 годам достаточно богатым землевладельцем. Милош завидовал брату подчас черной завистью, даже когда работал у нег на пашне или в загоне для скота. Еще бы — пока один пас скот, другой стал купцом и подружился с городской знатью, говорят даже, был вхож к паше. Именно ненависть и зависть к брату заставили Милоша в ночь Сечи Кнезовой присоединиться к беглым сербам и податься в Орашац, во владения Карагеоргия. Велико же было его удивление, когда он увидел здесь же своего брата!..
— Что ты здесь делаешь?
— Могу то же самое спросить у тебя. Сербы не уходят из своих домов по своей воле…
— Уж не хочешь ли ты мне сказать, что твои друзья — дахи — и тебя выгнали?
— Они мне не друзья, и ты об этом знаешь.
— Ну как же! Все вы, богатеи, заодно, готовы стелиться перед иноземными захватчиками. Ты-то чем лучше?
Милан напрягся. Глаза его сверкнули злобой.
— Известно ли тебе, сын пастуха, что дахи убивали сегодня наиболее богатых и знатных сербов? Именно они представляют и всегда представляли для турок наибольшую опасность. Мы, а не вы, пастухи да золотари! Кого вы поведете за собой? Никого. А вот договориться с вами проще простого, дал бутылку, вы и продали себя, жену да соседа. Разве не так?
— Не так! Мы любим свою Сербию, а вы — свое золото…
В склоку тогда вмешался Карагеоргий.
— Самое время ссориться, братья. Туркам только того и надо.
— Мой брат несправедливо обвиняет меня, — первым выкрикнул Милош.
— И ты требуешь справедливости?
Тот утвердительно кивнул. Карагеоргий был жесток со всеми, этого требовало время, и поэтому сейчас не сделал исключения:
— Тогда оба убейте себя! Здесь собрались только те, кому Сербия дороже жизни и уж тем более — доброго имени! Если намерены так и дальше продолжать, лучше возвращайтесь в пашалык, мне троянские кони без надобности!..
Властность и авторитет Карагеоргия тогда взяли верх. Братья действительно примирились на некоторое время. Но тогда я посмотрела на Милоша и обратила внимание на его взгляд. Он словно змея затаился, словно ждал чего-то.
Потом было восстание — и каждый из братьев проявил недюжинную храбрость в битвах при Пожареваце и Белграде, заслужив любовь и доверие Карагеоргия, но поодиночке. Их все так же сложно было увидеть вместе, а, встретившись, они старались не смотреть друг на друга.
К моменту окончания восстания Милош женился на простой крестьянской девушке Любице Вукоманович. Не обладая никакими внешними прелестями, была она в то же время очень добра и чисто по-сербски основательна. Такие, как она, не только утешают мужа и служат для него хранительницами очага, но и дают советы по всем жизненным вопросам. Их видно за версту — точно такой была моя покойная мать. Я никогда не стремилась и не умела быть такой — от дел супруга была далека, да и о том, чтобы дать ему дельный совет, у меня не было и мысли. Наверное, поэтому мы сблизились с ней — как сближаются человек и его отражение в зеркале, будучи одновременно такими похожими и такими разными.
Меня занимало в ней то, что она всем и вся давала характеристики. «Этот подлец, тот пьяница, а вот он — неплохой человек». Забавно было, как она, зная все про всех, раскидывает людей словно грибы по корзинам и каждому предрекает будущее. Вот только на мой вопрос обо мне отвечала она уклончиво и непонятно, наверное, боясь обидеть.
— Ты настоящая. Твоему Георгию нужна такая. Добрая, чистая, светлая. И не меняешься с годами — что бы ни происходило в твоей жизни. Какой была в юности — осталась и теперь. И правильно. Да будет так во веки веков!
— Что же тебе мешает стать такой? Ведь это заложено в каждой женщине? — спрашивала я.
— То-то и оно, что мешает. Если бы не я, мой неотесанный чурбан так и пас бы свиней. Я в свое время настояла на том, чтобы он пошел работать к брату, оставив глупую деревенскую гордость — тогда мы еще только познакомились. Потом, когда начали встречаться, Карагеоргий возглавил движение в Орашаце. Мой сначала не хотел идти, а потом хотел вернуться — опять, видите ли, из-за брата. Ни в один бой бы не пошел, если бы не толкала его в спину поленом…
Я рассмеялась.
— Твой муж — храбрый воин…
— Таким как мой муж, — говорила Любица, — чтобы быть храбрыми воинами, нужно постоянно на кого-то смотреть. В поле он смотрел на Георгия, дома смотрит на меня. А перестанешь с ним воевать — и он в плен сдастся.
Несмотря на эти мои характеристики, Георгий был с ним дружен. Приблизил его к себе, а летом 1812 года послал в Стамбул с небольшой торговой миссией. По приезду оттуда мы встретились с Любицей. Она была взволнована.
— У Милоша есть друзья среди богатых и знатных турок, и в эту нашу поездку он говорил с ними…
— Ну и что?
— Они говорят, будто Наполеон собирается напасть на Россию, а турецкий султан разорвал с ним отношения.
— И что это значит?
— Ты правда не понимаешь?
— Нет.
— Пять лет назад Карагеоргия защитили русские — и только потому, что султан был дружен с французами, они были заодно. А теперь нет. И если войско Наполеона ударит по России, она волей-неволей начнет искать союзников, в том числе и здесь, где столько выходов к морю…
Мудрость Любицы меня поразила. Я не дошла бы до всех эти выводов, даже если бы от этого зависела моя жизнь.
— И ты думаешь, что им понадобятся турки?
— Им понадобится тот, кто сильнее и чья армия больше. А это турки.
— Они продадут нас ради турок?
— Нет, ради победы над Наполеоном. Султан прекрасно понимает, что это единственный способ возвратить власть над сербами. Хитрый турок, все они хитрые. Сегодня ты их враг, а завтра — незаметно для себя — уже друг. Наполеон ему больше не интересен, его вотчина — центр Европы. А вот у нас он всю жизнь чувствовал себя хозяином. Да и те, кто бежал из пашалыка — думаешь, говорят ему спасибо? А вот теперь скажут.
Я в ужасе рассказала Георгию об услышанном. Он усмехнулся:
— И зачем они все это рассказали близкому мне человеку? Чтобы тот донес мне?
— А он тебе говорил?
— Нет, но скажет еще. Для чего им, все же, так рисковать?
— Не знаю, Георгий, но люди зря не скажут.
— Слушала бы ты бабу поменьше. Ее место на кухне, а не с мужем на коне. С ней и сама, глядишь, мной управлять станешь — а мне этого допустить никак нельзя.
Тем временем, как мы узнали позже, Милош Теодорович решил навестить своего брата и ему первому поведать о том, что услышал в Порте.
— И что ты хочешь сказать? — холодно спросил Милан.
— Что скоро тут будет новая власть, хотим мы этого или нет. Тебе надо бежать. Всех, кто участвовал в восстании и тем более командовал войсками, казнят.
— Георгий знает?
— Еще нет, — помотал головой Милош. — Ты первый.
— Но почему? Он ведь вождь.
— А ты брат.
— Ты бежишь вместе со мной?
— Видишь ли, бегут все. Нам не впервой — мы отойдем, переждем какое-то время, а потом снова нанесем удар, как десять лет назад. Смысла оставаться здесь ни для кого нет, это будет значить бессмысленную гибель и плевок к лицо сербской независимости немытыми устами грязного султана. Решайся.
Следом отправился Милош к Георгию.
— Где ты был? — строго спросил вождь, едва тот шагнул за порог нашего дома.
— У брата.
— Что ты там делал? — голос его становился все более грозным и решительным.
— Мы разговаривали.
— О том, что…
— …что турки снова планируют напасть на нас, когда Наполеон отвлечет нападением Александра.
— Почему ты мне не сказал об этом?
— Ты сменишь гнев на милость, когда узнаешь, что брат, узнав об этом, решил сбежать.
Георгий забыл заданный ранее вопрос и словно вскипел.
— Ты что?! Откуда ты это знаешь?
— Он сам мне сказал. Орды турок движутся сюда, коль скоро русские войска решили оставить нас и дать отпор Франции!
— Но русские обещали нам…
— Когда опасность подходит к тебе лицом к лицу, любое, даже самое священное обещание, можно забыть. Разве в этом дело? Разве надо сейчас оглядываться назад и рассуждать о том, кто виноват?! Надо решать, что делать! Причем, скорее. Решайся же, вождь.
Георгий опустил глаза. Я была охвачена ужасом, понимая, что должно произойти со дня на день.
Милош не давал ему как следует подумать:
— И что же? Что ты решил? Как по мне, так уходить нельзя. Уйдем сейчас — накликаем беду. Первый раз мы уходили от дахи, которые и числом и силой превосходили нас. Они были здесь как дома. А сейчас нам идти некуда и незачем. Мы должны дать отпор туркам. Уступим им свой дом — останемся каликами перехожими!
Милош говорил высокие слова, которые Георгий и сам любил, но сейчас было для этого не место и не время. Когда вождь произносил пламенные речи, он был уверен в своей правоте — им предшествовали часы и дни размышлений и рассуждений. Горячность в принятии решений, связанных с народной судьбой, была ему не свойственна. Тот же все напирал. Дать сейчас слабину и сказать, что мудрее было бы все же покинуть насиженные места Георгий уже просто не мог — его же оружием Тодорович практически убил его.
— Ты прав, — тихо сказал он. — И когда же твой брат собирается покинуть Белград?
— Сегодня ночью. Разреши мне остановить его…
— Остановить?
— Тот, кто оставляет в такой час свою страну — предатель. Или ты считаешь иначе?
— Нет, но… все же ночью дождись меня. Сам ничего не делай. Я хочу для начала поговорить с ним.
— О чем? Он давно знается с турками, еще со времен дахии…
— Не спорь. Жди меня у его дома в два часа.
Тодорович ушел. О том, что произошло в доме Милана Обреновича в ту ночь я узнала от Любицы.
— Милан и не хотел уходить, метался. Потом они с Георгием стали говорить о том, что не смогут дать отпора туркам, если останутся здесь. Проще сначала уступить, собраться с силами — как это было в Сечу Кнезову, — а уж после нанести удар. Георгий почти согласился с ним, когда Милош выхватил нож и всадил его брату прям в сердце!..
Я вздрогнула.
— Откуда тебе это известно?
— Он сам рассказал мне об этом. Пришел под утро пьян в стельку и признался.
— А что Георгий? Как он отреагировал? — зная вспыльчивый характер мужа, я больше боялась за его действия, чем за то, останемся мы или уйдем снова, как тогда, в 1803.
— Он велел ему ничего не делать и пока никому не говорить.
В ту же секунду я поняла истинные мотивы его поступка. Ведь накануне он в моем присутствии осудил тех, кто собирается бежать. Это раз. И потом — значит, все-таки он не был уверен в правильности решения покойного Милана. Умом понимал, что это единственно правильный выход, но что-то останавливало его…
— Я не верю в предательство русских, — тихо говорил он мне, опустив глаза. — Этого просто не может быть. Кто угодно, только не они. Я воевал с ними рука об руку в австрийской войне. Потом они пришли ко мне на помощь, когда султан прислал нового пашу с целой тьмой солдат. А сейчас что? Какой-то Наполеон так сильно их напугал, что они решили впервые за сто лет сдать свои позиции? Бросить своих братьев на произвол судьбы? Делай со мной что хочешь, только я в это не верю!..
Дальше события развивались с рекордной быстротой. Спустя пару дней, подождав нападения турок и ничего так и не дождавшись, Георгий воспарил и выступил перед согражданами, дабы развеять слухи о грядущей войне, которые, с легкой руки Теодоровича уже разнеслись по всему Белграду. Он осудил малодушие Милана Обреновича и выразил сожаление о том, что такой человек много лет прятался в овечьей шкуре… как вдруг Милош Теодорович выскочил вперед него и закричал:
— Ты прав, Георгий Петрович! И правильно поступил, убив этого негодяя Милана! Не место в наших рядах предателям да изменникам! Никогда сербов не страшила смерть ради свободы! А тот, кто ее боится, тот ее заслуживает, видит Бог!
Толпа взревела от ликования. Милош посмотрел на Георгия одобрительным и доверчивым взглядом — как преданный пес смотрит на хозяина. Только я знала — это был взгляд не пса, а шакала. Он избавился от ненавистного ему брата, свалив всю вину на едва отмывшегося от убийства отца Георгия. Тому ничего не оставалось, кроме как принять этот груз и взвалить его на себя — так ловко и умело выставил поступок брата трусостью бывший пастух Милош! Так грязно замарал он чужой невинной кровью человека, который все и всегда делал только ради Сербии.
Через неделю пришла депеша — турки подступали к Белграду с четырех сторон. Георгий принял решение уходить. Вместе с ним пошли еще несколько самых приближенных к нему людей с семьями, но… не было среди них Милоша Теодоровича.
Сначала я не поверила своим ушам — этот малоприятный человек проявил такое мужество и силу духа, коих не проявил даже Карагеоргий. Что это? Глупость или отвага? Ответ на вопрос могла дать лишь Любица, но мы собирались посреди ночи и в такой спешке, что о встрече с ней не могло быть и речи. К утру мы были на австрийской границе, уже так хорошо знакомой и мне, и мужу. В это же время войска Порты вошли в Белград. Что там творится мы могли только догадываться, а с достоверностью узнали позже. Узнали, что городские ворота для них отворил и встретил их с хлебом-солью не кто иной, как Милош Теодорович.
Вот и ответ! Играя на патриотических чувствах одного героя и воспользовавшись минутной растерянностью другого, он не только показал всем свое истинное лицо, но и добился разом осуществления всех своих целей. Оказалось, что еще тогда в Стамбуле он договорился обо всем этом с военными советниками из Порты, пообещавшим ему в случае нейтрализации основных вождей восстания наместничество — правда, не над всей Сербией, но над более плодородными ее краями.
Которое он и принял, взявшись нещадно обирать и громить бедных сербов. Того, кто не желал ему платить, он бил и подчас лично. Налоги и подати, которые он взимал в свой собственный карман, росли изо дня в день, он пил и занимался грабежами, — что делать, таким уж он был по праву рождения… Беднякам, как и торговцам ничего не оставалось, кроме как платить ему по его, крестьянина, поистине барским запросам. Ведь только его волости не подвергались жестоким нападениям турок, в то время, как вся остальная Сербия снова начала стонать под турецким игом — точно так, как было это во времена сражения на Косовом поле!
Вот только одна мелочь мешала Милошу Теодоровичу почувствовать себя кнезом — не знатного он был происхождения, и те, что платили ему, делали это с презрением и надменной гордостью. Такого положения дел он допустить не мог. Он вспомнил о знатном происхождении своего бедного брата, которого сам же убил, и принял его фамилию, обвинив Карагеоргия в случившемся. А в доказательство — вот насмешка судьбы! — привел убийство отца. Человеку, убившему родителя своего, убить другого ничего не стоит!..
Все эти новости дошли до нас, когда мы были уже в Константинополе. Георгий не находил себе места от ярости и все порывался вернуться, чтобы отправить подлеца на тот свет, но всякий раз был останавливаем мною.
— Ты не захотел умереть от клинка врагов сербского народа, но предпочитаешь смерть от руки братоубийцы и предателя?
— Лучше смерть, чем позор.
— А ты уверен, что смерть сама не станет для тебя еще большим позором? Не превратит ли свинарь и ее в собственную сатиру?
Впервые мой мудрый муж не находил слов.
А в Сербии тем временем вспыхнуло новое восстание. Русские одолели Наполеона и решили вернуться на свои исконные позиции. Но были еще слишком слабы, чтобы ввязаться в войну с немалочисленными османами. Я в те дни призывала Георгия снова протянуть им руку, но он был непреклонен. Что ж, не осудить его здесь — единожды солгав, кто тебе поверит?
Памятуя о силе русских, султан поспешил вступить с ними в переговоры. Сербы побунтовали — но на сей раз для вида, недолго и не сильно, чтобы привлечь внимание русских и выторговать себе не лишние привилегии. Получилось — турки хоть совсем и не ушли, но сделали Сербию наделенной повышенными правами в составе империи. Милошу того было вполне достаточно.
Все это било по Георгию, превращая его до времени в старика. Он был загнан в угол — таким он не был даже во время нашего первого бегства в Австрию. Должно было случиться хоть что-то хорошее, иначе зачем вообще Бог?! Свет должен был блеснуть, и он блеснул. Ненадолго, но так ярко, что ощерились все на много миль вокруг, даже Милош Обренович.
Тайное общество «Филики Этерия» фактически властвовало в Сербии подобно масонской ложе. Богатые греки, сербы и болгары под носом у султана грезили идеей объединения южных славян и совместного удара по туркам. Карагеоргий как нельзя лучше подходил на роль движущей силы этого удара — сербы его все еще слишком любили. И хотя он торопился, гнев подстегивал его вернуться и взять свое, новые его друзья не спешили с началом восстания — в третий раз история не простила бы ошибки.
Подготовка велась по всем направлениям. Филикийцы покупали оружие, вербовали рекрутов для регулярной армии, писали обращения и листовки… Это длилось долгих три года. И, как это ни странно звучит, меня это успокаивало. В глубине души я не верила уже в наше возвращение, хоть и не забывала никогда слов Георгия о том, что оно состоится — хотим мы того или нет. Менялись времена, жизнь в Сербии была уже совсем другой, и казалось, что сильный и взрывной Карагеоргий уже в нее не вписывается. Сербы устали воевать –и за грошовую цену спокойствия и относительной безопасности готовы были продать то, за что предки их сотнями погибали в день святого Вита. Сказать же ему об этом я не решалась — это могло убить этого хоть и противоречивого, но все же героя. А теперь это и не требовалось — подготовка к восстанию затянулась настолько, что в его осуществление никто не верил. Сами эти сборы стали словно бы забавным времяпрепровождением кучки богатых патриотов в изгнании. Эдакие послеобеденные кофе с выспренними речами — не перед народом, но друг перед другом.
Велико же было мое потрясение, когда Георгий объявил мне о том, что вскоре тайно возвращается в Сербию, чтобы наконец возглавить его. Разве он не понимал, что теперь рассчитывать на поддержку русских уже не приходится — и для них, и для сербов худой мир с турками был все же лучше доброй ссоры? Понимал. Так зачем же тогда шел на верную смерть?..
За годы, проведенные вместе с ним, я настолько устала бояться за него, что сейчас в душе моей что-то словно окаменело. Я не верила в восстание, но уверена была в том, что назад он не вернется — как не останется надолго и в самом Белграде. Задавать же ему вопросы, корить или отговаривать я не могла — да и вы бы не смогли, окажись вы рядом с таким сильным, властным, замечательным человеком!..
И только, когда месяц спустя его голова оказалась в лапах султана с легкой руки Милоша Теодоровича, а мне на улицах Константинополя каждый встречный выражал соболезнование по поводу его гибели, я поняла — он не мог иначе.
Народ Сербии значил для него все. Он не мыслил себя в отрыве от него. Прожив жизнь народного героя, он и смерть избрал соответствующую. Умереть за написанием мемуаров в кресле-качалке он бы не смог. Человека войны война, как правило, и забирает. И это был бы совсем не Карагеоргий, если бы она сделала это на чужбине. Как престарелый дворянин обреченно, но гордо идет на верную гибель на дуэли, так же Георгий Петрович, прозванный в народе Черным, отправился к месту своего рождения, чтобы сложить там свою славную голову…
Правда, после его гибели кое-что изменилось во мне. В душе моей поселилась, словно передавшись от него кровным наследством, злость и навязчивая идея свободы. Понятное дело, что я, дочь торговца, ни на что не могла повлиять, но с его смертью я словно бы перестала быть женщиной. Горячая кровь и не менее горячие мысли Карагеоргия отныне поселились во мне и в глубине души я этому радовалась.
И вот временами этот дух и эти мысли целиком овладевали мной. И тогда я с удовольствием думала о его победах и с горечью — о поражениях и об х причине. И одна из них никак не давала мне покоя…
Я не хотела бы сказать дурно о русских. Оказавшись в тяжелом положении, любой из нас думает лишь о своем спасении, такова человеческая природа. Первобытный животный инстинкт заставляет толкнуть в пучину ближнего своего, стоя рядом с ним на ее краю бок о бок. Судить человека за такое — пустое дело, решительно каждый поступил бы так. Иное дело — судить его за невыполненные обещания. Зная о том, что ты человек, не обещай взлететь как птица. Не клянись в вечной любви, как и в вечной жизни — даже самому сильному и могущественному такое не под силу. Не дари ничего, если планируешь потом отнять. Конечно, когда такое случится, виноват будет тот, кто поверил, что, топча ногами землю, ты все это время мог летать; что ты проживешь с ним, покуда не спустится на землю вечная мгла; что ты шуткой сделал дорогой подарок. Но это не сделает тебя лучше. Любого человека характеризуют не слова, а дела.
Будучи сильной страной, Россия помогла нам. Но нам ли и ради нас ли? Не затем ли, чтобы сделать Наполеона слабее, лишив помощи Османов? Потом обещала до гроба защищать, предавая и забывая свои интересы. А чуть только первые раскаты грома раздались в воздухе — ее и след простыл. Что это значит? Что Россия, как и любая другая страна, ставит прежде всего свои интересы. Но не любая другая страна, как Россия, станет выкрикивать слова братской любви и вечной помощи, готовясь отречься при первом удобном случае.
А что до сербов — то они виноваты сами. Всю жизнь их кто-то обманывает, а они продолжают верить. Вот только что странно — верят охотно в самую что ни на есть неправдоподобную ложь!
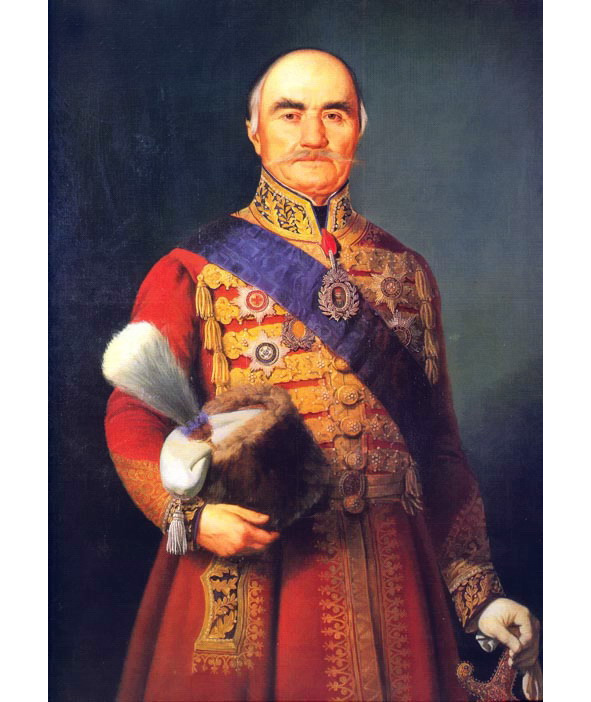
Елена (окончание)
Римляне говорили: «Каждому свое». Тот, кто отказывается смириться с этой мыслью, приходит к ее правильности опытным путем.
Несколько лет я прожила в Константинополе, окруженная ореолом воспоминаний о прошлой жизни и тяготея к родным местам, с которыми меня вечно что-нибудь разлучало — то буйный нрав покойного мужа, то нашествие врагов, то несправедливость правителей. Наш с Георгием сын, Александр, к тому моменту вырос и вернулся в Белград, чтобы участвовать в политической жизни страны. Я очень устала от всего этого, и если и хотела вернуться назад, то при условии, что борьба за власть — а к тому моменту я поняла, что слова «борьба за свободу Сербии» практически не имеют значения, на деле все сводится именно к борьбе за власть — останется вне моей жизни. От сына периодически я получала письма, описывающие жестокость и тупость князя Милоша Обреновича. Он по-прежнему обирал народ — только уже не подконтрольные ему срезы и волости, а всю Сербию, милостиво уступленную ему хатти-шерифом 1830 года. Непомерные налоги и грабежи душили население, которое ничего не могло поделать — все же это было лучше, чем власть султана, которая номинально хоть и имела место, но практически была сведена к нулю.
Всякий раз письма эти угнетали меня еще и потому, что этот человек лишил жизни моего мужа, а значит, не может спокойно смотреть на пребывание в своей вотчине и моего сына. Я опасалась за судьбу Александра, но, как и его отец, он был непреклонен, хоть практически не помнил его в силу младенческого возраста. Время от времени на меня еще находили воинственные мысли о том, что борьба за свободу все же должна иметь место; не может быть, чтобы смысл жизни Карагеоргия оказался лишь химерой, пустым звуком.
Наверное, всколыхнуло во мне эти мысли письмо Любицы, что получила я в один из дней 1834 года.
«Идеалы Карагеоргия совсем ушли в небытие, хотя простые сербы все время вспоминают о нем и думают. Передо мной — мой муж, хотя я давно перестала узнавать в нем того Милоша Теодоровича, которого когда-то так любила. Приняв на себя чужое имя, он стал другим. Он словно бы принял чужой крест, который нести не должен. Но сделал он это без нашего общего согласия — так почему я должна разделять с ним его ношу? Я не хочу обирать людей, не хочу становиться деспотичкой в их глазах. Потому не хочу больше проживать в нашем доме в Топчидере и уехала в Белград, где буду ближе к простому народу и той Сербии, которая меня родила.
О жизни здесь ты, наверняка, знаешь из писем Александра, но есть кое-что, что тебе не может быть известно. Родной брат Милоша Ефрем бежал в Австрию, гонимый собственным братом. С ним бежал воевода Вучич, кум Карагеоргия… Не говорят здесь о свободе Сербии — она и так уже свободна от внешнего врага. Говорят о спасении жизней от кровавого кнеза, коим, к моему ужасу и сожалению едва ли не с моей помощью и у меня на глазах стал мой муж. Целый пригород Белграда Милош сжег только для того, чтобы выстроить здесь городок для своих потех и развлечений…
Ты спросишь, наверное, почему я ничего не предпринимаю? А что могу я одна? В глазах народа я ассоциируюсь с моим мужем, люди говорят: «Муж и жена — одна сатана». Как донести до каждого торговца на базаре, до каждого сапожника, до каждого крестьянина, что я и он — давно разные и даже чужие люди? И тяжелее всего, что не просто донести это до народа, а и поделиться-то этим мне не с кем, не нажила я за свою жизнь подруг таких, которые знали бы, что такое полевая жизнь, которые понимали бы меня так, как мы понимали друг друга в бытность твою в Белграде. Потому прошу тебя — приезжай. Как знать, может быть от нас сейчас зависит будущее страны? И, если не хочешь ввязываться в борьбу или помочь мне, то приезжай ради памяти Георгия, которую здесь чтут как святыню…»
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.