
Бесплатный фрагмент - Мысли и мыследействия
Под редакцией Игоря Злотникова
К 75-летию
Александра Евгеньевича Левинтова







Мир Левинтова
Вместо предисловия
Александр Евгеньевич Левинтов, Александр Левинтов, Левинтов, Саша — за этими именами скрывается целый МИР. МИР ЛЕВИНТОВА. Этот МИР сосуществует в этом беспардонном и бессмысленном пространстве и времени летящим, по всей видимости, в тартарары. Но в этом МИРЕ ЛЕВИНТОВА есть возможность узнать, прочувствовать и прожить совершенно другую жизнь — жизнь осмысленную, содержательную, веселую и прикольную. В этом МИРЕ можно встретить неожиданных людей, познакомиться с невероятными идеями и острыми анекдотами, а также попасть в реальные проблемные ситуации и даже вынести из этих ситуаций очень полезный и, как я теперь понимаю, этический (без пафоса) опыт.
Я рад, что уже почти сорок лет этот МИР ЛЕВИНТОВА окружает меня, сосуществует рядом, вдохновляет, воспитывает, дает возможность быть самим собой — то есть не задумываться, каким тебя могут (или не смогут) увидеть. Я с удовольствием вхожу в этот МИР, когда бываю в Москве, — даже Москву я сейчас воспринимаю через этот МИР, и считаю себя наполовину москвичом. Я окунаюсь в этот МИР, когда читаю тексты, которых невероятно много, и все они написаны от Души, от Сашиной Души. Это чувствуется с первых строк, и порой, особенно когда становится тоскливо и «не по себе», — тексты Левинтова помогают вернуться именно к себе — истинному, настоящему, не придуманному.
Двигаясь по жизни своим ходом и со своей скоростью, Левинтов на каждом этапе своего движения разный. И это — здорово! Хотя создает некоторые трудности, особенно если берешься собирать тексты из МИРА ЛЕВИНТОВА под одной «крышей» — под одним заголовком. Как любой полноценный МИР — МИР ЛЕВИНТОВА не имеет границ. Но я попробовал собрать в одной книге «каплю» Левинтова, из его — Левинтова — Океана. И в этом мне очень помог сам автор. Как всегда — легко, как бы походя, на вопрос — как бы он назвал книгу о себе — произнес — «Мысли и Мыследействия».
Предлагаю вниманию Читателя МИР ЛЕВИНТОВА через его Мысли и Мыследействия. В первой части будут представлены работы А. Е. Левинтова разных лет, сгруппированные по нескольким сквозным темам: «О понимании и понятиях», «О Мышлении и Деятельности», «Рефлексия и Образование», «Игра и СМД-методология». Во второй части — совместные работы и стенограммы общих мыследействий. Ну и в конце — на сладкое — пример «Игры в бисер», которая продолжается в Мастерской Организационно-деятельностных технологий, вышедшей из МИРА ЛЕВИНТОВА в 2018 году как оазис осмысленной жизни в Московском Городском Университете.
Надеюсь, будет захватывающе интересно окунуться в этот МИР ЛЕВИНТОВА всем, кто был, есть и будет вовлечен в эту удивительно реальную Игру.
Игорь Злотников
сентябрь 2019
Часть I. Работы разных лет
I. О понимании и понятиях
Два типа понимания
Усилиями Шляермахера, открывшего герменевтический круг, Гуссерля, разработавшего идею и понятие метафизического эпохэ, Хайдеггера, введшего в философский и герменевтический оборот Dasein и Gegnet, а также других немецких философов, филологов и герменевтов, в немецкой ментальности сформировалось понятие понимания, которое характеризуется, прежде всего, процессуальностью.
Понимание — это процесс, достаточно бесконечный и неисчерпаемый. Стояние в кругу («нельзя понять целое, не понимая каждого фрагмента этого целого, но нельзя понять ни один фрагмент целого без понимания этого целого» — так примерно сформулировал Шляермахер проблему герменевтического круга) предполагает, разумеется, что «глубина стояния» определяется культурным багажом и кругозором попавшего в этот круг: чем сложней и многоуровневей культурное наследие субъекта понимания, тем больше слоев понимания может быть открыто ему.
Хайдеггеровское присутствие в Gegnet, в es gibt понимаемого поглощает все время этого субъекта. Очарованный собственным пониманием, субъект понимания оказывается в поставе Dasein, «со-бытия» — от метафизического замолкания гуссерлианского эпохэ до пристального внимания к очевидному в философии повседневности Шюца.
Эта процессуальность, воспитанная в немцах немецкими философами, кажется посторонним народам немецкой мечтательностью (отрешенностью от действительности) — на самом же деле, никакого ухода от реальности немцы не испытывают, просто они видят глубже поверхности.
Процессуальность понимания, процессуальное понимание задаются также тем, что Ансельм Кентерберийский называл интендированием сознания. Если прочтение текста (музыки как текста, картины как текста, текста как текста) вызвано интенцией, поиском, целью, то это чтение приобретет некоторую векторальность: из него будет выделяться и улавливаться только то, что соответствует интенции читателя текста. В этом отношении текст возникает только при чтении, и при разных чтениях, при разночтениях, пониманий и интерпретаций будет столько, сколько имеется (актуально или потенциально) читателей. По-видимому, Коллингвуд прав, утверждая, что музыка возникает не у композитора и даже не у исполнителя, а только у слушателя.
Отсутствие интенции у читателя делает понимание максимально широким: оно, понимание, работает как экран локатора — в его поле попадает все понимаемое и интерпретируемое. Так люди читают Библию — без всякой цели и почти всегда наугад либо в литургической последовательности — и наверстывают свое понимание на уток веры.
Русской ментальности процессуальный тип понимания также присущ и характерен, но по другим причинам.
Прежде всего, русским свойственна нет-стратегия понимания, нон-конформизм, конфликтность коммуникации. Это означает, что пониманию предшествует довольно длительный процесс непонимания, непризнания, отрицания, отторжения. Можно сказать, что русское понимание тернисто — именно поэтому русские так ценят понимание и дорожат им в гораздо большей степени, чем, например, знаниями.
Сам процесс понимания русскими превращен в сладостный и бесконечный процесс ночных прогулок или кухонных бдений. Вся коммуникативная инфраструктура русской жизни строится как бесконечный процесс понимания, будь то баня, застолье, пьянка, бесконечная русская дорога (особенно железная), все эти бесконечные ожидания, очереди, стояния, больничные лежания и тягостные службы — от солдатской до церковной.
Другой причиной является высокая степень метонимичности русской речи. Мы так привыкли не договаривать, умалчивать, говорить между строк и скорее взглядами, чем словами, скорее интонациями, чем выражениями, что это требует особо острого и пристального, процессуального понимания.
Важной причиной является также высокая степень синонимичности русского языка. Синонимы предполагают тончайшие нюансы значений и, что не менее существенно, тонкие грани областей употребления каждого из синонимов. Тут никогда не удается использовать тот или иной синоним без более или менее длительного процесса понимания
Русско-немецкому процессуальному пониманию противостоит американское ага-понимание, одномоментное understand, как правило, неупотребляемое в –инг форме. Все синонимы понимания — от заимствованного латинского comprehension, совершенно несовместимых с пониманием в русской ментальности понятиями knowledge (знание) и know how (умение) до банального и примитивного I see (вижу) — воспринимаются русскими не как понимание, а скорее согласие, вежливую конформистскую плоскость узнавания того, что говорится или передается.
Для американцев, понимающих сразу, но плоско, нет никакой ценности процесса понимания, а, стало быть, и самого понимания.
Как проверяют понимание русские учителя? — они спрашивают нечто интегративное, например, просят определить жанр текста или дать тексту заглавие. Такая задача для американских студентов и школьников просто непосильна: они способны лишь на multipul choose (выбор правильного ответа из нескольких, обычно четырех, возможных). В этом смысле американское конкрет-понимание очень технологично: идет выбраковка всего непонимаемого и всех непонимающих, остается однообразие понимания и понимающих, что так противно немецко-русской душе.
Точечность понимания по-американски позволяет говорить о нем как о сканирующем понимании. Именно поэтому в американских текстах главная идея всегда дается в первых словах текста, а потом идет лишь подтверждение этой идеи различного рода фактами и доводами. Русские тексты — и это сбивает американцев с толку — имеют композицию, в которой главная идея расположена в конце, а все предыдущее — лишь путь к этой идее или мысли.
Одним из следствий такого клип-понимания является широкая распространенность в американской речи идиоматических выражений и застывших фраз и конструкций, имеющих только один, раз и навсегда заданный смысл. По мере затухания смысла эти идиомы бесследно умирают. Фраза «лобковый клещ тебе товарищ» для американского переводчика абсолютно недоступна, но наполнена множеством смыслов для любого русского, хотя он ее не встречал ни разу в своей жизни.
Возможно ли совмещение этих двух типов понимания в одном сознании? — это проблема и переводческая, и образовательная, и межкультурного обмена. Мне кажется, что эта проблема имеет одностороннее решение: немцы и русские имеют шансы понять американцев, но у американцев, реально, — никаких шансов нет.
Май 2003
Понимание и мышление
Тема понимания и мышления — традиционная проблематика методологических обсуждений и размышлений. Настоящий обзор имеет скорее образовательное, чем конструктивно-теоретическое значение, во всяком случае, жаждущие новизны, тем более — скандальной или эпатажной новизны вряд ли удовлетворят свою жажду и потому могут не беспокоить себя чтением этого небольшого и скромного эссе.
Вопрос соотношения и различий между пониманием и мышлением традиционно рассматривается в схеме мыследеятельности, состоящей из трех основных слоев: мыследействия, мысль-коммуникации и мышления.
Понимание в этой схеме никак не отражено, но предполагается, что оно ортогонально этой схеме, пронизывает ее всю (трудно представить себе мышление, коммуникацию и действие, не окрашенные пониманием.
Вместе с тем, можно выделить две плоскости, секущие эту схему и отражающие основные структуры понимания.
В порезе между мысль-коммуникацией и мыследействием в глубину уходит ситуативное понимание — понимание, позволяющее нам взаимодействовать более или менее согласовано. Это понимание не выходит за пространственно-временные рамки ситуации, эфемерно и неповторимо: в любой другой ситуации придется строить новое понимание, даже среди одних и тех же персонажей.
Здесь же располагается и уходит вглубь эмпирическое понимание, сугубо индивидуализированное. Основанное на личном опыте каждого, а потому бесполезное в коммуникации: каждый помнит и ссылается только на свой опыт. Назвать эмпирическое понимание пониманием можно с большой натяжкой: это скорее сканирование по понимаемому с позиций опыта (было или не было уже такое либо подобное, похоже или не похоже это на предыдущее или кажется невероятным и невозможным и так далее). Эмпирическое понимание — самое массовое и распространенное, настолько, что можно утверждать: люди пребывают в тотальном взаимонепонимании. При этом, каждый старается считать свое понимание самым правильным: то ли в силу продолжительности опыта, то ли его свежести, то ли драматичности.
Так как ситуативное понимание эфемерно, а эмпирическое сомнительно и потому, что и то и другое — банально, то можно пренебречь этим пониманием, оставив его для коммунальных склок, сцен ревности и строителей многочисленных и разнообразных Вавилонов.
Значительно важней и существенней понимание, уходящее вглубь разреза между мысль-коммуникацией и мышлением.
Это понимание, возникающее, как правило, в промежутках между рефлексивными паузами (можно даже сказать, что рефлексия возникает в условиях непонимания), также стратифицировано и устроено более сложно, чем квазипонимание первого рода.
В тончайшем переходе от мысль-коммуникации к мышлению можно выделить два типа понимания — интуитивное (ага-эффект) и процессуальное.
Первое, в общем-то, неинтересно, поскольку неповторимо, неописуемо и, подобно озарению, необъяснимо.
Усилиями Шляермахера, открывшего герменевтический круг, Гуссерля, разработавшего идею и понятие метафизического эпохэ, Хайдеггера, введшего в философский и герменевтический оборот Dasein и Gegnet, а также других немецких философов, филологов и герменевтов, в немецкой ментальности сформировалось понятие понимания, которое характеризуется, прежде всего, процессуальностью.
Понимание — это процесс, достаточно бесконечный и неисчерпаемый. Стояние в кругу («нельзя понять целое, не понимая каждого фрагмента этого целого, но нельзя понять ни один фрагмент целого без понимания этого целого» — так примерно сформулировал Шляермахер проблему герменевтического круга) предполагает, разумеется, что «глубина стояния» определяется культурным багажом и кругозором попавшего в этот круг: чем сложней и многоуровневей культурное наследие субъекта понимания, тем больше слоев понимания может быть открыто ему.
Хайдеггеровское присутствие в Gegnet, в es gibt понимаемого поглощает все время этого субъекта. Очарованный собственным пониманием, субъект понимания оказывается в поставе Dasein, «со-бытия» — от метафизического замолкания гуссерлианского эпохэ до пристального внимания к очевидному в философии повседневности А. Шюца.
Процессуальное понимание представляет собой рефлексивное понимание (РП), встроенное, сложно вмонтированное в понимающую рефлексию (ПР) и потому более углубленное. Прежде всего, следует указать, что ПР — рефлексия, направленная на понимание. ПР не нормирует рефлексируемый материал, не проспективна и не ретроспективна, она всегда и по принципу актуализирована, как актуализировано и само понимание. Грамматически это значит, что ПР — несовершенное настоящее (а совершенное настоящее в русском языке явно отсутствует), она тянется и тянется, пока неожиданно не исчезает от ага-эффекта понимания (этот эффект и акт понимания вовсе необязательны). В этом смысле ПР имеет столько же уровней и слоев, сколько и понимание. РП — понимание, сопровождающееся рефлексией процесса и средств понимания. В сочетании с ПР оно создает самозатягивающийся узел, наворачиваясь на каждый новый виток ПР еще одним уровнем рефлексии этого витка. Именно из-за этого свойства — в целях самозащиты сознания — РП чаще всего отключается, а потому явление РП гораздо более редкое и экзотичное, нежели ПР.
Что происходит с пониманием, когда включается РП? Понимаем ли мы в это время? — Маловероятно. Если РП честное, то оно по сути своей рефлексивности становится проблемным, оно возникает там и тогда, где и когда понимание наталкивается на проблему и останавливается, фиксируется, как непонимание.
Понимание и визуально и по сути очень напоминает Млечный Путь (это все лишь гипотетическое предположение, но за ним уже многое стоит: мир, по-видимому, устроен точно также, как и мы, либо мы собой повторяем мироздание и меняемся вместе с меняющимися онтологиями, порождающее нас-порождаемого нами мира): та же звездная пыль искр понимания, та же гигантская и сложная спираль, если смотреть не в узком спектре понимания, а со стороны (например, со стороны знаний). Монады понимания по природе своей — понятия. Для ПР они — то, что открывается нам по мере понимания, продукты и результаты понимания. Рефлексия щедро — до безрассудности — разбрасывает их и делает наш понимающий путь туманным из-за обилия роящихся понятий, смыслов, семантических атомов. В РП бытие, стоящее за этими понятиями, уже практически неразличимо и несущественно, оно, за счет своей перфектности, может быть каким угодно: инфинитивным, прошедшим или предстоящим, но только не настоящим. Настоящее для РП — понимаемое во всем своем несовершенстве.
Подобно тому, что мысль есть средство и продукт мышления, средством и продуктом понимания является понятие. Это позволяет сформулировать следующее правило:
Мысль, не порождающая другую мысль, порочна, понятие, не порождающее другое понятие, не понятие.
В этом механизме заключено предназначение человека — постоянно и бесконечно размышлять и понимать.
Мысль, следовательно, представляет собой крупинку идеи, ухваченную и присвоенную себе человеком. Любая идея бесконечна и безразмерна, во всяком случае, в сравнении с возможностями охватить ее человеком или человечеством. Мы должны с особой благодарностью относиться к этой неисповедимости идей, обещающей нам наше бессмертие и бессмертие Разума.
Понимание же дано нам как старт и сопровождение мышления. Именно поэтому мы можем выделить ситуативное (топическое) мышление как разовое или квазиразовое явление и мыслительный процесс. Из топического мышления может (но совершенно необязательно происходит) мыслительный процесс. Отличие акта мышления (топического мышления) от мыслительного процесса выражается в формуле «он думает, что он мыслит».
В мыслительном процессе можно выделить три основных слоя, расположенные над ситуативным мышлением. Мышление, содержащее в себе только логические построения, бессодержательно, как любая формальная или математическая задача. Это — «пустое» мышление. Образцом такого «пустого» мышления является «Топика» Аристотеля. Мышление, ориентированное только на онтологические представления, лишенное логики. Это мышление можно считать интуитивным — оно очень близко поэтической деятельности и творчеству вообще. Обычно оно парадоксально и тем привлекает нас. Логические пустоты завораживают, как бездны. Наконец, собственно мышлением является мышление, базирующееся на топическом и включающее в себя и онтологические представления и логические конструкции.
Система единиц понимания включает в себя:
— семы (фрагменты слов, обладающие первичными значениями)
— понятия (и стоящие за ними слова)
— тексты (и, прежде всего, жанр, то есть происхождение текста)
В системе единиц мышления можно выделить:
— понятия (или категории как антиподы и антитезы понятий)
— мысли (индивидуализированные обрывки и фрагменты идей, даваемые нами с частотой нашего дыхания — примерно четыре секунды на одну мысль; некоторые, например, А. А. Зиновьев, полагают, что они еще более обрывочны и сумбурны)
— дискурсы (мыслительные тексты).
И, наконец, несколько слов о средствах понимания и мышления. При этом понимание цикличности и понимания и мышления (достаточно вспомнить герменевтический круг Шляйермахера) обуславливает тот не совсем очевидный факт, что понимание выступает в качестве средства и результата мышления, а мышление — в качестве средства и результата понимания.
Итак, средствами понимания, на наш взгляд, являются:
— память
— воображение
— интендирование (потенциал, имеющий вектор интереса или наклонности к чему-либо)
— понятия
Средства мышления порой весьма сходны со средствами понимания:
— язык
— схемы
— знания
— целевые установки и мотивации
— понятия, категории, дефиниции.
На этом можно прервать ход размышлений, на время, надо полагать, недолгое.
Декабрь 2006
Понимание в реальности и действительности
Проблема понимания, обсуждаемая на небольшом и вяло текущем семинаре в академии муниципального управления, уже неоднократно наталкивалась на понятийную пару «реальность и действительность».
Данный набросок — небольшое полешко в этот тлеющий огонь.
Реальность в корне своем несет греческий «реа», имеющий два значения: «пространство» (богиня Пространства Рея, жена бога Времени Хроноса, пожиравшего собственных детей, кропотливо вынашиваемых Реей) и «вещь». Этот смысл, вторичный по отношению к пространству, является в данном контексте ключевым.
«Вешь» отличается от предмета тем, что, помимо своей материальности, о которой говорит Платон (мир людей находится между миром вещей и миром идей), еще и «вещает», несет весть — отражение и слабую, полупрозрачную, полупризрачную тень идеи. Понять заключенную в вещи, а, точнее, за вещью, идею, суть этой вещи, можно, либо пристально изучая ее (взглядом, рассудком, разумом, инструментально) и историю возникновения вещи, либо… а вот тут-то никакое либо не проходит: включая ту или иную вещь мы только усугубляем непонимание ее сути. Достаточно вспомнить Сталкера из «Пикника на обочине» братьев Стругацких: вынесенные из Зоны предметы вещами не являются, мы не понимаем их вести, а потому используем их самым варварским образом, явно не по назначению. И вещи начинают мстить и бесчинствовать, давая результаты и последствие непредсказуемые, порой противоположные ожидаемым.
Реальность — это овеществление мира, придание окружающим нас предметам голоса, подающего вести о себе. Понимание в реальности есть понимание вести, несомой внешним миром и его предметами.
Впрочем, овнешнять можно все, в том числе и себя: рефлексивно мы можем самоустраниться из себя и начать понимать себя как нечто внешне данное и вещающее о себе.
Понимание реализуется в вещах.
Но оно может также актуализироваться в действиях, процессуально, если действие или акт действия (логическая, логизированная и логистическая единица действия) распадается на процедуры и операции. И эта актуализация происходит не в реальном мире, не в мире вещей, а в мире наших действий, в действительности, либо опережая эти действия (проспективное понимание), либо параллельно этим действиям (актуальное понимание), либо вослед им (ретроспективное понимание).
Собственно, вот и весь мой тезис, тезис об онтологическом понимании вещей в реальности и логическом понимании действий в действительности.
Совместимы ли два этих понимания? — разумеется. Их совместность и задает разнообразие структур понимания, а также «квантово-волновую» природу понимания и как ага-эффекта и как процесса.
Еще итальянец Ансельм Кентерберийский в 11-ом веке доказал, что понимание невозможно, если нет относительно понимаемого цели, интереса, интенции, познавательной или деятельностной. Строго говоря, когнитивная и деятельностная функции взаимопереплетаемы: мы познаем ради действия (а не любопытства для), мы действуем, познавая.
Интендирование (термин Ансельма), склонность человека, вектор его потенциального внимания определяет тип понимания. И, следовательно, тип понимания зависит от типа цели.
Цель есть наше представление о результате собственного действия. Разумеется, мы можем действовать вовсе не имея собственной цели, а в силу чужой воли или действия. Тогда мы просто реализуем чужие цели и являемся чьим-то средством. Но если это наше представление о результате, то, как и всякая идеализация, это представление обычно более возвышенно, чем получаемый нами результат. На этой маленькой хитрости Бога (наши идеалы всегда возвышенней реальности) построено в мире многое, если не все, в частности, на этом построена экономика и рыночный механизм (об этом как-нибудь в следующий раз). Простейшие цели, по сути, совпадают с результатом, но такие цели нас редко удовлетворяют. Разве что в самом начале пути и в процессе образования. Нам блазнятся более высокие и абстрактные цели, и потому мы так часто не замечаем результаты, которые не совпадают с нашими целями. Часть этих результатов называются побочными — мы за ними не гонялись, но вполне ими довольны и умеем пользоваться и распоряжаться ими. То, что цели, по сути — идеальные представления о результатах, объясняет и невыполнимость ни одной цели до конца и то, что цели по принципу выше, благородней, возвышенней результатов — на правах идеала.
Негативные результаты (последствия) реализации наших целей сыплются на нас как камушки на Иванушку, но только потому, что мы привыкли жмуриться на предстоящие последствия, а не рассудительно находить их заранее и заранее же «стелить солому». Ставя перед собой цель, мы не хотим сами себе портить настроение возможными последствиями и предпочитаем получать неприятные сюрпризы уже в готовом виде. Обидно, что большинство последствий несоизмеримо тяжелее наших легкомысленных и легковесных целей. Еще обидней то обстоятельство, что мы сами и окружающий нас мир — океан чьих-то последствий.
Цель можно представить себе как идеальное представление о желаемом результате, а можно — как процесс достижения этого результата. И в этом случае цель предстает не онтологически, не как образ, а деятельностно, в глагольной форме.
При этом следует выделить три типа глаголов:
— акторные, направленные на реализацию конкретной цели (цели типа target) — «купить машину», «сдать экзамен», «съездить в Париж»;
— глаголы состояния, направленные на достижение более общей цели (цели типа goal) — «стать президентом», «быть лучшим»; эти глаголы можно также назвать — организационно-акторными: они требуют не просто действий, а организации этих действий;
— модальные глаголы, выражающие не цель, а интересы («хочу»), требования («необходимо») или задание («надо», «нужно»)
Несколько лет своей жизни я увлекался стрельбой из лука — был и олимпийским и национальным судьей, а в ЦСКА еще и участвовал в психологической подготовке спортсменов перед крупными соревнованиями. И этот опыт помог мне понять природу цели.
Вот Эмма Гапченко — первая советская чемпионка Европы. Она так описывает свои переживания во время соревнований:
— я выхожу на линию огня в красивом белоснежном костюме. Мой лук — предел изящества и совершенства, моя поза грациозна и привлекательна, я думаю только о красоте движений и позиций. Когда эстетическое наслаждение достигает своей вершины, я отпускаю стрелу и она красиво, а потому точно летит в пеструю и красивую мишень.
Владимир Ешеев — бурят. Он — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Он был рекордсменом рекордное количество раз. Но стрельбу он видел совсем иначе:
— я вижу прицел и стрелу, я вижу цель и сливаюсь с ней, луком и стрелой в нечто единое и нераздельное. Когда наше единство и сосредоточенное понимание друг друга достигают предела, когда я перестаю отличать себя от мишени и становлюсь по сути мишенью сам, когда я чувствую, что касаюсь своей стрелой мишени, расположенной в девяноста метрах от меня, но ставшей совсем близко, касательно близко, я отпускаю стрелу, и она как бы без всякого расстояния оказывается в понятой мною мишени.
Таковы европейский и азиатский взгляды на цель, такова цель как процесс достижения и цель как вещное представление.
Октябрь 2008
Непонимание как ресурс коммуникации
1. Оседание на землю, переход от gathering economy к produce economy породили коммуникативную речь, первым этапом которой стала объяснительная речевая операторика с причинно-следственными связями: мир предстал человеку не картиной, а процессом. Начался «детский» период бесконечных вопрошаний «почему?» и столь же бесконечных ответов «потому». Мир стал «объяснябельным», а потому диалогичным, ведь вопросы требовали внятного и продолжительного ответа. И это стало требовать понимания, но только у вопрошающего и внимающего [1].
Взаимопонимание — следующий шаг коммуникативной речи как телеологической операторики с побуждениями к действию. Для этого оказались необходимы институты власти, построенные не на авторитете и силе носителя власти, а стоящими за ним атрибутами (Божественность власти, право, законы и тому подобное). Возможно, именно в это время и возникла лингвистическая потребность в будущем времени.
Так коммуникация обеспечила выход человека в мышление, а именно — в логику, онтологию и топику. Появились первые мыслители-проводники и поводыри в мире мышления. В отличие от сознания, в мышлении отсутствуют гендерные предпочтения: мышление стало всеобщим достоянием.
Речь стала речью, рекой, где мощные струи дискурса живут вместе с мельчайшими брызгами смыслов, речь стала длинной и полноводной и вместе с тем капельной. От слов человек перешел к слогам и семам, а от слогов — к буквам, хотя в некоторых языках, например, английском, буквы до сих пор являются слогами. Операторика обогатилась комбинаторикой: люди научились складывать из кубиков букв слова — понадобился порядок букв, алфавит.
И сознание, и мышление — можно хотя бы предположить пути и механизмы освоения их человеком: понимание является принципом и признаком непокинутости и непокидаемости человека духом Разума [2].
Техники понимания должны быть древнее техник знания. Сюда относятся и медитация, и интроспекция, и исихастия, и все виды рефлексии [3]. В дзен-буддизме рекомендуется, в целях включения в понимание и постижение, «слегка скосить взгляд», чтоб потерять онтологическую четкость, и «поглупеть», освободив себя от логик, знаний и опыта.
2. Реальность в корне своем несет греческий «реа», имеющий два значения: «пространство» (богиня Пространства Рея, жена бога Времени Хроноса, пожиравшего собственных детей, кропотливо вынашиваемых Реей) и «вещь». Этот смысл, вторичный по отношению к пространству, является в данном контексте ключевым.
«Вешь» отличается от предмета тем, что, помимо своей материальности, о которой говорит Платон, еще и «вещает», несет весть — отражение и слабую, полупрозрачную, полупризрачную тень идеи. Понять заключенную в вещи, а, точнее, за вещью, идею, суть этой вещи, можно, пристально изучая ее (взглядом, рассудком, разумом, инструментально) и историю возникновения вещи.
Реальность — это овеществление мира, придание окружающим нас предметам голоса, подающего вести о себе. Понимание в реальности есть понимание вести, несомой внешним миром и его предметами.
Впрочем, овнешнять можно все, в том числе и себя: рефлексивно мы можем самоустраниться из себя и начать понимать себя как нечто внешне данное и вещающее о себе.
Понимание реализуется в вещах.
3. Но оно может также актуализироваться в действиях, процессуально, если действие или акт действия (логическая, логизированная и логистическая единица действия) распадается на процедуры и операции. И эта актуализация происходит не в реальном мире, не в мире вещей, а в мире наших действий, в действительности, либо опережая эти действия (проспективное понимание), либо параллельно этим действиям (актуальное понимание), либо вослед им (ретроспективное понимание).
Совместимы ли два этих понимания? — разумеется. Их совместность и задает разнообразие структур понимания, а также «квантово-волновую» природу понимания и как ага-эффекта и как процесса.
Сочетание понимания как ага-эффекта и как процесса, verstehenung, описывается кривой, известной в физике как delta функция: пологий продолжительный подъем сменяется всплеском, а затем продолжается на другом, более высоком уровне до следующего всплеска.
Эта кривая легко проектируется на «герменевтический круг» Шляйермахера: понятые фрагменты соответствуют всплескам ага-понимания, понимаемые — пологим участкам кривой. Естественно, что у каждого — своя непредсказуемая частота всплесков, свои понятые реперы в этом круге.
Необходимо заметить, что всплески ага-понимания возникают в состоянии циз-транса (понятие, введенное А. Сосландом): не запредельным отлетом в трансцедентальное, а контролируемым со стороны разума и рациональности инобытием, рефлексивно позволяющим удерживать не только состояние транса, но и понимать, за счет каких средств этот циз-транс («то тут-то там транс») возникает и держится.
Достижение и пребывание в циз-трансе возможно в весьма ограниченном наборе деятельностей: в музыке и поэзии (более общо — в искусстве и творчестве), в безумии и состояниях искусственного безумия (алкоголь, наркотики и т.п.), при восхождении в абстрактное в «надразумное» пространство, за пределы обыденно разумного (математика, теоретическая физика и т.п.).
В этих возвышенных циз-трансах недопустимо долгое зависание — можно ведь и не вернуться. Фиксации этих озарений не всегда возможны — и тогда остается лишь эйфория.
4. Ансельм Кентерберийский в 11-ом веке доказал, что понимание невозможно, если нет относительно понимаемого цели, интереса, интенции, познавательной или деятельностной. Строго говоря, когнитивная и деятельностная функции взаимопереплетаемы: мы познаем ради действия (а не любопытства для), мы действуем, познавая. Интендирование, склонность человека, вектор его потенциального внимания определяет тип понимания. И, следовательно, тип понимания зависит от типа цели.
Цель можно представить себе как идеальное представление о желаемом результате, а можно — как процесс достижения этого результата. И в этом случае цель предстает не онтологически, не как образ, а деятельностно, в глагольной форме.
При этом следует выделить три типа глаголов:
— акторные, направленные на реализацию конкретной цели (цели типа target) — «купить машину», «сдать экзамен», «съездить в Париж»;
— глаголы состояния, направленные на достижение более общей цели (цели типа goal) — «стать президентом», «быть лучшим»; эти глаголы можно также назвать –организационно-акторными: они требуют не просто действий, а организации этих действий;
— модальные глаголы, выражающие не цель, а интересы («хочу»), требования («необходимо») или задание («надо», «нужно»)
Практический вывод: в коммуникации необходима фиксация прежде всего непонимаемого — оно является ресурсом разворачивания коммуникации, а, следовательно, и ресурсом мышления.
Литература
1. Левинтов А. Е. От рыка к речи (штрихи к теории антропогенеза). www.redshift.com/~alevintov июнь, 2008.
2. Левинтов А. Е. Реальность и действительность истории. — М., «Аграф». 2006. — 384 с.
3. Лефевр В. А. Рефлексия.- М., «Когито-Центр», 2003. — 496с.
Май 2009
Понимание: социально-лингвистические аспекты
Фундаментальные допущения
Фундаментальным допущением, принимаемым в данной работе, является идея о том, что язык не является частью культуры, но ведёт себя относительно социума сходно с культурой.
Данный тезис требует некоторых пояснений и обоснований. Если понимать культуру как нормативные остатки и смыслы истории, то природа культуры всегда есть сверхзадача общественной истории и существования общества [12,15]. Между прочим, социум, как долго бы он ни существовал, культуры не порождает и истории не имеет, разве что хронологию событий. Последние 20 лет России тому свидетельство. Мы можем проследить истоки культуры и смену культурных парадигм/стилей, мы можем также назвать субъектов — культурмахеров и культурбрехеров, тех, кто создавал новые образцы культуры и разрушал старые кумиры. Культура рефлексируема — и культурологами/искусствоведами/литературоведами и на бытовом, семейном уровне.
При столкновении культур происходит поршневое замещение одной культуры образцами и нормами другой. Смешение культур, как правило, весьма эфемерно и выглядит весьма экзотически.
В отличие от языка.
Билингвы и полиглоты — распространенное явление; им и сны снятся на разных языках, а не только в разных странах. Более того, познание другого языка есть процесс познания и собственного. И здесь, в отличие от культуры, не стоит проблема выбора и отказа, проблема конфликта культур: разные языки используются в разных ситуациях и с разными функциями, языки помогают друг другу, а не спорят и не воюют между собой.
Язык дается через речь, а, стало быть, не рефлексируется. При всей противности филологической максимы «в лингвистике вопрос „почему?“ запрещён», доля горькой истины здесь есть. Невозможно объяснить, например, почему в словаре иностранных слов «солдат» (легионер, получавший во времена Иудейской войны вместо жалования право на продажу соли), «соль» (нота), «соло», «сольди», «солидарность» признаны иностранными [17], а однокоренные с ними «солнце» и «соль» (пищевой продукт, выпариваемый из воды на солнце) — нативными [18,20]. Дело ведь не только в возрасте этих слов в русском языке.
Язык нерефлексируем нами ещё и потому, что возник раньше нас [4], то ли как звукоподражание, то ли из жестов, то ли из междометий, то ли из шумов (теорий происхождения языка множество), но во всяком случае, языком (но не членораздельной речью) владеют многие до нас. И даже наше происхождение, возможно, выросло в том числе и из языка [11].
Язык, как это ни странно, может существовать вне культуры: эмигранты и потомки эмигрантов сохраняют родной язык как язык семейного и общинного общения, но теряют или вовсе не имеют материнской культуры. Точно также существует множество примеров свободного владения чужим языком при полном непонимании и неприятии культуры, адекватной этому языку. Язык поддается периодизации, но гораздо в более лапидарной форме, чем культура. Как и культура, язык может быть типологизирован [21] и поддается, как показал Ю. Лотман, самому тщательному и тонкому анализу.
Вот характерный пример: сидим с приятелем в парной Лингвистического института. Входит мой коллега, очень хорошо знающий русский язык, и вежливо приветствует нас: «С лёгким паром!». Приятель мой чуть с полка не слетел — он впервые услышал знакомую фразу не после бани, а во время её.
Роднит культуру и язык их нормирующая общество функциональность. А потому так повсеместно распространены и лингвистическая культура (культура речи) и язык культуры. Взаимопроникновение культуры и языка — нормальное явление.
Язык, однако, выполняет ещё одну функцию, отличную от функций культуры: он творит мышление и деятельность [8,15].
Как и культура, язык имеет массу субформ: диалекты, говоры, жаргоны, сленг и т. п. (в культуре — местные, профессиональные, семейные и т. д. субкультуры).
Если культура, по мысли о. П. Флоренского, — один из смыслов истории и нашего существования, то язык — одно из средств его.
Понимание и мышление в процессе коммуникации
Понимание, по нашему мнению [9,10], является первичной интеллехией относительно мышления. В процессе коммуникации понимание идёт от языка к сгусткам смыслов, равнозначных для коммуникантов, до рабочих понятий, общих для коммуникантов, и уже эти понятия служат основанием и материалом для мышления, выражаемого языком или схемами или иным другим способом, включающим в себя и язык:
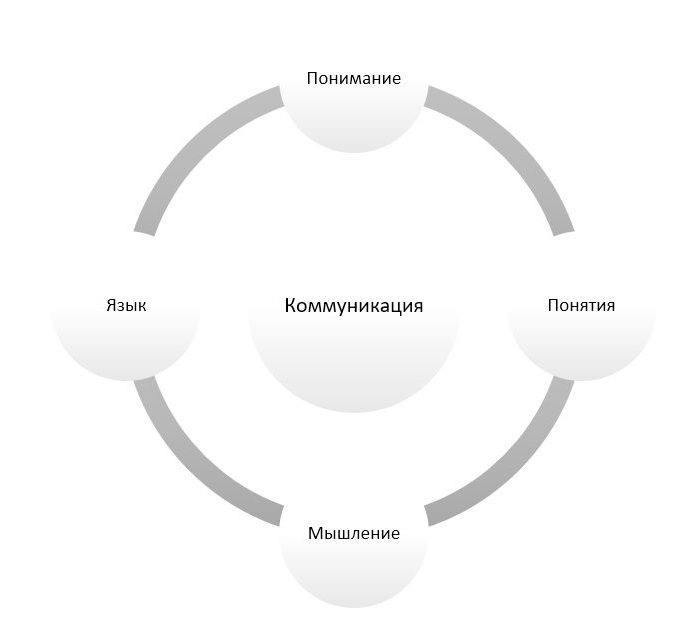
Схема 1. Понимание и мышление в процессе коммуникации
Благодаря действию по этой схеме мы не только индуцируем мышление, но и приводим наш язык в соответствие со строем наших понятий: наших как исторически сложившихся образцов и наших как ситуативно построенных, рабочих понятий, необходимых нам для взаимопонимания в совместной деятельности.
Согласно этой же схеме становится понятным механизм накопления понимания (герменевтический круг Шляермахера) и спекулятивности мышления. Питая друг друга, понимание побуждает мышление за счет вновь построенных понятий (креативно-конструктивное понимание) или втягивания культурно-исторических понятий (культуросообразное понимание), а мышление, выражаемое в языке, порождает новое непонимание, требующее понимания.
Диктатура языка
Язык, в больше степени, чем культура, практически не рефлексируется нами, поскольку мы, пользователи, являемся рабами собственного языка и в редчайших случаях задумываемся над тем, что и почему именно так говорим. Если бы мы изучали язык до освоения нами речи, мы бы постоянно сталкивались с такого рода вопросами, подобно тому, как мы сталкиваемся с ними при изучении другого, не речевого для нас языка.
Почему мы говорим: «я — доктор, но я был или буду доктором», почему падеж зависит от времени?
Почему совершенство или несовершенство глагола может определять смысл состояния предмета: «почивал» значит — спал, а «почил» — непременно умер, неужели для нас сон — процесс умирания, а не мечтания, как в английском?
Почему мы «отечество» употребляем в семь раз реже, чем «родина»?
Почему для англичан устье реки — ее начало (глотка), а для нас начало — в истоке реки?
Почему размер предмета мы всегда ставим впереди формы, цвета и прочих его атрибутов: «большой круглый красный дом», но не «круглый красный большой дом»?
Этих вопросов гораздо больше, чем мы можем себе представить.
Не меньше вопросов — к фразеологии, к тому, почему и каким образом закрепляются идиомы, общие выражения и другие окаменелости смыслов [6,13].
Мы пользуемся языком, многое, не понимая в нём, а, главное, и не спрашивая себя о непонятном. Попыток понять и объяснить, увы, немного [5,7]. А, пропуская непонятное, мы отказываем себе в мучительном удовольствии мышления [9,10]. Нам проще чувствовать себя под диктатом собственного языка и тем индульгировать и непонимание и безмыслие: полная безответственность за те же деньги.
В своём лингвистическом рабстве мы доходим до собственного персонального рабства и находимся, ещё с античных времён, как утверждает А. Ф. Лосев в «Философии имени», в плену у собственного имени. Эта традиция, усиленная христианскими ритуалами, сохраняется и по сей день [1].
Как ни странно, но менее всего нас смущают рудименты, остаточные явления в языке, сохранившиеся несмотря на волны реформ и вторжений [3] — они кажутся нам естественными и вечными: «Отче наш», «Господи», «Боже». Мы забыли о том, что это — звательный падеж, нам неведомо, что эта грамматическая форма, по-видимому, восходит ко временам перехода от матриархата к патриархату и соответствует среднему роду.
Творение языка
Как меланхолически заметил Г.-Г. Гадамер в «Истине и методе», «мы утратили то наивное неведение, с помощью которого традиционные понятия призваны были поддерживать собственное мышление человека» (цитируется по [2]). Образно говоря, в схеме бытия и сущего Гегеля («Наука логики») понятия стоят за человеком, позволяя ему в рефлексии выделять из мутного потока бытия кристаллы сущего, а по мысли Гадамера, понятия из-за спины человека вышли вперед и теперь сами стали его средством и инструментом кристаллизации бытия, превратились в конструктивный материал экзистенции=бытия по эссенции=сути бытия.
Еще в «Пире» Платона говорится о том, что «правильность», «понятийность» слов, смыслы, заложенные в слова богами, людям передали гении. Увы, золотой век недавно закончился и теперь языкотворчеством занялись мы, а именно:
— поэты
— философы
— дети и тинэйджеры
— кое-кто ещё
Поэты ищут и находят новые слова, понятия и смыслы по красоте их — и лучшим словотворцем в русском языке заслуженно считается Велимир Хлебников и его футуристическая свита (Бурлюк, Маяковский и др.), но, разумеется, не только они творили и творят язык: Пушкин, акмеисты, символисты, обереуты, современные К. Кедров с супругой, Алексей Парщиков, Илья Кутик и Александр Еременко, поэты-формалисты СМОГа. А чего стоит такой нано-шедевр И. Бродского как «Чучмекистан»? Активное словообразование и новые понятийные прорывы, начавшись с Битлз и битников, стало традицией рок-поэтов и реперов. В немецкой поэзии достаточно упомянуть Гёльдерлина, Новалиса и Рильке, но, разумеется, они — не единственные.
Философом-новатором слова, безусловно, является М. Хайдеггер, введший такие, ставшие фундаментальными, понятия как Dasein (вот-бытие), Gegnet (данность) и многие другие. Всей немецкой философии присуща эта игра словами, словами, в слова. Ей мы обязаны такими понятиями как Mitmensch. И, конечно, невозможно забыть, что именно немец Мартин Лютер ввёл понятия Beruf (призвание) и Industria (трудолюбие).
В малодоступном для нас [19] весьма убедительно доказывается, что лидерами стихийного словотворчества и формирования новых понятий являются тинэйджеры. Собственно, молодёжный сленг и есть фронт, вал новых слов и понятий, очень динамичный и подвижный. Очень важно, что почти все новые слова и понятия эфемерны — среди них в языке остаются немногие, но они и пополняют язык более всего. «Халтура» и «блат» закрепились в нашем языке с 20-х годов, «стиляга» появился в 50-е, «кайф» пришел в 60-е, «блин», «капец», «звездец» — в 90-е.
Весьма условно (пока?) к словотворцам, лингвогенераторам можно отнести компьютерщиков и среди них касту так называемых айтишников (IT-шников), интенсивно создающих русско-английский новояз с английскими словами и корнями и русской грамматикой и фонетикой.
Наконец, существовал и существует (но только в тоталитарных режимах) особое, партийно-политическое словотворчество, блестяще описанное Дж. Оруэллом в «1984»).По счастью, этот язык быстро омертвляется, и уже мало кто понимает, что значат такие слова как «единый политдень», «чистка рядов», «лишенец», «всеобуч», ВСХВ, ВСНХ, Наркомпрос, ВХУТЕМАС и Фортинбрас при Умслопогасе.
Литература
— Антропонимика. М., Наука, 1970, 360 с.
— Герменевтика: история и современность. Сб. статей. М., Мысль, 1985, 303 с.
— Грамматика церковно-славянского языка. Конспекты. Упражнения. Словарь. СПб, Библиополис, 2007, 368 с.
— Донских О. А. — Происхождение языка как философская проблема. Новосибирск, Наука, 1984, 127 с.
— Колесов В. — История русского языка в рассказах. М., Акалис, Гардарика, 1994, 169 с.
— Кохтев Н. Н., Розенталь Д. Э. — Русская фразеология. М., Русский язык, 1986, 304 с.
— Кронгауз М. — Русский язык на грани нервного срыва. М., Знак, 2009, 232 с.
— Левинтов А. Е. — Два класса европейской школы мышления. www.redshift.com/~alevintov, апрель 2006
— Левинтов А. Е. — От рыка к речи. www.redshift.com/~alevintov, июнь 2008
— Левинтов А. Е. — Непонимание как ресурс коммуникации. www.redshift.com/~alevintov, май 2009
— Левинтов А. Е. — Самопознание в процессах антропогенеза и творчестваwww.redshift.com/~alevintov, ноябрь 2005
— Левинтов А. Е. — Теория культуры. Курс лекций. Англо-российская высшая школа социологических и экономических знаний, 2009.
— Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М., Русский язык. 1987, 240 с.
— Педагогика и логика (неизданная монография)
— Розин В. М. — Введение в культурологию. М., Форум, 1998, 224 с.
— Русско-новогреческий новогреческо-русский словарь. М., АСТ-Астрель: Хранитель, 2007, 475 с.
— Словарь иностранных слов. М., Русский язык, 1986, 608 с.
— Фасмер М. — Этимологический словарь русского языка в 4 томах. М., Прогресс, 1986.
— Фесенко А., Фесенко Т. — Русский язык при Советах. Нью-Йорк, 1955, 222с.
— Черных П. Я. — Историко-этимологический словарь современного русского языка в 2 томах. М., Русский язык, 1994.
— Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., Наука, 1969, 342 с.
Март 2010
О понимании и понятии применительно
к социальному исследованию
Знания и понимание в социальных исследованиях и разработках: экспертиза и мониторинг
Организация социально-экологического мониторинга (СЭМ)
Герменевтический круг понимания
Понимание и коммуникация
Понимание и понятие
Знания и понимание в социальных исследованиях и разработках: экспертиза и мониторинг
Я бы хотел рассказать о том, что в ряде, если не большинстве социальных исследований и разработок нужны не только и даже не столько знания, сколько понимание. Так, в частности, любая экспертиза строится, прежде всего, на знаниях, а мониторинг — на понимании ситуации.
Вот характерный случай, имевший место в самом начале 90-х годов и демонстрирующий необходимость понимания.
Организация социально-экологического мониторинга (СЭМ)
Во второй половине 80-х Гидропроект приступил к строительству Катунской ГЭС в Горном Алтае, что вызвало мощную волну экологического протеста по всей стране. Больше всех почему-то волновались и возмущались киевляне. Прошло несколько громких экспертиз и митингов — ситуация зашла в тупик.
И тогда ГИП Катунской ГЭС пригласил меня как руководителя Лаборатории региональных исследований и муниципальных программ:
— не могли бы вы установить по поводу Катунской ГЭС социально-экологический мониторинг?
— а что это такое?
— знал бы — сам установил.
Я почитал после этой первой встречи американские и канадские материалы о социально-экологическом мониторинге, понял, что у нас их опыт принципиально не применим, и подписал контракт на разработку и внедрение СЭМ Горного Алтая.
Это было ранней осенью. И до поздней весны мы вели напряжённый семинар по этой теме.
Сначала мы долго разрабатывали понятие «человек» и построили такую схему:
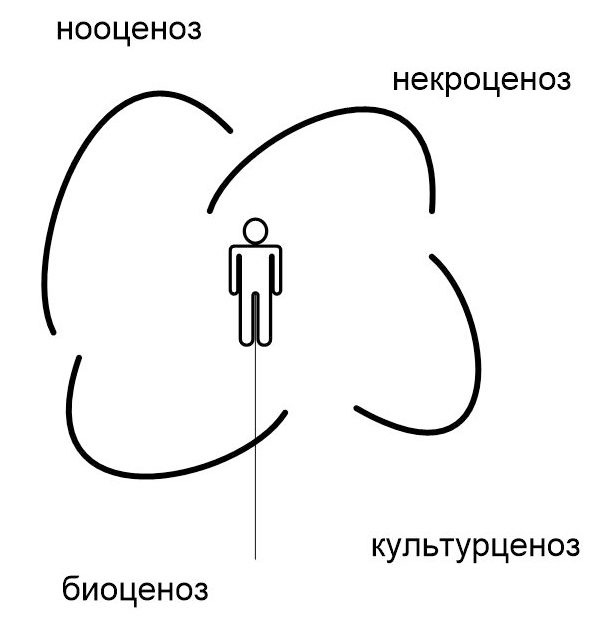
Человек — это существо, живущее в разных мирах (ценозах) (мы набрали 17 таких миров), при этом ни один из этих миров (ценозов) не является ведущим и ни один из них не может быть заменен другим. Мониторинг устанавливается реперной группой в несколько человек по каждому из ценозов по всей территории Горного Алтая, а не только по верхнему и нижнему бьефу будущей ГЭС.
Мы разработали критерии и показатели деградации каждого ценоза, включая уровень необратимой деградации, означающей не только гибель данного ценоза, но и всех сред существования человека, а, следовательно, и самого человека.
Это означает основной экологический принцип мониторинга: следить надо не за плотиной, водохранилищем и другими техно-природными объектами: на то есть сейсмический, биологический, гидрологический и прочие мониторинги, а за человеком и средой его существования. Каждый репер должен быть мобилизован на сложную интеллектуальную работу — рефлексивное понимание.
Но: одно дело — схема мониторинга, и совсем другое — организация его запуска.
Мы поняли две вещи:
— первое: необходимо собрать все социально значимые группы, участвующие в конфликте: гидропроектировщиков, гидростроителей, представителей местной власти, протестную общественность, местные и центральные СМИ, экологов
— второе: нам, как организаторам, ни в коем случае нельзя принимать ту или иную враждующую сторону, чтобы не потерять доверия другой стороны.
Для некоторых членов нашей команды второе стало невыносимо, и они вышли из состава разработчиков. Я понимал, что для них это было тяжелое решение. Дело не в том, что они теряли гонорар, в то время явление редкое, главное — они надолго теряли контакт с нами.
Для организации мониторинга мы воспользовались схемой советско-американского психолога Владимира Лефевра о «точке шока».
Байка Лефевра такова:
Человек получил приговор и утром следующего дня должен быть казнен. За пределами тюрьмы у него есть друг, который готов помочь ему прорыть туннель под стеной тюрьмы. Но спасение возможно, только если они будут рыть навстречу друг другу, не имея контакта между собой. В плане тюрьма имеет такую конфигурацию:
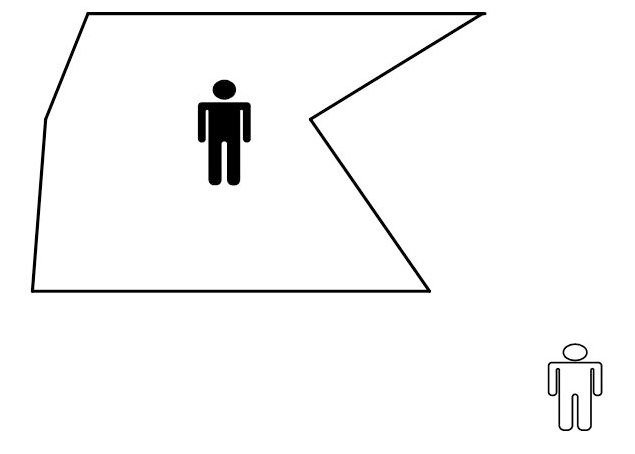
Точка шока является общей и для приговорённого и для его сообщника.
Только после всего этого мы отправились всей командой в экспедицию по Горному Алтаю. Мы посещали интересующие нас объекты, уточняли свои ценозы и критерии их деградации. Я, например, как разработчик некроценоза, изучал кладбища и понял две интересные вещи:
— средний возраст покойников здесь значительно больше, чем на московских кладбищах (соответственно 51 и 43 года), но унизительно мал для этого благодатнейшего и экологически чистого края
— за три года соотношение звезд и крестов на могилах сменилось с 9:1 на 1:9 — в христианизации страны передовой отряд составили мертвецы.
Но главное — мы много ездили по стране. Надо сказать, что горноалтайцы — номады, и каждое путешествие по этой достаточно компактной стране может длиться непредсказуемо долго, по нескольку дней на расстояние в несколько сот километров. Мы сажали в свой потрёпанный «козлик» всех попутчиков и вели с ними долгие беседы и разговоры «за жизнь», превращая этот трёп в глубинные интервью. В ходе интервью и визитов мы понемногу рекрутировали реперов СЭМ. Главное, что я понял из этих разговоров: каждый по своему прав и по-своему понимает ситуацию, исходя из личного опыта. Проблема не в том, что кто-то что-то не понимает: понимают все и всё. Но нет общих оснований понимания. И в этом — коренное отличие эмпирического и культурологического пониманий. Кроме того, эмпирическое понимание достаточно плоско, поскольку опыт каждого человека весьма ограничен, а культурологическое — принципиально бездонно и бесконечно.
В ходе экспедиции мы испытывали бешеное сопротивление: социологов, алармистов, властей, местных сумасшедших — ведь мы посягали, как им казалось, на их прикормленные участки.
На страницах местной газеты «Звезда Алтая» я вел длительную разъяснительно-просветительскую работу.
В конце экспедиции я, наконец, добился аудиенции первого секретаря обкома, будущего первого президента Республики Горный Алтай Валерия Чептынова:
— чего ты добиваешься? — агрессивно и с нескрываемым недоверием начал он наш разговор:
— хочу установить взаимопонимания между властью и народом
Всё вмиг переменилось. Я еще раз и очень наглядно убедился в правоте своей давней идеи:
ПОНИМАНИЕ ЕСТЬ ГЛАВНАЯ, ЕСЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ВЛАСТИ
Чептынов пообещал выполнить все наши просьбы и нужды, а также направить на мероприятие установления мониторинга свою, обкомовскую, команду и команду облисполкома.
Это мероприятие проходило в санатории на озере Ая и проходило в виде оргдеятельностной игры. Сначала шел весьма тягомотный и невнятный для участников шлейф докладов по каждому ценозу. Напряжение и непонимание нарастали и грозили перерасти в дебаты «стенка на стенку» с применением нетабельного оружия». Пока мы не дошли до некроценоза.
И тут все присутствующие вдруг поняли, что смерть и смертность — единственное, что нас всех объединяет, что независимо от того, будет ли Катунская ГЭС, или её не будет, мы все смертны и умрём.
И тут начались братание и дружная совместная работа. Игра прошла для всех, в том числе и для нас, неожиданно успешно.
После этого мы начали семинары и обучающие курсы для реперов. Я чуть ли не каждый месяц летал в Горно-Алтайск на эти семинары, а также продолжал публикации в местной газете.
Вопрос о строительстве Катунской ГЭС, между этим, рассасывался из-за отсутствия в стране денег. Так родилась идея превратить наш СЭМ в Экологический университет. Мы пригласили на одно из своих заседаний в республиканской библиотеке президента Горного Алтая Чептынова и неожиданно получили его горячую поддержку.
Понимание реализуется в вещах.
Но оно может также актуализироваться в действиях, процессуально, если действие или акт действия (логическая, логизированная и логистическая единица действия) распадается на процедуры и операции. И эта актуализация происходит не в реальном мире, не в мире вещей, а в мире наших действий, в действительности, либо опережая эти действия (проспективное понимание), либо параллельно этим действиям (актуальное понимание), либо вослед им (ретроспективное понимание).
Совместимы ли два этих понимания? — разумеется. Их совместность и задает разнообразие структур понимания, а также «квантово-волновую» природу понимания и как ага-эффекта и как процесса.
Ансельм Кентерберийский в 11-ом веке доказал, что понимание невозможно, если нет относительно понимаемого цели, интереса, интенции, познавательной или деятельностной. Строго говоря, когнитивная и деятельностная функции взаимопереплетаемы: мы познаем ради действия (а не любопытства для), мы действуем, познавая. Интендирование, склонность человека, вектор его потенциального внимания определяет тип понимания. И, следовательно, тип понимания зависит от типа цели.
Цель можно представить себе как идеальное представление о желаемом результате, а можно — как процесс достижения этого результата. И в этом случае цель предстает не онтологически, не как образ, а деятельностно, в глагольной форме.
При этом следует выделить три типа глаголов:
— акторные, направленные на реализацию конкретной цели (цели типа target) — «купить машину», «сдать экзамен», «съездить в Париж»;
— глаголы состояния, направленные на достижение более общей цели (цели типа goal) — «стать президентом», «быть лучшим»; эти глаголы можно также назвать –организационно-акторными: они требуют не просто действий, а организации этих действий;
— модальные глаголы, выражающие не цель, а интересы («хочу»), требования («необходимо») или задание («надо», «нужно»)
Практический вывод: в коммуникации необходима фиксация, прежде всего непонимаемого — оно является ресурсом разворачивания коммуникации, а, следовательно, и ресурсом мышления.
Понимание и понятия
Когда началась перестройка, ММК резко сменил тематику своих разработок и ОДИ, перейдя от программных и проектных заходов и сконцентрировавшись на трёх важнейших направлениях: образование, региональные и урбанистические мотивы, а также понятийная работа.
Мы понимали, что наступают новые времена и новые действительности, которым нужен новый язык, новые слова и новые понятия.
Строго говоря, мы понимали также, что затея Горбачева обречена на полный провал, потому что, кроме негатива, не имела никаких позитивных, онтологических оснований и представлений. Всё как в 17-ом: «до основанья, а затем». Прошло четверть века с начала перестройки, целое поколение, и теперь уже не узкая группа людей, а все мы понимаем, что загнали сами себя в тупик и беспонятийный мрак. И это гораздо серьёзнее, чем вопрос, во сколько человек надо управлять страной, в один или в два.
Как и когда возникла проблема понятия?
После вавилонской неудачи люди стали в своих начинаниях осторожней и договорились начинать каждое новое дело, прежде всего с понятий, то есть понятных всем участвующим в предстоящем деле слов. Эти договорённости «на этом берегу» стали гарантом того, что построено и сделано будет именно то, что затеяно.
Можно сделать предположение, что первым озаботился этой проблемой Платон. В одном из своих диалогов, а именно, в «» он устами Сократа говорит: истинный смысл слов знают боги, которые эти слова и создали. Во времена Золотого Века гении передали людям эти истинные смыслы слов, но люди, используя слова в речи, сильно исказили эти смыслы и стали употреблять их не по понятию, не в истинном, а в искажённом смысле. И задача философа — вернуть словам эти истинные смыслы или понятия.
Позже к этой работе по возвращению смыслов подключились филологи: герменевты и этимологи.
Беда же их, философов и филологов, заключалась и заключается в том, что они не участвуют в реальной жизни: хозяйственной, экономической, производственной, а потому их голоса не слышны и невпопад.
Понятие (латинское concepcio, concept — «зачатие», «понятие», «взгляд») — некоторое общее видение (common vision) предстоящего дела или деятельности, то, о чем договариваются «на этом берегу», прежде чем приступать к совместной работе и преодолению предстоящего пути. Понятие — эфемерная конструкция, живущая только для этой группы людей и участвующих только в этой деятельности. Как профессионал, работающий в сфере градостроительства, я участвовал примерно в двух-трех десятках попыток построения рабочего понятия «город». Это были попытки с разной степенью успеха и завершенности, но, в общем, все они заканчивались тем, что: «ну, давайте начинать работать, а о деталях договоримся по ходу дела».
В этом смысле понятие противостоит термину и категории.
По удачному определению какого-то философа, термин — зрелое слово. Это то, что в рутине деятельности признается всеми или большинством. Мы встречаем термины в профессиональной речи и литературе, в глоссариях и terms, в справочниках и нормативных документах.
Категория (дословный перевод с греческого «окончательный приговор») возникает при переходе слова из деятельности в культуру: категории становятся статьями в энциклопедиях, справочниках и словарях. Иногда, при появлении новой деятельности, категории подвергаются реанимации и превращаются в понятия, но это — экзотика.
Понятие — не только «облако смыслов» и совокупность представлений — в нем должны быть найдены ядра конденсации, позволяющие с уверенностью сказать: мы понимаем друг друга.
Октябрь 2010
Рабочее понятие
Понятия, которыми пользуется та или иная цивилизация, вырабатываются и существуют столетиями и тысячелетиями. Они — то культурное наследие и средство человечества, которыми должны пользоваться с благодарностью к своей всемирной истории. И, чем выше и абстрактней то или иное понятие, тем более общечеловеческий смысл хранится в нем: по поводу вещей обыденных и примитивных у нас могут быть разночтения и разное понимание: английская kasha — это всего лишь гречневая каша, а их stool — табуретка. Таких ложных когнатов — во множестве пар и групп языков. Но абстрактные понятия «Бог», «совесть», «справедливость» и тому подобное, при всей разнице произношения и написания, воспринимаются нами в предельно близких смыслах, именно они объединяют нас и делают из нас человечество — не биологический вид в его эволюционной динамике, а… — понятие «человечество» сходу не формулируемо.
В отличие от вечных ценностей абстрактных понятий, существует огромное множество рабочих понятий, достаточно эфемерных и потребляемых только в той деятельностной среде, где они разрабатываются.
При этом рабочее понятие должно быть адекватно и кодифицируемо общечеловеческими понятиями, быть узнаваемы и идентифицируемы не включенными в эту деятельность.
Это достигается за счет понятийных оснований, а именно (на примере понятия «программа»):
— исторические примеры (например, космическая программа «Аполлон»)
— встроенность в идеализации и теории (например, программа и программирование в теории менеджмента и ОРУ)
— современное понимание и интерпретации (например, американская традиция рассмотрения программы, как совокупности связанных между собой проектов)
— семантические узлы (например, выделение сёмы pro как проспекции и сёмы graphio — писать)
Однако коренным, краеугольным в построении понятия являются коллективные цели и направления предстоящей коллективной деятельности. Мы должны знать, для чего строим то или иное понятие. И если такого единства в коллективе предстоящих деятелей нет, то и рабочего понятия не будет. Понятийная работа остановится на неясном облаке смыслов, не более того.
Кроме того, рабочее понятие должно быть погружено, а образней — спущено на воду потока бытия и, стало быть, должно отвечать требованиям плавучести, остойчивости, и другим мореходным требованиям. Оно, рабочее понятие, должно быть средством плывущих, а не бревном для утопающих.
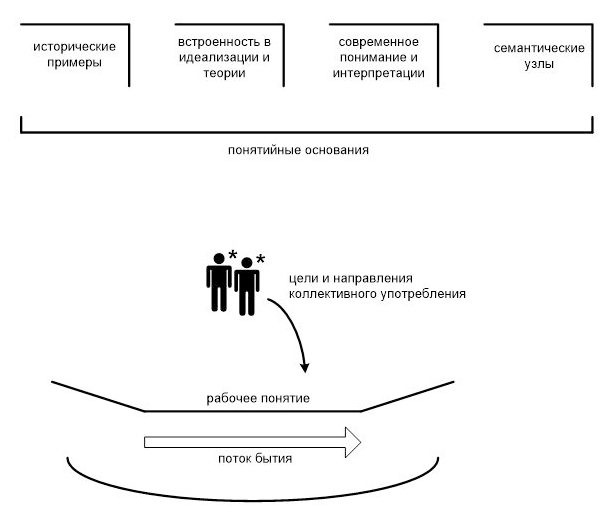
Ноябрь 2010
В поисках смыслов
Из всех тем, обуревающих умы и сердца людей, самой частотной и востребованной является тема человека. Не Бог, не мироздание, его происхождение, природа и законы, не проблема Добра и зла — человек. Только в мировой философской литературе и по явно устаревшим данным конца 80-начала 90-х годов прошлого века ежегодно публиковалось около 50 тысяч работ, посвященных человеку — теперь таких работ существенно больше.
Неиссякаемый интерес человека к самому себе, кажется, нашел свое объяснение.
Если иметь в виду метафору-притчу Платона — а великий философ в самых главных вопросах философии остается и самым современным — о пещере с прикованными людьми, проносимыми мимо пещеры «идеями» и их «тенями» на глухой стене, то в этой картине люди имеют онтологически несутевое значение. Грубо говоря, их присутствие в этом мире необязательно (что находится в кричащем противоречии с сильным антропным принципом космогенеза). Но именно эта необязательность, горестная и безысходная, заставляет нас думать о себе и своем месте: кто мы? зачем мы? куда идем? что зависит от нас?
Проще всего, конечно, честно и сурово сказать себе: мы никто, мы — не зачем, мы никуда не идем, и ничто не зависит от нас. Но эта честность и суровость нас, лукавых и хитроумных, не устраивает. Дети Разума, его порождения, шаловливые и наивные, мы продолжаем вопрошать и искать ответы на эти мучительные вопросы. Но при этом мы, о! дети, лукаво и капризно объявляем себе и миру: главная ценность — свобода, то есть признание того, что мы именно — никто и не зачем, никуда и никому не нужные. Это позволяет нам не сходить с ума и быстро утешаться от отсутствия ответов на треклятые вопросы.
Мы вынуждены сами себе доказывать факт своего существования, как утверждает М. Хайдеггер. При этом доказываем мы это, вставляясь в рефлексивную щель между вещами и идеями, называя эту придуманную нами же щель мышлением, то есть, с одной стороны, электромагнитными усилиями головного мозга ухватить и индивидуализировать, приватизировать ухваченную крупицу (осколок, фрагмент) идеи, а, с другой, двигаться, повинуясь диктату «навигаторов» Разума. Но ведь это мы называем их навигаторами — эта функция приписана им, возможно, случайно, как случайным было использование найденных в Зоне изделий в «Пикнике на обочине» Стругацких.
В обойме наших энтелехий патронов не так уж много:
— чувствование
— познание
— переживание
— понимание
— осознание
— вера
С чувствованием всё достаточно просто, поскольку и энтелехия эта проста и тривиальна, доступна не только человеку, но и всему живому, включая все примитивные и простейшие формы биоидности.
С познанием мы явно и сильно погорячились, понадеявшись на эту свою энтелехию. Николай Кузанский наглядно и доходчиво объяснил нам, что любое приращение знания приводит к приумножению незнания. Наверно, поэтому мудрейший из мудрых царь Соломон на склоне лет позволил себе сказать: «Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.» (Эккл. 1.18). Конечно, до Галилея мы очень немного знали о Космосе, но мы и не знали совсем немногое, а после Галилея мы знаем больше, но гораздо больше стали не знать. Всё в точном соответствии с законом Фехнера. И любое новое знание, приобретаемое нами при анатомическом ли вскрытии или в коллайдере, неизменно порождает новое незнание, сильно превозмогающее по объему и своей витальности новое знание.
В отличие от проживания, процесса достаточно банального и всеобщего для всего рожденного (как это у Курта Воннегута в «Завтраке для чемпионов»: «такой-то — такой-то, тогда-то — тогда-то, он старался»? ), переживание всегда уникально, поскольку оно есть проживание по сути, экзистенция, а универсальную суть (=совокупность идей или истин) мы способны постигать лишь индивидуальными, уникальными фрагментами, если вообще способны постигать, а не индульгировать свое безсущностное проживание тривиальными сентенциями «думать некогда — работать надо», «не ломись в запертую дверь», «не парься по поводу непостижимого».
Экзистенциализм тем и хорош, что рассыпан бисером по личностям, что не даёт никаких универсалий, а лишь демонстрирует процессы и плоды индивидуальных усилий, но именно тем же и плох.
Понимание, герменевтика — вскрытие герметически закрытых истин и смыслов (как discovery — снятие покровов с тайного и неизвестного), может и должно быть наглядным — тем и отличается от потемок экзистенциализма. Понимание как культурологическая археология выгребает на публичную поверхность погребенные под слоями употреблений смыслы. Да, экзистенциалисты — искатели кладов, герменевты — бескорыстные ученые археологи.
Энтелехия понимания родом из коммуникации, точнее: коммуникация — порождение непонимания. И если это так, то построить систему понимания, как мы строим системы знаний, невозможно: в любой коммуникации присутствует неповторимый аромат ситуативности, сиюминутности, живости. Оперируя и создавая понятия, мы всегда ощущаем их трепетную эфемерность, зыбкость и неустойчивость удерживаемых лишь на время смыслов.
Осознание — полученное в медитации, в исихастии, интроспекции или в любой другой технике погружения в эпохэ — всегда связано со спонтанными вспышками озарения. В этом смысле экзистенциализм — литературно оформленная феноменология, подобно тому, как стихотворение — не столько эссе (но и эссе также, фрагмент истины), сколько эсте, красиво выраженное переживание, осознание, понимание и т. п. Тишина — высшая эстетическая форма поэзии и музыки, как тьма и свет — нижний и верхний пределы красок. Феноменология оставляет в стороне все знания и знаниевые структуры, считая их прахом, тленным и недолговечным. Архитектор мыслит не кирпичами, а формами пространства, музыкант — не акустикой, а гармонией, философ — не словами, а понятиями. И, понимая свое несовершенство, мы, чтоб не нарушать собою мир, перестаем влезать в него, примолкаем, очарованные, и — если повезет — начинаем осознавать себя и мир в искрах озарения, безразмерно и внемасштабно.
И всё это, не описанное, а скорее перечисленное, пронизано терзаниями веры.
Мы и Бога-то себе придумали как гипертрофию себя, как Нечто или Ничто, оправдывающее наше существование как служение Придуманному — нами когда-то и теперь — каждым из нас. Вера в Него (или Них) по нашему же требованию должна быть слепой, иначе — невыносимо. Впрочем, и неверие требует слепоты, что и выталкивает людей из атеизма. Но нам наше достоинство и самоуважение не позволяет верить слепо — мы всего лишь верующие, то есть идущие к вере, несовершенные, имперфектные, а верящие, уже верящие, слепо и безоговорочно — редкие парии, обливаемые презрением и называемые кретинами, то есть «истинно христианами», Христоподобными.
Нам очень важно одновременно и вознести Его, совершенного, в объективные выси и дали и поместить Его внутрь себя, несовершенного. «Бог во мне и я в Боге» — есть допуск и Его отстраненности от нас, когда он — огромное и безразмерное вместилище всего и вся, и Его проникновенности в каждого из нас.
Человек, по существу, всю свою жизнь занят тщетными поисками смыслов ее, жизни, а также себя и человека вообще. Спасительна именно эта тщетность. И когда она преодолевается, человек превращается в «Homoesse», в «Бог умер», в безумца Ницше и его еще более безумное его отражение Заратустру.
Наша ненужность и онтологическая необязательность присутствия в мире (опять — не путать с сильным антропным принципом, по которому наше физическое присутствие необходимо в соответствии с мироустройством) мучительны, но и спасительны для нас. А без муки и страдания спасения нет и не будет.
Давайте искать смыслы дальше.
Июль 2011
Кортеж понятий как метаязык науки
В данной статье обсуждается гипотетическое предположение, что метаязыком науки являются понятия, которыми эта наука разрабатывает и оперирует (в методологическом сообществе принято считать, что метаязыком является язык схем). Сам смысл «мета-» обычно означает «стоящее за…»: за физикой стоит метафизика, за географией — метагеография или теоретическая география и т. д. При этом кортеж понимается как некая упорядоченная и даже немного церемониальная свита той или иной научной парадигмы: физика Ньютона сопровождается кортежем таких понятий как масса, скорость, сила, движение, момент движения, ускорение, работа и т. д. В кортеже физики Эйнштейна — релятивизм, система отсчета, пространственно-временной континуум и т. п.
Понятия и язык. Понятийная катастрофа
Сильней экономической разрухи и красного террора оказалась понятийная катастрофа, разразившаяся усилиями захвативших власть в стране большевиков. Слова перестали что-либо значить, что очень точно подметили И. Ильф и Е. Петров [3]: «волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». Домкратом стало можно называть всё. И не только домкратом. Лимитом стали называть не предел, а список строек, доходом — расходы, грабеж средь бела дня — продразверсткой или займом, расстрел — расходом и так далее. На базе раскулаченных, беспонятийных слов возникли целые учения и науки, точнее, лженауки: политэкономия социализма, экономика, экономическая география и прочие «продажные девки коммунизма». В этом смысле новояз и двоемыслие из «1984» Дж. Оруэлла [15] — не фантастика и даже не карикатура, а точная диагностика состояния языка, гуманитарной науки и общества в СССР.
Результаты, плоды и последствия понятийной катастрофы переживаются до сих пор, более того, они продолжают множиться: «суверенная демократия», «модернизация», «инновационная экономика», «нанотехнологии» — слова, за которыми не стоят ни денотаты, ни смыслы, ни понятия. Это — некие пустые клише, фикции, миражи слов.
Жульническое отношение к языку породило и жульническую власть, и жульническое мировоззрение, и жульнические отношения в обществе, и жульническую науку, если называть вещи своими именами.
Слово, теряющее свою понятийность, превращается в фантом, в пятого туза, в средство манипуляции человеческим и общественным сознанием. При этом простейшим и самым эффективным средством обессмысливания слова является его бесконечное повторение, в точном соответствии с правилом Ципфа: «частотность употребления слова обратно пропорциональна его осмысленности». Достаточно всего двадцать раз повторить «общественное телевидение» — и 99% слушающих наверняка утеряют смысл общественности такого телевидения.
Надо признать, что высокочастотность — не единственное средство внедрения антипонятийности слов. Очень распространены замены привычных отечественных слов иностранными аналогами: менеджер по интерьер-клинингу — это уборщица, менеджер по экстерьер-клинингу — дворник. Вышибала или охранник — секьюрити, перекладывание из кармана в карман денег или кукиша — реинвестирование, продажная шкура — инсайдер. Достаточно пропускное устройство назвать валидатором — и ты уже почти инноватор нанотехнологий. Расконвоированное от своих родных смыслов, иностранное слово в русском языке нагружается новыми смыслами, сильно отличающимися от родовых: в русском языке «дизайнер» — вовсе не проектировщик, а скорее декоратор. И уж совсем конфузны ложные когнаты: английские bra — бюстгальтер, debauchery — публичная женщина, гулящая, stool — табуретка и т. п. Пересыпанная заимствованиями речь порождает, прежде всего, недоумения и зевоту непонимания.
К этим же средствам относятся:
— сложные аббревиатуры (типа «Фортинбрас при Умслопогасе им. Валтасара») [3]
— гиперболы и шаблоны («огромные достижения» вместо «провал», «эффективный менеджер» вместо «людоед», «вертикаль власти» вместо «тирании», «деспотии» и «тоталитаризма», «переговоры прошли в теплой, дружеской обстановке» — то есть закончились ничем)
— синонимизация антонимов (и опять сразу вспоминаются оруэлловские «мир — это война», «любовь — это ненависть», а также наши отечественные «район=регион» [1], хотя район — продукт членения территории, а регион — самоопределение места в мире и человечестве; «региональный субъект» в условиях отмены выборов губернаторов и мэров звучит издевательски, зло и угнетающе
— навешивание ярлыков и коннотаций: враг — злобный, вероломный, Ленин — живее всех живых; дело доходило до того, что проститутка в советском языке была мужского рода — «проститутка Троцкий»
— простое косноязычие
В мировой практике резкие социальные потрясения (революции. войны, перевороты и т.п.) порождают волну словотворчества, которую возглавляют поэты, философы и молодые генерации. В нашей стране приоритет в «словогенезе» принадлежит беспризорникам и прочим уголовным элементам: после революции из этой среды пошли такие слова как блат, халтура, малина, маруха, ходка, фраер и т. п. [16] Новая социальная волна породила и новый язык родом из камер и допросных кабинетов: «общак», «мочить в сортире», «наружка», «топтун», «косарь» и т. п. Разница лишь в том, что революционная волна «блатной музыки» и фени шла снизу, а теперь внедряется сверху.
Понятие, термин, категория
Понятие (латинское concepcio, concept — «зачатие», «понятие», «взгляд») — некоторое общее видение (commonvision) предстоящего дела или деятельности, то, о чем договариваются «на этом берегу», прежде чем приступать к совместной работе и преодолению предстоящего пути. Рабочее понятие — эфемерная конструкция, живущая только для группы людей и участвующих только в этой деятельности. В этом смысле понятие противостоит термину и категории.
По удачному определению, термин — «зрелое слово». Это то, что в рутине деятельности признается всеми или большинством. Терминология — индикатор состоявшейся деятельности. Любопытно, что около 90% терминов, приводимых в современной экономической литературе — англоязычные заимствования, но и оставшиеся 10% — далеко не всегда madeinRussia. Категория (дословный перевод с греческого «окончательный приговор») возникает при переходе слова из деятельности в культуру: категории становятся статьями в энциклопедиях, справочниках и словарях. Категориальный анализ — специфическая философская дисциплина.
Иногда, при появлении новой деятельности, категории подвергаются реанимации и превращаются в понятия, но это — экзотика. В качестве примера: «сволочь» из рабочего понятия людей, в наказание работающих на волоках между реками Балтийского и Черного морей и таскающих варяжские ширококилевые лодьи посуху по низким и коротким водоразделам, превратилась в «категорическое» ругательство, когда транспортные пути «из варяг в греки» прекратили свое существование в 13 веке. Рабочим понятием «сволочь» стала на рубеже 17—18 веков, когда Петр Iсволакивал со всей страны на строительство Петербурга и других городов, на рытье любимых им каналов, на демидовские заводы Урала и Алтая государевых крепостных рабов. В третий раз «сволочь» вернула себе понятийность (рабочую понятийность!) в период индустриализации и коллективизации. Эта третья регенерация слова теперь распространилась практически на весь народ, сорванный от корней, развороченный и перевороченный по всей территории страны. Впрочем, была и четвертая — в конце войны и после войны: так называемые репрессированные народы, народы-предатели, а также «лица. находившиеся в зоне оккупации» независимо от этнической принадлежности или обстоятельств нахождения, например, по малолетству.
Понятие — не только «облако смыслов» и совокупность представлений — в нем должны быть найдены ядра конденсации, позволяющие с уверенностью сказать: мы понимаем друг друга.
Понятие понятия. Схема построения понятия
В простейшей и достаточно распространенной схеме «понятие понятия» представляет собой триаду: происхождение-устройство-употребление [12]
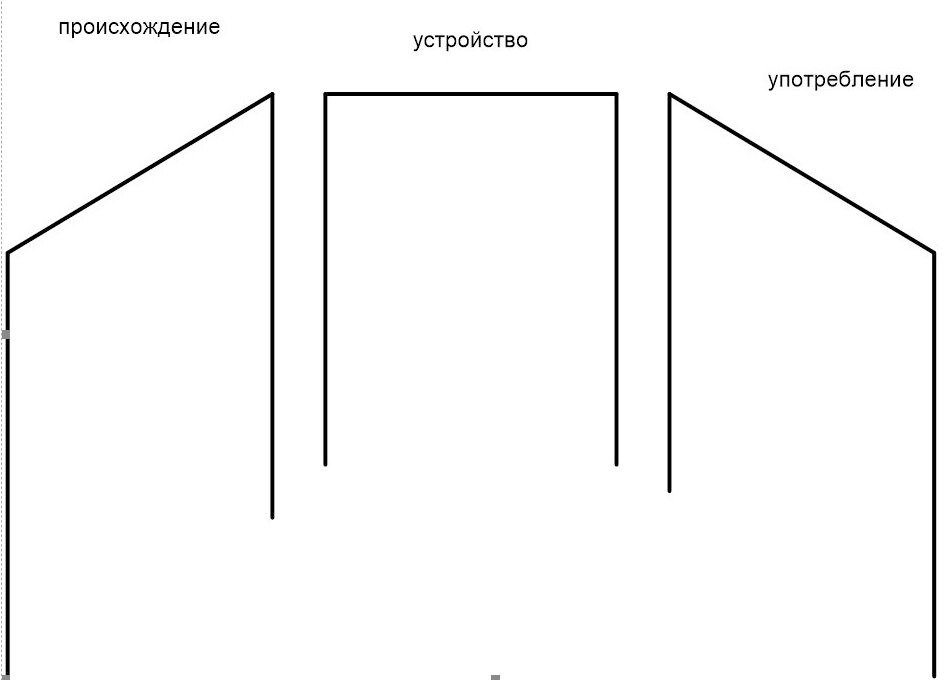
В пространстве происхождения рекомендуется указывать первую ситуацию, когда данное слово употреблялось в современном смысле. В качестве примера: понятие «анализ» возникло, скорей всего в химии.
Однако М. Хайдеггер, большинство герменевтов и прежде всего филологов уверены, что правильнее искать происхождение в изначальном употреблении этого слова. Тот же «анализ» Хайдеггер возводит к «Одиссее» Гомера, где Пенелопа по ночам занималась «анализом» — расплетением по ночам ею же сотканной одежды для Одиссея. По-видимому, обе точки зрения имеют право на существование.
Допустимость обоих способов можно проиллюстрировать на примере слова «район» (французское «нить», «радиус»): в 18 веке в географии именно так, по нити проводили членение территорий таксономически более дробных, чем страны и провинции, но значительно раньше европейцы познакомились с тропическим волокнистым растением, из которого делались нити и которое так и называется до сих пор «район» (родственник ананаса, «соснового яблока»).
В пространстве устройства с необходимостью присутствуют три аспекта:
— схема объекта или понятия
— денотат или пятно реальности, на которое мы можем с уверенностью указать, что это то самое, по поводу чего строится понятие. Это легко сделать, если речь идет о конкретном понятии, но в случае с абстрактными понятиями, например, такими, как совесть, сознание, рефлексия мы оказываемся в более сложной ситуации и либо вынуждены строить сложный логический дискурс (логическая непротиворечивость как атрибут возможности существования), либо выстраивать некоторую непротиворечивую онтологемму (непротиворечивость как атрибут долженствования существования) либо, что чаще всего, ссылаться на авторитеты (традиции, имена, догмы вероучения и т.п.). Многие, если не большинство научных понятий имеют абстрактный характер, наверно, поэтому в научных текстах порой заметен явный «перегруз» чужими цитатами и мнениями, что освобождает от доказательств и личной ответственности автора
— компрегентный ряд, точнее — ряды (например, один ряд: понятие — это не термин и не категория; другой ряд: понятие — это не знание, не представление, не коллективное мнение, не…; третий ряд: понятие — это не слово, не фраза, не сентенция, не…; четвертый ряд: понятие — это не…) — чем больше рядов, тем изящнее и точнее понятие, тем с большей вероятностью мы очерчиваем границы понятия и его сутевые, имманентные только ему характеристики
Наконец, в пространстве употребления желательно указание не только сферы употребления и применения, но и предназначения, назначения (=миссии) и возможных функций.
Непременным условием при построении понятия является заполнение, пусть и с разной степенью проработанности и детальности, но всех трех пространств.
Понятия, понимание, онтология
Современная наука, прежде всего гуманитарные науки, всё менее опираются на знания, тем более что именно в гуманитарной сфере знания часто имеют множественный и альтернативный характер. Гуманитарные истины, даже противоречащие одна другой, не теряют своей истинности в рамках и мирах своего существования.
Современная гуманитарная наука в бόльшей степени опирается на понимание и понятия, как элементы, конструктивный материал понимания. Другими словами: гуманитарные науки становятся всё более герменевтичными. Знания, по образному выражению М. Фуко [17], уходят в археологию.
Сам процесс понимания становится предметом понимания. Если воспользоваться идеей герменевтического круга Шляйермахера [18], то процесс понимания может быть описан кривой α-функции: ага-эффекты сменяются последовательными периодами медленного накопления понимаемого [5]:
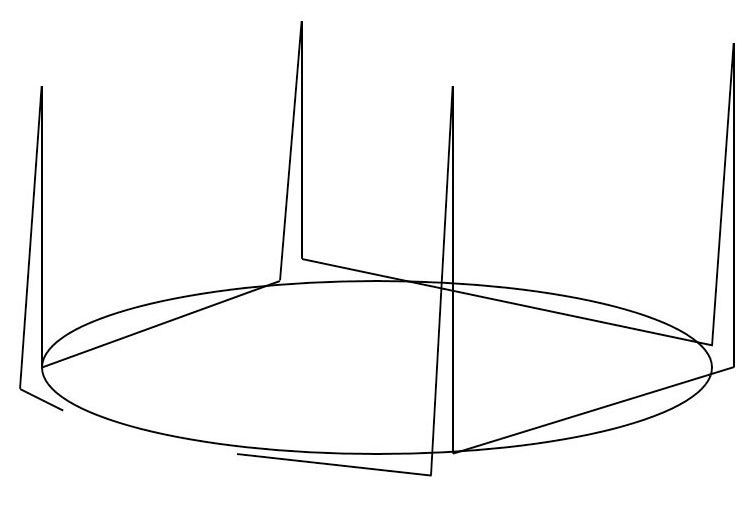
Понимание как «бесконечное хождение по кругу», названному
Ф. Шляйермахером герменевтическим имеет культурологическое и историческое значение [13,14].
При этом важно подчеркнуть, что по отношению к коммуникации понимание и мышление выступают как прямо противоположные сущности: непонимание является ресурсом коммуникации, а сама коммуникация провоцирует мышление [8,9]:
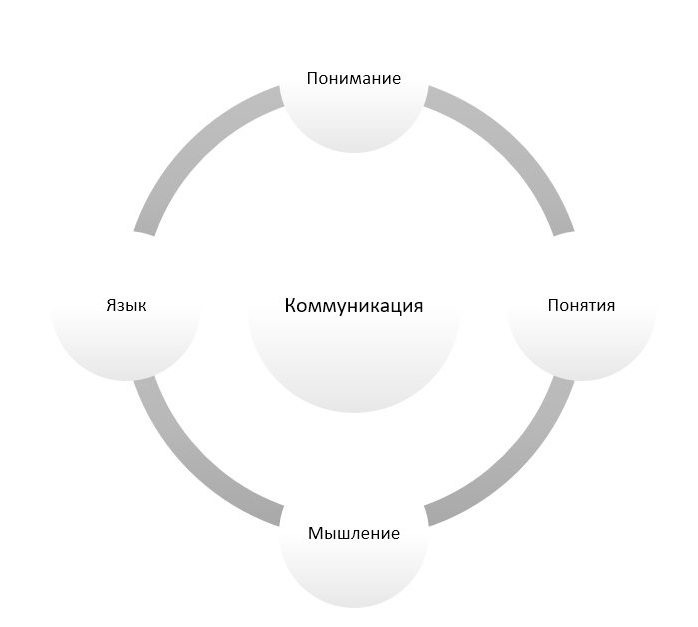
Движемся от понимания к мышлению через понятия и накапливаем понимание в мышлении благодаря языку.
Важно подчеркнуть, что средствами понимания, на наш взгляд, являются:
— память
— воображение
— онтологические представления и мировоззрение
— интендирование (потенциал, имеющий вектор интереса или наклонности к чему-либо)
— понятия
Средства мышления лишь порой весьма сходны со средствами понимания:
— язык
— схемы
— знания
— логики
— целевые установки и мотивации
— понятия, категории, дефиниции, термины
Мы, представители науки, гуманитарной науки, всё более обращаем понимание в свои цели, девальвируя мышление до средства понимания.
Это обстоятельство, а также всё более возрастающая креативная составляющая гуманитарных наук, приводит к заметной девальвации логизированного дискурса и возрастанию роли онтологической убедительности языка гуманитарных наук. Требования на логическую непротиворечивость стихают и на авансцену выходит эстетика онтологической ясности, выражаемой точностью кортежа понятий как метаязыка науки.
Литература
— Алаев Э. Б. — Экономико-географическая терминология. М, Наука, 1977, 199 с.
— Донских О. А. — Происхождение языка как философская проблема. Новосибирск, Наука, 1984, 127 с.
— Ильф И., Петров Е. — Двенадцать стульев. М., Просвещение. 1987, 372 с.
— Кронгауз М. — Русский язык на грани нервного срыва. М., Знак, 2009, 232 с.
— Левинтов А. Е. — В поисках понимания. www.redshift.com/~alevintov, май 2009
— Левинтов А. Е. — Метанойя. М., Полиграфикс, 1999, 224 с.
— Левинтов А. Е. — От рыка к речи. www.redshift.com/~alevintov, июнь 2008
— Левинтов А. Е. — Непонимание как ресурс коммуникации. www.redshift.com/~alevintov, май 2009
— Левинтов А. Е. — Понимание: социально-лингвистические аспекты. www.redshift.com/~alevintov, март 2010
— Левинтов А. Е. — Понимание в реальности и действительности. www.redshift.com/~alevintov, октябрь 2008
— Левинтов А. Е. — Шпионская школа. М., Аграф, 2007, 256 с.
— Левинтов А. Е. — Понятие о понятии. www.redshift.com/~alevintov, ноябрь 2008
— Левинтов А. Е. — Самопознание в процессах антропогенеза и творчестваwww.redshift.com/~alevintov, ноябрь 2005
— Левинтов А. Е. — Теория культуры. Курс лекций. Англо-российская высшая школа социологических и экономических знаний, 2009.
— Оруэлл Дж. — 1984. М., Прогресс. 1989, 384 с.
— Фесенко А., Фесенко Т. — Русский язык при Советах. Нью-Йорк, 1955, 222с.
— Фуко М. — Археология знания. Киев, Ника-Центр, 1996, 208 с.
— Шляйермахер Ф. — Герменевтика. СПб, Европейский Дом, 2004
— Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., Наука, 1969, 342 с.
Март 2012
Поиски смыслов как интеллектуальное освоение мира
Ничто, никакие потрясения и катастрофы, так прочно и уверено не возвращают нас в животный и даже растительный мир, ничто не наводит большего уныния и скуки бытия, как потеря смыслов этого бытия. И уже ничто не отвратит от краха и исчезновения страну, если потеря смысла жизни поражает всё общество, от властных слоёв до властимых, делает его угрюмым стадом, то покорным и травоядным, то вдруг хищным и бунтующим — что мы и наблюдаем сегодня в России.
Нас раздражает бессмысленность принимаемых законов и бессмысленность их применения и исполнения, бессмысленность бесконечного наращивания богатства одних и бессмысленное же скатывание в нищету остальных и многих. «С какого глуза? — спрашиваем мы себя, — мы лезем с советами и угрозами к своим ближним и дальним соседям? Пичкаем своё опасное от несовершенства изготовления оружие всяким придуркам и отморозкам? Чего мы лезем, куда нас не ждали и где нам не рады? Чью волю исполняет исполнительная власть и зачем она порхает со стерхами и опускается на полметра в глубины морские, чтобы достать оттуда только что положенные туда амфоры? Что за бадминтон такой, из-за которого два недоумка гоняют по полю на комбайнах, а третьего заставляет сочинять результаты выборов?»
Если Бог хочет обидеть, то он прежде отнимает разум, если того же хочет дьявол — то отнимает смысл и тем вселяет в нас тяжкий грех уныния.
Мы страдаем по мере потери нами смыслов — но какой восторг вызывают порождения смысла! Не меньший, чем удачное стихотворение, сложившаяся мелодия, точный рисунок или верно найденное слово.
Что же такое смысл? Почему нам так важен и нужен этот эфемер нашего сознания?
Смысл — это сгусток мышления, прежде всего. Если мысль — единица мышления, ухваченная и приватизированная нами частица той или иной независимо от нас существующей идеи, то смысл теряет свою привязку к индивидууму и начинает распространяться по человеческому материалу подобно вирусной болезни. Не идеи движут массами и народами — смыслы. Они становятся ориентирами движения и поведения, трансформируются в цели, намерения, мотивы. И поэтому обессмысливание — операция антигуманная, нечеловеческая, продиктованная злом.
Мы осмысляем — и тем делаем существующим. Каким образом, какими средствами мы находим и порождаем смыслы?
Когда кончаются слова, начинается поэзия, начинается порождение смысла. И мы прозреваем. Любоваться ничем нельзя, если не понимаешь смысла наблюдаемого или переживаемого. И любить бессмысленно невозможно.
Понимание как интеллектуальное усилие может носить пассивный и активный характер. Пассивно мы восстанавливаем смыслы, заложенные автором или Творцом, активно — мы создаем свои смыслы и тем вдыхаем жизнь в то, что было до сих пор для нас бессмысленно. Другое дело, что эти, порожденные нами смыслы, могут оказаться уродливыми настолько, что в мы в стыде и ужасе отказываемся от них и отворачиваемся.
Мы порождаем смыслы словами, но слова сами обладают смыслами, порожденными не нами, а давным-давно, ещё допрежь этого мира, поскольку «В начале было слово». В сути начала — слово. И смыслы эти потаённы от нас, поэтому тот, кому мы передаём смысл, порождает свой, отличный от нашего:
— в чём смысл цветных революций? — спрашивает меня мальчик в бабочке.
— в ошибках и преступлениях власти
— но я сам хочу делать цветные революции, я хочу совершить белую революцию
— тогда подумай о смысле своей революции и смысле будущего, которое ты хочешь создать, ведь ты не хочешь вернуть безвозвратно потерянное прошлое?
— конечно, не хочу
— а кто ты?
— пока никто, актёр.
Этот мальчик — из элиты, которая, единственная, задаёт новые смыслы, потому что в этом её предназначение.
Понимание держится на понятиях — но, наверно, не только на этом, а ещё на интуитивном проникновении в суть и смысл вещей. Мы никогда не можем точно описать и определить, как и когда мы поняли смысл — он нам даётся, если мы прикладываем к этому усилия.
Есть много разных способов проникновения в реальность, в мир вещей, в вещающий нам мир. Мы умеем делать это эстетически, чувственно, эмоционально, Отчего же мы так ценим интеллектуальное проникновение и освоение смысла? — от того, что это наше, личное, индивидуальное усилие, это наше, собственное сопротивление бессмысленности.
И именно поэтому нам так властно кричат сверху:
— бессмысленно искать смысл! Стой у корыта и жри, скотина!
Октябрь 2013
Понимание как свобода
Она послаще
любви, привязанности, веры
(креста, овала),
поскольку и до нашей эры
существовала.
И. Бродский «Пьяцца Матеи»
Свободу, эту высшую человеческую ценность, поскольку многие славные отдавали за неё жизнь, можно только понимать: знать осознавать, чувствовать её нам не дано.
Чувства
Понимание раскрепощает и освобождает эмоции, неважно, какие — горестные, печальные, грустные, радостные, весёлые. В отличие от мышления, индифферентного к эмоциям и даже чуждого им (поскольку они мешают мыслить и быть логичным), понимание выступает в качестве некоего проводника между эмоциями и мышлением. Именно поэтому понимание более присуще женщинам, чем мужчинам. Его, понимание, часто путают с интуицией, которая всё-таки есть свёрнутое мышление, мышление в латентных формах, когда логические построения отбрасываются как тривиальные, а потому решение кажется неожиданным и немотивированным даже для субъекта решения.
Понимание порождает эмоции как внешние проявления чувств, делающие наши чувства доступными для других, которые благодаря этому начинают нас понимать: так возникает невербальная коммуникация, которая гораздо богаче слов. Более того, понимание вводит нас в мир внутренних, интимных чувств и переживаний, позволяет нам прорваться к сантиментам, сентиментальной сфере, куда стыдливо не допускается никто, где одиноко и свободно, где мы подлинно наедине с самими собой, и никто не смеет подглядывать за нами. И других средств этого прорыва в сантиментальную жизнь, в одиночество, уединение, помимо понимания, кажется, нет. Понимание, следовательно, порождает всю гамму и полноту чувств, не их палитру, но глубину.
И это — не единственный аспект.
Культура
Когда мы говорим, что собака нас понимает, но не говорит, мы не лукавим и не обманываемся — как и мы, собака понимает нас из культуры, но только своей, собачьей, более нормированной, чем наша, но обладающей той же природой, что и наша культура.
Но, в отличие от собак, в понимании мы перестаём быть рабами культуры (Ницше) — мы с пониманием освобождаемся от культуры, поскольку мы пытаемся понять больше того, что знаем. В понимании мы способны не только достичь самих крайних пределов культуры, но и преодолеть их в своих интерпретациях. На этом, собственно, и строится свобода музыканта-исполнителя от музыканта-композитора, свобода театра и кино от литературной основы спектакля и фильма. На этом основаны толкования Священного писания.
Знания
Знания умирают во время их родов.
Но в своей смерти они открывают живое незнание, необозримое пространство незнаемого, куда мы проникаем творчески или пониманием. Творческая свобода и свобода понимания настолько сродни друг другу, что вслед до Коллингвудом можно сказать: текст возникает не у автора, а у того, кто читает этот текст (подтекстом Коллингвуд понимал и музыку, и живопись, и собственно текст, и вообще всё сочинённое).
Мы в жестокой зависимости от мёртвых знаний, да. Масса знаний фундаментальней и основательней, полней любого понимания, да. Но понимание, в силу своей эфемерности, зыбкости, трепетной сиюминутности и, главное, бесконечности, дарит нам надежду на освобождение от гнёта знаний.
В иудаистской традиции есть фиксация интерпретаций каждого слова Торы. По поводу этой интерпретации пишется и тем фиксируется следующая и т. д. каждое священное слово обрастает по кругу (периметру) всё новыми и новыми интерпретациями — и этот шлейф накапливается с веками и тысячелетиями и никогда не может быть закончен, не может омертветь, он открыт и свободен для новых толкований.
Воля
Свобода носит всеобщий, безличностный характер. Она, вообще, кажется, возникла до человека и лежит в основании мироздания — по крайней мере, в это хочется верить.
Воля — это редукция идеи свободы до индивидуальности. В этом смысле воля может быть даже противопоставлена свободе (Бердяев).
«Мир есть воля и представление» — утверждал крайний индивидуалист Шопенгауэр. Но мир есть также воля и понимание. Мы вольны в понимании мира и потому владеем им: в силу своей воли и своего понимания. В конце концов, мир таков, каким мы его понимаем и потому каждый живёт в своём мире, свободный от всех других миров, существовавших, существующих и будущих существовать. Мир каждого из нас — свободный мир, будучи нашей волей и нашим пониманием его.
Причинность
Вот ещё одна пута рабства — причинность, детерминированность всего окружающего. Пророк этой несвободы, Аристотель, именно этим и скучен.
Спонтанность, в том числе спонтанность нашего понимания (ага-эффект понимания) освобождает нас от причинности и объяснимости всего и вся причинами и следствиями. Это является также деятельностным основанием: понимание позволяет нам формировать цели и видеть мир телеологически. Мы действуем (=ставим цели и реализуем их) в силу и меру своего понимания. И это делает нас также свободными от унылой причинности действий муравьёв, пчёл, саранчи и других стайных насекомых.
Вера
Вера несовместима с пониманием и свободой: «неисповедимы пути Господни», а, следовательно, и непонятны. Не зря те, кто верит, называется себя рабами Божьими, и стремятся к этому рабству как блаженству. Их кредо — «верую ибо абсурдно» (Тертуллиан). Но тут следует, на наш взгляд, различать верящего и верующего. Верящий, то есть уверовавший бесповоротно, в понимании не нуждается, а потому любые толкования отвергает, кроме канонических. Верующий ещё идёт (бредёт) к своей вере, ему ещё доступны сомнения, борения, непонимание и понимание, он ещё не в Боге и свободен в этой своей покинутости Богом. И в этом своём искании Бога он должен придерживаться завета «И помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой» (Вт., 8:2), потому что это путь рабства и утери свободы.
Ноябрь 2015
II. О Мышлении и Деятельности
Мышление: логика и онтология
Большинство людей уверено, что мышление — функция мозга и располагается именно там, несмотря на очевидность трепанаций и вскрытий, ни разу не обнаруживших там ни одной мысли или даже ее обрывка или обмылка.
Мозг наш, по сравнению с любым пентиумом, вещь глупенькая и примитивная. То, что компьютер порожден нами, вовсе не свидетельствует о превосходстве мозга над ним: ведь в компьютере заключен труд и достижения многих людей, даже поколений людей, компьютер — плод коллективных усилий.
Мыслишки наши короткие и, несмотря на призывы буддистов поддерживать в себе каждую мысль хотя бы в течение одного вдоха, судорожно мелькают с частотой испорченного осциллографа. Чтобы как-то упорядочить этот поток мы придумали письменность, растягивающую мыслительный процесс в действительный процесс, а не мелькание чего-то там. И все первые писатели по большей части были мыслителями, философами, мудрецами, а остальные пишущие были поэтами, презренными Платоном.
Существует, как мне кажется, некоторый Разум, называвшийся тем же Платоном миром идей. Мысль человеческая способна проникать в этот мир. И способом проникновения является мышление: по каналам или каналу логики мы проникаем в этот мир и видим там некую онтологию, картину мира, даваемую нам именно как картина, как некое озарение, образ — и чем это не наше, тем убедительней и очевидней, тем истинней.
Или — мы получаем эту картину интуитивно, трансцендентно, а затем начинаем выстраивать логические каналы и мосты, объясняющие нам эту картину.
И все это проходит в некоторой коммуникации, выразимости, пусть даже это коммуникация с самим собой, с собственным двойником и отражением. Собственно, так и действуют писатели, художники, музыканты и т.п., используя свои специфические средства коммуникации — слова, краски, звуки…
Однажды в аудитории, по привычке болтая о том о сем (бесцельная, без нажима и продавливания учебного материала коммуникация — лучшая среда для обучения), я предложил своим студентам расставить по порядку значимости прилагательные к некоему, неизвестному существительному: сначала на английском языке (а я — на русском), а потом — как им кажется этот порядок в русском языке. Так как это был экспромт, то я набрал всего 11 характеристик, и мы приступили к работе, но не на абстрактном уровне самих характеристик, а на их конкретных примерах (например, цвет — белый, размер — большой, и т.д.).
Вот, что у нас получилось в результате 10-минутных размышлений (тут важна спонтанность решений):

Фактически в американской и русской картинах мира совпадают и близки такие свойства, как материал (деревянное, железное), поверхность (гладкая, шероховатая) и такие утилитарные качества как назначение\функции (военное, транспортное) и возраст (старое, молодое). И это не очень интересно.
Гораздо интересней то, что для них совершенно неважно сравнение (похожесть, непохожесть) с другими вещами и объектами, а для нас, обладающих весьма синонимичным языком это весьма существенно. Еще разительней расхождение в удаленности (далекое, близкое) — ведь для нас это, прежде всего мера доступности, а в американском сознании, отравленном развитыми инфраструктурами, нет проблем доступности.
Зато американцам очень важен вид объекта (красивое, некрасивое) — они сразу делают его оценку, а, следовательно и устанавливают цену как меру привлекательности. Для нас же это — дело личного вкуса и потому в коммуникации не главное.
Любопытно также, что для американцев цвет гораздо менее важен, чем для нас, живущих в довольно сером и унылом, монотонном мире.
Надо также заметить, что американцы предполагают в нас гораздо большую идеалистичность (пренебрежение материалом) и (вот парадокс!) большую практичность (ориентированность на назначение и функции) в сравнении с собой и с тем, как оно есть на самом деле.
Наш эксперимент у доски с тремя рядами липучих бумажек затянулся: выстроенные спонтанно ряды теперь требовали логических обоснований.
Что касается американского мнения о нашем порядке прилагательных, то тут все достаточно просто: они просто вспоминали разные примеры из учебников и тупо воспроизводили их — а как еще они могли действовать? Собственные же онтологии мы вынуждены были доказывать и объяснять друг другу.
И тут я обнаружил, что при всех онтологических различиях мы имеем общую, взаимопонятную логику. «Эге» — подумал я, «если у нас столь похожие логики, то именно они и являются главным обучающим средством». Я высказал это соображение своим собеседникам, и они радостно закивали головами: «Да, да, когда что-нибудь объясняют и становится понятным, оно сразу и надолго запоминается, даже если это одно из многочисленных исключений из правил». «Тогда давайте забудем о правилах — все равно в русском языке очень много неправильного и во всем сплошные исключения, совсем как в английском (они засмеялись, не веря в это), и будем впредь только объяснять непонятное».
И мы перешли к другой игре в русский язык, а я еще раз убедился, что и онтология внеположена относительно каждого (ведь студентов было несколько и они практически не спорили, что за чем идет в их родном языке) и уж тем более логика отстранена от нас (ведь обсуждали мы свой выбор, будучи разноязычными), но и то и другое дается нам в коммуникации.
Работы с будущим
Данный текст возник на методологическом семинаре в Сан-Франциско и представляет собой некоторое обобщение опыта работы с работами с будущим. В этом смысле текст почти лишен новизны и представляет собой скорее типологический или конструктивный интерес. Понятийный аппарат здесь — в традиционных методологических рамках и потому не особо нуждается в литературных ссылках и ссылках на источники.
Прежде, чем обсуждать основные виды работ с будущим, следует ввести одно рассуждение, делающее всякие попытки и поползновения таких работ сомнительными и чреватыми.
Всякая деятельность использует некий исходный материал: ту часть материала, что непосредственно включена в деятельность, принято называть ресурсом деятельности. Ресурс может быть точно описан количественно, качественно и по границам своего существования. Резерв — та часть исходного материала, которая также известна (быть может, не так хорошо и точно, как ресурс), но которая лишь ожидает своего включения в деятельность. Наконец, имеются слабо изученные и нелокализованные запасы будущей деятельности
Вместе с тем, результаты деятельности также дифференцированы: имеются целевые продукты деятельности, точно соответствующие ее цели (например, при добыче нефти целью является сама нефть), побочные продукты (попутный газ, сера, парафины и тому подобное), которые не входили в цели и получены по совокупности. Побочные продукты рано или поздно находят себе применение и даже способны заменить собой целевые. Наконец, имеются разнообразные и многочисленные последствия (негативные результаты), предсказать которые или даже локализовать заранее их проявление весьма затруднительно.
Из этого рассуждения имеются два основных вывода:
— всякая деятельность происходит в ущерб запасов других — существующих или возможных деятельностей
— всякая деятельность имеет последствия, выходящие за рамки этой деятельности.
Из этих двух выводов, в частности, вытекает вся экологическая проблематика, интерпретируемая не как конфликт между природой и обществом, а как конфликт деятельностей: прошлых, настоящих и будущих, но разворачивающихся в единой среде.
Любая работа с будущим проспективно рефлексивна. Основные различия между важнейшими типами работ с будущим представлена в следующей таблице:
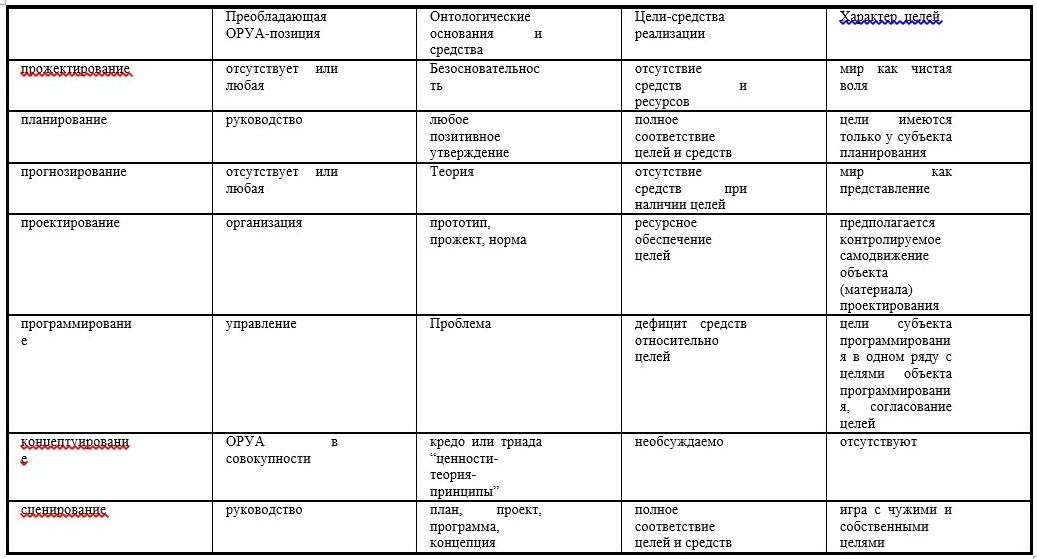
Прожектирование
Прожектирование обладает максимальной креативной способностью. Прожектирование обычно входит в проект как его онтологическая составляющая, а может также использоваться в организационно-деятельностной технике при мозговых атаках или в процедуре распредмечивания, освобождения от рутины и догм. Прожективное мышление в обычной среде подавляется здравым смыслом, рассудком или директивно-репрессивными средствами, однако в предпринимательской деятельности и любых видах творчества прожектирование и необходимо и неизбежно.
Планирование
Планирование предполагает, что только субъект планирования обладает целями, волей и самодвижением, собственно, всеми интеллектуальными способностями, объект же планирования либо лишен этих качеств, либо их можно игнорировать. Разумеется, при этом, что цели планирования лежат вне объекта планирования. Эффект планирования прекрасно описан А. Платоновым: можно заставить людей быть всех счастливыми, даже если они этого не хотят. Планирование, таким образом, всегда есть некоторое уравнение, выравнивание материала, придание ему гармонического однообразия, иными словами — опошление материала до представлений планирующего. Ленин, например, вел расчеты сроков реализации плана ГОЭЛРО и построения социализма в лопато-часах трудовых армий. Так, например, районная планировка, как вид работы над территорией, выродилась в монотонное выравнивание и типизацию жизни, не взирая на всякие географические и исторические различия.
Планирование — вполне допустимый вид социальных работ: врача в реанимационном отделении, командира — во время боя и в ряде других случаев.
Проектирование
Проектирование предполагает некоторую степень самостоятельности и самодвижения материала: старения строительных материалов, взросления людей и даже социальные изменения.
Проектирование включает в себя не только представление о проектируемой деятельности или жизнедеятельности, но также представление о том, как осуществить, реализовать эту деятельность. При этом проектируемая деятельность включается вовнутрь реализующей ее деятельности. «Что» включается в «как» и, следовательно, зависит от этого «как»: как построим дом, так и будем в нем жить: с недоделками, протечками и прочими неудобствами или, наоборот, в привилегированном и престижном доме мы будем вести привилегированную и престижную жизнь: под охраной и с пальмами на лестничной площадке. Советские люди за полвека жизни на Карельском перешейке так и не смогли приспособиться к финскому образу жизни, заложенному в проект жилья — мызы, а советские коровы вешаются от тоски и шизофрении в немецких коровниках Восточной Пруссии: они чувствуют себя в этих просторных стойлах скорее шавками, чем коровами.
Наличиеуказанных двух представлений у проектировщика необходимо для оценки как реализации проекта (относительно этих представлений), так и самих представлений (относительно реализации). Это, собственно, либо печально знаменитое «хотели как лучше, а получилось как всегда» либо еще более знаменитое «хорошо» в конце каждого дня творения: хороши, по мнению Создателя, и проект мира и ход его реализации и сама реальность.
Исходя из различий этих представлений, имеются три основные типа проектирования:
Прожективное проектирование
Наиболее мощный по своей креативности тип проектирования, не опирающийся и неоглядывающийся на ресурсы, их наличие и качество, либо исходящий из предположения их бесконечной неисчерпаемости. К такому типу проектирования относится «линия Ниццоли» — дизайн-идея, завоевавшая практически всю сферу современной технической цивилизации. Сюда же можно отнести и все сотворенное Гауди, особенно «Саградо Фамилиа» в Барселоне. Прожектированиие как самостоятельный жанр работы с будущим в свое время был осмеян, опозорен и выкинут: теперь мы, в основном, перелицовываем старые идеи и анекдоты.
Нормативное проектирование
Данный вид проектирования почти напрочь отметает творчество и утверждает примат норм и нормативов предыдущей или действующей культурной парадигмы. В рамках одной культурной парадигмы этот вид проектирования вполне оправдан, но перестает действовать и становится бессмысленным при серьезных социальных изменениях или смене культурных стилей. Буржуазное жилье, доставшееся советской власти, оказалось невыносимо для Шарикова и Швондера, советские нормативы жилья превратили все советское жилье в трущобы всего за одно десятилетие постсоветской жизни.
Доведенное до догматизма, нормативное проектирование способно творить чудеса, включая анатомические: согласно рекреационным СНИПам (строительным нормам проектирования) сутки отдыха составляют всего 16 часов, а на одного отдыхающего должно приходиться 20 погонных сантиметров пляжа независимо от ширины пляжа и конфигурации рекреанта.
Проектирование по прототипам и шаблонам
Наиболее распространенный и все более утверждающий себя в технологизированном и компьютеризированном обществе способ проектирования. Очень удобен и безошибочен (все уже проверено и апробировано), обладает всего одним и мало заметным недостатком: ничего нового.
Проектирование за счет своих реализаций представляет собой рефлексивное средство воспроизводства и социо-культурной трансляции, равномощное образованию.
Программирование
Программирование смиренно предполагает, что объект программирования одновременно является и его субъектом, что его цели не являются в программируемой ситуации доминирующими и даже основными, что навязывать свои цели никому не удастся и что, следовательно, речь может идти только о согласовании целей, даже если они противоречивы и взаимно исключают друг друга.
Как осознанный жанр, программирование возникло в начале Первой мировой войны, когда немцы, минуя спасительную для французов линию Мажино, устроили полный хаос: командование французской армии, разобщенное с правительством и собственной армией, потерявшее контакт соприкосновения с противником, оказалось в полном неведении, в информационном «молоке» и густом тумане непонимания ситуации.
Шаг за шагом, грамм за граммом, французский генштаб выпутывался из сложившейся ситуации. Заодно нашлись достаточно умные и рефлектирующие головы, зафиксировавшие основные шаги программирования, важнейшими из которых являются:
тематизация (определение границ и жанра ситуации)
ситуационный анализ — восстановление картины попадания в ситуацию, оценка основных позиций и позиционеров, включая, естественно, собственную, их целей, оснований, связей между собой и взаимоотношений
анализ ситуации — поиск выхода или разрешения ситуации, движения в ней или из нее, ядерное и рамочное самоопределение в ситуации (кто мы и где мы в ситуации)
целеполагание — постановка целей
поиск средств реализации целей
проблематизация — установление несоответствия средств целям или недостаточность средств относительно целей (об этом — чуть подробнее далее)
перевод проблем в задачи
планирование как установление алгоритма решения задач, последовательность ходов, действий и решений.
Ключевой процедурой програмирования является проблематизация.
Слово «проблема» означает по-гречески «камень, брошенный впереди себя».
После крито-микенской катастрофы, вошедшей в историю как Всемирный потоп и гибель Атлантиды, Пелопоннес освободился от людей и следов цивилизации. Новые люди двинулись на пустующие земли. Они шли из северного Причерноморья, мест степных и просторных, солнечных. И путь их лежал по перевалам гор, по ущельям, порой в облаках и туманах. Самым опасным и туманным был Олимпийский перевал. И каждый нес свой камень, бросая его впереди себя, чтобы узнать по звуку камня, что же там впереди. Если человек слышал звук камня, он шел вперед, если нет — он останавливался: впереди пропасть, обрыв, провал. Но — где впереди? В двадцати шагах? В десяти? В двух? Следующий? И куда сворачивать: вправо или влево? — В этой драматической ситуации (назад дороги также нет!) ничего другого не оставалось, как ждать… чего? — озарения молнией. Частые грозы у Олимпа с его причудливой фаллической формой сделали это место не только страшным, но и чудесным. Так возник образ бога-громовержца, отца и спасителя людей. Так впервые была решена проблема как работа с будущим, очень коротеньким, но опасным. И мы до сих пор так и решаем проблемы — в ожидании озарения, потому что назад, в прошлое, дороги нет, а вперед — страх не пускает.
Программирование может начинаться в любом месте и на любом шаге. Более того, оно имеет еще три вектора разворачивания:
— каждый шаг после своего завершения вызывает необходимость возвращений к предыдущему или предыдущим шагам: ситуационный анализ порождает новую тематизацию, анализ ситуации — новый ситуационный анализ и тематизацию: программирование идет не только по вертикали, но и по горизонтали — до бесконечности
— в пределах каждого шага необходимо проделать все шаги программирования: тематизацию ситуационного анализа (например), сит. анализ сит. анализа, анализ ситуации в сит. анализе, целеполагание в сит. анализе и т. д.
— кроме того, имеется такое направление программирование как «тематизация темы», «тематизация сит. анализа», «тематизация анализа ситуации» и так далее.
Таким образом, задается четырехмерное пространство программирования, при этом один из векторов этого пространства бесконечен. Программирование превращается в процесс, разворачивающийся сам собой и обладающий мощным рефлексивным потенциалом управления и соорганизации.
Прогнозирование
Жанр прогнозирования уместен тогда, когда имеются лишь цели, но, относительно объекта прогнозирования, средства решительно отсутствуют или неадекватно слабы. Таковы, например, прогнозы погоды, прогнозы отдаленных событий или событий в местах и странах нам недоступных.
Прогнозирование — и это отличает его от пророчеств, прорицаний, предсказаний, предвидений, ясновидения и прочих чудесных, а потому не поддающихся рефлексии видений будущего — базируется на теории, неважно, это правильная или неправильная теория. Существует, например, в метеорологии теория западного переноса воздушных масс и, исходя из этой теории, строятся прогнозы погоды, в частности, ожидается прибытие в Европу циклонов, зарождающихся в Карибском море, а в Калифорнию — тихоокеанских циклонов.
Отсутствие теории обрекает прогнозирование на простую экстраполяцию и вероятность: если вчера был день, то день будет и завтра, что не всегда очевидно. Действительно, вероятность наступления дня завтра весьма высока, но не потому, что день был и вчера: вероятность не дожить до завтрашнего дня у столетнего старика гораздо выше, чем у годовалого младенца, хотя статистический ряд явно на стороне первого.
В социальной среде прогнозам свойственно самооправдание, самореализация: достаточно объявить, что завтра кончится сахар — и он кончится, будет раскуплен уже сегодня. Порой прогнозирование играет с нами дурные шутки. На заре инфляции, когда никто ничего не понимал ни в рыночной экономике, ни тем более в российской «рыночной» экономике, газета «Коммерсантъ» регулярно публиковала прогноз курса доллара относительно рубля, исходя из каких-то своих представлений об этом. Удивительным образом прогнозы эти сбывались с необыкновенной точностью, пока один из начальников государственного банка РФ (тогда единственного биржевого продавца валюты и одновременно главного покупателя, которому принадлежало до 70% покупок) не признался, что на валютных торгах они устанавливали цены в соответствии с прогнозом «КоммерсантЪ» «а, так как никаких других оснований для цены не было.
Эта особенность прогнозов чуть не сделала их тотально бессмысленными (для социальной сферы), однако именно благодаря свойству самореализации прогнозы в настоящее время остаются на вооружении. Стало понятно, что их задача — вовсе не угадывание предстоящего состояния или события, а мобилизация людей. Для этого достаточно, чтобы прогноз был негативным и даже мрачным: «будущее будет не так плохо, как кажется, а гораздо хуже». Прогнозы, сделанные в начале 70-х годов в нашумевшей книге «Пределы роста» благополучно не оправдались, но породили ресурсосберегающие технологии и идеологии, экономическую политику регулирования добычи и потребления нефти и других природных ресурсов, сильно продвинули экологическое сознание — в планетарном масштабе.
Концепция
До сих пор речь шла о целенаправленной работе с будущим, хотя место и значение целей субъекта постепенно, от типа к типу, менялись и девальвировались. Концепция — принципиально нецелевая работа с будущим.
Основанием концепции является либо кредо — некоторое утверждение, символ веры, непререкаемая и неусомневаемая истина, нечто, что не поддается рефлексии и анализу, но обладает невероятной силой убеждения: «аз есмь!» — утверждает христианин, и с таким же пафосом парторг вторит ему: «есть такое слово — надо!», демократ же шепчет распухшими от дефолта губами: «рынок» или что-нибудь похожее про приватизацию и свободу.
Альтернативой кредо в основании концепции может выступать триада «ценностные установки-принципы-теория». При этом ценностные установки обычно задаются негативным образом — запретами или ограничениями (например, девять из десяти заповедей имеют негативный характер). Среди принципов выделяется доктринальный, выступающий некоторым стержнем всей концепции. Так, концепции буддизма и медицины строятся на доктрине невреждения, христианство — на доктрине непротивления, иудаизм — на доктрине исключительности. Наконец, теория (или теоретическая модель) есть доведение, редукция кошмара реальности до идеального объекта, с одной стороны, вполне (достаточно и сносно) описывающего реальность, а с другой — внутренне непротиворечивого. В отличие от кредо, каждый элемент данной триады рефлектируем и усомневаем субъектом концепции.
На одном из двух указанных оснований строится замысел — ключевое содержание концепции, предъявляемое и для «внутреннего пользования», конфиденциально привлекательное, и обольстительное для внешних потребителей концепции. Замысел концепции — и это понимают все — гораздо праздничней и нарядней, чем унылый результат реализации замысла, но — если уж замысел сер, то чего ждать от его воплощения? Замысел, таким образом, играет роль стимулятора взаимного интереса к концепции.
Концепция имеет два необходимых продолжения: первое — стратегия, строящаяся на этой концепции, а также политика, являющаяся системой действий, окрашенных концептуально и вместе с тем (только здесь, в политике!) целенаправленных. Это — техническое, искусственное продолжение концепции. Второе — естественное, представленное кортежем прогнозов, а именно:
онтологическим прогнозом (прогнозом того, что нас ждет впереди в рамках данной концепции)
функциональным прогнозом (в рамках чегореализуется концепция)
прогнозом последствий реализации концепции
Разумеется, все три типа прогнозов строятся на той же теоретической базе, что и вся концепция. С точки зрения искусственно-технического продолжения концепции прогнозы выступают в качестве мониторинга, сопровождения, позволяющего корректировать цели, политику и даже усомневать избранную стратегию, а, следовательно, и всю концепцию. Таким образом, концепция имеет в самой себе механизм рефлексии оснований, замысла и реализации концепции.
Сценирование
Сценирование — социальное, персонифицированное (либо разложенное по основным социальным позициям и группам) воплощение всех предыдущих типов работ с будущим (за исключением прожектирования). Жесткость сценария определяется типом предваряющей работы: сценарий плана — жесткая ролевая конструкция, прогнозный сценарий — вариативен и версиален.
«Когда нечего сказать о настоящем или о настоящем нечего сказать хорошего, власти начинают строить будущее» — за этим горьким признанием стоит печальный опыт десятилетий советского унылого настоящего. Но — вот погасли последние лучи надежд на будущее, и страна, ее люди погрузились в тусклый мрак безнадежности. И все стало гримасой. Сознание устроено спасительным образом: оно окрашивает прошлое и будущее в более теплые и светлые тона, нежели настоящее. Работа с будущим спасает и оправдывает настоящее, как бы ни невыразительно оно не было бы.
В рамках рефлексивного оргуправления (менеджмента) работа с будущим является не только необходимым сопровождением управленческой деятельности, но и обеспечивает мотивационный слой деятельности.
Ирония идеализации
Идеальный объект — это, собственно, единственное, что мы видим, сумрачно, чаще всего исподлобья и напряженно вглядываясь в реальность. Суть вещей нам не дана не только в силу своей сомкнутой и закрытой для нас сущности, но и, прежде всего, благодаря нам самим. Мы просто сами так устроены, что, в отличие от животных, видящих только реальность, в состоянии идеализировать, только идеализировать, и, увы, ничего кроме, как идеализировать. Более того, мы предназначены для этого. И лучшие, самые вдохновенные наши проникновения в реальность — наши мысли и чувства, облеченные в формы мастерства: мастерства мышления, говорения, писания, живописания, цветового и звукового выражения. Именно в искусстве, философии, литературе, науке мы ближе всего приникаем к реальному, до которого остается — всего лишь тончайшая, прозрачнейшая пелена нашего несовершенства. Реальность почти достижима — в глубокой и тщательной медитации (как учат дзен буддисты: скосив взгляд глубоко в сторону и сильно поглупев). Порой она дается в пророческих озарениях и видениях святым — но нам, простым, не понять ни этих пророчеств, ни этих видений и явлений.
Тут, в поисках реального, мы приближаемся к Богу и одновременно — именно тут, в наномикроне от реальности, останавливаемся в своей невозможности достичь реальное и Бога. Мы одновременно — подобны Ему в своей способности к идеализации и бесподобны Ему же в недостижимости нами реальности сквозь тончайшую плевру идеального.
И, так как это постижение и полное Богоподобие недоступно нам, то не стоит это и обсуждения. Гораздо интересней и, возможно, продуктивней, размышлять о той части нашего с Ним подобия, которое доступно, об идеализировании, о том, что мы, как и Он, способны идеализировать — ведь с этой способностью мы, возможно, единственные во всей Вселенной, кто противостоит материализации Вселенной, ее уничтожению.
Самой первой, но вовсе не наивной и примитивной идеализацией был сам Бог. Собственно, именно эта идеализация и явилась первым актом антропогенеза. Обожествляя человека (собственных предков), человек, начиная с себя, стал обожествлять, идеализировать весь окружающий его мир, ойкумену, наделяя духовностью живое и неживое, включая занимаемое им место и даже собственные средства (огонь, орудия и т.п.). Язычество, идолопоклонничество — не только идеализации, это — попытки выделения и даже материализации идеальных объектов, символизация мира, кодирование-раскодирование мира.
Следующим этапом в наращивании человеком своих идеализирующих возможностей стала математика.
Древнейшая математика имела несколько функций.
Первая из них — счет. При этом, вероятно, начинался счет с бесконечности: греческое слово, соответствующее русскому «раз», означало прибой, удар которого («раз») и был единицей бесконечности. Счет потребовал символизации считаемого. Так, например, символами считаемого скота стали мелкие камушки, практика счета которыми привела к абаку. В империи Чиму (Ю. Америка) роль камешков играли узелки — узелковый счет привел к созданию здесь счетного инструмента, очень похожего на греческий абак. Деньги — в чем бы они не исполнялись (в ракушках, в металле, сушеной рыбе, рисовых зернах, мелкой рогатой скотине или еще как) — также не более чем символы вещей, превращающие эти вещи в товары.
Другой функцией математики стала мера и измерения. Фалес собственной тенью измерил высоту египетских пирамид, решив задачу о подобии треугольников. Астрономические, строительные и геометрические измерения долгое время были не только доминирующими, но и тесно связанными между собой (индусские звездочеты, египетские жрецы, знаменитый мегалит в Ирландии, майянская астрономия, непревзойденная до сих пор, Наска и т. д. — все это одновременно и математические чудеса строительства и астрономии и геометрии и еще сакральные чудеса).
Математике довольно быстро, в историческом масштабе, приписали возможность описания: времени (календари и летоисчисления), пространства (картография и геометрия), различных явлений и процессов в природе (физика) и т. п.
Математика выполняла онтологическую функцию, например, в работах Пифагора и его учеников, Платона, считавших, что число есть универсальное и идеальное отражение мира, видевших сакральную суть чисел.
Наконец, Эвклид ввел в математику (геометрию) первый идеальный объект: геометрическую точку, что позволило ему установить постулаты, легшие в основание всей геометрии.
Последние три идеи о математике и ее функциях сыграли решающую роль в формировании всей науки и всего современного мировоззрения. Теперь нам уже, кажется, невозможно и даже самоубийственно опровергнуть онтологичность математики и ее способность описать мир: мы прошли только этим путем, даже не пытаясь поискать иной или иные. Мы даже не знаем, насколько математика тупикова и тупикова ли вообще. Мы встали на этот каббалистический путь, а, скорее всего, даже не встали, а были поставлены — по крайней мере, отсутствие рефлексии математики свидетельствует оее вмененности нам.
Отсутствовала эта рефлексия и у Галилея, а потому его самое фундаментальное допущение таково: если мир описуем и онтологизируем математически, если математика породила идеальные объекты, то и физика (а за ней с очевидностью и все остальные науки) может иметь идеальный объект и что это угодно Богу, непротивящемуся математизации Его мира. И Галилей построил для механики идеальный объект и тем сделал физику наукой и тем открыл возможности для всех остальных наук стать науками.
И мы хлынули в открытый им шлюз.
И даже такая наука как история, которую, пожалуй, труднее всего признать за науку (в галилеевском смысле), смогла найти свой, пусть убогонький и щербатенький, но идеальный объект — марксисткий «способ производства».
Энтузиазм, охвативший нас, принявших методологию науки Галилея, застил нам то, что увидел и понял сам Галилей.
В своих диалогах об идеальном объекте он, помимо всего прочего, несколько раз говорит о том, что идеальный объект ироничен относительно реальности, что, в сравнении с идеализируемой реальностью, идеальный объект — неумелая и грубая игрушка, покалеченное и убогое создание, скорее жалкое и жалобное, чем возвышенное. В этих предупреждениях Галилея мне слышатся весьма тихие, но сомнения в правомочности математики описывать собой и своими средствами физические явления, природу. Несмотря на всю видимую красоту математических формул и не менее математических доказательств, у нас, по-честному, в глубинах совести все еще теплится тревога: а не надуваем ли мы самих себя и мир этой математикой? И «е равно мц квадрат» — не жульничество ли наше, не лукавство ли это очередной псевдоистины вроде непересекающихся параллельных и 180 градусах в любом и каждом треугольнике?
Предостережения об идеальных объектах как иронических и уж, конечно, невсамделишных, исходят не только от Галилея. Мы встречаем их, например, у Эйнштейна и Лефевра — людей неисправимо честных, не склонных и не умеющих подшучивать и мистифицировать. То, что нас порой коробит от их идеализаций, кажется им естественным — их, кажется, и самих порой коробит от собственных креатур. Тензорное счисление и булева алгебра — те ли это средства, которыми можно проникнуть в суть природы? Не оказываемся ли мы опять на ложном пути бесконечного приближения к истине (ложного не по своему направлению, а по бесконечности этого пути)?
Но если все это так, то теперь можно произвести простое оборачивание, можно вернуться к нашему подобию Богу, ведь, если мы подобны Ему, то и Он подобен нам. И, стало быть, его способы идеализации таковы же, как и наши, а его идеальные объекты по природе своей ироничны, подобно нашим. Коль скоро наша способность к идеализации такова, то такова она же и у Того, чьим подобием мы являемся. Если рассматривать Библию, точнее, Пятикнижие, точнее Бытие («Генезис») не как исторический документ, а как проект (ведь «в начале было Слово», не правда ли? Сначала — проект сотворения мира, потом — само творение, иными словами — реализация идеального продукта, проекта) И это значит, что повторяющееся «И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1.10, 1.12, 1.18, 1.21, 1.25, 1.31) надо читать и понимать не в ретроспекции, а как проспективное (относительно реализации) видение, но — в ироническом залоге и смысле, что реальность, может быть и хороша, но только после ее иронической идеализации, что вселенское счастье, построенное на слезинке замученного ребенка, существует и заставляет содрогаться нашу совесть.
На пороге
Из мании не величия, а скорее уничижения, эти размышления представлены от первого лица единственного лица, но имеют, как кажется автору, не только индивидуальное значение.
В первой половине 80-х годов ММК вышел на проблематику управления и вскоре обнаружилось, что методологические идеи оказались весьма созвучны американским, в частности, идеям Расселла Акоффа (речь, прежде всего, идет о его «Планирование будущего корпорации»), настолько созвучны, что Г. П. Щедровицкий стал говорить «о заочном братстве», американском двойнике ММК. Это было удивительно по двум причинам:
— методологические разработки носили, в основном, негативисткий характер, в противовес и в критике господствовавшего в СССР жесткого иерархированного руководства,
— практики управления и менеджмента в стране не было, и все построения методологической школы носили сугубо теоретический характер.
Как и многие другие, я с энтузиазмом включился в пропаганду идей управления, не всегда отчетливо осознавая, где тут собственно разработки ММК, а где — перенос американского опыта. По сути, я транслировал некий теоретико-импортный гибрид, возможность интродукции которого на советскую почву и тогда казалась сомнительной и сейчас явно невероятна, несмотря на более чем десятилетнее вторжение западных технологий управления в Россию.
Теоретическое искажение реальности, интродуцировавшееся в социум, усугублялось тем печальным обстоятельством, что, в подражание авторитарной манере своего учителя, я «продавливал» идеи вовсе не управленческим образом.
Что же представляли собой идеи и идеология «ОРУА» — организации, руководства, управления и администрирования в моем исполнении?
Организация как работа с целями, их постановкой, установлением несоответствий средствам, реализацией требует, прежде всего, использования возвратных глаголов, которых я тщательно избегал. Все эти процедуры целеполагания, самоопределения, распредмечивания — процедуры, диктуемые вовне, но не себе. По сути, организация методологической и игротехнической работы — лишь симуляция организации, к тому же весьма эфемерная. Это почти неизбежно из-за масштабов игровой и методологической действительности. Цель, если это не симулятивная цель, — естественно-искусственное образование. Тут, как ни пыхти, а раньше положенных сорока недель бывает только выкидыш. Организация требует вынашивания, прежде всего вынашивания целей, а не целевые констралябии в первые два-три часа еще не развернувшегося действия.
В методологической и игровой практике фактически нет субъектности (не путать, пожалуйста, с самооценкой и самомнением, которых даже избыточно), и, вообще, рефлексивные (возвратные) глаголы неупотребительны. Если добавить к этому радостное осознание, что «на самом» не существует, что «объективного» нет (а его нет из-за отсутствия субъективного), что, как говорил незабвенный выходец из Пажеского корпуса, «раз государство навстречу нам пошло, и как пожелаем, так и сделаем», то Вороньи слободки палились напропалую и чуть не самовозгорались, но при этом ни одной новой и не строилось.
Отсутствие собственных целей носило стратегический характер: самодвижение и саморазвитие, характерное для изначальной истории ММК, превратилось в моей практике в перемещение по потоку весьма прихотливой истории отечественного «рынка»: регионализация (вплоть до отделения) — экологические акции — бизнес-школы — образовательные технологии — биржи — финансовые и торговые компании — политические технологии. Никаких заранее прописанных или пострефлексивно оправданных траекторий: меня так понесло по камням событий и ситуаций, что этот поток не становился для меня со-бытием (совместным с историческим процессом бытием) или даже ситуацией (актуальным пребыванием в потоке). В этом смысле ни я, ни окружающие меня не превращались в «истинный раствор», мы все суть взвесь, суспензия, порой весьма взбаламученная и пенная.
Этому есть некоторое, если не оправдание, то объяснение: борьба и противостояние советской организации, казавшейся устойчивой до неистребимости. Противостоять ей, выстраивая еще одного такого же организационного монстра? — И я с негодованием на эту мысль занимал позицию Давида перед орущим на все ущелье Голиафом.
Любопытно (хотя и логически, и психологически вполне оправдано), что отсутствие целей восполнялось мною прогнозами, пророчествами и прорицаниями, часть из которых не могла не сбыться — и это укрепляло в уклонениях от постановки собственных целей.
Руководство людьми, понимаемое не в советском духе: на площади рукой водит в разные стороны вождь, а в глубинах организации тов. Отделкадров и тов. Первыйотдел шьют на каждого дело), а как работа с персоналом по созданию комфортного психологического климата, работа с каждым по обеспечению профессионального и карьерного роста, поиски новых средств мотивации и другие, весьма сложные и тонкие работы, никак не вписывалось в жанр семинаров и игр, скоротечных и жарких, как сауна на поле Ватерлоо, как последняя стадия чахотки.
И, по невозможности такого руководства, я впадал в диктаторство, неотчетливо понимая и признавая причины этого. Диктаторство (и это прекрасно осознавали большевики) — продукт пролетности, нищеты, разгуливающей на свободе и шатающейся по свободе и от свободы. В отличие от предыдущих методологических генераций, за мной не стояло никакого методологического опыта. Методология выпустила меня на свободу, опыт же и любая другая интеллектуальная собственность — достижение и достояние каждого, предмет индивидуальной заботы. Тут ничего по наследству не передается и из рук в руки не дарится.
Воспроизводилось незабвенное: «с Лениным в башке, с наганом в руке». А вокруг — такие же оловянные солдатики мышления, бесшабашные и бесстрашные, «гвозди бы делать из этих людей, не было в мире тверже гвоздей», и мы — в одном строю, нас не остановишь и не запугаешь, и в трубу не заваришь.
Подмена руководства диктатурой — продукт освобожденной нищеты. Этому не только история ММК учит, но и история фашизма, история КПСС и Древнего Рима.
Управление процессами, протекающими в организации, прежде всего, рабочими процессами, в игротехнической практике приобретает весьма гротескные формы — и по вполне понятным причинам: игра — это, безусловно, имитация, но имитация не существующих, а предстоящих (или будущих) процессов, о которых управляющий (и по сути, только он) этими процессами имеет, в лучшем случае, теоретическое представление. Как результат, управление в игре сводится к манипулированию людьми. Для моей игровой практики характерно была поэтизация управления в худшем смысле этого слова, связанная с безответственностью и моральной вседозволенностью. Муки совести, порой глодавшие по этому поводу, развеивались успокоительным — «это только игра».
Если же брать по большому счету, то затоптанная в свое время дискуссия о возможности безобъектного управления потому и была затоптана, что отсутствует (до сих пор!) объект управления, потому что никто так и не захотел взять на себя ответственность, субъектность управления. Я безусловно, и безоговорочно понимаю необходимость этой ответственности, но взять на себя? — это мне просто непосильно. Если убрать все громкие слова, то в ММК раздастся полярная тишина безответственности, онтологической безответственности, безответственности сродни горбачевской и всех последовавших за ним реформаторов, и пьющих и непьющих.
Администрирование или нормирование и поддержание норм деятельности и\или организации — работа сугубо культурологическая. ММК выросло из революционного течения, по принципу отметающего и историю и культуру, ревизующего их (этим революции диаметрально отличаются от религий, ищущих свои основания аж в дочеловеческой истории). Администрирование по природе своей отметалось и отвергалось методологическим сообществом, важнейшей ценностью которого является независимость и свобода мышления. Увы, я попал в ММК, когда революционный пафос сменялся р-р-революционным, когда рефлексия почти утратила свою нормирующую функцию (зачем, если впереди все новое?). В проектном залоге нормативная действительность может выступать альтернативой онтологическим прожектам, но у меня, как и у многих, отсутствовало и отсутствует и то и другое.
Еще не перечитывая этот текст, я уже обнаружил попытку выдачи себе увесистой индульгенции: за словами проскальзывает утешительное «я как все или хотя бы как многие». Это действительно утешает. Особенно, если забыть, что рефлексия предполагает твое персональное одиночество и, следовательно, твою полную и неделимую ни с кем ответственность за содеянное, а больше, — за несделанное.
Что же дальше? — Самое простое, это поднять лапы и сказать «сдаюсь». Но говорить это некому и никто не жаждет брать в плен. Руки придется опустить. Я не знаю, я искренне не знаю, что же делать теперь. Возможно, только этот текст сейчас и нужен и единственно приемлем, возможно, с него все и начнется для меня — ведь «В начале было Слово»…
Аксиология информационного поля
Некий грек, еще не догадывающийся о собственной античности и древности, любил сидеть по вечерам на берегу моря, которому еще предстояло стать Эгейским, наслаждаться чистым, без тарелок и самолетов, закатом и накатывающими беспрерывными волнами. «Раз» — шептал он, — «раз, раз» (в основе русского «раз» лежит греческое слово, обозначающее «прибой») и его умиляла однообразная красота и бесконечность этих «раз». Говоря шершавым научным новоязом «раз» для него был мерой и единицей бесконечности.
А днем он работал у самого себя пастухом. Каждое утро он выпускал на пастбище из загона своих тощих овец и коз, вечером загонял из назад и, чтоб знать, сколько у него этой мелкой рогатой скотины, перекладывал из кучки в кучку камешки, прототип абака: один камешек — одна скотинка. Появилось знаковое замещение реального множества. Приговаривать при этом «раз, раз» ему, естественно, не приходило в голову, ему вообще счет был не нужен, пока не возникало несоответствие между количествами камешков и овец: то приплод появится, то животное пропадет. И тогда стали появляться камешки, получившие имена, символы — «один», «два», «три» — элементы считаемого подмножества несчетного множества.
Вечерние созерцания и ежедневный пересчет поголовья однажды совпали, и изумленный своей мудростью древний грек начал считать: «один раз, два раза, три раза», уже имея представление и о бесконечности воли и о подобии-бесподобии разных множеств (камешков и скотинки) и о том, что знаковая система есть критерий оценки реальной деятельности, а не наоборот.
Примерно в той же ситуации, как и этот ветхий человек, находимся теперь мы, попавшие в информационную революцию.
В бурном ходе этой революции идет гиперинфляция самой информации. С трудом верится, что всего десять-двенадцать лет назад шла ожесточенная борьба за право на информацию, против узурпации информации, против дезинформации, за авторские права на информацию. Ныне спрос на информацию уступает ее предложению на один-два порядка и более. Информационная лавина дискредитировала и обесценила саму информацию и лишь самые замкнутые восточные и южные провинции человечества еще сохраняют ценность информации, включая уголовную ценность. Информация перестала быть средством власти: российские властные структуры, например, и пользуются информационным мусором и распространяют вокруг себя информационный мусор, что не мешает им уверенно властвовать, что было бы невозможно при коммунистическом режиме.
Символом информационной революции стал Интернет.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
