
Бесплатный фрагмент - Моя ойкумена
Проза, очерки, эссе
Скачать:
Ойкумена Владимира Берязева
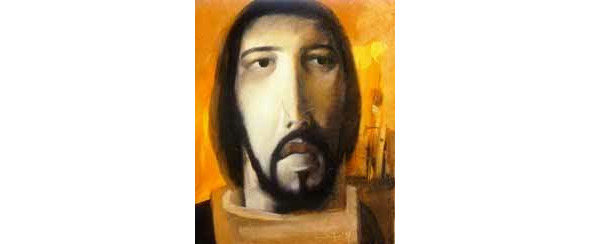
Имя Владимира Берязева современному читателю известно достаточно хорошо. Несмотря на относительную (по житейским меркам) молодость, работает он в литературе уже давно, интересно и плодотворно, и это, пожалуй, один из самых своеобразных и бурно развивающихся российских поэтов.
Родился Владимир Алексеевич Берязев в апреле 1959 года в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончил Новосибирский институт народного хозяйства, а затем и Литературный институт им. А. М. Горького. Работал ревизором-инспектором райфинотдела, газетчиком и радиожурналистом, был редактором популярной в свое время программы Новосибирского радио «Слуховое окно». Несколько лет руководил издательством «Мангазея» и Новосибирской писательской организацией. Был В. Берязев и директором государственного предприятия «Редакция журнала „Сибирские огни“», а позже и главным редактором оного.
А дебютировал В. Берязев на литературном поприще в августе 1982 года по иронии судьбы в подопечном ему долгие годы издании — в журнале «Сибирские огни». Через четыре года Новосибирское книжное издательство выпустило первую книжку его стихов «Окоём». Затем в Новосибирске вышли еще три: «Золотой кол», «Могила великого скифа» и «Посланец».
Едва ли не сразу В. Берязев заявил себя поэтом космогонических ощущений, эпического начала и глубокого исторического взгляда. В этих основных проекциях в дальнейшем и будет развиваться его поэтическое творчество, одной из краеугольных мыслей которого станет мысль о равновеликости мощи природы и человеческого духа. Ну а «безудержная солнечность пространства» послужит В. Берязеву тем незаменимым холстом, на котором под его пером возникнет не одна впечатляющая стихотворная картина.
И прежде всего — картины природы. Впрочем, на традиционные созерцательные описания «трав, деревьев, облаков» вокруг они не очень похожи.
Лирический герой В. Берязева с его космогоническим ощущением бытия даже в знакомом до боли пейзаже «лесостепного распутья» видит единую всего сущего в природе связь. А потому и не чувствует «четких границ между небом, судьбой и радостью, между песней и криком птиц».
Природу В. Берязев пишет, как правило, густыми, резкими и яркими мазками, тяготея к монументальным символам и метафорам, которые тем не менее, несмотря на их «глыбастость», свободно проникают в подсознательные наши глубины.
Но, возносясь в заоблачные выси, играя глобальными образами, поэт в то же время ощущает себя «до самого крайнего нерва», что он «частица земли», которой «лететь, но не улететь». Он вдыхает «сладость сырого утра» чувствует, как «к горлу подошли земные соки и земные силы».
Ему дано услышать «чистейший голос земли».
В то же время немало в его стихах и вполне конкретных — зримо и выпукло выписанных — примет и деталей того или иного состояния природы, которые не только не противоречат поэтическому космогонизму, но помогают лучше понять, как «рождается таинственная связь души с необозримым», постичь «тайную смежность почвы с небом».
И вот что следует отметить: многомерное и многоуровневое мироощущение В. Берязева прекрасно уживается у него с тем особо обостренным поэтическим чутьем, когда «дрожащие кончики пальцев/ чуют тяжесть далеких светил».
Такого рода «светочувствительная» обостренность восприятия определенным образом сказывается и на поэтике: причудливо химеричные зыбкие видения в ряде стихов, рожденные как бы на грани яви и бреда, чем-то напоминают истаивающие при приближении к ним миражи:
Процежен тишиной, рассеян и высок
Дымок рассвета. Вдох…
Как будто и не снилось,
Как тягостно и зло нагрузлой тьмы кусок
Давил, и все росло, и в воздухе носилось
То чувство, где близки и тьма и высота.
Ты грезил — ну, вот-вот, и то, что не бывало,
Свершится. И не сон, не бред, а маета
Металась в темноте, на части разрывала.
Как в женщине, в ночи почуявшей исход,
Когда живот, ожив, уж не удержит плода,
Тебе хотелось жить и вырваться из-под,
За грань удушья тьмы и временного хода.
В кромешности слепой до тошноты душе
Желалось претворить себя — превоплотиться!..
Кстати, способностью к поэтическому перевоплощению В. Берязев тоже не обделен. Лирический его герой предстает то в образе «хищной птицы», то рядового солдата «возле вечного огня», то превращается он «уже в водоворот»… И здесь не искусственные метаморфозы в русле сугубо формальных экспериментов, хотя поискам формы, технике стихосложения В. Берязев тоже уделяет немалое внимание. Здесь — естественное пульсирование той кровеносной образной системы, которая тесно связана с особенностями мироощущения поэта.
Воспринимая мир как единое неразрывное целое, лирический герой В. Берязева ключ к разгадке сути мироздания, помня «Пушкина добрый урок», ищет в душе человеческой. В постижении мира взор В. Берязева то и дело устремляется в глубины Времени. И не из одного лишь желания вдохнуть пыль веков.
Там, в многослойной толще эпох, пытается найти он ответы на некоторые сегодняшние проблемы, оказывающиеся на поверку вечными и непреходящими вопросами человеческого бытия. Как, например, этот вот: «В чем наша участь? / В том ли, что бьём колеи, / Веря и мучась?»
Чья участь? Да извечная российская наша геополитическая участь. Участь двуглавого орла, смотрящего в противоположные стороны света: Запад и Восток, в Европу и в Азию. Участь буфера, щита, этакой печи, переплавляющей обычаи, верования, культуры и менталитет разных народов. И не случайно, когда В. Берязев обращается к седой старине, в произведениях его возникают причудливые переплетения как мифологий разных континентов, так и реалий разных исторических эпох. Нагляднее всего, пожалуй, проявилось это в цикле стихотворений В. Берязева о Таврии:
…Мессершмиты, как осы, поют над дворцом Митридата,
И закатное золото гроздьями ткет виноград.
Пыль Европы и Азии смешана с кровью солдата:
Обелиски и кости на тысячи стадий назад.
…
Над лучом маяка полыхают небес аксамиты,
Мир навылет сквозит — грохот гусениц, топот подков.
Митридат упадает на меч…
И горят Мессершмиты…
В. Берязев, безусловно, не первый и далеко не единственный, кто через прошлое пытается что-то уяснить в настоящем. У русской поэзии в этом отношении существуют глубокие и прочные традиции, восходящие к фольклору и древней русской словесности, к «Слову о полку Игореве», в частности. А можно вспомнить и более по времени близкое: Пушкин, Блок, или, скажем, П. Васильев с Л. Мартыновым. Каждый из них в той или иной степени оказал свое воздействие на поэта Берязева. А с некоторыми (Блоком, прежде всего) ведет он своеобразную полемическую перекличку. Блок, как помним, горячо поддерживал идею особого мирового назначения России и верил в ее обновляющую революционную миссию.
А вот В. Берязев в стихотворении «Могила великогоскифа» миссию эту увидел уже иным, скорректированным трагическим опытом современной истории, взглядом.
Последний русский умер и зарыт.
А кем зарыт и как все это было —
Спросите у безродного дебила…
Придите все! Отныне путь открыт.
И вечный горб рассыпал позвонки.
И прочный герб распался на колосья.
От праха отреклись ученики
Под петушиных горл многоголосье.
Идите все и на, и за Урал!
Живой душой уже не залатаем
Простор, что нас воззвавши, нас попрал —
Пусть Дойче-банк братается с Китаем…
Оплачь наш опыт, старый человек.
Не обойди гигантскую могилу!
России нет… Лишь кружит многокрыло,
Как наши души, беспокойный снег.
России нет…
С «Могилой великого скифа» созвучно и стихотворение «Колпашевский яр», посвященное жертвам классовой борьбы.
Тени ледникового распада,
Крестоносцы классовой борьбы
Потекли из глины, тлена, ада…
Немо и далеко вдоль Оби
Плыли трупы…
Прошлое поплыло…
…
Волны века вымыли такое,
Что кренится русский материк.
Зато сегодня явный крен в другую сторону:
Товара нет и деньги отцвели.
Нет капитала. Нет рабочей силы.
И Бога нет.
И даже нет России…
И, задаваясь сакраментальным пушкинским вопросом «куда ж нам плыть?», В. Берязев с горькой усмешкой отвечает: «Похоже, в Сомали». Впрочем, и на западном направлении цивилизации В. Берязев Россию не видит. Зато дух Азии веками витает на ее просторах. Духом Азии пронизана и поэзия В. Берязева. Он ощущается как в типично азиатских пейзажах, коих немало найдется в его стихах, в характерных приметах и чертах, так и в различного рода историко-географических названиях, упоминаниях о великих деятелях культур и религий Востока, в изобилии рассыпанных по стихам В. Берязева.
А персонифицируется «дух Азии» у В. Берязева в фигуре Чингисхана («Чингиса дух меж нами жив…»). В великом древнем завоевателе поэт увидел некий объединяющий и цементирующий народы и культуры символ. Что, собственно, и постарался выразить в самом, пожалуй, своем объемном и значительном на сегодняшний день произведении — поэтическом сказании «Знамя Чингиса».
В содержательном плане — это рассказ о рождении, детстве, юности Тэмуджина (настоящее имя Чингисхана), о становлении личности великого воина, одержимого целью создать«неохватную Державу», о большой любви юноши Тэмуджина и девушки Бортэ, о ее похищении живущими у Байкала меркитам и и дальнейшем освобождении Тэмуджином своей возлюбленной в историческом бою, который положил начало знаменитым походам Чингисхана.
Чингисхан предстает в поэме В. Берязева как «Держатель мира», «величием дел» своих покоривший «народы и мненья», создавший и претворивший в жизнь суровый, но справедливый «закон Степи» («Ясу») — закон монолитного и могучего государства, краеугольную основу которогоб составляет триединство: «Честь, Хан и Держава»:
Закон этот будет для всех и для вся,
Как белый день, ясен.
Охватит мечом то, что делать нельзя,
Хаганова Яса.
Можно, конечно, спорить об исторической адекватности описанных в поэме событий и персонажей — и, прежде всего, главного ее героя, представшего перед читателем образом скорее мифологическо-символическим и романтическим, нежели строго историческим и реалистическим. Можно оспаривать и точку зрения автора, утверждающего, что «орда» — прекрасно организованное и крепко сплоченное узами морально-нравственных принципов и высших общественных интересов единство — своего рода образец прочной государственности. Следует, однако, учесть, что В. Берязев предлагает нам не исторический слепок, а свое художническое видение далекой эпохи, не строго документированное жизнеописание, а соответствующий собственному поэтическому ощущению образ-символзнамя. Знамя чего? Надо полагать — возрождения из социальных руин и объединения вновь в великую Державу. А это сегодня, между прочим, как и во времена Чингисхана, очень и очень актуально.
Впрочем, варианты прочтения поэмы «Знамя Чингиса» могут быть и другие. И хорошо. Значит есть над чем в ней подумать, есть простор для читательских фантазий и размышлений.
Но привлекает поэма не только своим идейным и социальным наполнением. Как произведение художественное, поэтическое она тоже очень своеобразна и оригинальна. Наверное, как ни в каком другом своем произведении, В. Берязев раскрылся здесь именно как художник, обладающий обширным арсеналом изобразительных средств и возможностей.
По своим поэтике и стилистике «Знамя Чингиса» в целом восходит к национальным сибирским героическим эпосам (алтайским, шорским, хакасским, якутским, бурятским и др.), следует их фольклорно-сказовым традициям. Следует, но не копирует, о чем говорят и более разнообразный, лишенный обычной сказовой монотонности, интонационно-ритмический строй поэмы, и отличающаяся от фольклорных источников сюжетная организованность материала, и некоторые другие моменты, доказывающие, что, несмотря на определенную стилизацию, перед нами все-таки произведение современной литературы.
Вместе с тем использование фольклорных мотивов, многочисленных этнографических подробностей да и вообще сказового опыта помогло В. Берязеву наполнить поэму «Знамя Чингиса» неповторимым колоритом и тем самым «духом Азии», который не в состоянии истребить ни века, ни пространства.
«Знамя Чингиса» — первый серьезный (и удачный) опыт работы В. Берязева в жанре эпической поэмы. Первый, но не единственный. Появятся и другие поэмы — в частности, «Поле Пелагеи».
О чем она? О самом, наверное, в жизни человеческой главном: говоря строкой берязевской поэмы — «о простом и неизбывном чуде Рода». А род — это родня, родной дом, родное пространство, народ, родина — т.е. восходящая к горним высям Духа цепь важнейших для человека нравственных понятий:
И не стать уже ни опытней, ни старше,
Не удобрить, не посеять, не отцвесть,
Коль не ведаешь кровей и вешек Рода…
А окликнул тебя атом дорогой,
И смиряется звериная порода,
Распускается пространство под рукой,
Распускается, как горная фиалка,
Словно царство из пасхального яйца,
И уже и жизни прожитой не жалко,
Знаешь точно — нет у ней конца.
Таким «атомом дорогим» становится для лирического героя поэмы девятилетняя девочка Пелагея с удивительной силы и чистоты голосом, пение которой потрясло его душу, вызвав лавину воспоминаний и ассоциаций, связанных как с собственным прошлым, так и с временами более древними.
Поэма «Пелагея» невелика, но очень емка и насыщена. По сути это — философско-поэтическая притча. В каких-то моментах (например, в размышлениях о Роде как стержневом начале человеческого бытия) «Пелагея» перекликается и со «Знаменем Чингиса», и с рядом других произведений В. Берязева.
В. Берязев продолжает целеустремленно осваивать эпический жанр. Недавно им написана поэма «Псковский десант», посвященная героям-десантникам, погибшим в Чечне. Продолжает он и работу над романом в стихах «Могота», первые части которого уже опубликованы в журнале «Сибирские огни».
В. Берязев известен не только как поэт, но и как публицист, автор очерков, эссе.
Впрочем, употреблять в данном случае оборот «не только как» будет, наверное, не совсем точно и корректно, ибо В. Берязев, если говорить в целом о его творческом облике, — отнюдь не двуликий Янус с диаметрально противоположными физиономиями. И стихи, и проза его — это две стороны одной медали, одного художнического явления, два крыла единого живого творческого тела. Они то и дело пересекаются и взаимопроникают, оставаясь в русле единого художественного потока: стихи время от времени врываются в прозаический текст, привнося в него дополнительную эмоциональную струю, но и в них, как выше отмечалось, нередки и отчетливый публицистический пафос, и социальная заостренность, больше свойственные прозе, что, однако, не мешает оставаться им в «стойле Пегаса». В свою очередь, и ритм, и образность, и стилистика очерков и эссе В. Берязева говорят о том, что это — проза поэта.
Обычно, как известно, поэтов «к суровой прозе» клонят года. В. Берязева к такого рода пиитам, вынужденным по причине поэтической импотенции менять творческую квалификацию, не отнесешь. Во-первых, как говорилось, потому что он продолжает активную стихотворческую деятельность. А, во-вторых, — с младых ногтей поэзия и проза у него идут бок о бок. Более того, бывали нередко случаи, когда одна и та же тема, один и тот же материал находил отражение и в поэтической, и в прозаической форме. Так, к примеру, поездка В. Берязева в Могочинский монастырь на севере Томской области закончилась не только написанием очерка о монахах этой обители, но еще и дала толчок к созданию масштабного поэтического творения — романа в стихах «Могота».
Что же являет собой проза поэта В. Берязева?
«Путешествуйте, путешествуете!
Человек должен перемещаться в пространстве для того, чтобы встретиться с самим собой. Человек должен ехать туда, где его ждет другой человек — пусть очень непохожий на него, но близкий. Любовь и творчество — не что иное, как тоска пространства, некий симфонический сквозняк души перед чудом земли и величием звездного купола».
Так начинается один из очерков прозаического тома В. Берязева
(«Калбакташ — место духа»). И этот зачин настраивает читателя на определенную волну — волну путешествий. Вот и подзаголовок очерка «Моя Ойкумена» — «Путешествие в четыре стороны света» это подтверждает.
Про «четыре стороны света» — если и преувеличение, то небольшое. География путешествий, описанных автором, действительно весьма обширна и разнообразна. Это и Горный Алтай, и Хакасия, и Среднее Приобье, и Бараба, и Германия, и США…
Но дело не в географии как таковой. По признанию В. Берязева, ему вообще «для жизни вполне хватит вотчины радиусом в тысячу верст — это и есть Сибирь, — земля настолько обширная и разнообразная, что множество уголков ее можно открывать для себя бесконечно. Что, собственно, автор в своих очерках и делает. Даже там, где рассказывает о своих поездках в далекие от Сибири — в Америку, скажем, или Саксонию.
Но открываются не только неведомые писателю земные уголки. Он и себя самого в таких путешествиях как бы заново открывает, и на все остальное вокруг начинает другими глазами смотреть. Поэтому перед нами не просто путевые заметки, каковыми они по жанру и являются, а некое своеобразное лирико-философское постижение бесконечно расширяющегося пространства и соотнесение с ним человеческого бытия. То есть налицо уже знакомый нам по стихотворным произведениям В. Берязева космогонизм, который сам поэт называет неким «симфоническим сквозняком».
Хотя понимать это определение можно и несколько иначе: например, как полифонию ощущений, рождаемых бесконечным в своих проявлениях «чудом земли».
А ощущения владеют В. Берязевым самые разные. Но, в первую очередь, наверное, все-таки — восторг. Священный, трепетный, порой доходивший прямо-таки до религиозного экстаза восторг перед красотой, величием и мощью природы, перед ее подчас чуть ли не мистической загадочностью. В этом нетрудно убедиться, прочитав очерк «Моя Ойкумена», давший название всему прозаическому тому. Здесь читатель встретит немало замечательных пейзажей Горного Алтая, Барабы, Хакасии… Чего стоит хотя бы картина грозы над Барабинскими озерами (существует, кстати, и стихотворный вариант этого описания):
«Сначала вдруг исчезло солнце.
Вся южная сторона неба вдоль горизонта принялась темнеть, наливаясь свирепым фиолетом, над образовавшимся темным фронтом как бы сами собой возникали новые дымчато-белесые тучи и тут же поглощались валом наступающей стихии.
Стало совсем тихо. Картина разворачивалась словно, в немом кино. Тьма накатывала с размахом, далеко охватив и восток и запад, так, словно вырывалась из причудливых миров Толкиена, так, словно по воле грозного кайчи, ожили силы алтайского эпоса Маадай Кара…
Грозовой фронт вступил в соприкосновение с ближайшими, доселе спокойными, слоями воды, он как бы слизал светлую гладь и привел в движение растительность по берегам. Стал накрапывать дождь…
Чернота, уже пыталась досягнуть до зенита. Фиолетокудрое воинство, подобно полчищам Дария, выпускало перед собой серые стремительные стрелы перистых туч. Эти стрелы, накрыв нас тенью, уже смыкались в сплошной покров, но и он был разодран в клочья сухим треском электрического разряда, который, словно камень, пущенный из пращи, сначала шелестел, шкворчал, рикошетил, и, наконец, словно тупое гулкое бревно, ударил в землю прямо перед нами, ослепляя, сотрясая до самого снования, почти лишая сознания.
Полил ливень. И наступила ночь».
Этот фрагмент может служить еще и ярким примером прозы поэта — сочной, красочной, изощренно образной, поэта, к тому же, истинно эпического мироощущения.
Но не один лишь мистический восторг, конечно, владеет автором «Моей Ойкумены». Он многое вокруг зорко подмечает и цепко схватывает своим художническим взглядом. Его наблюдения настолько же точны, насколько и иной раз неожиданны. Он успевает увидеть массу самых разных деталей, подробностей, штришков, совершая свои путешествия. Но он — не бесстрастный фиксатор-описатель, не «физиологический» очеркист; осмысливая увиденное, он предлагает свое представление мира, творит собственную его мифологию.
Мифологическое мироощущение, надо заметить, вообще очень характерная черта В. Берязева. Хорошо просматривается оно и в его прозе. Во всяком случае, мифологические образы и ассоциации в очерках и эссе В. Берязева — гости нередкие.
Немалое влияние на стилистику и поэтику берязевской прозы оказывают религиозные ощущения автора. В них нет канонической чистоты какого-то одного верования. Язычество, христианство, восточные религии… Отголоски и того, и другого, и третьего слышны в очерках и эссе В. Берязева. Но здесь нет бездумной начетнической эклектики, Здесь скорее — стык. Потому хотя бы, что Сибирь — Ойкумена нашего автора — всегда располагалась на стыке цивилизаций, культур и религий. Правда, сам В. Берязев, как подтверждает ряд мест в его «писаниях» (к примеру, рассказ о Могочинском монастыре), человек все-таки православных взглядов.
Мы уже говорили, что в очерках и эссе В. Берязева мы имеем дело с прозой поэта. Хотелось бы, правда, уточнить — поэта не просто живоописующего, но и думающего, размышляющего как о состоянии земного нашего существования, так и о проблемах и путях развития литературы, искусства, культуры. С особенной наглядностью последнее проявляется в очерках В. Берязева, посвященных сибирским художникам («Динарий Кесаря», «Духовидец Сергей Дыков», «Братья Меньшиковы», «Николай Рыбаков»), а также знаменитому алтайскому сказителю Николаю Калкину и поэту Александру Плитченко. Кстати, эти материалы в определенной мере можно тоже считать и частью, и результатом берязевских путешествий. Но в пространстве, уже не столько географическом, сколько в духовном и культурном.
Наблюдениями и размышлениями о нашей жизни, культуре, духовности, о происходящих социальных переменах полны и «Сумасбродные мысли о выборе веры», которыми завершается прозаический том В. Берязева.
Под верой здесь подразумевается не только и не столько религиозный или социальный аспект, сколько личностная ориентация в бурно меняющемся мире. Это тем более так, если учесть, что данные заметки заканчиваются 93-м, весьма трагическим и по-своему переломным в жизни российского общества годом.
«Сумасбродные мысли о выборе веры» начинали писаться на рубеже 90-х годов, и сегодня, десятилетие спустя, их можно рассматривать как еще одно путешествие автора — путешествие в недавнее прошлое, своеобразным художественным документом которого они и является.
В. Берязев назвал «Сумасбродные мысли о выборе веры» книгойпотоком. Она и в самом деле напоминает с первого взгляда композиционно не организованный, спонтанный поток разнородных мыслей и впечатлений. Но при более внимательном чтении видишь, что поток этот — не хаос, а органичная художественная масса, отдельные молекулы-фрагменты которой сцеплены прочно творческой личностью самого автора, его мировос-приятием.
Впрочем, вышесказанное можно отнести вообще ко всему двухтомнику В. Берязева. Разножанровые и разнохарактерные произведения, его составляющие, в некое художественное целое объединяет яркий и самобытный талант их творца, который, будем надеяться, пленит еще многих и многих читателей, знающих толк в настоящей литературе.
Алексей ГОРШЕНИН
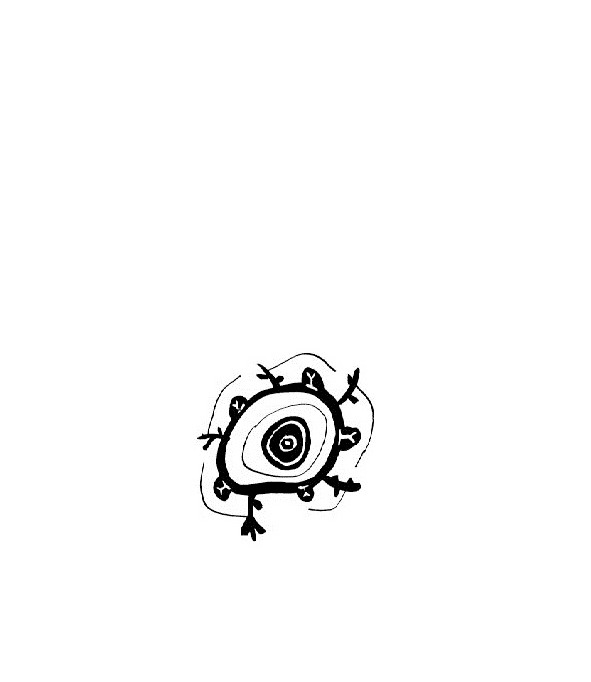
Моя Ойкумена
Путешествие в четыре стороны света
Калбакташ — место духа
Путешествуйте, путешествуйте!
Человек должен перемещаться в пространстве для того, чтобы встретиться с самим собой. Человек должен ехать туда, где его ждет другой человек — пусть не похожий на него, но близкий. Любовь и творчество не что иное, как тоска пространства, некий симфонический сквозняк души перед чудом земли и величием звездного купола.
Если бы я до сего дня оставался материалистом, то поправил бы Федора Федоровича Энгельса: не труд создал человека, а путешествие, часто катастрофическое, вынужденное, связанное с глобальными изменениями в природе.
Если бы я сподобился быть священнослужителем, то, наверное, указал бы на то, что земное путешествие, даже если ты всю жизнь прожил на территории небольшого уезда, проецируется на твой духовный путь: все дело в том, как ты шел по земле, куда смотрел и что видел, слышал, чувствовал. Но будучи всего лишь литератором, то есть человеком, склонным записывать увиденное, услышанное, почувствованное, я замечаю про себя, что дорога — это, видимо, самое дорогое, в смысле, драгоценное состояние души, поскольку включает в себя и любовь, и творчество. Если оглянуться насколько возможно, позади ничего кроме путешествий богов, героев, людей — мифология и прамифология, песни древних орфеев и гомеров. В предельно архаичной глиняной книге Гильгамеш путешествует по миру людей и богов в поисках бессмертия.
«Илиада» — военная экспедиция с целью справедливой мести, добычи и славы.
«Одиссея» — классическое странствие героя в поисках отчизны (имя и суть отчизны в течение тысячелетий будут меняться, а великий сюжет от произведения к произведению останется неизменным).
Все последующие поэмы, сказания, романы будут лишь вариациями на тему этих трех великих путешествий. А с торжеством христианства нам вдруг открывается то, что весь род людской, все сыны и дочери Адамовы обречены путешествовать в пространстве и во времени в поисках утраченного рая вплоть до второго пришествия. Хотя путь возвращения в небесную отчизну, путь радости и спасения указан, явлен во множестве примеров, известен и открыт, но пройти его суждено не многим, он узок, тернист и полон опасностей в отличие от широкого пути страсти, гордыни и греха.
Так говорят тексты священного писания и записи откровений святых…
Но, восклицая «путешествуйте», я имел в виду вовсе не духовные искания, не странствия в горних высях эйдоса, а банальные поездки и походы во время не столь уж длинного в наших широтах летнего сезона.
К сожалению для многих и к счастью для очень немногих, за последнее десятилетие жизнь круто изменила наши возможности к передвижению по бывшей советской державе. Мы не можем посетить ближайших родственников, уже и поездка на похороны стала величайшей проблемой. Туризм либо дичает, либо коммерциализируется, либо превращается в нечто вовсе безнравственное и праздно-роскошное.
Мы путешествуем, но кто как может.
Добраться до дачи или до картофельного поля в набитой битком, душной, полуобморочной электричке — это путешествие на тему выживания. Мне рассказывали, что муж с женой нынешним летом ни разу не были на даче вместе, они вынуждены были каждые выходные попеременно плавать на «ракете» до Ягодного, так как для совместного путешествия до родного клочка земли каждый, выражаясь по-американски, уикэнд — просто нет средств…
С другой стороны, сегодня никого не удивляют непринужденные десанты наших соотечественников, часто соседей, знакомых, скажем, на Мальдивские острова, в центр Индийского океана, где русский человек с удовольствием учится плавать с аквалангом, знакомится с гигантскими морскими черепахами, ядовитыми муренами, ходит под парусом, без конца фотографируется и загорает, попутно, не без гордости за себя выясняет, что индусы созданы лишь для того, чтобы прислуживать нам — белым.
Блеск и нищета. Парадоксы капитала, так, кажется, нас учили на политэкономии. Но по сравнению со старым учебным курсом, у этой проблемы вместо классового оттенка, появился оттенок криминальный. Круговая порука. Раньше мы все были повязаны идеологией, теперь не далек тот день, когда на всех будет вина общего преступления (видимо, по уничтожению собственной государственности).
«Блажен, кто не ходил в советы нечестивых…»
Но таких все меньше. Когда не на что жить чиновнику, военному и милиционеру, они объединяются с бандитом.
Кстати, о братанах и их страсти к путешествиям. Эти современные ушкуйники, флибустьеры, первопроходцы и впрямь не лишены авантюристического духа, они, к примеру, сухим путем гоняют джипы из Арабских Эмиратов в континентальный Новосибирск, что, зачастую, весьма способствует росту их национального самосознания и самого настоящего патриотизма, то есть любви к нашему чудному Отечеству. Особенно их впечатляет Средний Восток. Вот образчик одного подслушанного разговора:
— У нас в натуре все классно, жить можно! А та-ам! Ты прикинь, фекалии, дерьмо то есть, прямо по улицам течет, по сточным канавам, а кругом уроды, калеки, больные всякой заразой… Бабы все в чадрах и в накидках. Полицейские злые как собаки, чуть что — сразу за автоматы. Только в Туркмении и расслабились…
Далее следовал продолжительный монолог, где основным блоком использовалась ненормативная лексика, чуть разбавленная местоимениями и междометиями. Смысл монолога сводился к простой вещи, что так как они там в Иране и Пакистане жить — ну просто нельзя!
В этом сезоне получил развитие еще один вид туризма. Владимир Назанский, новосибирский искусствовед и нашинский же специалист по европейскому автостопу, увлек за собой в поход и поэта Станислава Михайлова. Бюро туризма «Сибирь» в лице Владимира Дыненкова бесплатно забросило двух наших любителей и ценителей прекрасного в царский град Стамбул, откуда те, практически без копья в кармане, насквозь прошли всю Европу по траектории Венеция — Рим — Париж и хотя голодные, но непобедимые, посетившие сорок с лишним лучших музеев и еще большее количество бесплатных столовых, вернулись под родное сибирское небо.
Загадочен русский человек.
А все потому что непредсказуем.
И тебе на Мальдивы, и на джипе по мусульманскому миру, и пешком в Венецию и в Лувр, и на лыжах в одиночку к Северному полюсу. Не говоря уже про любовь к картофельным полям и бесконечную преданность садово-огородному поприщу.
Живее чем шарики ртути раскатываются соотечественники по всему миру, проявляя невиданную активность и изобретательность. Но чаще всего возвращаются, потому что есть куда вернуться, есть зачем вернуться, для чего и для кого.
* * *
Так получилось, что на сегодня самым дешевым стало путешествие на автомобиле. Так, на полторы тысячи километров мне требуется всего 100 литров бензина. Остается лишь забить багажник провиантом, палаткой, спальными принадлежностями и вот ты уже вполне автономен и готов к странствиям.
Моя жажда путешествий не распространяется на заморские страны, хотелось бы, конечно, побывать в Монголии, в Тибете, на Памире, но все это, по сути, в пределах нескольких сухопутных переходов, на одном азиатском пространстве — в зоне древних кочевий. А вообще мне для жизни вполне хватит вотчины радиусом в тысячу верст, это и есть Сибирь, эта земля настолько обширная и в то же время разнообразная, что множество уголков ее с озерами, горами, реками и речушками, степями и курганами, болотами и тайгой можно открывать для себя бесконечно. С другой стороны, есть любимые места, в которые хочется возвращаться и возвращаться, поскольку в таких близких душе, поистине святых и дивных местах всякий раз оказываешься как бы впервые. Даже когда тебя здесь физически нет, когда ты придавлен Городом и раздерган на части суетой, когда язык сохнет от злоречья и алкогольных испарений, стоит лишь на минуту отвлечься, настроиться на некую живую волну и возникает миг проникновения, ты чувствуешь, что какая-то важная твоя частица присутствует среди любезного сердцу пейзажа и как бы сторожит место, к которому душа твоя привязана. Дон Карлос Кастанеда называет подобного рода географические точки «местами силы», пользуясь языческо-шаманской терминологией. Мне кажется, было бы вернее говорить о «местах духа». Ибо именно дух Творения и Творца здесь присутствует более, чем где либо.
Еще один существенный момент.
Человек использовал такие места не для жилья, а для молитвы. Жить можно где угодно, особенно если есть просторные пастбища, чистая вода, хватает дичи и рыбы и есть чем развести костер. Но молиться можно только в некоторых местах, там, где Земля и Небо соприкасаются, где особенная тишина и мир, где душа может услышать Бога, а Бог, как свидетельствует духовный опыт поколений, внимает человеческой молитве с особым тщанием.
Человек в эти места приходил всегда.
Истинно — свято место пусто не бывает. Первоначально в пословице отсутствовал иронический подтекст. В самом деле, даже если в этом месте никого живого нет, оно все равно полно духом. Иначе и быть не может. Дух здесь живет столько времени, сколько невозможно себе представить ограниченным человеческим разумом. Последние данные науки определяют возраст человека разумного (кроманьонца) в сорок тысяч лет, не ниже. И все эти четыреста столетий, из года в год, из месяца в месяц, на временной дистанции в десять раз превосходящей всю хронологическую историю человечества, люди с удивительным постоянством приходили в некие точки земной поверхности не ради хлеба насущного, а совсем для других целей и устремлений.
Сколько духовных порывов и откровений, какую бездну эмоций и переживаний, священного трепета и любви вселенской, какую концентрацию вдохновенных состояний души человеческой хранят камни и почвы в любом таком месте!
Калбакташ
750 верст от Новосибирска на юг.
Почти триста из них по горам после Горно-Алтайска.
На самом Чуйском тракте, на древней дороге из Китая в страну Сэвэр-Сибир, почти вплотную к реке — крутолобый, с плоской вершиной каменный холм величиной чуть больше Дворца съездов (он и был таковым — местом собраний).
Скальный язык, выкатившийся к руслу из недр хребта, лежит у входа в степную долину, отвесной стеной обратясь к зеленовато-мутной и мерно шумящей Чуе. До воды саженей сорок, спуск вдоль стены, пологий, удобный, исхоженный за века тысячами и тысячами подошв и копыт. Это и есть Калбакташ — висячий камень.
Это галерея петроглифов, где на сегодняшний день сохранились более тысячи рисунков, это палеолитическая обсерватория, это удобная стоянка, где под каменной стеной почти не ощутим ледяной восточный ветер вдоль Чуи, это невообразимо величественный пейзаж, открытый на три стороны света.
Я сюда скатился, словно камень по осыпи, меня сюда тянет, я здесь был всегда, я здесь буду присутствовать и тогда, когда меня уже не останется в телесном облике.
Что мне напоминает коричнево-красный цвет скального загара, эта прилепленность к вертикально уходящему в небо хребту? Да, в Калбакташе есть что-то отдаленно напоминающее мавзолей. Но могилы — на противололожной стороне Чуи, прямо напротив, там в небольшой пологой долинке я насчитал около ста курганов разных эпох. Там настоящее кладбище. А здесь — молитвенное место.
На вершину Калбакташа очень легко взобраться, можно даже сказать «взойти». С луговой террасы по выступам, словно по лестнице, ты буквально за пару минут оказываешься на довольно просторном плато, так чисто и гладко вылизанном древним ледником, что площадка представляет собой как бы естественный амфитеатр. В самой высокой точке амфитеатра некое подобие сцены с задником в виде плоской стены три метра высотой. На этой сцене, видимо, и происходили главные события. А декорации на стене выполнили самые настоящие художники. Сколько тысяч лет этой каменной графике? Неведомо. И никакая научная датировка не укажет точную дату.
Но одно можно сказать с полным правом: этот изобразительный ряд гораздо древнее всех письменных источников и в отличие от много раз переписываемых рукописей, эта скала не подвергалась никакому другому редактированию, кроме небольших купюр, которые совершили солнце, ветер, вода и мороз, впрочем, безо всякого злого умысла.
Эта скала хранит память Рода.
Первоисточник, неискаженный и неутраченный, вот он — под ногами.
Мы не можем его прочесть, не имеем ни зрения, ни слуха, ни духовного опыта, способного удержать в сознании хотя бы два-три злака из того необъятного поля, что было возделанно допотопным человеком.
Но кое-что прояснилось.
Я знаю, что Калбакташ — это храм под открытым небом, храм, созданный самой природой и сохраненный до сего дня в неприкосновенности.
Никогда и никому уже не удастся восстановить прежних богослужений, да и нужно ли это после того, как на Земле побывал Сын Божий. Важнее приходить сюда как во всякий храм и слушать, пытаться услышать голос первых детей Адамовых, счастливых, пребывающих в долголетии, проводящих досуг свой в беседах с Отцом Небесным.
В поэме «Поле Пелагеи» я попытался передать это сокровенное состояние контакта с памятью Рода, но вряд ли это удалось хотя бы в малой степени. Но не я первый, не я последний, уже десятки и десятки людей пытаются восстановить всю географию палеолетических святилищ. Благо, что во множестве случаев эти места не забыты, как правило, на этих площадках сегодня располагаются православные храмы, мечети или дацаны. Религия хранит память Рода во всей возможной на нынешний момент полноте. Однако многое и многое остается сокрыто под панцирем Великого Оледенения, за семью печатями того древнего запрета, который, возможно, в скором времени будет снят или ослаблен.
Первыми возможность приоткрыть завесу почувствовали художники. Еще в восьмидесятых годах сибиряки Николай Рыбаков, Александр Бобкин и Сергей Дыков (Красноярск, Новокузнецк, Горно-Алтайск) заложили основу течения в живописи, которое потом и в Москве и в Западной Европе получило условное название «Артмиф», а во время зимней Олимпиады в Лиллехаммере даже стало стилистикой графического дизайна для этого всепланетного мероприятия.
Новосибирец Валерий Ромм, бывший артист балета, а ныне — хореограф и историк искусств, сделал открытие, которое еще только предстоит осмыслить, для того чтобы внести существенные коррективы в наши представления о человеке добиблейском и ветхозаветном. Он лаконично и убедительно доказал, что многие наскальные изображения человечков, возраст которых исчисляется десятком тысячелетий, не что иное, как подробное описание очень сложного, с развитой хореографической культурой, танца. Уже одно только это заставляет крепко задуматься — чем же занимался человек эти тридцать пять тысяч лет, прежде чем ему пришло в голову пойти по пути технологической цивилизации. Задуматься и попытаться вспомнить.
Именно в возможности вспомнить я ничуть не сомневаюсь. Но делать это придется без помощи археологии, та культура не была материальной, горшки склеивать нет нужды. Единственный метод воспоминания — художественный, то есть с помощью интуиции, а, в моменты наивысшего напряжения, и с помощью более высокого дара. Но даже провиденциальные способности, изначально и по праву присущие художнику, сегодня должны раскрываться без юродства и шизофрении, мы поставлены в такие условия, когда нужно делать свое дело в полном рассудке, не впадая в шаманский транс и другие формы экзальтации.
Это и есть свобода.
* * *
Привезти на Алтай нового человека — радость.
В этот раз я вез сразу троих: художников Данилу и Сергея Меньшиковых и поэта Станислава Михайлова.
Заранее, еще с зимы говорил, что ехать надо в середине мая, когда и маральник, и черемуха в цвету, когда на альпийских лугах при желании можно уловить шелест раскрывающихся бутонов, а горы, даже ближние, невысокие, покрытые рыжей щетиной еще не проснувшейся лиственницы, с утра до самого полдня стоят под ослепительной шапкой выпавшего ночью снега.
Из-за поздней весны выехали 17-го мая.
Расстояние в почти 400 верст от Новосибирска до Бийска одолели за четыре с небольшим часа и, кабы не замена лопнувшего колеса, то были б на мосту через Бию уже в полдень.
Если Бийск — ворота Горного Алтая, то дорожка, ведущая от ворот ко дворцу, проложена добрым хозяином как по линеечке. Девяносто километров стремительной, уходящей полого вверх аллеи. Вот тут-то и происходит подлинное чудо: за какие-то сорок минут полета сквозь плотный строй серебристых, покрытых клейкой листвой тополей, ты вдруг вкатываешься в совершенно иной мир. Перед Сростками на горизонте вырастает Бабырган — гора со священным озером на вершине, одинокий страж на самом пороге горной страны, Бабырган далеко — на левом берегу Катуни, и, чудится, он то приближается, то отдаляется, медленно-медленно смещаясь вправо, вбок и, наконец, почти за спину. Бабырган, скалистый великан с гулким гортанным именем воина, хотя в переводе это имя означает всего лишь диковинного зверька — белку-летягу.
Въехали. Чуйский тракт уходит вправо, чуть мимо Горно-Алтайска. Теперь от Маймы до Усть-Семы дорога прямо по берегу Катуни.
Природный парк. Газон лежит ровным-ровнехонек, расстилаясь по пологим пока холмам, зелеными языками вдаваясь в чистые сосновые боры, обтекая небольшие рощицы и заросли кустарника.
Черемуха, подобно сбежавшему молоку, норовит занять все пространство, струи дурмана скатываются по склонам к дороге, к скалам берега и создают у воды такую концентрацию весеннего духа, неги и любви, что у некоторых неподготовленных к подобным испытаниям странников возникают эйфорические видения.
* * *
А Катунь мощью и дыханием своим сродни землетрясению. Только в отличие от подземной стихии, лик открывшейся Катуни рождает не страх, а восхищение и трепет.
Гул. Непрерывный гул.
Это камешки, иногда по нескольку центнеров, будто леденцы, перекатывает и перекатывает под языком богатырша. Ревут пороги. Шумят буруны на перекатах. Вибрируют и излучают все тот же гул прибрежные и островные скалы под напором титанического потока. Не дать этой реке течь — то же, что остановить жизнь с помощью бомбы.
* * *
Оказывается — уже «оттаяли» водные туристы. Мимо нашего обеденного бивака идут под странными флагами, кричат неразборчивые за шумом воды приветствия, улюлюкают в каком-то ликовании полета над стремительным валом ледниковых вод.
— Впереди поро-рог-ог-ог!..
— А мы на крыльях-ах-ах!..
Пронеслись, нырнув за торчащий за поворотом утес, только эхо еще несколько мгновений мечется от берега к берегу, как чайка, потерявшая из виду добычу, но и эхо стихло, потонуло в едином сдержанно-грозном шуме.
От воды несет распахнутым надвое арбузом и свежестью мартовского полдня. Там в верховьях на леднике круглое лето — март. Гулкая, грызущая валуны вода цвета сока голубики еще два дня назад была снегом в окрестностях Белухи и на склонах Южно-Чуйского хребта. Присев на выступающий из воды камень, черпаю полными горстями и пью до ломоты зубов.
Катунь, Кадын-Су, мать-царица и река-прародительница, пусть ни стихия, ни человек, ни чья злая воля не остановят твоего течения, пусть чистыми, свежими и полными мощи останутся воды твои, да не осквернится путь твой, да не иссякнет твоя благодать!
* * *
За перевалом Чике-Таман места сухие, дикие, с редкими обнищавшими поселками алтайцев.
Чуйский тракт здесь пустынен. Еще десяток лет назад по нему в сторону Монголии каждые пять минут проносились двенадцатитонные оранжевые КАМАЗы с топливом, танкеры на колесах. Сейчас за день их проходит не больше десятка. Тишина.
Тишина вековая.
Молчание.
Смотрю далеко вдоль долины. Видно, как в трех верстах от стоянки, на склоне, пасется крохотный табун лошадей.
Едва приметные пыльные комочки овец рассыпались вдоль полотна дороги.
Со стороны Чуи поднялась пара пестрых цапель и, что-то прокричав, потянулась на кормежку.
За ними взлетела еще одна цапля. Взлетела и стала кружить над долиной с пронзительным долгим криком.
— Самец, — сообщил двенадцатилетний абориген по имени Тежо, когда в очередной раз появился у костра стрельнуть сигарет, — здесь жили две пары, четыре года назад одну цаплю сбил на тракте «Москвич», вот он с тех пор и кричит каждое лето, ищет ее. Цапли два раза не женятся. Так и будет один…
* * *
Одиночество.
Огромное величественное одиночество.
Незаметно и упорно, словно росток сквозь груду мусора, в душе прорастает тоска…
Тоска самовластная, тоска как приказ о воскресении. И я уже понимаю смысл ее. Это знание заглавного родства, это тоска по любви некогда бывшей, дарованной как великое целое, а ныне разделенной, раздробленной на какие-то мозаичные фрагменты. (В Керченском музее я видел флорентийскую мозаику 11 века «Христос Пантократор», если смотришь слишком близко, перед глазами ничего кроме осколков глазированной керамики и разноцветных полированных камешков, но чуть отойди назад, и перед тобой потрясающий лик Вседержителя.)
Эдемские изгнанники, мы кровью и составом атомов своих помним ту изначальную полноту единения с Логосом, но в обыденном мире память сердца затуманена, завалена хламом, схвачена цементом цивилизованной истории, Она оживает и начинает звучать только здесь, в пустыне, среди пейзажа, который только и может быть назван подлинным Творением.
По звуку — это готический хорал.
По образу — вертикаль каменного света.
Образ предельно грандиозен. Человек в нем теряется, он настолько мал, что не понимает в каком масштабе может быть соотнесен со всем тем, что над ним воздвигнуто.
Но каждый может выбрать лишь то, что ему по плечу — восторг, робость, трепет, молитву… И только мертвый выбирает тупое равнодушие.
Кроме смены дня и ночи, кроме круговорота звезд и времен года здесь ничего не происходит. Здесь царствует ВСЕГДА.
Не всякая душа способна выдержать это строгое одиночество перед лицом Неба и Гор.
Слишком… слишком силен Калбакташ. Во всем этом природном храме открыто проступает именно мужское волевое и творческое начало Яхве-Зевса-Ахурамазды-Варуны.
Гроза Завета реальна.
Скрижали Закона существуют и весьма тяжелы.
И Хан-Алтай придавливает тебя каменной дланью царского великолепия и нечеловеческой мощи…
* * *
У Данилы и Сергея появилось непременное желание добраться до вершины хребта. Так чтобы, стоя на гребне, смотреть куда захочешь. Можно на Север — там далеко внизу, не видное за горными складками, должно покоиться зеркало Телецкого озера; можно на Юг, где сквозь стокилометровую толщу разряженного воздуха авось да удастся различить двуострую вершину Белухи.
Наверху прохладно.
Там в тени скал еще лежит снег вперемешку с прошлогодней хвоей лиственницы. Там обитают лишь горные козлы-теке да могучие ширококрылые беркуты — один из них, изредка кренясь в восходящем потоке, уже которую минуту висит над нами, явно и по-хозяйски любопытствуя.
* * *
Предупреждаю спутников, что до темноты мы вряд ли поднимемся на гребень, время послеобеденное, темнеет в горах рано, а восхождение по полной программе надо начинать утречком, с восходом солнца.
Однако в ответ слышу:
— Сколько успеем — столько успеем.
* * *
После двух часов подъема рубаха стала мокрой наскрозь.
По осыпи можно двигаться лишь наискосок, рывком, цепляясь за траву и кустарники.
Но вот и осыпь кончилась. Пошли выветренные с ломкими ребрами скалы, которые к тому же все круче и круче стали загибаться вверх.
Визуально гребень хребта почти не приблизился. Правда, до первой промежуточной вершинки осталось метров тридцать, но эти оставшиеся метры приходилось ползти уже почти вертикально.
Цепляясь за выступы скал, я, подобно пауку, вытолкал свое тело на ровную, поросшую травой и кустарником поверхность.
Отдышавшись, оглянулся и поискал глазами Сергея. Он не двигался, прильнув к поверхности горы. Он вцепился в камень и тупо глядел перед собой, костяшки пальцев побелели.
Оказывается, на самой крутизне Сергей посмотрел вниз и… обмер. По ходу подъема не чувствовалось, но путь пройден большой, мы уже высоко, под ногами — пропасть. Сергей увидел в долине место, где должен быть лагерь, но глаз не различил ни палаток, ни автомобиля. Ощущение полета, смешанное с паникой падения.
— Не смотри вниз. Расслабься, Серега, расслабься. И тихо, ощупью, ощупью — ползи.
Лежа на спине, мы смотрели в небо, за горизонт, на панораму снеговых гор, и все это одновременно умещалось и в глазах и в душе, все это было доступно, объемлемо и близко. Близко по крови.
* * *
Последнее удивление Калбакташа — звук.
Нас позвал Данила, с которым мы расстались часа три с лишним назад, когда начинали подъем. Он пошел по другому, противоположному от нас склону распадка. Если он забрался на такую же высоту, что и мы, то расстояние между нами должно быть не менее, а то и более километра. Я ответил и, слушая его голос, попытался определить где же он находится. Безрезультатно.
Мы долго переговаривались, причем, не напрягая связок, обычным голосом, я попросил его бросить вниз пару булыжников, а затем и сам проделал то же, грохот мы произвели приличный, камни сыпались и с той и с другой стороны, но, как оказалось, расстояние было слишком велико, мы друг друга так и не разглядели…
Странно. Непривычно.
С тобой разговаривают, а ты не видишь говорящего. Тебя спрашивают, ты отвечаешь. А вокруг — целый мир, пустыня, то ли библейская, то ли еще более древняя, пустыня живая, одухотворенная, обладающая разумом и голосом.
Ты спрашиваешь — она отвечает.
И пускай тебя не видно, пусть тебя нет на этом геологическом фоне.
Ты меньше аглицкой блохи на ладони Государя Императора.
Но тебя никто не собирается заводить железным ключиком и заставлять танцевать.
Свои подковы и путы и сбруи ты сам на себя нацеплял. Но сам можешь и освободиться.
Да, тебя не видно, но тебя СЛЫШНО.
Твои предки приходили сюда для того, чтобы слушать и произносить свое Слово.
И если сегодня тебе нечего сказать, подожди, не торопись — помолчи…
Новосибирск, октябрь 1996 г.

Могота
Хождение в обитель отца Иоанна
Пространство тайги открывается со стометровой кручи левого берега обского во всём величии и необозримости. Вспоминается пустыня Белозерья, великая Пермь-Биармия, чудские, остяцко-самоедские незнаемые земли Севера, хладные реки, текущие в сторону Ледовитого моря, а на фоне сурового мира сего вспоминается Кирилл Белозерский во главе целого духовного воинства русских святых, и далее явственно — затерянные в глухомани среди языческих стойбищ монастырские кельи, нетленные мощи монахов в дуплах исполинских сосен и кедров, сотни скитов по всему лицу полунощных стран, и молитвы, молитвы, молитвы, порождающие над обителями отшельников световые столпы, в сиянии и крепости своей подпирающие свод небесный.
* * *
Могоча. По-татарски — болото, яма, гиблое место.
Русский же человек эхом слышит здесь могучее и дикое начало.
Работа-а… забота-а… свобода-а… могота-а…
* * *
«Кирилл, выйди отсюда и иди в Белоозеро. Там я уготовала тебе место, где можешь спастись». Услышал будущий святой ночью, при чтении акафиста голос иконы Богоматери. Открыв окно, он вдруг узрел огненный столп на севере, куда призывала его Пресвятая Дева. Вдвоём с единомысленным братом, иноком Ферапонтом, преподобный из Симонова монастыря двинулся на север, в заволжскую страну, где наконец обрёл среди дремучих лесов дивной красоты озеро — то самое «зело красное место», которое указала ему Матерь Божия.
* * *
Это было в самом конце древнерусского мира, на закате XIV века, спустя несколько лет после победы на поле Куликовом.
Это было там — на безлюдных таёжных равнинах, которые покорились лишь подвижникам и молитвенникам и отныне стали называться Русским Севером. Более сотни святых, учеников и наследников великого печельника Земли русской преподобного Сергия Радонежского на окраинах Руси своим служением утвердили дух братства и любви, ставший основой нового государства.
Казалось, дух этот навеки канул в чёрные воды революционного Стикса, в бездну гиперборейских каторжных тундр, в могочу… И трясина сомкнулась даже над памятью о подвигах предков.
Казалось бы…
* * *
Чья воля, какая неведомая сила отрывает нас от повседневной суеты псевдостоличного Новосибирска? И вот мы с художником Сергеем Меньшиковым оказываемся на пятьсот километров севернее — на обском крутояре перед Могочино.
Автомобиль, принёсший нас сюда, умолк.
Скоро подойдёт паром.
Пасмурно.
* * *
В двенадцати верстах ниже по течению Обь принимает в себя ещё одну великую сибирскую реку — Чулым. Почти от самого Абакана, с ледников Южного Саяна берёт своё начало Чулым, пересекает всю Хакасию, огибает Кузнецкий Алатау, сворачивает на восток, затем вновь — от оранжевых пирамид отработанных шлаков Ачинской ГРЭС — на полночь и долго-долго петляет по тайге и болотам томского Севера прежде чем соединиться с материнским потоком всего Зауралья — владычицей Обью.
Рыбье царство. На удочку в нижнем течении Чулыма рыбачат только старухи да дети. Мужики из редких прибрежных деревень, когда выдаётся свободное время, заготавливают бочками стерлядь да кострюков, с усмешкой глядя, как залётные горожане дрожат от азарта таская из реки всякий прочий рыбий мусор.
За Могочино — тайга до самого Ледовитого моря.
Обь чем дальше, тем больше забирает влево, к западу, если плыть вниз, через двести вёрст будет Колпашево, столица сталинских лагерей с безвестной могилой Николая Клюева и мрачным Колпашевским яром, из которого в конце семидесятых река вымыла известковые мумии двух тысяч казнённых.
Рухнул берег. Замутились воды.
Накренилась на яру сосна.
Из могилы вышли на свободу
Преданные богом племена.
Тени ледникового распада,
Крестоносцы классовой борьбы,
Потекли из глины, тлена, ада…
Немо и далёко вдоль Оби
Плыли трупы.
Прошлое поплыло
Кадрами загробных кинолент.
Милые, да здесь же не могила,
Здесь кошмара гиблый континент!
Тени страха вышли на свободу,
Всплыли, переполнили собой,
Возмутили память, и народу
Стыдно в тесноте береговой.
Что там грозно погребенье роет?
Что стремится хлынуть напрямик?!
Волны века вымыли такое,
Что кренится русский материк.
Старые стихи времён распада империи. Они оживают на этом берегу, наполняясь голосами тех, кто принял здесь мученический венец.
* * *
В четырёх часах ходу на «Ракете» от Могочино вверх по Чулыму есть местечко — протока, которая с тридцатых годов носит название «Колоберга».
Местные жители рассказывают, что место это испокон века было нежилое, дикое, никак не приспособленное для хозяйствования, это в лучшем случае — охотничьи угодья, и то не во всякий сезон здесь можно добывать зверя.
Как-то в один из годов, в эпоху торжества колхозного строя, на берег безымянной тогда протоки вышел местный охотник, зная обычное безлюдье этого медвежьего угла, он нимало удивился, столкнувшись на берегу с диковинным существом — приземистым мужичком в ремках, в непонятной шапке, в нездешних чунях на босу ногу, грязным, заморенным и, к тому же, говорящем на каком-то странном диалекте.
— Ты откуда взялся здесь, братец? — Поинтересовался изумлённый чалдон.
Мужичок что-то долго лопотал, прицокивая и шепелявя, охотник понял одно, что народу здесь много, что все они из Белоруссии, а последняя фраза бульбаша запомнилась и разошлась по окрестностям:
— Мы тут, коло берга…
* * *
Оказывается, уже осенью, под конец навигации, с баржи сгрузили на берег протоки две деревни несчастных белорусских крестьян, выселенных из своих родных хатёнок за какие-то антипролетарские грехи. Баржа ушла. А несколько сот человек с детьми, со скарбом, с полудохлой животиной остались посреди тайги, ловя белыми от ужаса глазами пух первых октябрьских снежинок.
Социалистические переселенцы успели зарыться в землянки. Половина, а то и более из них в зиму померли.
Оставшиеся выжили, выстроили дома, развели скот, очистили деляны под огороды, словом, создали крепкое поселение Колобергу, которое со временем даже стало считаться зажиточным.
Сейчас здесь вновь пусто.
Только заброшенные кладбища с бронзовыми складничками икон на подгнивших крестах.
Только кое-где сохранившиеся забитые крест-накрест дома.
Только непроходимые заросли калины, смородины и черёмухи на месте былых огородов.
Кто в городе. Кто вернулся на родные Беловежские равнины. Кто перевёз срубы в Молчаново или Колпашево.
Здесь останавливаются лишь редкие рыбаки потаскать стерлядь. Но шумит ветер в вершинах сосен. Клонится тальник, распуская вдоль протоки свои плети.
— Мы тут, коло берга…
— Мы тут, коло берга…
* * *
Монастырь — духовная крепость.
Но, помимо всего, это ещё и крепость реальная.
Каменная, деревянная, подземная или пещерная.
Когда рассказывают о монастырях, часто упоминают о чудесах, свидетелями или участниками которых становятся сами иноки, послушники или паломники.
Чудеса чудесами, и, как говорила мне матушка Людмила, они происходят здесь, в Могочино, каждый день, но заметны не всякому. Так, мироточение икон во множестве наших храмов фиксирует неодушевлённая видеоплёнка, но известно, что некоторым из человеческих существ не дано этого увидеть, даже когда они находятся в непосредственной близости от явленного чуда, даже когда все окружающие в голос утверждают обратное. Видимо, есть особо недостойные, не обладающие даже слабым духовным зрением.
Мне не довелось пока увидать мироточение воочию.
Но самым чудесным для меня — светского грешного человека — было наблюдать то, каким невероятным, умонепостижимым образом на пустом месте, в обход всяких законов экономики, физики, строительной технологии, в обход чиновничьих установлений, за неполных пять лет в центре села Могочино выросла та самая — реальная, каменная (точнее, шлаколитая) крепость монастырская. С кельями, с трапезной, со складами и с гаражами для автомобилей (которые тоже откуда-то взялись), наконец, с просторным кирпичным храмом, посвящённым хранителю монастыря, святому чудотворцу Николаю Мирликийскому…
Как это возможно, при отсутствии всего, что только может отсутствовать, для начала и непрерывного осуществления столь грандиозного строительства? Я этого постичь не могу, не дерзаю и объясняю только одним — чудо.
* * *
На дощатых, кое-как слепленных из подручного горбыля воротах монастырских прорезана щель, над ней кривая надпись «Для почты». Пообок, на шершавой и грубой, словно власяница подвижника, крепостной стене почтовый адрес: Советская, 15.
* * *
Свято-Никольский храм во дворе выложен без всяких чертежей и проектов, без участия какого бы то ни было самого захудалого архитектора, я думаю, и профессиональных строителей при его возведении участвовало полтора человека. Его своды и купола выведены наглазок, по примерному замыслу отца Иоанна, в той мере, в какой он смог донести его до своих сподвижников, бескорыстных работников и послушников, неисповедимыми путями пришедших сюда со всех концов России, а то и из более далёких уголков. В линиях и очертаниях храма присутствует некая наивная и детская кривизна, в силу чего, весь облик его вызывает ощущение зыбкости, бестелесности, кажется, будто всё строение перенесено сюда с одной из страниц древнерусской летописи. Меня с самого раннего возраста завораживало то, как изображались церкви на картинках в древних книгах. Я долго-долго разглядывал эти иллюстрации, не понимая — почему все эти купола и колокольни вместе с крепостями и другими строениями всё время кренятся, падают, рушатся, и в то же время нет ни одного изображения разрушенного храма…
В Могочине мне как бы открылось, что в неправильности геометрии и пренебрежении законами физики есть смысл, есть свои резоны. Цель простая — разом поставить под сомнение твою уверенность в себе, твоё рассудочное восприятие, твой рационализм и мирское знание. Через Никольский храм я вдруг увидел, как эта глубинная идея древних художников словно материализуется, находит для себя реальное воплощение в строительных формах. Храм и внутри и снаружи как бы слегка плывёт, приводя сознание в некое расторможенное состояние, возникает ощущение почти прозрачности этого мира… и в то же время перед нами настоящий храм, наполненный жизнью, старыми и новыми иконами, наполовину расписанный новосибирским художником Василием Дворцовым, здесь дённо и нощно служат службу, крестят, отпевают, венчают, ведут отделочные работы, тянут отопление, трудятся в трапезной и во всякий момент молятся, молятся вполне земные обыкновенные люди.
Необыкновенны они лишь своей верностью. Всею душой, всем сердцем и, превыше того, всеми делами, всею жизнью своей они обращены к Богу, верны и преданы своему монастырю, своему настоятелю, своему храму.
* * *
— Веруешь?
Вопрошает приземистый, востроглазый, похожий на председателя колхоза образца шестидесятых годов отец Иоанн.
— Веруешь?
И вновь глядит на прибывших из-под козырька старенькой болоньевой кепки. Так и стреляет своим строгим знающим взглядом.
— А коли веруешь, поедешь на выселки, отсюда двадцать пять верст, мы там мужской монастырь строим. Место красивое, но совсем дикое, комарьё и пауты попробуют твою веру на прочность, там у нас огородов поболе двадцати гектаров — свекла, морковь, капуста, огурцы, картошки много посажено. Две недельки на прополке потрудишься, таковое будет послушание, а потом, если до того времени не сбежишь, снова свидимся. Ещё раз поспрошаю что да как. Если вера твоя не пошатнётся, останешься при монастыре, место определим по тому, какими дарованиями владеешь… Через недельку, другую новый послушник или послушница появляются на монастырском дворе чёрные, высушенные солнцем, с задубевшей от тысяч укусов кожей, но радостные и воодушевленные своим маленьким подвигом. И то сказать, для многих паломников это и есть настоящий подвиг, поскольку вся их прежняя жизнь была в ином измерении, строилась по иным законам, преследовала иные цели — благополучия, успеха, соперничества и власти одного над другим.
Всему этому надо научиться противостоять. Способ один — братская любовь и верное служение.
* * *
Кольцо крепостных стен еще не замкнулось.
Работа идёт без остановок вот уже пять лет кряду. Во внутреннем дворе высится целый террикон песка, шлака и галечника. За храмом — целый участок, где пятиметровыми штабелями соскладирован лес самой различной обработки: от кругляка до половой рейки и профилей, здесь же — трубы, арматура, рубероид, кирпич…
— Не ворует местная алкашня?
— Первые год-два случалось здорово подворовывали. Сейчас и на работу никого со стороны не нанимаем, и в самом Могочино отношение к монастырю сильно изменилось. Равнодушия и непонимания много, но уважать стали.
* * *
Духовно монастырь тоже ещё только формируется, ещё только намечаются его будущие окончательные формы, ещё не утвердилась во всей строгости традиция смиренного послушания и молитвенного делания. «Вы не послушники, вы — ослушники», — не устаёт повторять отец Иоанн десяткам и десяткам своих братьев во Христе. На самом деле, на момент нашего посещения, монахов, принявших постриг, в Могочине было только пятеро вместе с настоятелем, монахинь, правда больше — одиннадцать. Но зато, послушников, желающих пойти путём спасения и любви не только для своей бессмертной души, но чтобы молитвенным трудом просить о спасении всех православных, их здесь доходило нередко до трёх сотен человек. Не все проходят испытание монастырским общежительным трудом. Некоторым послушникам монахи отказывают в длительном пребывании в общине. Это происходит тогда, когда не все мирские обязательства и долги перед детьми и близкими выполнены в должной мере. Или когда натура послушника по своему внутреннему строю не создана для монашеского служения. Или по причине неоднократного нарушения монастырского устава.
Талант монаха, молитвенника — столь же уникален и редок, как и всякий другой подлинный талант.
* * *
…В храме идёт служба.
Время от времени сквозь редкий строй поселковых прихожан протискивается кто-нибудь из рабочих в рыжей спецовке, уляпанной раствором, подходит к иконе Спаса, потом к Николе и к Матери Божьей, читает короткую молитву, кланяется на все четыре стороны, снова читает молитву и сосредоточенно уходит на стройплощадку. Такое ощущение, что они, один за другим возникающие посередь храма бородатые мужики в строительных робах, являются прямо с передовой, с линии фронта, просят у святых, у Приснодевы, у Господа благословения и сил, и вновь кидаются к прорабу, мешать раствор, возводить опалубку, чтобы вовремя замкнуть крепостное кольцо духа.
Из башен и стен Могочинской обители торчат куски опалубки, плахи, брёвна; своими тяжёлыми архаичными очертаниями сооружение напоминает спешно спускаемый со стапелей Ковчег. Оно так и есть, поскольку весть о Потопе уже дошла до сердец немногих избранных…
В любое время года: и в дождь, и в снежную бурю, и в ясный полдень к скрипучим дощатым воротам на Советской, 15 то и дело подходят люди. Чаще всего их отличает печать безмерного страдания на лице: обманутые жёны, одураченные мужья, вдовы, супруги горчайших пьяниц, убийцы и преступники, «афганцы» и «чеченцы», существа, истерзанные вечной нищетой и безысходностью, перенёсшие духовный крах, смертельные трагедии, самые мерзейшие и нижайшие душевные падения, настигнутые страшными болезнями — всех здесь принимают, на всех достаёт внимания, сострадания, помощи, места, куска хлеба в конце концов.
Встретить среди послушников можно и впрямь кого угодно. И бывшего актёра, и престарелых комсомольских работниц, наконец-то узнавших, где подлинное Царствие Божье, и научных сотрудников всех сибирских академий, и даже полуразрушенных ложью и нуждой журналистов…
Всем хочется мира и утешения.
Всем уже не по силам мирская вражда.
* * *
Меня воистину поразило (если не сказать — потрясло) обилие в стенах монастыря убогих, калек, даунов, олигофренов, говорят, часто прибредают кликуши, особенно во время праздничных служб: зальётся, заблажит, начнёт выкрикивать что-то неестественным пронзительным голосом, и пока священник над ней молитву не прочитает, пока святой водой не окропит, она не успокоится, а как успокоится, так вся будто обмирает, тут её из храма под руки и выводят.
Есть в монастыре один несчастный молодой человек, которого иначе как бесноватым назвать нельзя, это не эпилепсия, это странное заболевание с бурными состояниями припадков, наблюдать которые тяжело даже твёрдым духом и подготовленным к такому зрелищу. Бесноватый живёт прямо в храме, говорят, что ему здесь легче, его поят, кормят, за ним ходят две послушницы. Во время нашего пребывания в обители он лежал за церковной печью, полуголый, с пеной на губах, привязанный ременными вожжами к панцирной сетке общежитской железной кровати.
* * *
Анатолий и Вадим — послушники, прожившие в монастыре уже более двух лет.
Анатолий, с неизменным румянцем, крепкий, сильный, мастеровой, всё время улыбается и всё время сетует, что по грехам его ещё лет десять не сможет принять постриг, а то и до самой смерти, ведь ему уже к пятидесяти.
Вадим, двадцатипятилетний юноша, ещё три года назад учившийся в Новосибирском университете, высокий, белолиций, застенчивый, но очень тонко и точно мыслящий. Его чистота душевная не вызывала и доли сомнений в скорейшем иноческом его продвижении.
Два таких разных, они крепко сдружились и о чём бы ни говорили, неизменно разговор возвращался к делам отца Иоанна, к его трудам по строительству монастырскому, к его суровой требовательности, к его предсказаниям и правдивым поступкам.
От них я узнал, что отцу Иоанну трижды было видение Матери Божьей. О том, кто тому был свидетелем и кто им об этом поведал, я расспрашивать не стал. Но, по словам будущих иноков, Царица Небесная сама указала отцу Иоанну место, где следует основать монастырь, потому как на месте этом почивает благодать Божия и в годы тьмы и безумия оно станет оплотом спасения душ православных.
Ещё я узнал, что в Сибири будет два монастыря весьма славных своими духовными подвигами — Могочинский и Черепановский (последнего пока нет даже в замыслах). В других местах сибирской земли монастырям не существовать, для жизни духа, для иноческого делания уготованы только эти две обители.
Ещё я узнал, что ничего хорошего нашу страну в ближайшем будущем не ожидает. Ещё я узнал о грядущих катастрофах в мировых столицах и великих катаклизмах на земле и в небесах… Но стоп!
Столь много природной красоты было вокруг, так тихо и благодатно текла река посреди девственного леса, что, ей-богу, не стоит пересказывать мрачные пророчества, тем более, что они каждый день перестают быть пророчествами, оборачиваясь действительностью. Цивилизация вот-вот сорвётся с катушек. Сводки новостей кошмарней любого «жутика».
Но Могочино все эти бури не затронут.
Могочино — всё переможет.
* * *
Странно.
Кто бы ещё десяток лет назад мог помыслить о такой духовной крепости в глухом, невежественном, бандитском, браконьерском углу Сибири.
Речники, лесозаготовители, геологи, зэки и совсем немного крестьянствующего народа. В Могочино ни церкви, ни священников сроду не было.
Думаю, семя Слова Божия здесь посеять куда труднее, чем пятьсот лет назад было сделать это на Белоозере, среди Чуди и Мери языческой.
* * *
— Мы разлили по последней рюмке перед отплытием домой.
Все вещи уже сгрузили в лодку.
Осталось только чокнуться и проститься с Чулымом, с Колобергой, с этой песчаной косой, с таёжными дебрями безымянного острова, с великим пустынным одиночеством на берегу великой пустынной реки.
Выпить нам не дал свистящий, шипящий звук внезапно вскипевшей, вспенившейся воды: «У-п-п-ф-ф-у-х-х-ш-ш!!»
Как в аквацирке, из реки, демонстрируя свою красоту и мощь, взмыл в воздух саблехвостый, закованный в панцирь осётр.
Взмыл и ухнул, словно гаубичный снаряд.
Берёзовый кол с привязанным к нему капроновым шнуром закидушки загудел, заныл от напряжения.
Последнюю снасть мы хотели снять перед отплытием, когда осталось бы лишь завести мотор. Но река тоже решила попрощаться.
— Попался! Ишь как от боли взмыл! Только бы вытащить…
Осётр оказался килограмм на сорок. Вытащить сумели уже на закате, и потом, пытаясь отдышаться, долго и удивлённо смотрели, как тот вьётся на песке, лишённый привычной опоры и свободы.
Вырыли в песке яму глубже чем по колено, бросили в неё добычу и быстро закидали песком да ещё с горкой. До утра. Но только сделали несколько шагов к лодке, чтобы вновь раскинуть палатку и сготовить ужин, как за спиной услышали шлёпающие звуки: осётр прыгал в сторону родной стихии.
Пришлось захоронить его на глубину метр с гаком, и то утром из песка торчал конец хвоста…
Это рассказ моего товарища о последнем посещении пустынных мест в устье Чулыма в первой половине 80-х годов. С тех пор окрестности Могочино стали лишь ещё суровей и безлюдней. Человек уходит из тайги, река пустеет, так как нечего и некого по ней возить, и лишь мощь царь-рыбы растёт, лишь материнский дух природы становится всё более враждебен и нетерпим по отношению к человеку.
Тайга прощает и признает за родню только чистую душу.
Может быть, появление монастыря здесь — это знак нового века, это преддверие иного духовного опыта, который заключается в мирном сожитии человека и Природы?
Неужели и здесь когда-нибудь, как в своё время на Соловках и на Валааме, будет всё цвести и благоухать, будет сад с чудесными аллеями из лип, кипарисов и виноградной лозы?
Неужели надежда на благополучный исход не умерла окончательно и весы в руках Всевышнего ещё колеблются?
* * *
Вместе с могочинским старожилом Василием Дворцовым мы убедили моего спутника Сергея креститься. Сергей дважды пытался отказаться, но наконец согласился с тем, что, кроме надежды на спасение, ничем более страшным ему этот обряд не грозит.
Сергей — по-настоящему талантливый человек, не просто душа, а большая душа, которая, с моей точки зрения, весит немало и на небесных, и на демонических весах.
Новокрещаемый встал перед священником Серафимом, и, когда обряд дошёл до своей кульминации, я испытал такое сильное чувство ужаса и одновременно радости, какого не испытывал со времён детских страхов и юношеских восторгов.
Обочь колонны стоял дощатый стол, накрытый клеенкой. На столе — керамический кувшин с водой, три пиалы из нержавейки и две общепитовские фаянсовые тарелки. К столу прислонён деревянный щит.
Священник мерно читает по книге молитвы согласно чину, Сергей стоит босой в самом центре храма на домотканном половичке, понурый, сосредоточенный, в пальцах свеча, в линзах очков отсветы лампад, рядом служка — высоким-высоким голосом вытягивает «Аллилуйя» и «Господи помилуй!».
И вот, когда священник стал обличать все пороки Сатаны, когда он уже набирал в лёгкие воздух, чтобы трижды дунуть и трижды плюнуть на самое гордое, самое независимое и самое мстительное существо во Вселенной, когда момент презрения и попрания гордыни почти свершился, и Сергей уже через минуту должен был на вопрошание отца Серафима трижды провозгласить: «Отрицаюсь! Отрицаюсь! Отрицаюсь!», тем самым навеки отрекаясь от Дьявола, — в тот самый момент деревянный щит, прислонённый к столу, закачался, стронулся с места, стол накренился и опрокинулся, кувшин со звоном покатился по полу, вода расплескалась почти к ногам священника, звон железных пиал добавился к общему грохоту, а тарелки просто разлетелись вдребезги. За колонной пронзительно, на высокой-высокой ноте, близкой к ультразвуку, закричал бесноватый…
Волосы у меня натурально зашевелились и встали дыбом. Но на отца Серафима это решительно никакого впечатления не произвело, он лишь на несколько мгновений задержал чтение, глянув на то, как служки вытирают пол и собирают осколки. Василий уже на крыльце, видя моё смятение, пошутил: «Экий раздражительный бес за Сергеем приглядывал: лишили души, так разгневался, стол пнул на прощание, посуду побил. Не нравится…».
А отрок Вадим добавил, что в храме всё время что-нибудь такое происходит, монастырь — место прифронтовое: «Мы привыкли».
* * *
Я вспомнил город и всё, что с ним связано, и эхом подумал: «И мы привыкли…».
Новосибирск, 1995—1996 гг.
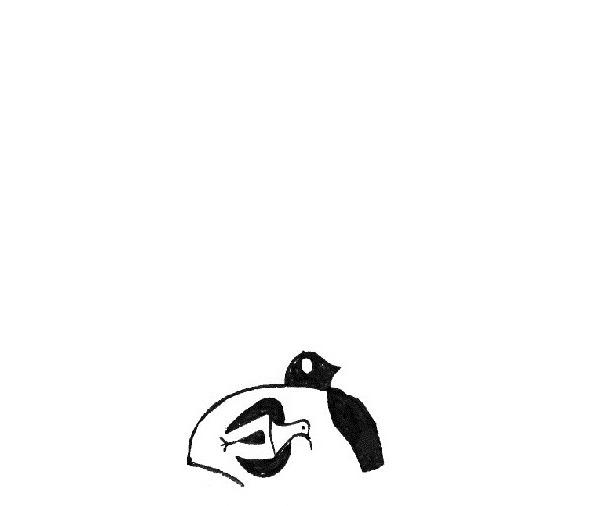
Бараба
…знаменки, покровки, вознесенки, троицки, александровки, николаевки, воздвиженки, ильинки… И в каждой из них когда-то стояла церковь, давшая название деревне. Однако только в одной мы увидели остатки кованной ограды на кирпичном фундаменте — сам храм сгорел в начале 80-х годов, немного не дотянув до перестройки. В Троицке, где большинство населения некрещеное, спрашиваем, когда в последний раз в деревне бывал священник. «Ой, батюшка, так, наверное, перед войной последний раз мы его видели, а потом на церкву запрет вышел».
Пятьдесят лет без утешения. Ни окрестить, ни обвенчать, ни отпеть и упокоить по-человечески, ни помолиться об усопших своих сродственниках и близких…
* * *
Газет нет. Книг нет. Клубы в запустении. Работа, семья, водка, телевизор вместо иконы и какая-то призрачная надежда. Прорастет ли из этой надежды прежняя вера? Или ветер одичания вековечно будет трепать на месте деревень и храмов метелки крапивы и конопли…
* * *
В Барабинске еще не старая женщина со скорбным исстрадавшимся лицом, сложив ладони лодочкой, нерешительно приближается ко Владыке Тихону за благословением. Она ждет помощи и духовной опоры, но попросту не знает, как поклониться, как приложиться к руке епископа, как принять в себя ту частицу Благого Слова, сокровище которого бережет в своих недрах Православие. Глаза растерянные, во всем облике мука, она как бы что-то напряженно вспоминает, но так и не может вспомнить. Епископ все видит — и крестит, и благословляет, не обращая внимания на неточности обряда…
* * *
Еще одна картина.
Возле памятника павшим в одной из деревень Барабинской степи священник служит литию по погибшим, обряд короткой панихиды, где может быть слово проповеди, где песнь о будущем воскресении, молитва об упокоении и торжественный троекратный канон «Вечная память», от которого содрогается, возвышается и скорбит душа.
Не минута молчания, лишенная смысла и слова, а совместная песнь.
Священник служит литию.
Он говорит, что человек, лишенный любви, мертв и не имеет надежды на воскресение.
Он говорит, что наши павшие обладали истинной любовью, что они, даже насильно лишенные веры деяниями власти, тем не менее спасены, прощены в своих грехах и обрели вечное упокоение, что они живы, они рядом с нами и ждут от нас поминовения, так как в этом поминовении, в этой молитве есть великая радость и залог того, что и о нас по смерти воспомнят и помолятся.
Наши павшие обладали истинной любовью, повторяет священник, ибо любовь это не чувство, не какой-то набор ощущений, а способность к самопожертвованию ради других, ради высокой цели, это бескорыстное и искреннее деяние.
Тот, кто отдал жизнь за нас с вами, кто не щадил души и тела, — спасен, и ему прощены все грехи (даже грех безбожия и грех нераскаянности).
Вечная память!
Вечная память!
Вечная память!
Звучит над Барабой, и я вижу, как лица односельчан, собравшихся у памятника с бронзовыми списками погибших, разглаживаются, светлеют, я вижу — губы некоторых из них беззвучно шевелятся, как бы стараясь что-то произнести, как бы сами собой пытаются подпеть, но тщетно, пока тщетно, лишь две или три старушки решились вслед за священником наложить на себя крестное знамение.
Но… все-таки…
Вот именно, именно так.
Вокруг меня — братья и сестры.
* * *
У меня перед глазами стоит образ священника, одного из девяти, проехавших поездом «Памяти» через всю Степь.
Он застыл в полном одиночестве у ограды сельского кладбища. На все четыре стороны от него — пустынное поле, наполненное дыханием холодного ветра.
Село едва видно за порожней талой рощицей.
На кладбищенских березах лопаются почки, оградки подправлены, кресты и звезды подкрашены, завтра Родительский день. Но завтра священника здесь не будет, как не было уже пятьдесят с лишним лет.
Поэтому он стоит один посреди степи, стоит у могил отцов, дедов и прадедов и читает молитвы, поет тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
Он молится, потому что это необходимо.
Потому что так было и так должно быть всегда, во веки веков.
* * *
Сколько земли по обе стороны Великой Магистрали.
И везде, через каждые двадцать-тридцать верст живут люди — часто уже не молодые, оставленные, иногда забытые даже детьми, покинутые на произвол судьбы правителями, но вовсе не собирающиеся помирать, не озлобившиеся, не изверившиеся.
Бараба. Земля отцов
Изъезженная, исхоженная, удобренная телами и пеплом, таящая в себе следы и кости былых эпох, укрывшая чертополохом и самой жгучей на свете крапивой обрушенные сгнившие срубы сотен исчезнувших деревень.
Болотистая, солончаковая, озерно-камышовая, березово-ковыльная, золотопшеничная, золоторунная, золотоствольная, дивная-дивная Степь, где синь пронзительна и высока, где с неприметной гривы видно сразу несколько озер, как на Среднерусской равнине с холма было видно купола сразу двух-трех церквей, где царствует только ветер, поскольку некому и нечему его здесь остановить, где облака обкладывают горизонт, словно темное воинство, и мчатся по периметру пространства, гонимые волей Хана-ветра, а свист его, неумолкающий свист в камышах, так же бесконечен, как бесконечны дороги Барабы — гравийные высокие трассы с черной водой в канавах по обе стороны, а гравий скрипит и перестукивает под колесами, как длинные-длинные четки в пальцах неведомого монаха, а земля плоская, словно золотистый блин с черными подпалинами, такая плоская, что сквозь рев машины и мерное подрагивание жесткого сидения тебе начинает чудиться, что ты находишься на самом краю гигантской долгоиграющей пластинки и она медленно-медленно вращается под тобой, меняя очертания облаков и расположение березовых околков на самом краю видимого мира.
Хоть закричись.
Хоть во всю глотку запой.
Хоть стреляй в зенит.
Ни отклика, ни эха — ничего.
Звук исчезает, поглощается, тонет в омуте неба, только вороны с грохотом сорвутся с края ближайшей рощи, застрекочет сорока да чуть изменит курс клин гусей высоко над головой.
Бараба!
Гулкое округлое имя, имя, неотъемлемое от самой земли.
Закольцуйте его, замкните, впишите в круг и получите модель бесконечности, своеобразную ленту Мебиуса, четки, которые можно перебирать и перебирать, размышляя о том — что же такое наша Отчизна, земля отцов, Бараба…
* * *
Две с половиной тысячи озер насчитали географы на плоскости этого эпического пространства. Блюдо диаметром в семьсот верст, а посреди его, в самом центре — Чаны — Чан, материнское озеро, начало всех озер и болот, водное лоно, на вкус солоноватое, словно кровь, и даже очертаниями своими напоминающее фантастических размеров амебу с растекающимися языками протоплазмы.
Местные жители, видимо интуитивно воспринимая Чаны как протосущество, называют эти языки-ложноножки «отногами». Отноги занимают больше половины из четырех тысяч квадратных верст водного зеркала Чанов, они полны рыбой, птицей, это камышовый лабиринт, готовый проглотить любого непосвященного, запутать, затянуть, убаюкать своим шорохом, обернуться то сухим островком, то мелководьем, то трясиной.
Отноги живут своей жизнью, своими циклами, они дышат, то усыхают десятилетиями, то растекаются, заползая все дальше в глубь Степи. Еще три века назад Чаны были в три раза больше, тогда это озеро по-видимому и впрямь было самым обширным в мире, но и сегодня на планете едва ли найдутся еще три-четыре подобных ему.
На берегу Чанов можно себе живо представить, какой была земля после отступления Ледника. Континентальное половодье, извилистые полосы суши, то и дело переходящие в болотца, то большие, то малые протоки, плоское пространство, на котором преобладают водные зеркала, острова и полуострова, а надо всей равниной, полной безмолвия и ветра, — темнобокие башни облаков.
В этот раз мы остановились на гриве, на оконечности мыса. Место открытое, чуть возвышенное, озерный ветерок сдувает с него злобные эскадрильи паутов, комарье днем почти не докучает, слышно, как чавкает в камышах сазан, как где-то вдали ушла за остров моторка, и снова тишина, состоящая из дыхания горячей земли, биения кукушки, большого неба с ослепительными столбами туч и легкой шепелявости волн где-то под боком.
Пахнёт прохладой, наклонится камыш, и снова зной, и снова лежишь на спине с удивительным ощущением полёта. Хорошо запрокинуть руки, замкнуть их перед собой прямоугольником и, словно в раме, бесконечно наблюдать меняющиеся небесные пейзажи.
Ощущение подлинности.
Между тобой и миром нет ни художника, ни фотографа, ни тем более телевизионного ретранслятора, реальность, а не виртуальность бытия позволяет воспринять масштабы ЦЕЛОГО. Душа плавает в колыбели первообраза, лишенная страха и сомнения, ей некуда спешить и не о чем беспокоится, в этом состоянии не существует времени…
Я думаю, таковым и было сознание палеолитического человека, кто не ведает о том, что есть время, не может испытывать страх и тревогу, это сознание прежде всего созерцательное, не ограниченное рамками числа, это возможность наблюдать явление не час и не день, а как бы непрерывно, поскольку и жизнь твоя не ограничена какими-то сроками, она перетекает из поколения в поколение, душа Предка присутствует в тебе непосредственно как бы продлевая взгляд до горизонта земного разлива и небесного круговращения, и уже не важно — в сотый или в тысячный раз появился на свет младенец, носитель этого взгляда, приходит и уходит Ледник, леса сменяются тундровой степью, мамонты и носороги откочевывают вслед луговому цветению талой земли, изменяется расположение главных созвездий над твоею головой, а ты лишь восхищенно следишь, как один круг бытия, замыкаясь, порождает другой, как природа, разворачивая ландшафт за ландшафтом, убаюкивает катастрофические спазмы космоса, как через каждые шестьдесят поколений на смену старых забытых бед приходят новые, казалось бы, неведомые, но, на самом деле, еще более забытые, дремавшие в недрах Золотой змеи Вселенной… и только Полярная звезда, Золотой Кол, вбитый Творцом в сияющую бездну небосклона, остаётся вечен и незыблем, словно символ абсолютной истины, неделимой единицы — НАЧАЛА.
Ты — пробивший покров сотворенья —
Турий рог,
Знак рождения, мера вращенья,
Ось миров.
Ты возник на холме небосвода,
В той дали,
Где лишь хаоса сонные воды
Быть могли…
* * *
Тишина даётся человеку для обретения силы.
Тишина — есть всегда пауза.
За паузой следует испытание, взрыв, катастрофа.
Один всемирно известный литератор, бывший в юности прекрасным русским поэтом, говорил в своей Нобелевской речи о том, что писание стихов является гигантским ускорителем сознания. Мысль удивительная по своей глубине и точности. После паузы, тишины, после периода внутреннего постижения — стихотворение есть результат, сброс, некий иероглиф, который поэт молниеносно начертал на рисовой бумаге, после того как долго-долго стоял у окна, обмакнув кисточку в тушь. Этот акт катастрофичен и по сути своей — разрушителен для автора как некоего организма, инструмента, проводника творческого разряда, но если бы кто-нибудь мог сравнить сознание и душу автора до и после События, то подивился бы тому, какой преображающей энергией обладает стрела Аполлона, как просветлел, прояснел и напитался любовью небосклон дремавшего сознания.
Я думаю, что этими же свойствами обладают и природные катаклизмы.
* * *
В камыше почти прекратилось движение, зной и духота усилились, только высоко в небе на Чанами происходили какие-то неведомые процессы, сотни оттенков белого и голубого, хороводы титаноподобных мифологических существ, текучие метаморфозы барочных мраморно сияющих храмов, неожиданные завихрения, похожие на вымах ангельского крыла, жизнь немая и выразительная, но тревожная по сути.
Вода остановилась.
После обеда, когда солнце стало клониться к западной стороне озера, в полуденных далях у самого горизонта вырос гигантский ослепительный столб, он клубился и рос, с каждой четвертью часа поднимаясь всё выше и наливаясь слепящим светом ледниковых пиков, он выделялся даже на фоне разнообразия облачной панорамы — явление притягивало внимание и потрясало своей грандиозностью. Ничего подобного прежде наблюдать не доводилось.
Это не было смерчем.
Это не было обыкновенной облачной массой.
Это было как бы актом оплодотворения воздушной стихии, на глазах зарождалось новое существо природы, мы наблюдали, как сходятся силы в центре грядущей катастрофы. Но мы и не подозревали — что произойдёт уже через некоторое время. Завороженные, мы следили за манипуляциями невидимого Демиурга, который разворачивал полотно за полотном, пантомиму за пантомимой на необозримой сцене озерного мира.
Жест за жестом, образ за образом. Это было красиво…
Увы, о том, что нам предстоит пережить, мы узнали скоро, не прошло и полутора часов
* * *
Сначала вдруг исчезло солнце. Вся южная сторона неба вдоль горизонта принялась темнеть, наливаясь свирепым фиолетом, над образовавшимся тёмным фронтом как бы сами собой возникали новые дымчато-белёсые тучи и тут же поглощались валом наступающей стихии.
Стало совсем тихо.
Картина разворачивалась словно в немом кино.
Тьма накатывала с размахом, далеко охватив и восток и запад, так, словно вырвалась из причудливых миров Толкиена, так, словно по воле грозного кайчи, ожили силы алтайского эпоса Маадай Кара…
Стена двигалась.
Авангарды туч достигли дальних островов.
И вот поперёк фронта опрокинулось первое древо белой молнии.
Мой товарищ побежал в машину за видеокамерой:
— Это надо снимать, это фантастика!
Пока устанавливал штатив и настраивал аппарат, ветвистые трещины стали вспыхивать вдоль всей грозовой крепости, а он, чуть суетясь, всё бормотал, всё приговаривал:
— Чёрт возьми, какая силища! Откуда что взялось? Как бы это снять получше… Только бы аккумулятора хватило…
На панели камеры зажегся алый огонёк записи, объектив ухватил новый разряд и мы как азартные зрители возликовали.
Весь наш бивак в количестве трёх человек сгрудился за спиной оператора, подсказывая наперебой — куда крутить, где долбануло, где вот-вот долбанёт, и, чаще всего с запозданием крича: «Мотор! Давай! Жми! А-а, валенок, опять опоздал!..
Пока мы резвились, придя в весёлое возбуждение, грозовое пришествие обнаружило свой нешуточный голос. Гром, словно увесистое чугунное ядро, плюхался где-то в отдалении, но по басовитости и некой внутренней литосферной вибрации внятно ощущалось, что на нас катит по меньшей мере палеолитическое стадо мамонтов неисчислимого поголовья и, судя по всему, пожар их гонит самый что ни на есть всепожирающий.
* * *
Возбуждение не проходило.
Но чувства опасности так и не возникло.
Странно устроен человек, он часто дрожит и трепещет, сталкиваясь в конфликте с себе подобным, испытывает стрессы, глотает успокоительное, но всё равно от страхов, тревог, страданий — валится, сражённый инфарктом, инсультом, нервным расстройством или любой другой современной хворью. Однако моменты стихийных катастроф мы зачастую встречаем в состоянии заворожённо-восхищённом, и нередко предчувствие такой встречи вызывает эйфорическое веселье.
Нечто подобное я испытывал в тот достопамятный миг, когда мой автомобиль по неведомой причине сошел с трассы, и пока я летел над метёлками полыни, в те доли секунды перед ударом о землю и четырьмя переворотами, очень хорошо помню — в душе вздымались дьявольский восторг, азарт и дерзость.
Та давняя катастрофа была локальной, частной, моей. Но она позволяет кое-что сопоставлять, моделировать, делать выводы. Её результатом было столь новое понимание самого себя, что если бы сей процесс протекал естественным, эволюционным путём, то вряд ли в принципе смог осуществиться.
Если я правильно понимаю, в соперничестве со стихией есть соблазн титанизма, нечеловеческой гордыни, и если герой, пройдя через катастрофу живым и здоровым (хотя бы психически), не бросается на поиск нового испытания, вернее сказать — навстречу гибели, а научается управлять собою в моменты пиковых нагрузок, то, стало быть, в следующий раз он этого соблазна избежит.
Как бы сказали биологи: устойчивость вида усилится…
Грозовой фронт вступил в соприкосновение с ближайшими, доселе спокойными, слоями воды, он как бы смазал светлую гладь и привёл в движение растительность по берегам.
Стал накрапывать дождь.
— Зачехляй камеру, Лёша! Пора прятаться в норку.
— В какую норку? Гляди, как она прёт. — Лёша привычным, но быстрым движением уторкивал видеокамеру в специальный кофр, после чего, для верности, засунул всё это в большой полиэтиленовый пакет. — В таком темпе нашу палатку смоет через десять минут со всеми причиндалами.
— Сворачиваемся! Всё тряпьё и припасы в багажник. В машине пересидим. Авось, прямого попадания не будет…
* * *
Чернота уже пыталась досягнуть до зенита. Фиолетовокудрое воинство, подобно полчищам Дария, выпускало перед собой серые стремительные стрелы перистых туч. Эти стрелы, накрыв нас тенью, уже смыкались в сплошной покров, но и он был разодран в клочья сухим треском электрического разряда, который, словно камень, пущенный из пращи, сначала шелестел, шкворчал, рикошетил, и, наконец, словно тупое гулкое бревно, ударил в землю прямо перед нами, ослепляя, сотрясая до самого основания, почти лишая сознания.
Полил ливень. И наступила ночь.
Я резко попытался задраить окно, но стекло заклинило (сколько раз собирался подтянуть тросик), дождь захлёстывал, уже и рукав рубахи и штанина были мокрыми, в отчаяньи я надавил на ручку стеклоподъёмника, трос лопнул…
* * *
Вода, стекая по дверце в салон, уже стояла в ногах. На крышу и на капот лило сплошным потоком.
— Одеяло давай!
Приоткрыв дверцу и накинув на неё кусок клетчатой шерстяной ткани, мы вновь захлопнули машину. Стало куда спокойнее. По крайней мере, наводнение на ближайшие несколько часов уже не грозило.
Пока мы суетились, реальность перестала существовать.
Исчезло всё — берег, вода, небо, исчезли привычные звуки, даже ощущение верха и низа как бы стало вызывать сомнение, исчезло время как таковое, мы плавали в некой утробе или даже в яйцеклетке, а вокруг извергались и клубились силы хаоса, разрушения, бездны.
Я попытался включить фары.
Даже «дальний свет» пробивал ливень лишь метра на два, увязая в сплошных зарослях влаги.
С перепугу включенное радио лишь добавило треску и грохоту в салоне.
Становилось понятно, что мы влипли по-крупному.
— Такой ливень не может продолжаться долго, мы же не в Индии.
— Будем надеяться, что к тому моменту, когда он прекратится, Чаны ещё не выйдут из берегов.
Но он только усиливался. Перерывы между вспышками молнии сократились до секунды, гром лупил над самой головой, вминая в сидение, размазывая, лишая даже двигательной способности.
Наконец, наступил такой момент, когда полотнище магниевой вспышки стало накрывать нас целиком и не на долю секунды, а как бы навеки, выпивая зрение и поглощая душевные силы… мы зависали посреди лютой белизны высвободившегося атмосферного электричества, свет разряда нас пронизывал, пауза длилась, но это была не пауза прежней тишины, это была пауза внутри катастрофы, она завершалась мраком, новым ударом ливня и таким грохотом и вибрацией материи, что возникали дикие мысли об эпицентре землетрясения.
В таких перипетиях сохранить присутствие духа помогает только молитва.
Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог…
Да, да, есть упоение и наслаждение, и восторг, только почему, почему во всём этом «бессмертья, может быть, залог», не объяснил Александр Сергеевич, сокровенное это, сакральное, не для невежд, не для профанов, не для черни. И народу, и отдельному человеку катастрофа посылается для самопознания, нельзя жить в катастрофе, поскольку цвести, созревать и плодоносить можно лишь в мире с миром и самим собой. Но родовая память и способность объять необъятное открывается лишь в моменты пограничные, терминальные, когда ты вдруг вспоминаешь, что сотни раз уже испытывал нечто подобное, вернее, не ты, а твои предки назад тому неведомо-незнаемо сколько веков. Коли ты жив, значит и они остались живы, значит они нашли выход и не просто нашли, а укрепились, выросли и умножились духом.
* * *
Гроза схлынула.
Это произошло уже за полночь.
Вяло переговариваясь, мы выползли из машины, размять затёкшие члены, выпить по рюмке водки за удачное окончание спектакля, который счастливо оказался мелодрамой, а не трагедией, и оглядеть место боевых действий.
Буря миновалась.
Дождик ещё слабо накрапывал, но в просветы туч уже проглядывали звёзды.
Я оглядел горизонт по периметру, озеро темнело всей своей равниной на все четыре стороны света. Театр вновь расступился до пределов великой Барабы! А по его краям, вместо кулис, полыхали зарницами грозы. Их, по всему обзору, я насчитал восемнадцать, ровно по девять — на восток, запад, север и юг.
Раскатились, словно клубки огненные.
Теперь пойдут хлеба поливать…
Новосибирск, 1994—96 гг.
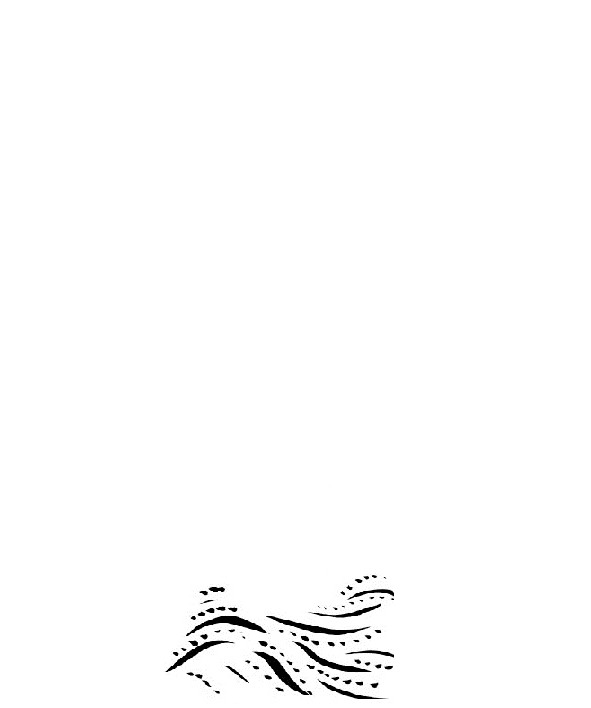
Там, где Хорс настигает лошадь
Хакасская палеообсерватория Сундуки
Люблю камни.
Обкатанные рекой или морем и живущие в воде подобно неподвижным существам с пятнистым переливчатым панцирем. Люблю валуны, покрытые лишайником, полупогрузившиеся в степной дёрн, горячие от зноя и пахнущие полынью и солнцем. В тайге эти крутолобые создания по брови затянуты мхами, в тайге они чаще всего чёрные с влажным отливом, а мох в зависимости от места и времени года может быть любого цвета — и светлый, и голубой, и рыжий и густо-малахитовый. Морские камни похожи на эмбрионы, тучи разноцветных перекатывающихся с места на место шелестящих друг о друга молекул, в них есть только геологическая память, они не имеют окончательной формы, они тускнеют на воздухе и оживают в золотисто-рябом колыхании влаги. Камни степей и горных долин разумны, они лежат здесь давно, очень давно, им и самим уже не вспомнить когда и какая сила поместила их под этим небом. Каждая щербина, каждый выступ, каждый скол — cловно морщина, словно шрам, словно извилина в гранитном черепе; следы великих событий и мировых катастроф запечатлелись на поверхности камня лишь некоторой шероховатостью, трещинкой или особым фиолетовым оттенком скального загара… Простое течение лет, ливни, снегопады и паводки не отражаются на буддистской задумчивости камня. Но — ударит молния, сорвётся лавина, проползёт ледник, огонь пожара отгрызёт кусок от покатого бока, мудрец присядет на краешек, художник оставит на лбу замысловатый значок… вот и зарубка на памяти, вот и событие, будет о чём подумать, будет что сохранить в каменном сердце, тем более, что следующее событие случится неведомо когда.
* * *
На моей книжной полке над рабочим столом лежат дорогие сердцу камни из тех мест, где когда-то побывал я или некая моя ипостась.
Тонконогий неолитический олень на плоском осколке бурой породы, я его спас, выкопав из отвала, оставленного взрывом. Чуйский тракт от этого взрыва стал немного шире, а скала Калбакташ недосчиталась нескольких десятков петроглифов, уничтоженных, превращённых в клыкастые глыбы и щебень, которые бульдозер методично сгрёб с трассы на каменистый пляж Чуи. Олень ожил и теперь пасётся у меня на полке, словно бы это альпийские луга вдоль Каракольских озёр.
* * *
Древний-древний чоппер из мутно-чёрного с проседью обсидиана, это глухой палеолит, начало человеческого рода, тем более, что найдено это каменное рубило времён Адама недалеко от подножия горы Арарат в Армении. Вещь страшная и красивая, я всем говорю, что именно этим орудием было совершено первое на Земле убийство, от четырёх точек скола по вулканическому стеклу расходятся коцентрические круги, острие до сих пор внушает мысли о сокрушительной пробойной силе.
Родства и крови есть меридиан
В душе, как ночь, как небо молодой…
Мне лёг в ладонь седой обсидиан —
Сама собой нашла его ладонь.
Покатый вулканический миндаль,
Обколотый умелою рукой.
Какая глубь, какая, Боже, даль
И трепет проникающий какой.
Клык в кулаке, оскаленная пасть…
Удар — и череп времени пробит!
Какая страсть, какая, Боже, власть
И злая мощь в тебе, Палеолит.
И кто сказал, что взявший в руки меч
Или рубило, Господи, прости,
Сумел в себе звериное отсечь
И образ мира в сердце обрести?
О, каинова огненная кровь!
Обсидиана чёрное стекло
Не помнит слёз о лучшем из миров,
И — сколь веков по лезвию стекло.
* * *
Подарки Таманской косы, изъеденные солёной влагой Боспора Киммерийского куски песчаника, блёклый галечник и античные черепки.
* * *
Кривые ракушки и окаменелости с острова Кипр — такого сухого известкового цвета, что не покидает ощущение их тысячелетнего пребывания на прямом солце и солёном ветре, где только и есть берег, скалы да мимо плывущие герои всевозможных одиссей.
* * *
А рядом со средиземноморскими сувенирами лежат золотисто-коричневые с нежными пятнами ржавчины на боках камешки из Хакасии. Они тёплые и по цвету и на ощупь, формы их созданы самой природой с той степенью грубоватой гармонии, которая вызывает ощущение подлинности и жизни. Камни и впрямь напоминают живых существ, первый холмообразен и молчалив, словно панцирь спящей черепахи, на боку у него то ли стихией, то ли ещё кем аккуратно выгравирован лежащий полумесяц. Другой напоминает голову змеи или угреподобной рыбы, намёк на жаберную щель остаётся лишь намёком и, если повернуть камень левой стороной, то просматривается прикрытый от летнего зноя глаз некоего древнего существа; странно, но образ начинает жить сам по себе, и уже кажется, что склонённая в каменном изгибе голова рептилии чему-то загадочно и чуть снисходительно улыбается.
Третий мой хакасский камень с одной стороны похож на молоток, каким вполне можно было раскалывать кости прежде чем высосать из них сладкий мозг, а с другой — это фигурка, каменный истуканчик, прообраз степных изваяний, он так весело торчит у меня на полке, словно полон воинского духа, доблести и оптимизма…
В. В. Розанов любил по вечерам разглядывать древние монеты, он брал в руки экземпляры своей коллекции и отправлялся в путешествие по мирам человеческой истории. Монеты — хороший проводник, но память у монеты не так глубока, камень — сильнее и чище.
* * *
Погружённая в забытьё черепаха… она плывёт по великой реке Океан, а на спине её покоится Земля со всей полдневной суетою обитателей.
Чуть улыбающаяся, проглотившая свой хвост золотая змея Космоса — символ вечного обновления и непреходящих катастроф, за которыми начинаются новые циклы самопожирания и самовозрождения.
И, наконец, человек, человечек, стойкий каменный солдатик, голова — как молоток, он плывёт на черепахе и наблюдает как в небе сжимает и разжимает свои кольца гремучая змея Вселенной.
* * *
Мы ехали на Сундуки, не зная толком где это и что это. Так задумалось, захотелось, что-то узнали от знакомых, кто-то из приятелей побывал или собирался побывать там с экспедицией профессора Ларичева, я слышал, что в те места наведывается красноярский художник Николай Рыбаков, и уже это о многом говорило, такой художник, как Рыбаков, куда попало не поедет…
Итак, Хакасия. Трёхлитровый BMW, подобно хорошему скакуну, покрывает расстояние в 1200 вёрст за световой день. Но мы никуда не торопимся. Московский тракт до Кемерово по родной лесостепи, на дороге караваны изрыгающих солярку КаМАЗов, мост через Томь, за кузбасской столицей — почти сто километров горной дороги по Кузнецкому Алатау, тайга, черневая тайга, пихты, пихты островерхие и тёмные, как траурный креп, в промежутках — массивы глухого осинника, где гнилой валежник, буреломы и папоротник, на склонах гор видны проплешины вырубок, рыжие гари, останки непонятных сооружений, разваленные срубы, брошенные полуистлевшие стеллажи брёвен, деревни если и встречаются, то хилые, состоящие из нескольких дворов, с избами, покрытыми ржавым и прохудившимся рубероидом, кроме трассы Москва — Владивосток, дорог практически нет, кругом лесоповальные угодья в прошлом могущественной системы Мариинских лагерей. В сороковые-пятидесятые годы тайгу здесь почистили основательно, но судя по всему она зализывает раны, без дорог человеку здесь делать нечего, а дороги в таком рельефе дело для нас, слава Богу, не подъёмное.
На реке Золотой Китат решили сделать привал, сготовить обед, помыться и немного отдохнуть, до Мариинска ещё восемьдесят вёрст, из них шестьдесят по горной тайге. Пока двое моих товарищей разводили костёр, я решил набрать грибов и нырнул в сумрак пихтового леса. Буквально за четверть часа, прыгая с кочки на кочку и обламывая пихтовые ветки, я набрал на сухих островках под сплошным хвойным шатром полный котелок рыжиков, моховиков и маслят. Из-за плотной стены леса импульсами доносился шум трассы. Где-то невдалеке журчала река. Я отошёл не более чем на триста метров от бивака. Но — тропы не было. Я попытался вернуться. Пошёл налево, направо, прямо, назад, и везде попадал либо в непроходимые заросли, либо в болото. Я занервничал, попытался пробраться к реке, но увяз в чаще. Я ломонулся в сторону трассы, но почти по пояс провалился в болото. В пору было растеряться, но, ей-богу, глупо заблудиться в двух шагах от автомобиля. Тем не менее, преодолев смущение и растерянность, я принялся кричать, и лишь, услыша изумлённый отклик товарищей, как-то сразу сориентировался и буквально за секунды выбрался из дебрей на свет белый.
Чертовщина.
Кто бы рассказал — не поверил.
А как ходить по этой тайге, если углубиться в неё не на триста метров, а, хотя бы, километра на три?
А ведь я с детства, лет с двенадцати хожу по таким лесам. Но, видимо, это совсем гиблые места. Страшно представить, что такая тайга тянется на пятьсот вёрст к югу полосой в сто километров минимум — вплоть до Горной Шории.
* * *
Мариинск — город одноэтажный. Ему два с лишним века. Столица тридцати уголовных зон и местечко, где уже сто лет производят великолепную, благородную, чистую, словно ангельская песнь, водку.
Надо признать, что это единственное достоинство сего гоголевского, чеховского, салтыково-щедринского места.
Время среди этих домишек словно замариновано. Нищета, уныние, глушь. Выбраться из его переулков-закоулков — воистину физическое облегчение.
* * *
После Кузнецких гор и Мариинска дорога идёт по открытым местам, дальше или ближе, но всё вдоль русла Чулыма. Дюжина труб ачинского энергетического гиганта не менее полутора часов маячит то впереди, то за спиной. Незаметно промелькнул городок Назарово с патриархальной плотиной, для чего-то замкнувшей Чулым. И, наконец, прямая, бесконечно покатая лента, упавшая среди чистого вольного поля, ровный-ровный путь на Юг.
* * *
Холмы и степи Хакасии не приближаются, не возникают за ветровым стеклом из-за рощиц или неких отдалённых возвышенностей. Хакасия наступает как другое состояние, как полдень, как Новый год, как некое царство, которого ещё мгновение назад не было, ан вот, оно уже и есть, окружает тебя, поскольку ты в него попал по чьей-то доброй воле.
Что изменилось?
Всё. Всё в том смысле, что чуть поплыли привычные мерки, другими стали — цвет, свет, линия, ощущение перспективы, небо то ли побледнело, то ли сделалось выше и прозрачней, восток и запад распахнулись до предельно допустимых границ, выдавая своими очертаниями ощутимую закруглённость горизонта.
Я вдруг начинаю понимать что такое подлинная панорама. Барабинская степь не даёт панорамной картины: слишком много неба и слишком плоское и невзрачное поле по периметру. Горы Алтая грандиозны и монументальны, но там панораму возможно наблюдать лишь с вершины хребта и то лишь при хорошей погоде, в долине — горы над тобой самодовлеют, ты на них смотришь словно бы из колодца, вместо полёта и праздника пространства, ты здесь чувствуешь могущество Творца и ничтожество сидящего внизу. Алтай — это ярко выраженное волевое мужское начало, Алтай — это правота гениального художника, это орган в Домском соборе, это в чём-то даже агрессия и насилие.
Хакасия — полная противоположность золотой стране скифов.
В Хакасии нет четких границ, нет острых углов и резких линий, Хакасия полна женственности и материнства, словно древняя керамическая пиала полна до краёв молока кобылицы.
Хакасия — пологое лоно, золотые холмы, озёра, степи и синие округлые горы в три ряда вдоль всей обозримой оконечности мира.
* * *
На прибрежных отполированных ледником до блеска матёрых валунах Амура-батюшки можно отыскать удивительную галерею личин. Личины высечены на камне в незапамятные времена, возможно, потомки народа, их запечатлевшего на поверхности гигантских валунов, живут сегодня где-нибудь на другой стороне планеты, если вовсе не растворились, не вымерли, не исчезли вместе со своей мрачной эстетикой духовидения. Это именно личины, а не лица, не маски, не какие-то стилизованные изображения маскарадных чудовищ. Это образы Нижнего мира, с которыми, очевидно, соприкасались древние художники неведомого племени. Именно такие изображения получают на своих рискованных снимках спиритические фотографы, нечто подобное можно встретить в любой культуре, но, как правило, это всегда связано с проявлением тёмных стихийных сил.
Академик Окладников, во времена, когда ещё подобная роскошь позволялась науке, издал целый альбом в переплёте, на мелованной бумаге, где отобразил всю амурскую галерею личин, сделал её достоянием не только случайных рыбаков, искателей женьшеня или туристов-браконьеров, но — буквально всех, галерея личин стала предметом культуры, ещё одной дверцей в лабиринт первобытного сознания, хотя сам лабиринт от этого не перестал быть лабиринтом.
* * *
Я вспомнил об этом альбоме посреди хакасской степи. Здешние камни являются как бы мерой жизненного бытия, путь пролегает от камня до камня, от горы до горы, от скалы до скалы, каменный столб, каменная плита, каменная кладка на вершине холма, или изваяние, или жертвенник, или странная, загадочная оградка с вкопанными по пояс плоскими осколками сланца. А у подножия холмов и по берегам речек — целые залежи, целые россыпи, целые кладовые самых различных каменьев, каменюк, камушков. Здесь и глыбы песчаника от расщеплённой эрозией скалы, и окатыши галечника из гранита, мрамора, кварцитов, вулканического стекла и пемзы, здесь можно подобрать и полудрагоценные осколки, которые притащило полой водой с близлежащих Саянских и Кузнецких гор, а в сухом жёлтом поле, среди кустов степной травы, при везении отыщешь нефритовый наконечник стрелы, пластину ножа из цельного отщепа халцедона или даже полуиспользованный нуклеус с осколками палеолитического производства.
Не редки наскальные изображения.
Встречаются и личины.
Но вот что интересно, хакасские личины не имеют в своих очертаниях, в своём образе тёмной, инфернальной проекции, которая свойственна амурским и многим другим подобным изображениям. Эмоция, идущая от них — эмоция радости, если это и духи, то духи светлые, больше похожие на ангелов, недаром неотъемлемым элементом многих изображений являются лучи вокруг головы запечетленного духа.
* * *
Подобную каменную графику я встречал и на Алтае.
Это одна рука, одно сердце, один Род.
Народ же, который пользовался этими символами, несомненно, знал нечто высокое и сокровенное, несомненно и то, что светлое знание его не сгинуло в веках.
* * *
Сундуки… Это чашевидная долина в самой серёдке Хакасии, обрамлённая с севера и северо-востока восемью невысокими горами, которые в сторону долины имеют пологий спуск, а наружу, вовне, в степь обращены своей обрывистой стороной.
Они выстроились полукругом по линии какого-то древнего разлома.
Это словно какая-то полуразрушенная крепостная стена или циклопических размеров Колизей, возраст которого превышает миллион лет.
На самом деле — Сундуки, вероятно, первая и древнейшая на Земле обсерватория…
* * *
Посох, чаша, диск и ожерелье-гривна…
Эти предметы относятся к разряду самых-самых древних.
До последнего времени я не мог себе объяснить, не мог ни понять, ни предположить — почему именно так случилось, произошло, почему эти, а не другие предметы связаны с первоосновой художественного сознания древнего человека.
Сегодня я, кажется, догадываюсь где сокрыт ответ.
Эти предметы, наверное, первые абстрактные образы, некие предтечи понятий, их не существует в природе, они придуманы, созданы, сотворены.
Посох объединяет в себе признаки священства, власти, мудрости, в нём несомненное мужеское начало, он одновременно и жезл, и нож, и меч, и фаллос.
Чаша противоположна посоху, чаша как лоно, как форма для наполнения, чаша — сосуд, хранящий истину, питательный источник, в котором может быть и молоко, и чистая вода, и божественная сома. На поясе большинства тюркских изваяний обязательно присутствует кинжал, а в руке — небольшая пиала.
Диск — небесный символ, по преимуществу солнечный, но одновременно это и животворение, и хлеб (лепёшка, блин), и благодатный свет, и совершенство круга, и, конечно, колесо («коло» — круг). Из этой точки берёт начало всё астрономическое знание, за ним вся математика, а, стало быть, и вся механика вкупе с технологическим прогрессом.
Гривна — более сложный знак, гривна носилась на груди и представляла собой стилизованную спираль-лабиринт. Гривна, несомненно являлась отличительной принадлежностью древнейшего жречества. Уже позже, в неолитические времена, гривны стали изготавливать из металла, бронзы или золота, а первоначально гривна представляла собой тонкую овальную отполированную пластину из хорошего камня, на пластине в зашифрованном, закодированом виде содержалось всё то знание о небесных и земных циклах, которое палеоастрономы смогли накопить за многие тысячелетия наблюдений небесного свода. Точки, лунки, линии, зигзаги, вроде бы ни о чём не говорящий узор, но достаточно представить, что в сознании Предка ещё не существует того, что мы называем «знак», «символ», что всё его представление о мире построено в какой-то другой системе образов, что, возможно, знание открыто ему изнутри, по иному абсолютному каналу, которым дозволено пользоваться как раз тем, кто является частью Целого и не противоречит своим уже разумным существованием разумному устройству природы. Тогда эти ничего не значащие лунки, зигзаги, черты и резы обретают некий смысл, они становятся и числовым и образным ключом, с помощью которого Предок мог погружаться в суть небесных и земных процессов, постигать причины катастроф, предсказывать фазы благополучного существования… Думаю, что магия — гораздо более позднее изобретение человечества, все её приёмы есть лишь жалкие остатки всеобъемлющих способностей, но сохранённые в разрозненном варварском виде одичавшими после неведомых катаклизмов и утратившими способность к восприятию Целого потомками.
* * *
Рождение Адама есть рождение человека, лишённого памяти Рода. Адам — индивидуальность, самость, глухота,
* * *
В России до сих пор сохранилось атавистическое и одновременно архаическое начало, когда приходящий в мир не воспринимает себя как нечто исключительное, самоценное, уникальное. Русский или евразийский человек не редко относится к своему телесному бытию спокойно, фатально, поэтому терпеливое несение своей судьбы — не признак тупости и рабства, а корневое понимание себя как частицы великого потока. В этой системе координат не может быть ни страха, ни одиночества.
* * *
Всё-таки Блок был прав: впереди двенадцати красногвардейцев-пролетариев действительно шёл Христос.
Когда вырождается аристократия, а патриархи не могут уже хранить чашу с кровью Христовой неосквернённой, тогда, во избежание второго грехопадения, подымается ветер — ветер, ветер на всем Божьем свете — это не умещается в сознании, голод, эпидемии, массовые убийства, ненависть, правовой и нравственный релятивизм среди миллионов лишь вчера православных и верноподданных, а во главе всего этого, словно некий «сокрытый движитель», высший промысел — Христос Всевластитель, Пантократор, хотя, если вспомнить образы Сикстинской капеллы в Ватикане, то почему бы и нет.
Адамово проклятие, проявившееся в просвещённых и аристократических сословиях российского государства на закате империи, как и в эдемские дни, вновь повлекло на себя страшное возмездие. Поэты не врут. И «Возмездие», и «Двенадцать» — истина.
* * *
Но не только Блок.
Я знаю, насколько честен Гумилёв, когда он пишет о рабочем, который уже отлил для него пулю. Я верю Есенину, который с великой печалью оплакивает патриархальную деревню, но яростно желает перевоплощения родины, другой стальной Руси, хотя понимает, что плыть до нового берега придётся по реке, полной трупов, выгребая вместо вёсел обрубками рук.
Но, более того, я верю и Маяковскому.
Маяковский как не кто другой выразил порыв 150 миллионов — прочь от прошлого. Маяковский гениален во всём. Даже его поэма «Владимир Ильич Ленин» читается сегодня как правдивейший художественный документ о том, что же всё-таки происходило.
* * *
Блаженны нищие духом, блаженны чистые сердцем, не отягощённые сомнением, свято верящие в идею справедливости, в торжество царствия небесного, блаженны не боящиеся смерти, сгоревшие в огне Великой революции.
Им была открыта память Рода.
С их помощью Христос вывел Россию из лабиринта телесных прелестей и самоуверенного знания. Не стало ни пыльных вериг культуры, ни кастовых пут.
Зёрна от плевел, любовь от фарисейства, жизнь вместо рассуждений о жизни…
* * *
Тургенев в «Записках охотника» описывал отношение к смерти русских людей как нечто диковинное, не доступное пониманию, но несомненно достойное уважения.
У Бунина те же самые картины вызывают ужас, неприятие, отчасти даже брезгливость («Деревня»). Бунин, как парнасский житель, не удостоил даже сочувствия народ, впавший в безумный самоубийственный транс. А уж предположить, что этот транс открывает трансцендентальные горизонты он и вовсе не мог. Безумье — Божье наказание.
Но от безумия до откровения всего полшага, безумный и блаженный — близнецы-братья.
Андрей Платонов совершил то, что не под силу было выразить всей дворянской литературе во главе с графом Львом Толстым и его Платоном Каратаевым. «Котлован», «Чевенгур», «Ювенильное море» — это стихия высокого безумия, это метания в час, когда бессмертная душа народа разлучается со старым, ветхим, измождённым болезнями телом и уже видит сияние небесных кущ.
Но и сегодня это слепое следование судьбе («Бог дал, Бог взял», «что сгорит, то не сгниёт», «от смерти не отбрешешься») присуще большинству. Это не только старики и старухи по родным городам и весям, это ещё и зоны жизненного риска — солдаты, шахтёры, бандиты, бизнесмены и пр., словом, активная часть населения.
Живой поток. Он находит себе новое русло и новые берега.
* * *
Я словно бы вижу их.
Семь человек в балахонах из белых шкур, предводитель опирается на высокий посох, вершина посоха раздвоена, судя по всему он изготовлен из берцовой кости какого-то гигантского древнего животного.
Они идут цепочкой, гуськом, след в след по глубокому декабрьскому снегу, они начинают подъём по пологой тропе, которая серпантином опоясывает половину горы Чёрной (никто не может и предположить сегодня, как гора называлась в те доисторические времена), они начинают подъём ещё задолго до рассвета, чтобы в морозном сумраке дождаться когда первый луч солнца выскользнет из-за дальнего горизонта, совместит точку восхода с вершиной второго Сундука и упадёт на стену святилища чуть правее изображения лошади.
* * *
Профессор Ларичев говорит, что это происходило не менее, чем 20000 лет назад.
До Адама. До Потопа.
Собственно, можно даже попытаться в это поверить, но проку от этой попытки никакого. Представить сей масштаб времени не по силам для нашего сознания, зажатого в рамках хронологической истории. Но если немного отстраниться, забыть о существовании дат и запечатленных цифрами столетий, то возникнет единое поле времени, некий эпический мир, замкнутый в кольцо. Год в этом мире длится 41000 лет в нашем исчислении, именно столько требуется плоскости эклиптики, качнувшись на два с половиной градуса по отношению к небесно-звёздному экватору, вернуться в прежнее состояние. И ночь, и день, и утро, и вечер, и цветение, и созревание, и грозы, и снегопады, и много разных событий внутри этого Великого Кольца, — но, тем не менее, это всего лишь год.
Почему бы и нет.
Почему невозможно такое восприятие времени?
Тогда человеческая жизнь уложится в какие-нибудь три миллиона лет. Именно эту цифру называет палеоантрополог Мочанов, который уже второй десяток сезонов копает на берегу Лены под Якутском. Мочанов упрям и гораздо более удачлив, чем академик Окладников. Он уже много чего накопал и скоро докажет не только коллегам по институту, но и всему миру, что сибирский человек взял в руки каменное рубило гораздо раньше, чем обитатель Восточной Африки, череп которого посчастливилось найти англичанину Луису Лики в Олдовайском ущелье на севере Танзании как раз в том году, когда я появился на свет.
* * *
С площадки, которая расположена в трёх-пяти десятках метров от вершины горы Чёрной, можно наблюдать почти весь дальний горизонт, за исключением лишь западной и северо-западной стороны, закрытой стеной красного песчаника, что понимается прямо к вершине.
Здесь тихо.
Мощный козырёк и скальные выступы оберегают святилище от пронизывающего ветра. А если соорудить что-нибудь вроде шатра и развести очаг, то вполне можно вести стационарные наблюдения за небесным куполом непрерывно, в режиме научно-исследовательского института. В Хакасии мало пасмурных ночей.
* * *
Белая лошадь с длинным хвостом и передними ногами, как бы погружёнными в воды Леты — единственное наскальное изображение, которое обнаружено на площадке древней обсерватории. По сути это микробарельеф — в месте известкового натёка на плоскости красного песчаника «доПотопный» художник выскоблил лишнее и оставил на красном фоне как бы аппликацию белой лошади.
Изображение находится в неглубокой, но защищённой от эрозии нише на высоте человеческого роста и почти всегда освещается первыми лучами восходящего солнца. Единственный месяц в году, когда этого не происходит — декабрь.
Удивительно, но именно в декабре на небосводе невозможно увидеть созвездие Льва, которое, по мнению многих учёных, человек каменного и бронзового века именовал созвездием Лошади, беременной кобылы. Именно такая лошадка изображена на стене хакасского святилища, а десятки подобных изображений можно встретить в галереях пещерного искусства Франции, Испании и во множестве других мест.
* * *
«Хорс» — этим словом англичане до сих пор называют коня.
Хорс — золотой Конь-Солнце у древних славян.
Храм-обсерватория Стоунхэндж на плоской равнине Британии был посвящён именно Хорсу.
Сопровождаемый ветрами, стрибожьими внуками, Хорс кружит на Северным полушарием, дожидаясь того часа, когда созвездие Лошади приблизится к восточному горизонту. Это происходит лишь в последних числах ноября. Златобедрый жеребец настигает свою возлюбленную, и они уединяются в небесных долинах, невидимые никому. Целый месяц длится их союз, в это время Солнце лишь на короткое время показывается над горизонтом, происходит сокровенное, Лошадь становися жерёбой…
И когда первый луч солнца, скользнув по вершине второго Сундука, впервые после сакрального периода Тьмы, упадёт на пузатое изображение Белой Лошади на стене святилища, можно славить бессмертие Хорса, можно зажигать праздничные огни, можно устраивать пиршество, танцы, можно петь гимны в честь небесного союза — начался Новый год.
* * *
Кто ответит, возможно ли десяток, а то и более тысячелетий подряд, изо дня в день, из года в год вести наблюдения за небесным сводом, скрупулёзно фиксируя все события, все изменения, все повторяющиеся звёздные циклы?
На протяжении этого периода много раз меняется климат, происходят катастрофические деформации Природы. Растительный покров, животный мир, влажность, снежность, облачность, атмосферное электиричество, сейсмичность — во всём происходят многократные грозные метаморфозы. Ничтожное человеческое тело с его нынешними механизмами самозащиты и саморегуляции неминуемо должно было бросить все силы на то, чтобы выжить, не исчезнуть в годы экстремумов и катаклизмов, тут не до научных наблюдений, где время эксперимента растянуто на несколько десятков поколений. Но если обсерватории в Хакасии, в Стоунхендже, в некоторых других местах, о которых мы пока мало знаем или не знаем совсем, работали весь этот необозримый период, то следует предположить, что человек во времена палеолита был другим, возможно, речь идёт о некоей особой расе, но, скорее всего, органическое бытие внутри Природы давало Предку почти неограниченные возможности, утраченные впоследствии.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу…
(Бытие 1: 27—29)
* * *
Если безо всяких метафор и толкований, то из этого священного текста прямо вытекает, что человек сразу после Сотворения был полновластным хозяином всего животного и растительного мира, всё на земле подчинялось его Слову и вовсе не обязательно, что это Слово имело звуковое выражение.
И второе. Человек, созданный по образу и подобию Божию, питался лишь растительной пищей — злаками и древесными плодами.
* * *
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдуну в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.
И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.
И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбр его, и закрыл то место плотию.
И Создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку.
(Бытие 2: 7,8,21,22)
* * *
Такое впечатление, что первая и вторая глава книги Бытия повествует о двух разных случаях сотворения человека на Земле.
В первом случае, по времени, видимо, более древнем, Бог именно сотворил, то есть поступил творчески как Художник, родил некое материальное существо по образу и подобию Своему.
Во втором случае процесс рождения человека более конструктивен, в нём и не пахнет откровением, всё это смахивает на некую технологическую задачу — из праха земного, и, самое главное, создал. Разница межде Творением и Созданием весьма существенная и не в пользу последнего.
В первом случае мужчина и женщина равны, они творятся одновременно и не имеют различий по отношению к божественному Первообразу.
Во втором — жена регенерирована из частицы живой ткани мужа, а посему является как бы его дублем, это — тот же Адам, только иного пола и, как всякая копия, новое создание обладает большими недостатками по сравнению с оригиналом.
В первом случае и речи не идет о какой-то санаторной резервации, садово-парковой зоне навроде Эдема. Человек должен расселяться по всему лицу земли, он хозяин планеты.
Во втором — увы, мы, видимо, имеем дело с чем-то пока весьма несовершенным, не с образом и подобием, а с могущей выйти из-под контроля саморазвивающейся и самовоспроизводящейся моделью разумного существа, в очень большой степени подверженного эмоциям и страстям. Поэтому Адам и Ева столь нуждались в Эдемской опеке, поэтому так строги были запреты. Трудно сегодня предположить, каковы истинные причины грехопадения, но, слава Богу, что Первопредок так и не добрался до древа Жизни, иначе мы бы сейчас имели цивилизацию бессмертных монстров.
* * *
Выводом для этого библейского экскурса может послужить предположение о существовании в эпоху палеолита двух основных человеческих рас — высокоразвитой, владеющей всеми способами духовно-биологического контроля над окружающей средой, но, видимо, имеющей серьёзные проблемы сомовоспроизводства; и гораздо менее развитой, но весьма перспективной в плане жизненной силы, индивидуального интеллекта и творческих способностей.
К концу палеолита обе эти расы смешались, что и дало толчок началу Истории, которая предваряется Всемирным Потопом.
* * *
Согласно Библии, потомки Адама до Ноя имели обыкновение жить долго-предолго, в среднем их жизненный путь имел протяжённость в восемь-девять столетий. Если допустить, что оно так и было, то феноменальная точность и продролжительность наблюдений на площадках палеообсерваторий получает некоторое объяснение.
Тайну физических и духовных возможностей древних жрецов-астрономов может приоткрыть опыт жизни великого русского шамана Порфирия Иванова. Ему не требовалось одежды, на протяжении 50 лет он в любую погоду ходил нагой. Даже зимой в голой степи он неделями мог обходиться без еды и тепла, все стихии подчинялись ему, поля и холмы, озёра и реки, леса и травы свободно разговаривали с ним, как он утверждал, «на чистом русском языке», он мог вдохнуть жизнь в безнадёжно больного, мог менять погоду, мог, создав свой эфирный дубль, молниеносно перемещаться в пространстве (даже космическом).
Говорят, что американский астронавт Митчел, после чудесного возвращения с Луны, занялся созданием в США института Человека, а причина столь крутого изменения судьбы кроется в душевном потрясении, которое Митчел испытал в мгновения, когда возвратившийся на орбиту Луны спускаемый аппарат с 80 кг лунного грунта на борту шесть раз подряд не смог пристыковаться к кораблю. Оставались буквально граммы горючего на последнюю попытку, Митчел взмолился и увидел в иллюминатор седобородого старика, который то ли жестами, то ли телепатией (тут разные апокрифы имеют разночтения) указал, как следует производить стыковку. И лишь спустя десять лет, во время путешествия по России Митчел совершенно случайно узнал, кто же спас американскую экспедицию от неминуемой гибели.
Так гласит легенда.
Но сам факт существования феномена Порфирия Корнеича Иванова к легендам не относим и несомненен.
* * *
Мы лишены прежних талантов и нам запрещено вспоминать Имя слепого и древнего, как Сундуки или Стоунхэндж, деда, Дiда, того самого, гигантского, уже почти окаменевшего от вечного сидения старика, к которому великан Святогор приводил Илью Муромца. Дед, предок Святогора, жил ещё в те времена, когда о Руси и слыхом не слыхивали, и места, и народа такого не было.
— Ты, Илюша, руки ему не подавай, у него сила ещё по сей день, даже по сравнению с моей, меры не ведает.
Илья раскалил в огне толстую железную кочергу и подал её Деду для рукопожатия. Ухватился за неё вечный старик, покряхтел и молвил удовлетворённо:
— Что ж, и впрямь внучек, не обманул, не перевелись стало быть ещё на Руси богатыри…
* * *
…ибо прах ты, и в прах возвратишься. Но Христос уничтожил смерть, человек, если он верен любви, лишился страха погибели и ощущения края бездны. Осталось только каиново проклятие да нечеловеческий грех гордыни.
Сможем ли мы избавиться от печати убийства, от крови братьев и малых сих? Сможем ли договориться с природой, научиться беседовать с ней на чистом русском языке, не причинять никому боли, питаться только семенами злаков и плодами древесными?
Тогда, возможно, мы и вспомним древние Имена, тогда сровняемся и воссоединимся духовными узами с высоким сознанием неведомой расы титанов, частички крови которой несомненно присутствуют и в наших жилах. Иначе почему же так радуется душа в окрестностях Сундуков, так просторно и знакомо бродит взор от горизонта к горизонту, так щемит сердце от близости чего-то родного, любимого и незабвенного.
Новосибирск, декабрь 1996 г.
Саксонские дневники
Мои дневники датированы 1989 годом. Прошло уже 20 лет. Что толкнуло меня сегодня вернуться к событиям прошедших лет? Нет больше ГДР, нет больше Советского Союза. Таких стран не существует на карте. Но проблемы, которые заставили меня взяться за написание саксонских дневников тогда, актуальны для России и сегодня: или мы врастаем в западную цивилизацию, или мы отторгаем ее и идем другим путем. Или пан или пропал? Был ли закат Европы или его придумал Освальд Шпенглер? Где грань между нацией и «наци», социализмом и тоталитаризмом, европейцем и космополитом? И вообще, стоит ли задумываться над этими вопросами? Не лучше ли сидеть в баре и пить прекрасное немецкое пиво?
Но однажды наступает момент, когда уже невозможно не думать… Как же так, почему опять все повторяется, ведь мы это уже проходили? И вспоминаются, события, из которых мы ничего для себя не вынесли.
I. Москва
Собрались по-русски: сказано — сделано. По этой причине не успели отправить заранее телеграмму, поэтому и билет был только до Москвы. Ничего, в письмах предупреждали, что приедем после Нового года — поди не выгонят.
Перед тем, как лететь в Берлин, решили сутки побыть в Москве. У багажного отделения в Домодедово нас встретил Малюков — друг нашего друга, юноша с кучерявой бородкой разночинца, еще недавно студент факультета журналистики Московского университета, а сейчас человек без определенных занятий, точнее сказать, профессиональный революционер, каких тогда было много в Москве. В бурное лето 1988 года его физиономия частенько мелькала на телевизионном экране, то во «Взгляде», то в каком-нибудь репортаже о демонстрациях некоей оппозиционной партии под названием «демсоюз». Я испытывал к Малюкову откровенную симпатию за его поистине азиатскую пассионарность и настоящий запас ернического юмора. Но чисто внешне, в этническом типе эта внутренняя азиатчина никак не сказывалась, его облик настойчиво вызывал добролюбовско-базаровские ассоциации, навевая грустные воспоминания о трагической истории русского народничества, выродившегося в «Народную волю» и «Черный передел».
— Андрей приехать не смог, привет! О, да ты с супругой! Что в демократическую Германию собрались? Давайте, испробуйте на зуб образцово-социалистический порядок…
В электричке в этот ночной час было пусто и на диво тепло. Кроме нас троих в конце вагона на скамье мирно спал какой-то бич. Приятно укачивало. За окошком тянулись огни унылых рабочих пригородов Москвы.
— Да, ребята, Андрей с ребенком водится, жена в больнице. А в паузах, когда пацан спит, продолжает свою титаническую работу по перемалыванию реакционной русской литературы — от Чаадаева к Леонтьеву и Каткову, и дальше, кончая Розановым и Бердяевым. Я его все время пытаюсь задирать, но он сопит, набычивается и отвечает: «Малюков, не поминай всуе хорошее слово „реакционный“ и тем более „реакционный русский писатель“». Фразочку-то, конечно, не сам придумал, у учителей своих — российских литераторов нахватался, но повторяет как свою.
А я, ребята, знаете, только вчера из крутого запоя вышел. Я ведь в Армении был, месяц назад, сразу после землетрясения. Можно сказать, частная поездка, так несколько мелких поручений. Вел дневник. Кое-что записал на диктофон. Армяне подарили видеопленку: картины разрушений, они снимали с вертолета, толпы беженцев, войска, а также видеозаписи некоторых демонстраций и даже стычек с азербайджанцами. Вернулся я только 30 декабря, перед самым Новым годом, и всю неделю, как честный алкоголик, в магазин, как на службу…
Малюков изменился. Изменился настолько, что в его словах то и дело проскальзывала ирония и даже пренебрежение по отношению к своей еще недавней деятельности члена «демсоюза». Исчезли юношеская фанаберия и неудержимое краснобайство, треп ради трепа, на лице возникла тень какого-то даже смирения? Или же эта была детская растерянность, смешанная с испугом? Видать, его тоже крепко тряхануло на армянском нагорье.
— Понимаете, ребята, комитет «Карабах» утверждает, что землетрясение было спровоцировано подземным ядерным взрывом на полигоне возле города Спитака или даже под самим городом… Да, да, конечно, это чушь, но они же там все сумасшедшие, теперь я представляю, что у нас было в России в 17-м и 18-м гг. Мне хотелось для себя выяснить — неужели ни грамма здравого смысла или хотя бы намека на истину нет в этих воплях?
Я облазил весь Спитак, вернее то место, где раньше был город, я обходил окрестности, я хотел увидеть хоть какой-то признак искусственного вмешательства в тектонику, я ползал по развалинам и даже порвал свои единственные штаны, я пытался разговаривать с уцелевшими местными жителями, несмотря на то, что это кощунственно, я знаю… Ничего, конечно, ничего я не нашел, кроме хаоса, трупов, безумия… Никто меня не задержал. Войск нет. Одни военные строители.
Я там был чужой, это гнусно ощущать. Когда совсем чужой, это отвратительно ощущать. Ребята, я не припомню более смурного состояния, чем мое тамошнее. Полное ощущение своей никчемности и беспомощности: помогать надо, а не лазить по развалинам в поисках неведомо чего, а помочь нечем, к тому же большая часть в помощи уже не нуждается…
Ленинакан был городом миллионеров. Я там тоже был. То есть я был везде — и в Степанокерте, и в Сумгаите, и в Баку. Они никогда не помирятся, ребята, а мы только крайними будем… Так вот Ленинакан был городом миллионеров даже по меркам Закавказья. Доход на душу населения — один из самых высоких в стране. Там, в развалинах, особенно в первые недели, действовали хорошо оснащенные группы — они занимались поиском домашних сейфов. И небезуспешно, ребята. небезуспешно. Представь себе: детский трупик такая бригада оставляет без внимания, а увесистый железный ящик аккуратно откапывает и грузит в машину…
До общежития МГУ мы шли пешком по ночной Москве. Такси не было, а трамваи почему-то попадались только навстречу.
В комнате Андрея, студента первого курса факультета журналистики, стоял устойчивый запах детских пеленок. Девятимесячный пацан спал по-спартански — без подушек, голеньким, сбив в угол кроватки даже легкую простынку. Правда, в комнате, площадью около восьми квадратов и впрямь было тепло. Андрей мигом наполнил в умывальнике электрический чайник:
— Говорите, самолет до Берлина завтра днем, значит у нас в запасе ночь и утро. Две пачки чая есть, а вот водки, к сожалению, взять уже негде. Разве что у таксистов, но те нынче меньше чем за четвертной не продадут. Четвертной у нас нет, значит будем разговляться крепким чаем и вести душеспасительные беседы…
Однако чекушка водки каким-то чудесным образом все же возникла на столе. Где ее раздобыли студенты в третьем часу ночи в вечно алчущем общежитии — до сих пор загадка. Это весьма кратковременное событие не внесло существенных корректив в наше ночное общение. Отчасти лишь возросла степень внутренней свободы. На площадке возле лифта Малюков вдруг как-то особенно пылко отреагировал на вполне невинное, хотя и в меру язвительное замечание о его перманентной революционности.
— Народ, вот нас сейчас четверо, он потыкал в нас по очереди сигаретой, давайте, чтобы к этому больше не возвращаться, я сейчас у вас на глазах сожгу свой членский билет и на этом конец.
После чего Малюков вынул из заднего кармана джинсов синее глянцевое удостоверение члена оппозиционной партии «Демократический союз», с трудом разорвал его пополам и включил газовую зажигалку. Хлорвиниловые корочки плохо горели, коробились, обугливались и лишь время от времени схватывались голубым змеистым пламенем. В конце концов пришлось вырвать бумажную вклейку с фотографией и сжечь отдельно. Потом в коридоре Андрей мне шепнул:
— Это он после Армении… Никак не может прийти в себя…
До утра пять раз ставили чай. Пришлось переселиться в коридор, чтобы не мешать ребенку. Говорил все больше Андрей:
— Я тут пока вас ждал, познакомился с материалами российского Пленума Союза Писателей по публицистике. Хорошенькое дело! Эти оголтелые либералы из «Огонька», похоже, добились своего. Уж на что я близок идеалам деревенщиков и «чернопочвенников», но, знаете, и мне стало этак не по себе. Разбудили. Допрыгались. Думали, все это игрушки. Вот пленум и показал, что нельзя российского мужика тревожить, нежелательно Обломова будить, очень худо такие вольности оборачиваются.
Андрей был явно доволен и улыбался во весь рот.
— Вы знаете, на что похожа нынешняя литература? На медведя, которого из берлоги рогатиной да собаками подняли. А охотнички-то нынешние — тьфу! Не чета прежним!
И ведь сразу, с самого начала этого следовало ожидать. Ведь за Коротичем и всем этим либеральным клиросом никакой живой идеи не стоит. Нет ее. Ничего кроме демократии по западному образцу да дурно понятой свободы личности. Какая там к черту тайная свобода! Они ярмо сталинское собираются заменить на ярмо потребительское, навесить на это ярмо погремушки товаров и развлечений массовой культуры и ну, поперек спины бичом рыночной коммерции. И вечный кайф, оргазм нам только снится! Это философия сытого желудка и разжиженных мозгов.
Вот и получается, что без национальной идеи, способной объединить людей, будь то Япония, Китай, Россия или Индия, ни хозяйство, ни культуру не построишь. Разрушить можно, а построить, особенно культуру, — хрен и еще столько же. Тут прикинешь… А все почему? Да потому, что за позицией того же пленума, за Распутиным, Кожиновым, Шафаревичем и Антоновым, за этим взглядом на мир — гигантская традиция…
За мутным окном холла замаячила белесая синева январского утра. Обнаружилось, что уже восемь часов. Обнаружилось и то, что мы основательно перемыли кости XX веку, после чего добрались до XIX и долго пребывали в его золотом времечке. В частности, выяснили, что Карамзин не был западником, чему свидетельство почти 180-летний цензурный запрет на его статьи « О древней и новой России и ее политическом и гражданском отношениях». Что еще 18-летний Тютчев в 1821 году предрек все угрозы и беды европейского просвещения:
Нет веры к вымыслам чудесным,
Рассудок все опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу.
Как пленников — их обнажил:
Ту жизнь до дна он иссушил,
Что в дерево вливала душу,
Давало тело бестелесным!..
Где вы, о древние народы!
Ваш мир был храмом всех богов.
Вы книгу Матери-природы
Читали ясно, без очков!..
Услышав эти строки, Андрей встрепенулся, раззадорился, сбегал в комнату и принес книгу Ивана Васильевича Киреевского: «Вот смотрите, все уже написано, все было ясно умным людям еще полтора столетия назад». И он процитировал абзац из послания графу Комаровскому «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России»: чувство недовольства и безотрадной пустоты легло на сердце людей, которых мысль не ограничивалась тесным кругом минутных интересов именно потому, что самое торжество ума европейского обнаружило односторонность его коренных стремлений: потому что при всем богатстве, при всей, можно сказать, громадности частных открытий и успехов в науках общий вывод из всей совокупности знания представил только отрицательное значение для внутреннего сознания человека: потому что при всем блеске, при всех удобствах наружных усовершенствований жизни, самая жизнь лишена была своего существенного смысла, ибо, не проникнутая никаким общим, сильным убеждением, она не могла быть ни украшена высокою надеждою, ни согрета глубоким сочувствием. Многовековой холодный анализ разрушил все те основы, на которых стояло европейское просвещение от самого начала своего развития, так что собственные его коренные начала, из которых оно выросло, сделались для него посторонними, чужими, противоречащими его последним результатам: между тем как прямою собственностию его оказался этот самый разрушивший его корни анализ, этот самодвижущийся нож разума, этот отвлеченный силлогизм, не признающий ничего, кроме себя и личного опыта, этот самовластвующий рассудок — или как вернее назвать эту логическую деятельность, отрешенную от всех других познавательных сил человека, кроме самых грубых, самых первых чувственных данных и на них одних созидающую свои воздушные диалектические построения».
— Каково? И теперь нам предлагают путь, который едва ли не два века назад уже распознали, исследовали и отвергли как непригодный для России. Не лезет она в сухую рациональную схему, хоть ты тресни! Некоторые однажды уже попытались при помощи только отвлеченного ума создать на месте империи новую разумную жизнь и устроить небесное блаженство на преобразованной разумом и наукой земле. Известно, что из этого вышло — бойня, какой свет не видывал со дня сотворения мира.
— И что удивительно! Ведь недаром первый «почвенник» Аполлон Григорьев из всех тургеневских образов более всего ценил Лаврецкого, для которого идеалом было пахать землю и стараться как можно лучше ее пахать. Лаврецкий не демократ Рудин, бессмысленно гибнущий на баррикадах Парижа за сомнительные идеалы… А ненависть Константина Леонтьева ко всякого рода проявлениям либерализма?! Сколько мрачных пророчеств он изрек по этому поводу! Самое грустное, что они все сбылись…
Между тем окончательно рассвело. Пол был усеян окурками. В стаканах и чайнике остались лишь испитые хлопья заварки. В комнате подал голос проснувшийся ребенок. Пора было ехать в аэропорт Шереметьево. Начинался седьмой день января 1989 года, семьдесят второго года революции, четвертого года перестройки и года Змеи по восточному календарю. Обычный день привычной действительности.
Действие продолжалось, вернее длилось, не останавливаясь, не ускоряясь, без заранее подготовленного сценария, подчиняясь суммарному вектору миллионов и миллионов волевых, интеллектуальных и эмоциональных толчков, из которых и складывается процесс, условно именуемый «историей». В контексте этого процесса — четыре молодых человека, стоящие на четвертом этаже общежития МГУ, опухшие от табака, чая и пустопорожних разговоров, с воспаленными от бессонной ночи глазами — эти четыре молодых человека есть величина бесконечно малая, стремящаяся к нулю, не производящая никакого действия, скорее наоборот, впустую истратившие энергию действия, они тем самым на малую толику замедлили неуклонное поступательное движение человечества в его историческом продвижении по пути прогресса. Удивительная непрактичность. Абсолютная бессмыслица! Глупость да и только.
Перед самым расставанием Андрей, покряхтев, извлек откуда-то бутылку шампанского: «Жена приберегла на день рождения сыну. Ну, да ничего, компенсируем». Вино полилось в разнокалиберные стаканы, стоящие между пузырьком с детской смесью, плавленными сырками и журналом «Наш современник» со статьей Вадима Кожинова «Самая большая опасность».
Москва осталась за дверью автобуса на Шереметьево-2. Запомнился Малюков с поднятым над плечом кулаком, отступающий от окна автобуса, простоволосый, с кучерявой разночинской бороденкой на чистом юношеском лице. Меховой авиационный бушлат, белесые в разводах джинсы, улыбка… Пока!
Увы, как мы узнали позже в свой весенний визит в Москву, Малюкова не надолго хватило, катарсис армянской трагедии имел на его душу хотя и благотворное, но непродолжительное воздействие. Уже через месяц он вернулся в ряды революционеров и ему выдали новенькое удостоверение члена партии «ДемСоюз», так как старое он… потерял.
Ох, уж эта наша тяга к удостоверениям! Даже у профессиональных революционеров… Не знаю, правда, было ли Малюкову партийное взыскание за утрату членского билета, может и впрямь объявили строгий выговор с занесением в учетную карточку?
Будь это и так, Малюкову на взыскания начхать. В марте он пропил «ДээСовские» диктофон и фотоаппарат и промотал из партийной кассы более двух тысяч рублей, сказав своим вождям, что его ограбили рэкитиры. Все сошло с рук, видимо, потому, что подобные выходки не редкость среди «ДемСоюза», а скорее правило, даже так называемый съезд ДС закончился грандиозной повальной пьянкой.
Чуть позже мы узнали, что Малюков работает на каком-то подпольном ксероксе, зашибает неплохую деньгу, собой и жизнью вполне доволен. На митингах ДС он в первых рядах. Последний раз его видели перед 20 апреля на площади Пушкина в совершенно невменяемом состоянии: он с портативным диктофоном в руках приставал к прохожим с вопросом: «Как вы относитесь к Гитлеру?»
II. Дорога до Дрездена
Заграница началась, как только мы вступили в аэровокзал Шереметьево-2. Все сияло и сверкало по западноевропейскому образцу, видимо, запроектированное и воздвигнутое для того, чтобы, не дай Бог, взгляд иностранца не натолкнулся на что-либо непривычное, варварское.
В кассе, перед тем как проставить места в наших билетах, престарелая девица-кассир мельком взглянула на мою облезлую нутриевую шапку цвета грязного апрельского снега. И тут мы поняли свою ошибку. Надо было спрятать шапку подальше в чемодан еще в автобусе, а сейчас наше происхождение и социальное состояние читается как на дисплее — и визитной карточки не надо. Решив, что нечего с нами церемониться, девица закричала прокуренным контральто:
— Ну и что из того, что у вас лист ожидания? Вы, может быть, еще неделю по этому листу будете дожидаться вылета!..
— На самом деле места были получены буквально через несколько секунд.
— Реваз! — отрывисто крикнула она в трубку, вызывая диспетчера. — Реваз! Два места на Берлин, рейс через два часа…
Плечом придерживая трубку возле уха, она двумя точными движениями автомата проставила номер рейса и места, уже совершенно забыв о нас, улыбаясь телефонным шуткам Реваза, бросила билеты на стойку и задернула шторку кассы. Вся операция заняла гораздо меньше времени, чем я ее описываю.
Тут стало отчетливо ясно, чем отличается наше провинциальное хамство, или «рашин сервис» как таковой, от интерсервиса в русском исполнении и для русских — отличается результатом и сроками. Школа все-таки чувствуется.
Почти счастливые мы побрели на свободные места с единственным желанием скорее спрятать подальше нутриевую шапку.
До регистрации оставался какой-то час. Вкрадчиво-эротический голос дикторши то и дело звучал над ухом, повторяя каждую фразу на трех языках:
— Гражданин Аксенов, прибывший из Вашингтона, пройдите к справочному бюро…
По соседству с нами возле горы коробок ярко выраженного западного происхождения разгоряченно ораторствовал какой-то русско-советский коммерсант. Он прилетел только что рейсом из Нью-Йорка, его встретили жена и еще трое то ли родственников, то ли знакомых. Коммерсант вернулся из длительной командировки и по отдельным фразам можно было заключить, что он в подобных командировках находится почти постоянно. Не успев прилететь, этот достойный гражданин, по всей видимости, столкнулся с милыми русскому сердцу традициями обслуживания населения и посему находился в весьма возбужденном состоянии:
— Вам тут на каждом шагу на голову серут, а вы терпите безропотно, как бараны. Я где только не был за двадцать лет, но такого убожества и покорности нигде и представить нельзя.
Коммерсант выхватил платок и стал промакивать раскрасневшееся лицо. Жена, видимо, привыкшая к филиппикам подобного рода, не слушала супруга. Она, как добрая наседка, хлопотала вокруг прибывшего из-за океана товара, трогала коробки руками и пару раз спросила, скоро ли придет машина Трансагентства.
— А что не остался в Америке, Алексей Максимович, зачем возвратился? — спросил один из собеседников, с мягкой улыбкой, глядя как женщина ласково ощупывает руками и глазами гору коробок.
— А и остался бы, остался бы! К чертям собачьим всю эту тьму тараканью, идиот на идиоте, только и знают, что собачиться. Да только заминка маленькая — там сейчас просто так, за здорово живешь, не принимают. Нужно быть в оппозиции существующему строю, нужно против ущемления прав человека выступать, будь они неладны. А я, сами знаете, товарищ вполне лояльный, политикой никогда не интересовался, на кой ляд она мне нужна, эта политика, и так уже все мозги болтовней прокоптили, ни тепла, ни света — дым да вонь…
Немецкая таможенная служба оказалась вдвое скрупулезней нашей, народ больше часа толокся, просачиваясь, как верблюд сквозь игольное ушко, через серо-зеленые будочки пограничников.
Над Берлином низкая облачность. На дворе Рождество, а здесь плюс четыре градуса по Цельсию, зеленые чистые газоны, сырой мягкий ветер.
В Берлине не задержались. Прямиком на вокзал.
На железнодорожной платформе дрезденского направления ни одной живой души. Начало седьмого. Уже стемнело. Ветер в сумерках немного усилился, сырость пробирает до нутра…
На наше счастье уже через пятнадцать минут подходит поезд Берлин — Будапешт.
Нашим единственным соседом по купе оказался долговязый чернявый студент по имени Франк, юноша с застенчивой плачущей улыбкой Пьеро и большим крючковатым носом. Я подумал, что если бы кому-нибудь пришло в голову долговязую птицу фламинго перекрасить в черный цвет, наверняка получилось бы что-то весьма похожее на Франка.
Мы познакомились. Проблем с общением у нас не возникло, жена выручала своим знанием немецкого. Франк, как и мы, ехал в Дрезден. Рассказал, что учится там в политехническом институте, что сам он наполовину румын, поэтому чувствует себя не совсем уверенно. Хотя, конечно, никакой дискриминации, ничего подобного и близко нет, просто из-за личных свойств характера возникают сложности психологического порядка, и он никак не может избавиться от своего рода комплексов.
После похода в буфет и покупки трех бутылок пива наша беседа потекла еще более непринужденно.
Франк — берлинец. В Дрездене снимает квартиру, учится на третьем курсе. Первые два курса он жил в общежитии, но поскольку решил получить серьезное образование, стать классным инженером, пришлось выбирать: либо разгульная студенческая жизнь с ежедневными пирушками в общежитии, либо качественные знания и надежное будущее специалиста. Так как ему уже 23 года, он не долго мучался сомнениями, снял квартиру. Теперь наверстывает упущенное. Денег ему хватает: помогают родители, плюс к тому он три дня в неделю вечером работает, всего этого вместе со стипендией вполне достаточно для того, чтобы нормально жить и даже копить что-то на будущее.
Франк вызвался нас довезти до места. Оказалось. что он год назад купил машину, и сейчас она поджидает нас на стоянке у Дрезденского вокзала.
Я с трудом втиснулся на заднее сиденье этого своеобразного аппарата, называемого «Трабант», который мы тут же про себя окрестили «гробандом». Автомобиль класса нашего «Запорожца», но с двухтактным двигателем. Предельно простой по конструкции и в управлении, он работает на бензине с низким октановым числом, что, с одной стороны, дешево, а другой — загрязняет атмосферу восточно-германских городов соединениями тяжелых металлов. При езде эта машина производит звук, уморительно напоминающий звонкое чихание нашей двухместной «инвалидки».
Здесь на дорогах и на автомобильных стоянках по преимуществу встречаются именно «Трабанты». Здешние малолитражки попадаются буквально на каждом шагу, у каждого дома, это как велосипед во Вьетнаме или Китае. Сами немцы к этой модели относятся с легкой иронией, но не устают повторять, что лучше ездить на «Трабанте», чем ходить пешком.
В отличие от России, будь то Москва, Новосибирск или провинциальный шахтерский город Прокопьевск, здесь очень мало такси. Так мало, что мы встретили за 12 дней всего машин пять не больше. И то нас не оставляло ощущение, что это была одна и та же машина, одна на весь Дрезден. Но, даже если говорить серьезно, мы поняли, что на такси здесь ездить не принято, не знаем по каким причинам, но такова, видимо, традиция. Не принято и все. Частника, увы, тоже не остановишь, сколько бы ты ни махал руками, как механическое пугало, кроме недоуменных взглядов водителей и насмешливой презрительности прохожих, ты ничего не получишь. Индивидуальная трудовая деятельность такого рода здесь не разрешена, а значит ее не может существовать в природе.
III. Патриотическое отступление
Чувство внутреннего протеста (смутное, но неизменное) постоянно преследовало меня во все дни пребывания в Дрездене и в Берлине. Родственные, кровные привязанности глубоко в нас сидят, поэтому трудно быть объективным. Но невольное сравнение того и этого, «ихнего» и своего, каждое мгновение производишь. Что касается материальной стороны, то все не в нашу пользу, тут даже и спорить бесполезно, в ответ возникает не зависть, а скука.
А если говорить точно, то все время испытываешь потребность сравнивать историю наших двух народов. Полторы тысячи лет, как минимум, живем мы бок о бок, то дружим, то враждуем, то торгуем, то воюем. Первые стычки теряются в веках. Еще Германарих, легендарный первый готский император, пытался в 3 веке н.э. завоевать славянские племена. Ост-готы во главе со своим кунингом Германарихом жили тогда на побережье Азовского моря, их доблесть и воинственный пыл в этих местах не были долговечны, ураганом гуннского нашествия они были отброшены в Западную Европу, где и укоренились. О гуннах напоминает лишь название Венгрии — Хунгари. А славяне остались — там в лесах севернее Киева — и пережили еще не одну волну азиатских переселений или, как сейчас говорят, пассионарных всплесков.
В V веке славяне вместе с германским кунингом Аларихом ходили в поход на Рим и, надо сказать, и те, и другие вели себя тогда вполне по-варварски. Рим был благополучно разграблен. Через тысячелетие воины повторили этот «подвиг». Двенадцатитысячная наемная армия немецких ландскнехтов за неимением жалования решила разграбить оплот христианства и католичества, а их вождь Георг Фрундсберг потрясал золотой цепью, обещая на ней повесить папу Климента VII. Ландскнехты до конца воплотили свой замысел, католики и протестанты равно грабили церкви и совершали бесчинства. Огромные богатства и памятники искусства — все было расхищено. Папа Климент VII чудом избежал гибели от рук своей паствы, пришлось выплатить огромные суммы выкупа.
На совести русских, к счастью, нет разграбления Царьграда, дальше вымогательных походов Олега и Святослава да прибития щита к воротам имперской столицы дело не дошло. И еще один существенный момент — нет достоверных исторических свидетельств о наемничестве русских воинов, нет этого в национальном характере, не принято у нас рисковать жизнью, использовать умение воевать за деньги. Выполняя союзнические обязательства? — Да! За други своя? — Да!
А честь разграбления Царьграда — Константинополя принадлежит опять-таки большей частью немецким рыцарям. Это случилось, как известно, в 1202 году. Ну а дальнейшие наши контакты, будь то роковой лед Чудского озера или немецкая миграция в Россию при Петре Великом, в общем хорошо известны.
И вот в 20 веке разность потенциалов достигла критического предела. Различия исторической судьбы, трагедий и национального характера привели к тому, что на почве изначально родственной социальной идеологии возникли общества, антагонистические по целям и крайне близкие по своей внутренней структуре. Одно общество исповедовало националистическую утопию, другое — утопию интернациональную. Копенкин верхом на Пролетарской Силе летел отдавать жизнь за мировую революцию, а его собрат, не менее фанатичный немец, собирался пусть ценой собственной крови, но весь мир положить к ногам родного фатерланда.
Замыкание было неизбежно, и трагедия разразилась, страшная трагедия, после которой оба народа так и не оправились и вряд ли когда до конца оправятся.
Сегодня в Восточной Германии понятий «патриотизм» и «национальной самосознание» для большинства молодых и не очень людей просто не существует. История фашизма преподается как мрачный период, во время которого героические антифашисты и коммунисты боролись против гитлеризма. Период на самом деле мрачный, но как и почему он наступил, каков был его механизм? Мне думается, что без ответов на эти вопросы немцы рано или поздно не смогут осмыслить себя и свой дальнейший путь. По крайней мере, у нас со «сталинизмом» случилось именно так.
«Как же это? — думал я, беседуя с Нильсом, — ведь ты принадлежишь великому немецкому народу, народу, на котором, как на становом хребте, держится вся европейская цивилизация, и тебя это совершенно не касается, не греет, тебе все равно, как и всем твоим друзьям, рожденным в начале 60-х годов».
В «Энциклопедии ГДР», изданной два десятка лет назад, нет, например, даже упоминания о Кенигсберге, хотя Калининград, советский город, там присутствует. Нильс смутно знает о каком-то Кенигсберге, в котором жил Эммануил Кант. Да, автор «Критики чистого разума» создавал свою «метафизику» на территории, которая сегодня принадлежит России, об этом у нас не принято говорить, но так распорядилась история и нет смысла скрывать истину, лучше вернуть городу его древнее, незаслуженно отнятое название. Ведь и у русской культуры много связано с Кенигсбергом, например, именно Кант был первым европейским ученым, которому нанес визит будущий отец русской истории Николай Карамзин. Трехчасовая беседа о нравственных предметах, о «категорическом императиве», оставила глубокий след в сердце молодого человека.
IV. Вечерняя беседа
Жена Нильса ушла к подруге, ей надо «отдохнуть от семьи». Мы остались с Нильсом хозяйничать. Нильс пытается говорить по-русски, ведь он закончил школу с углубленным изучением русского языка. Я пытаюсь расспрашивать его о той напряженности, которая зреет между ГДР и СССР под покровом привычных фраз о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.
Нильс говорит, что ситуация сейчас парадоксальная, народ ГДР как никогда с интересом поглощает всю информацию, поступающую из Советского Союза, а официальные власти при внешнем спокойствии смотрят на это все более неодобрительно. А ведь всегда было наоборот, до Горбачева втайне только и говорили об оккупации Германии советскими войсками.
Все началось с того, что в ходе перестройки выкопали труп Сталина. Это очень не понравилось Хонеккеру и его окружению. С той поры все материалы о культе и о репрессиях всячески способами тормозятся. Долго искали повод как запретить в ГДР распространение советского журнала «Спутник», наконец, придравшись к одному из материалов, обвинили редакцию в недружественном отношении к народу Демократической Германии и поступление тиража прикрыли.
С «дружбой-фройндшафт» тоже происходят интересные казусы: еще в школьную бытность Нильса в средних и старших классах чуть ли не силком навязывали переписку с советскими школьниками. Доходило до того, что говорили — «не будешь писать, не получишь хорошей оценки». В восьмом-девятом классе хорошие ученики были просто обязаны писать письма на русском языке. Однако свободно съездить в СССР не было возможности тогда, а сейчас это стало еще труднее. Переписка в современных условиях уже не поощряется, хотя ее никто не запрещал. Зато запрещены для проката уже более ста наименований художественных кинолент, среди них: «Холодное лето 53-го», «Комиссарша», «Покаяние». О последнем они очень много слышали по радиоголосам, но видели лишь единицы во время туристических поездок. В результате любопытство только усиливается и растет раздражение против партийных функционеров, которые занимаются натуральным двурушничеством — с одной стороны говорят о дружбе, с другой — исподволь перекрывают каналы информации.
Нильс объясняет это просто, не мудрствуя: « Наше правительство находится в предельном возрасте, человек, когда ему уже под восемьдесят, не желает никаких перемен, его убеждения закалены десятилетиями бюрократического штампа, они не гнутся. Нужны новые люди. Это тем более необходимо, так как рядом постоянный пример ФРГ. Но Хонеккер открыто заявил в одном из выступлений, что в его роду все были долгожителями и отличались крепким здоровьем».
И последнее, чем нас поразил Нильс в этот вечер, сообщение о том, что в прошлом году он вышел из СЕПГ, хотя был членом партии на протяжении 6 лет, начиная с 18-летнего возраста. Он был долгое время убежденным партийцем, аккуратно исполнял свои обязанности, но постепенно разочаровался и, наконец, открыто высказал свое несогласие секретарю партийной организации. А не согласен он с политикой, которую проводит в нынешних условиях ЦК, не согласен с практикой бумажно-бюрократического функционирования внутри партийных организаций, не согласен с замалчиванием острых проблем и больных вопросов в экономике и социальной жизни, что порождает двойную мораль и психологическую напряженность в обществе. Для нас это ситуация была знакома…
Короче Нильс написал заявление, выступил на собрании, собрал все необходимые документы, еще раз что-то куда-то написал… И в результате его никто не посмел удержать. Вот такая история.
Причем, как утверждает Нильс, такие случаи участились, хотя нельзя сказать, что молодежь ГДР настроена по отношению к социализму резко отрицательно. Имея под боком наглядный пример ФРГ, где практически у каждой семьи есть родственники, где круглые сутки работают в устойчивом диапазоне десятки радио- и телевизионных станций, новое поколение демократических немцев может составить полное впечатление о жизни «там».
И, судя по тому, что мы слышали позже на вечеринке в Политехническом институте, многие сходятся на том, что недостатков у социализма меньше, чем достоинств.
Да, более низкий потребительский уровень.
Да, некоторые ограничения в области прав и свобод. Но зато какие твердые гарантии социальной защищенности, какая спокойная и размеренная жизнь по сравнению с Западом.
По их мнению, надо лишь устранить некоторые дефекты в системе, заменить устаревшие детали, и общество резко двинет вперед. Они считают, что именно новому поколению это и предстоит сделать.
V. Галерея старых мастеров
В Дрезденскую галерею мы попали по-настоящему только на третий день. Беглый поверхностный просмотр второго дня в счет не идет.
Еще Карамзин писал об этих залах: « Я был там три часа, но на многие картины не успел и глаз оборотить, не три часа, а несколько месяцев надобно, чтобы хорошенько рассмотреть сию галерею». Понятно, что за прошедшие двести лет количество шедевров здесь увеличилось в несколько раз, даже мировые войны и бомбежки этому не воспрепятствовали. Невозможно даже представить, сколько за два века здесь побывало наших соотечественников от рядовых путешественников до великих талантов и гениев — Достоевский, например. Многие из них — и живописцы, и литераторы, приходили сюда по нескольку раз, подолгу стояли возле бессмертных холстов, вглядывались самым пристальнейшим движением души, обменивались с творениями художников встречными зарядами душевного потенциала любви, красоты и силы. Большинство из этих встреч и этих впечатлений описано. Стоит ли повторяться?
Потускневшая от испытаний, а может быть, от миллионов взглядов, ее запечатлевших, Сикстинская мадонна. По всему давным давно должна была бы истощиться чудотворная благодатная прелесть этого образа, уйти как в песок в бесчисленные иллюстрации, копии, фотографии, в литературу о мадонне рафаэльевой, в разговоры, в то, что каждый, проходя мимо нее, уносил с собой малую толику ее небесной материнской любви и чистоты, частицу того света и ангельского дыхания из-за ее спины, которые дева Мария, «теплая заступница мира холодного», несет в нашу земную юдоль, летящим полушагом выступая из холста и прижимая к груди самый бесценный, жгущий руки своей обреченностью дар — Спасителя.
Но, видимо, великое в искусстве имеет свойства не только излучать и распространять животворный логос, но и аккумулировать эмоциональную субстанцию сопричастных творению человеческих душ. Источник не скудеет, даже если ветшает оболочка. Так, на развалинах древней архитектуры мы ощущаем часто прилив непонятной возвышенной тревоги. Мощь былой жизни полуразрушенных стен дает о себе знать артериальными толчками временных сгустков.
Поэтому здесь нет вопроса — «стоит ли повторяться?». Нельзя рассуждать о том, что можно добавить к сказанному и написанному о Тициане, Рафаэле, Корреджо, Джорджоне, фламандцах, Лукасе Кранахе Старшем и многих-многих других. Это есть не что иное, как равнодушие. Каждый волен возвращать в источник из своих запасов, открывать новые, соседние водоносные жилы, питающие Ипокрену человеческой культуры. Из мгновений духовного напряжения каждого индивидуального сознания складывается в конечном итоге то, что принято сейчас называть ноосферой. Она должна непременно расширяться — эта хрупкая нематериальная оболочка логоса, творческого субстрата, накопленного нынешней цивилизацией, оболочка, которая незримым фаворским светом обволакивает Землю, оберегая ее от растерзания силами внутреннего и внешнего хаоса.
В залах итальянского Ренессанса силовое поле искусства доходит до какой-то предельной степени концентрации и плотности. Хотя его можно совсем не воспринимать, обходя прогулочным шагом залы, как делают некоторые из западных валютных туристов, разношерстные мелкие группы которых то и дело возникают в интерьере, обращая на себя внимание вольностью манер и гирляндами фото- и видеоаппаратуры на плечах и дряблых шеях. Их можно не напрягать запоминанием имен и названий полотен, они гуляют здесь по туристическому плану, и поэтому бойкая гидесса, не задерживаясь надолго у одной картины, тащит и тащит их дальше. Так поступают и советские туристы, а также закованные в броню Устава, неповоротливые и вечно мучимые смущением подразделения наших солдат на традиционных экскурсиях, передвигающиеся по залам под неизменным присмотром бдительного лейтенанта.
Боже мой, как мне бывало здесь невыносимо стыдно и больно за соотечественников! Ладно бы солдаты, они поставлены в такие условия службой, они всего боятся, им все запрещено. Но туристы!
Русский турист узнается сразу, он как бы выпирает из толпы своей загнанностью, затравленностью в облике или же наоборот — вызывающей хозяйской хамовитостью манер, что, впрочем, одно и то же и вызвано самоощущением «не в своей тарелке». И, конечно, одежда — с ее специфическим покроем, расцветкой на нетипичных для Европы фигурах и все это, к сожалению, помножено на полное неумение наше эту одежду носить.
Но ведь идет какая-нибудь западная немка и на ней напялена, по нашим меркам, какая-то рванина непотребная. Но как она идет! Она в этой одежде совершенно свободна и независима, как американский штат, каркает что-то своему собеседнику на весь зал, ни на кого внимания не обращает и думать не думает о том, что на ее тряпки и на ее физиономию взглянуть страшно. Достоинство… Да, наверное, в данном случае обеспеченное толстым бумажником, но, думаю, не только им. За что же мы так унижены? И когда все это кончится?
VI. Русская церковь
Бог весть, какой добрый ангел подтолкнул доктора Бильца свернуть на эту улицу. Уже вечер, и скоро станет совсем темно.
— Здесь неподалеку есть русская церковь.
— ??
— Ортодоксальная.
— Православная церковь? Давайте зайдем.
— О-о, она очень редко бывает открыта. Рождественские праздники позади, вы немножко опоздали. Но можно попробовать.
Машина остановилась в переулке, мы вышли. Кругом было поразительно тихо. Впереди, в десятке шагов от нас, неправдоподобно высокий в сумерках, темнел силуэт русского храма. Это была шатровая церковь, как бы перенесенная сюда с одной из московских улиц. За уходящим в серую вечернюю высь шатром звонницы, увенчанным небольшой золотой луковичкой, проглядывались три зеленоватых купола средней величины с крестами на золотых шишках. Большой, позолоченный православный крест красовался и над аркой резного каменного крыльца. За витыми чугунными решетками стрельчатых окон мы пока не угадывали ни движения, ни света. На крыльце тоже было тихо.
Огромная дубовая дверь была плотно притворена.
Мы подошли поближе и нам почудилось, что в дальнем оконце замерцал слабый огонек. Поднявшись по мраморным ступеням, я нажал на изогнутую бронзовую рукоять церковных врат. Дверь не поддалась. Уже без особой надежды, так на всякий случай, я нажал посильнее во второй раз. Замок щелкнул и дверь тяжело и бесшумно отворилась.
Я не знаю, что испытывал счастливчик Али-баба при виде не жданно свалившихся на него несметных сокровищ, но для меня было глубочайшим потрясением попасть с тротуара пасмурного вечернего Дрездена, из атмосферы чужого города, чужой речи, чужих обычаев, вдруг, без всякой подготовки, в залитый красноватым мерцанием восковых свечей и лампад придел православной церкви. Чертог сиял…
Нам необычайно повезло, шла всенощная служба, через неделю предстояло празднование Крещения Господня в Иордан-реке, или Богоявление, снисшествие на Христа Святого Духа в виде голубя. Шла служба, среди перекликающихся, чуть потрескивающих огоньков, озаряющих лики святых, плавал сладковатый дымок ладана, в светлом кругу мозаичного пола тихо играл ребенок, два десятка прихожан клали поясные поклоны и шептали молитву под распевное басовитое чтение псалмов. Церковно-славянские фразы звучали непонятно, но возвышенно, гармонично и с выверенной торжественностью, молодой, по всему видно, недавно присланный сюда из России русобородый священник плавно двигался в глубине церкви, в алтаре, шелестя златотканными ризами и размахивая кадилом, он густо и раскатисто тянул стихи Псалтыри, а когда заканчивал очередное славословие, где-то в куполе, в поистине небесной высоте, возникал, как бы проливаясь на слушателей, голос, какого мне доселе не приходилось слышать ни в опере, ни в детских хорах, ни на церковных службах Москвы или Новосибирска:
Аллилуйя! Пойте Господу песнь новую.
Аллилуйя! Хвалите Его со звуками трубными.
Аллилуйя! Хвалите Его на псалтыри и на гуслях.
Аллилуйя! Хвалите Его с тимпанами и ликами,
Хвалите Его на струнах и органе,
Хвалите Его на звучных кимвалах,
Хвалите Его на кимвалах громкогласных.
Все дышащее да хвалит Господа!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Голос был не сильным, хотя заполнял своими ломкими, как весенний лед, модуляциями все пространство храма, хотя заставлял зябко звучать и пламя свечей, и хрустальную люстру, и сами стены в изгибах и овалах фресковой иконописи, откликавшиеся на пение в какой-то акустической неге.
Голос не был гладким. Ни школы, ни какой другой умелости в нем не угадывалось, но чистота и вдохновенная невинность этого блаженного дисканта была выше, чем у любого из гениальных мальчиков, выпестованных в академических вокальных студиях, какой бы певчий ангельский звук ни извлекали их горлышки. Мне показалось, что вот так, с какой-то тайной, трагической трещинкой должна была звучать флейта или скрипка в руках святого Франциска, Блаженного Франциска во время его воссоединения с живым Космосом, во время его блуждания среди пустынных тогда еще гор и лесов Европы в поисках утраченной чистоты и благодати.
— Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Духовный накал этого песнопения столь же высок и изнурителен, как высок и изнурителен ноосферный фон залов итальянского Возрождения, не иначе как энергетика их, источник, их питающий, одной природы. Кажется мне, я знаю имя этому источнику, имя это всем известно, а доступ открыт каждому, поскольку он внутри нас.
Перекличка голосов под сводами дрезденской церкви продолжается, обладатель баса у всех на виду, но кто же ему ассистирует, что за помощница? Она наконец появилась сбоку из-за колонны, легко и бесшумно ступая, и, не прерывая пения, поправляя свечи на широких круглых подсвечниках. По правде сказать, я поначалу никак не мог поверить, что это именно она поет, не может быть, у нее не может быть такого голоса, ведь она совсем старая, сухая как щепочка, ей давно уже за семьдесят. Но тем не менее, и тем не менее…
Кто же она? Русская? Если русская, то должна быть еще из первой волны эмиграции…
В полном оцепенении мы простояли так неизвестно сколько времени. Господи, никто не предполагал, что это может быть таким родным, домашним, и, самое главное, столь прекрасным. И ведь сколько себя помню, никогда я не отличалась ни излишней сентиментальностью, ни тем более, религиозностью. Надо будет обязательно поговорить с этой старушкой…
Доктор Бильц буквально вытащил нас из церкви, пробило одиннадцать, давно пора ложиться в постель, все немцы уже спят. — Да-да, конечно, мы виноваты, но нам завтра надо будет сюда вернуться. Как сюда проехать?
— Отшен, отшен просто.
Но завтра церковь была закрыта. Мы обошли ее кругом, она оказалась постройки, видимо, прошлого века. Судя по облупившемуся цоколю и буграм мха в некоторых местах кровли, давно нуждалась в серьезном ремонте.
На бетонном столбике у ворот кованой ограды мы обнаружили электрический звонок. Ворота тоже заперты, но можно попытаться нажать на кнопку… К нашему счастью, через минуту к воротам навстречу неурочным гостям вышла та самая старушка, которая вчера так заворожила нас своим пением. Вблизи она оказалась еще более старой — дряблая, повисшая на щеках и шее кожа, красноватые глаза. Мы сказали, что из России и выразили восхищение вчерашней службой. Старушка зазвенела ключами, повела нас в храм, заинтересованно заговорила о России, о малочисленном приходе, о новом священнике, о церкви, которая редко бывает открыта, заговорила на каком-то малопонятном русском языке. И тут обнаружилось, что она никакая не русская, а коренная немка из Потсдама.
Почему вдруг чистокровная немка, по рождению или лютеранка или католичка, служит здесь?
— О, да, я лютеранской веры!
Но почему переход в православие? Ведь очень уж большая разница в традициях? И мать Анна, светское имя Ингеборг, рассказала нам свою историю. Она верна и преданна русской церкви всей душою уже более 50 лет.
— Это наверное, очень странно, но русская церковь и русский язык были для меня спасением в молодости, в конце тридцатых годов, когда все кругом пропитала ложь и злоба. Мы в те годы иногда прятали у себя дома евреев, помогали им чем могли, но потом стало совсем плохо, мама с папой всего боялись, папа даже радио испортил, чтобы поменьше слушать о том, что кругом происходит, а я в это время повадилась ходить в русскую церковь (в религии особых притеснений не было), а по ночам стала заниматься русским языком, у нас была неплохая библиотека, я училась по русской классике — Толстой, Чехов, но, поверьте, тогда это было не совсем безопасно, ведь занятия языком я начала уже во время войны с Россией.
Почему я все-таки сюда пришла? Может быть, потому что лютеранство учит самостоятельно искать благодати и совершенства души, отрицает посредничество священника между человеком и Богом, отвергает тот прекрасный обряд, который вы вчера видели и слышали. И таким образом, делает религию домашним делом. Я же считаю, что нет ничего выше религиозного чувства, поэтому для того чтобы оно проснулось в душе, нужно иметь все то, что за тысячелетия накоплено, в частности, в русской церкви. О, это очень верная фраза — содержание религии во многом в ее форме! Но не во всем. Лютер был сильный человек. Он был пророк. Он мог себе позволить обходиться только Библией для молитв и для совершенствования себя в вере. Я же слабый человек, и большинство людей слабы, поэтому нам нужен храм со всем тем, что в нем есть, нам нужен помощник в вере. Не посредник, а именно помощник, обладающий духовным опытом, приобщенный к таинству Святого Духа. Есть, конечно, католичество с пышным ритуалом, но оно мне не было близко ни тогда, ни сейчас. Это особый разговор.
Понимаете, что меня огорчает в наших немецких священнослужителях? Их ангажированность. Это понятно? Да. Так вот они в своих проповедях почему-то не занимаются своим прямым делом, не учат, как возвыситься до истинной любви к ближнему, как укрепить свою веру. А по неискоренимой привычке говорят про политику. В тридцатые годы это было поголовным явлением, к сожалению, эта болезнь и сейчас дает о себе знать. Недавно слушала западное радио — проповедник в течение часа говорил о Никарагуа. А где же учение Христа? О нем он забыл.
— Мое сердце подсказывает мне, — сказала мать Анна в конце беседы, — что Русской церкви удалось избежать этого соблазна, в который часто впадала церковь Римская. Я в трудную минуту люблю читать жития ваших святых — Бориса и Глеба, Сергея Радонежского, вот откуда исходят чистота и свет нетленные…
На прощание мать Анна подарила нам Евангелие на русском языке, мол, берите-берите, я знаю, как у русских туристов всегда трудно с деньгами. Очень радовалась, что у нас в стране 600 храмов переданы церкви, что возрождаются монастыри, что даже в миру церковь все больше приобретает веса как хранительница историко-культурного и нравственного начала. А когда мы в качестве пожертвования храму вручили ей 10 марок, она настояла на том, чтобы мы взяли из церковного киоска икону Спаса, два «Вестника Московской патриархии» и набор цветных открыток.
Так и осталась она в моей памяти: маленькая, сухонькая, у высоких дверей церкви, но как-то по-особенному прямая, с совершенно белой головой, с чистой милосердной прощальной улыбкой — немка со шведским именем Ингеборг, любящая неведомую ей Россию.
Я вспомнил, что двести лет назад Карамзин также посетил в Потсдаме русскую церковь и нашел дряхлого российского солдата, который жил при ней смотрителем со времен императрицы Анны. Он был так стар, что его русский язык сильно отличался от того, на котором говорил Карамзин. Они с трудом могли разуметь друг друга.
Смотрители меняются. Но что-то остается неизменным.
VII. Доктор Бильц
Его зовут Вольфганг, это отец Антье, жены Нильса. У него есть еще одна дочь помладше, волоокая газель Жаклин, с длинными ногами и не по-немецки большой грудью. Жаклин работает в детском садике-интернате для брошенных детей и детей алкоголиков, работой своей довольна, даже влюблена в нее, и учиться дальше, как и Антье, не собирается. Вольфганг Бильц давно с этим смирился, поэтому особенно не сокрушается, а просто с улыбкой говорит про ту и про другую: А-а! Мол, дуры, ничего не поделаешь.
Доктор Бильц — классный инженер, ученый-дорожник, занимается автомагистралями, имеет несколько изобретений и других научных работ. На вид ему лет 40, высокий, в джинсах и спортивной куртке, с широким лицом, открытой улыбкой и добродушными ямочками на щеках он излучает жизнерадостность, динамичен и остроумен. На самом деле Вольфгангу совсем недалеко до 50, весной 45-го, в дни тотального разрушения Дрездена американцами, ему шел четвертый год, он остался жив и энергии его, судя по всему, хватит еще на полвека.
— Володя, — говорит он, похлопывая меня по плечу, — вы в России задумали хорошее дело. У нас такое невозможно. Мы любим стабильность, а вы — крайности. Да-да, я бывал в России, в Ленинграде. Я люблю Дрезден и понимаю тех, кто любит Ленинград. О-о! Я даже был там в русской бане. Меня позвали в парилку, и я увидел там человека в зимней шапке, рукавицах и с березовым веником. Я очень удивился: зачем он так оделся? Он пригласил меня наверх, я сел на ступеньку рядом с ним. О, было очень жарко! И тут он плеснул из ковша на раскаленные камни! Да-да, я сразу, мгновенно, понял, зачем он надел зимнюю шапку. А когда он стал бить себя и меня по плечам и по спине веником, я понял зачем он надел рукавицы. Всем было очень весело, все надо мной смеялись, мол, дурак немец, первый раз в баню попал, по-русски ни бум-бум, сидит, глазами хлопает, совсем сварился. Но я думаю, что я немножко понял, что такое русская баня: это есть испытание на пути к блаженству. Так я понимаю?
Вольфганг назубок знает историю Саксонии, особенно любит рассказывать о временах Августа Сильного, Августа дер Штарке, о временах расцвета Саксонского княжества, когда курфюрст здешний был одновременно королем польским. В выходной день Вольфганг сам вызвался повозить нас по историческим местам. Мы едем в Морицбург — загородный дворец короля Августа Сильного. Красный «Вартбург» Вольфганга у подъезда, машина внешне напоминает «Москвич», но менее мощная и двухтактная.
Немцу нельзя без машины, а у меня 12 лет — и никаких проблем. «Лада» стоит 30 тысяч марок…
* * *
Дорога…
Как и у нас, в ГДР много разрушенных и обезглавленных храмов. Вот и еще один у дороги приспособлен под склад.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
Скачать: