
Бесплатный фрагмент - Мотивы
ОЛЕГ АНИКИЕНКО
СТИХИ, ПАРОДИИ, ПЕСНИ
МАГИЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ
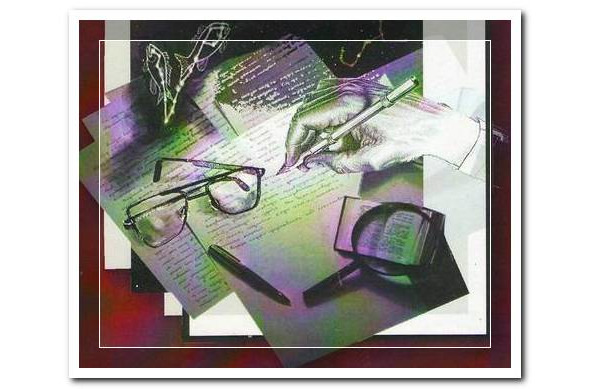
Время от времени в творческих журналах не спокойно: Почему так много пишущих? Что происходит? Не девальвируется ли эфир поэзии, искусства?
Особые ревнители призывают «графоманов» взяться за ум, заняться «полезным» и читать классику. Другие, напротив, поощряют взрыв писательства, поддерживая творческих «самоделов»… Сразу скажу, я — на их стороне.
По мне, — так пусть творят все. Все — пишут, лепят, малюют… Творчество облагораживает. Да и эволюция, братцы! Массы догоняют избранных. Все скоро будем и арии петь, и живописать, и корзины плести…
Энергия созидания реальна. Человек — творящий живет неповторимо. И мне знаком тот прилив сил, когда получается проект, когда удается родить образ. Эта магическая сладость процесса и его результат — пьянят и кормят. И раскрывают личность, шагнувшую в новую эпоху. Видно, написание стихов и картин — становится такой же потребностью и способностью, как дышать и работать…
В эту книгу вошли избранные стихи, пародии, песни, написанные автором за полжизни счастливых мук творчества. Все «творенсы» были опубликованы в самодеятельных сборниках за свой счет и потеряны — раздарены друзьям и знакомым. Некоторые проданы любителям образной словесности.
По сути — книга итоговая и составлена, прежде всего, для себя. Хотя и тут тема для животолков. Иной критик посетует: — Для себя? Так держи в столе…
Никогда не мечтал о поэтическом влиянии на читателя. Мне симпатичен статус самостоятельной творческой единицы. И все же, читатель нужен любому. Ты держишь его глубоко в душе. Поэтому, и — для себя, и — для других. Ты пишешь о себе, о своих переживаниях, взглядах, ощущениях… Но, если в тебе есть внутренние связи с миром, с людьми, то написанное для себя — интересно и другим. Эти связи видны в творении. Скрепленный такими нитями, художник не пропадает совсем, и когда-нибудь его все равно заметят.
Все мы — поэты самовыражения. В этом славном ордене у каждого свой рыцарский доспех. Но устав бескорыстия и света — у нас единый. Ты его принимаешь добровольно. А — успех, признание? Что же, и этого кто-то добьется. В любом случае, — получит весточку от Бога. Быть может, сегодня, из ночной форточки звездного неба. Внезапно повеет ветерок, и кто- то большой и мудрый шепнет человеку слова одобрения. И уснет счастливый поэт на кухонном столе, уткнувшись носом в свои измученные исправлениями строчки…
ЧУЖАЯ ЛАДОНЬ

Я снова открываю дверь:
огромный Мир стоит как прежде,
лицо прохладою объяв,
и равнодушной немотой
зовет к себе.
Войду.
За далью очертаний
видения холмов, полей
и тесный круг людей прекрасных
и неудавшихся людей.
Как он спокоен, молчалив, —
бескрайний Мир, для всех открытый.
Мы в нем — никто,
частицы света,
немного лучше, немного хуже…
Приму и я что в мире есть,
что было, что еще случится,
не отвернусь, когда придет
мой срок уйти…
Так — в путь?
Все тот же Мир
стоит передо мной открыто,
как перед всеми, кто входил,
и глубину его столетий
я не замечу в этом утре.
* * *
По линиям чужой ладони
c каким-то странным, непривычным,
другим рисунком, не моим —
учусь чему-то…
— Вот, судьбы, — смотрите! —
борозда все легче…
Болезни — в прошлом. А вот здесь
к вам новый друг
спешит навстречу.
Тут — знак богатства… И рука
чужая дышит осторожно,
согретая моим враньем.
Мы улыбаемся и шутим,
прекрасно зная про обман
моих гаданий неумелых.
Но что-то, видно, поважнее
есть в этой тайне сокровенной,
когда на линии чужие
ложится теплая ладонь.
* * *
На седовласых киоскершах
поверх газетных пирамид,
монбланов глянцевых обложек —
божественный лучится нимб.
Духовный свет над головой
красивым дамам по плечу…
Бреду походкой выходною,
ларькам последнее плачу.
Мне эти женщины дороже
парадных городских примет,
здесь остановятся прохожий
и — неопознанный объект.
И в теплой ауре оттаяв,
я не кусаю удила, —
журнальчик для мужчин листаю,
состроив равнодушный взгляд.
Как часто из толповорота
я к этим женщинам иду —
и человеческое что-то
у них тихонечко краду.
* * *
По крышам старого квартала
весенний снег ползет устало,
и серый шифер, обнажаясь,
парит на солнце, подсыхая,
чуть искривленный и хмельной.
Я вновь в стране пятидесятых,
где толстостенные дома
свои болезни открывают —
потеки, трещины, лепнины
остатки все еще живые
и крыш залатанный пейзаж.
И почему-то мне нужней
и интересней эти стены,
в которых между рам видны
авоськи, баночки с соленьем,
чем учреждения без крыш —
прямоугольны и надменны.
И признаваться мне в любви
лишь крышам хочется разбитым,
с которых плачет талый снег,
и людям, что здесь тихо жили,
как старый шифер на стропилах.
* * *
Люблю библиотекарей негромко,
несуетливый их паркетный шаг,
хранителей премудростей на полках
и томиков исписанных бумаг.
С достоинством неторопливой сути
они дадут мне редкий экземпляр,
о правилах напомнят и попутно
внесут пометку в свежий формуляр.
Предложат мне Конфуция, Платона,
чьих истин не затронул книжный бум,
и улыбаясь честно и смущенно
отвечу, что я в этом ни бум — бум.
А после, забывая время суток,
знакомцев полистаю не спеша:
здесь — Вордсворт, Китс, а там —
суровый Слуцкий
и Ади отболевшая душа.
И словно прекратив свое круженье,
мне призраки откроются на миг,
летающие с вечным вдохновеньем
среди библиотекарей и книг.
…Когда-нибудь и я пенсионером
устроюсь гардеробщиком сюда,
одетым как в театр на премьеру,
жаль облысею, видимо, тогда.
Служителем духовности палаты,
Платона разбирая по словам,
я буду подавать пальто и шляпы
и на прощанье вежливо кивать.
* * *
На фотомастера итог
самоотверженных исканий
смотрю с надеждой, но душа
все отозваться медлит, медлит,
и черно-белая страна
расплывчатой загадкой дремлет.
И кажется, еще немного —
и мир художника уйдет
куда-то вдаль неразделенно,
и тайну этих светотеней
и изощренность мастерства
уже не вспомнить…
Но — внезапно
забьется сердце учащенно,
дыханье дрогнет у листа,
где женское лицо живое
притянет внутренним огнем,
и мир другого человека
и мой, и мастера — безмолвно
соединяются в одно.
* * *
Вновь улицы знакомые приметы
я провожаю взглядом отрешенным —
сырых берез темнеющие ветви,
в туманных очертаньях крыша дома,
и в слякоти весенней колея
напоминает что-то отдаленно.
И в дымке моросящей догоняют
из форточек на первых этажах
обрывки сериала, звон стаканов,
прохожего задумчивого шаг
и где-то лязг вокзальный…
И, кажется, несет меня, несет
течением невидимого света,
к первоначалу, к центру, незаметно
вбирая в освежающий поток.
И тихое приходит обновленье,
как будто эта серая весна
под мокрым покрывалом неба
освобождает чувства ото сна
к полузабытым за зиму
стремленьям.
* * *
В потоке дремлющего света,
в миротворящей тишине
дыханье теплого паркета
передается тихо мне.
Застыло время. Только свет
в домашней плавает вселенной,
пронизывая окна, стены
и беспорядок на столе.
А вот и гостья (переливом
ее блистает чешуя) —
косится солнечная рыба,
хвостом несмело шевеля.
Ее приветствие — как знак
симпатии к любым стараньям
по капле света наполнять
земную чашу мирозданья.
И в чистом таинстве квартиры
дрожащим на лице пятном
с людьми, природой,
целым миром
всеобщей связью я скреплен.
Дыханье легче, взгляд светлее,
и возвращает не спеша,
во мне уверенность и силу
успокоенная душа.
* * *
Судьба, избавь греметь трубой,
толпу сзывающей на битву,
или приветствовать собой
людей, склонившихся в молитве.
Не дай мне быть вождем, иконой,
нечеловеческим законом
или указчиком пути…
Желания мои легки,
как тихий дым перед рассветом
над угасающим костром,
как облака прохладным летом,
чуть тронутые ветерком.
Позволь стать посохом, опорой
для странника с уставшим взором,
а для младенца, так и быть,
игрушкой, зубы поточить.
Позволь придти в родильный дом
последней схваткою без боли,
или надеждой за окном
для заключенного в неволю.
И может, если повезет,
позволь для друга — книгочея
войти в неяркий переплет,
о лучшей доле не жалея.
* * *
Усмешкою лицо искажено,
уверенные, гордые шаги
и дерзкий взгляд, скрывающий одно
заветное, немое — Помоги!
Что я могу? Такой же, как и ты.
Быть может, больше опыта круги…
Конечно, помогу, с улыбкой скрыв,
что сам шепчу кому-то: Помоги.
* * *
АВТОБУС
Вперед, по-прежнему вперед —
безостановочный автобус…
Летит задумчивый народ,
колесами толкает глобус
туда, где даль смиряют далью,
где счастье пополам с печалью.
Бегут царапины по спинкам-
кривые даты, имена,
красотка на стекле кабины,
маршрутный номер у окна, —
летит, не возвращаясь, взгляд,
как черные столбы в полях.
Все те же острова-деревни,
где долго жить — сойдешь с ума
под телевизорные бредни.
…Минуя серые дома,
кондуктор, сосчитав рубли,
увозит нас на край земли…
Зачем-то созданы стальной
движок и гарь в салоне душном,
ведь был у Бога основной
мир бестелесный и послушный
с бессмертием беспечных душ,
без райских кущ,
без мольб в аду.
Дымит автобус. Выбор дан
свободный на тропинке Млечной —
любить и жертвовать, страдать,
сбежать пораньше до «конечной»,
ловчить, трудиться и творить
или соседа удавить…
Не видно лиц. Устремлены
навстречу свету пассажиры,
ближайший силуэт спины
дремотною частицей мира
в лучах загадочно молчит
и, растворяясь, вдаль летит.
Мне эти люди доверяют
сиденье рядом. Общий бег
дороги долгой принимая,
запомню ли дыханье тех,
кто к свету начиная путь,
сойдет когда-нибудь уснуть.
ОБЩЕЖИТИЕ
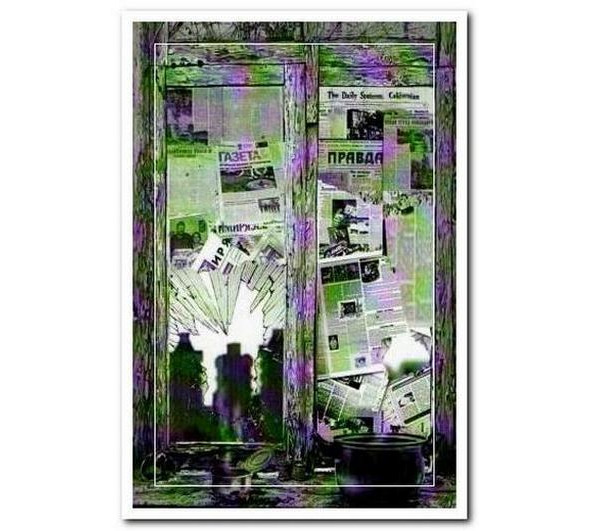
Здесь хорошо тому, кто выпил —
потом орет шакалом, выпью,
пока ему клыки не выбьют.
Здесь женщины быстрей стареют,
чем кран на кухне заржавеет,
где бомжи спят у батареи.
Здесь детство пахнет коридором,
помойные прокисли ведра,
бибики здесь не катят бодро.
Здесь друг у друга шпингалеты
воруют в грязных туалетах,
поставишь лампочку — и нету.
Здесь стеклотара у порога,
иконок по углам немного —
бездомные не верят в Бога.
Здесь виноваты все, кто выше —
чиновники, банкиры, Кришна,
а сам ты — мелочь,
третий лишний…
И будто сумасшедшим бликом
блеснет по окнам перекрытым
фанерой, простынями — вот:
старуха головой трясет,
мужик кричит — не похмелялся,
а там — мальчишка размечтался,
девицы курят, суп кипит,
и пахнут мылом ползунки.
А время равнодушно точит
панельную пятиэтажку,
все гуще тараканов след,
и туалетные бумажки
у баков мусорных заносит,
и сыплет, точно пепел,
снег.
* * *
ОБЕЗЬЯНКИ
Она работает на комбинате,
толкает бревна на зубья пил —
и тонны канцелярской бумаги
пропитаны потом угасших сил.
Ей только сорок, но уже старость
легла землистой корой на лицо,
и зарплату, единственную радость,
выдают досками или мелким яйцом.
А вечером, в своей комнате-клетке
ее встречают дружным оскалом
обезьянки, игрушки детские,
одни побольше, другие — карлы.
И маленькая, с большими руками,
она их гладит, словно подруг,
и на вопрос «зачем?» — тихо скажет:
«Они… никогда не врут».
* * *
Словно чесоткою, ларьки —
вызудили проспекты.
Все богомазы
ушли в «челноки»,
в мясоторговцы — поэты.
Будет народу пьяно и сыто,
людям — не до Вермеера!
Сколько в богеме стало кассиров?
Ни одного — фермера.
Грустно в меняльную эпоху
короткопалым натурам.
Поэты, и впрямь, выглядят плохо,
когда шелестят купюры.
Плыви же, приятель,
в пенной волне,
да взвесь-ка мне требухи…
Колбасы твои съедобны вполне,
были плохими стихи.
1993 г.
* * *
УЛИЦА
Вот мальчик плачет недовольно,
упал, теперь нога болит.
Беспечно пробегает школьник,
сбежал с урока, может быть.
Подросток сорванной уздой
прохожих весело пугает.
За ним — мужчина молодой
идет, о женщине мечтая.
Бредет продуктами загружен
измотанный отец семейства.
Ему навстречу — зрелый муж
карьеры замышляет действо.
Согнулась мастера спина —
спешит он труд свой завершить.
Старик все смотрит из окна —
ему осталось мало жить.
* * *
В тридцать седьмом — меня убили
за то, что «слава!» не кричал,
за то, что яростно трудился
и подозрительно молчал.
В сороковых — штыком проткнули,
жаль, защититься не успел.
В шестидесятых — обманули,
куда-то голубь улетел.
В семидесятых — не смотался,
кому же Родину спасать?
И в девяностых не продался
за колбасу и голый зад.
* * *
КЛОУНЫ
Дядя Саша и дядя Паша,
клоуны — самоучки,
отзубилив свои «восемь»,
пришли сюда и смеются.
Заливаются что есть силы,
стараются как лучше,
а перед ними — стены
серые и скучные.
А у стены — дети
бледные, худые,
болезнью побежденные,
но еще — живые.
Раковая палата,
жуткая, как морг…
Кто-то и улыбнуться
из зрителей даже смог.
Клоуны Саша и Паша,
выйдя во двор устало,
плачут вдвоем за оградой —
дети смеялись мало.
* * *
В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ
Два сердца,
три худых руки,
он с костылем, она — в коляске,
и церебральные тиски
любовную сцепили связку.
А рядом — сытоватый смех,
как будто
чья-то злая шутка:
здоровьем пышущий самец
лениво треплет проститутку.
И, может, недостоин тот
бездумной веры,
кто приделал
душе — истерзанную плоть,
а пустоте —
живое тело?
* * *
ТЕЛЕВИЗОР
Теле-игривые процедуры
фотогеничных уродов —
освобожденные от цензуры
тешатся кукловоды.
Можно министра — хозяина выдрать,
распотрошить депутата,
раньше за это давали «вышку»,
сегодня — в срок зарплату.
Но разрешение поболтать
еще не делает господином —
свобода слова, как свист хлыста,
грызть помогает удила.
Так пустословие зубоскально
заглатывает, душу тревожа,
и время, точно паяц в балагане,
хихикая, корчит рожи.
* * *
Вот идет Бабулацып,
твердая макушка,
на груди труба пыхтит,
за спиною — пушка.
Не красавец, не урод,
пьяненькая брава,
левою рукой крадет
у воришки — правой.
Что бормочет? Что лопочет,
щеки раздувая?
Верхняя губа — гогочет,
нижняя — рыдает.
То он ухарски поет,
то — на ветер лает,
левая нога вперед,
правая — вихляет.
И скрипишь на белый свет
с горечью и злостью:
Не Россия это, нет!
Родина, ну что ж ты…
ЛЮДИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Сквозь пыльное стекло —
загадочный просвет,
на подоконнике промасленная ветошь,
шаблоны… И слесарный инструмент
на заготовках будто спящий деспот.
Я вглядываюсь. Молча в глубине
станки темнеют: фрезерный, токарный —
и в полной от сочувствия Луне
верстак считает раны.
И в горле непонятная вина.
Я — тот же, свой. И палец мой разбит,
тверды ладони… А в груди саднит —
ведь стынет Родина,
чего-то ждет, скучая,
и на чужом пиру молчит.
…Мне этой ночью
вновь не смежить век.
Спецовочный, поверь мне, человек.
Выгадывать судьбу — не наш размер,
не предавал я личный инструмент.
Стихи мои не соусы из слов,
а масло под рабочее сверло.
* * *
Что-то хрупкое легче высмеять,
чем сберечь. Смысл наброска почти утерян.
Не карандашам не хватило грифеля,
а художникам энергии веры.
Те, кто сломлен — пляшут без масок,
но — картонные… Друзья мои, вы ли?
Что-то чистое, как паралитик в коляске,
у которого еще глаза живые.
Пусть болтун–шоумен потешается
над трудом, как над потребностью,
что-то важное — не стирается,
если свет изнутри, не с поверхности.
И не надо быть первым или последним —
сохрани себя, как черту эскиза…
Что-то нужное выгнуто на изломе
и к подносу лжи отвергаешь визу.
* * *
На шкафчиках рабочей смены
красотки голые. Мазут
на пухлых формах откровенно
замаслил прелести внизу.
Скрипит мозольная шарага,
дым, карты хлещут по столам,
и шутки плоские играют
по женским руслам и холмам.
Не то уж братство трудовое,
и старый бригадир потух:
«плевать, что выбросят на волю —
обида в том, что герб протух».
«Избушка повернулась задом…
Повсюду гоп и тру-ля-ля…
Левша обсасывает лапу…
Кощея бережет Илья…»
А все же кто-то остается.
А все же кто-то молотком
по пальцам врежет и пройдется
по чьей-то маме матерком.
А все же кто-то будет дельным
винтом, полезной шестерней
и тугозадую Венеру
мазнет шершавой пятерней.
* * *
Уже работы виден толк,
уже подобран нужный колер,
и свода рваный потолок
оштукатурен и спокоен.
И тихой речи перекур,
обед на стареньких газетах —
кефир, консервы и сырок.
И осень в арочный проем
прохладным проникает светом,
и в краску падает листок.
А за окном, в лугах — река,
дугой селенье огибая,
уносит к Богу облака,
чьи тени в храме оживают.
И так легко, и так светло,
что сердце, дрогнув, устыдится…
И путник, замедляя ход,
за маляров начнет молиться.
* * *
ПЛОТНИК
Ах, этот парень на бревне —
индеец, демон, бес!
Пристроился в голубизне
развратником небес.
Откинул волосы назад,
полунасмешлив взгляд,
и темно-синие глаза
разденут, усыпят.
Ах, как красив его живот,
подтянут и курчав,
и золотит мужчину пот
в полуденных лучах.
И кажется, что завершая
свой трудовой дозор —
Бог олимпийский зачехляет
сверкающий топор.
А ночью местная Кармен
проклятья шлет ему —
надев очки, читает он
Шекспира и Камю.
* * *
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
В горбольнице — переполох. Привезли!
В больших мешках! Из Германии!
Все санитарки сбежались делить
блузок «второе дыхание».
Красивые… Кто-то их выбирал,
вертясь у зеркала: Дас ист шнабе?
А после мужской рукою снимал,
и падала вещь на пол…
Я выходил из столярки на свет,
женским смущенный праздником.
Родина, ты одарила тех,
кто твои лечит задницы.
Русские бабы, день и ночь в гноях,
в хлорке гнилых клозетов.
Сэкономили на интимных вещах,
еще бы винца, сигарету.
Это они мне из общей свалки
куртку слимонили: Крепкая!
Чтобы я делал, делал им швабры,
да гвоздематерил табуреты.
2001 г.
* * *
На моих татуировках
инструмент грустит. Неловко
без струны ему звучать.
Плачет юности ошибка,
а смычок бежит по скрипке
от локтя и до плеча.
На бедре девчонки имя,
гравировка в страстном дыме
(как хотел ее — тоска!)
Ну а сердце защищая,
чайка на груди летает
и пыхтит седой вулкан.
Вроде стыдно бы раздеться,
да уже не отвертеться,
когда к небу понесут.
Знать, придется мне, итожа,
с разрисованною кожей
что-то объяснять Отцу.
* * *
Мне сказали: Ты ненормальный!
Отвезли в смирительный дом.
За отсутствие денег в кармане —
рукава завязали узлом.
Отчего-то не мил я успешным,
улыбающимся господам.
Кляп во рту… Сумасшедший
за решеткою у окна.
И осталось лишь наблюденье
за вертящимся колесом —
механизмом обогащенья
затупляющихся шестерен.
За притворными: Я — король! —
суетливость зрачков — мышей,
да выглядывающие порой
острия хрящеватых ушей.
Но труднее всего повторять
и не верить своим словам —
«Если беден — значит дурак!»
перед зеркалом по ночам.
* * *
СОН ОЛИГАРХА
Спит олигарх на Занзибаре,
вор миллионов, шах — аллах.
Рабыни — дети опахалы
устало теребят в руках.
Но что тревожит Карабаса?
Приснилось, будто эгрегОр
испортил ширину пространства
и толщину границ миров.
И в утончившейся природе
слова теперь — не пустоцвет.
А вил и топоров народных
матерьлизованный ответ.
И будто в русских городишках,
на пьяно — нищих площадях
плюют в его портрет людишки,
вопя: Ага! Угы! Говнях!
Ах, что поделать буржуину?
Нанять убийц? Купить закон?
А червь из колдовского мира
уже грызет его живьем.
* * *
…затем — Надсмотрщик, Хронос, жнец
пустых забав, монах, каменотес,
заложник Долга, — седовлас и нем,
ждет у весов, где чашами — дела
и горы слов. И хмурые косцы
за языки влекут, как под уздцы,
вновь прибывших.
Взглянул: Болтал? — И сузилась гортань
до хрипа, до ненужной фразы.
Прозрачна за спиною ткань
сумы последней. Но не гни плечо,
терпи, еще — не горячо, и Цензор
не отобрал, что ценно в ней,
что — дрянь.
И за мгновенье до удара в сердце
мелькнут дома, что строил для людей,
мосты, дороги — «моны лизы» тех
ремонтников, философов–умельцев,
теплушки, мастерские, — в них одно
лишь повторялось: выцветшею робой
завешено вагончика окно.
Успеешь ли, сумеешь опознать
«проезда нет» — растущий быстро знак
у края, за которым свет и звук
не рождены, где, вспыхнув, силуэты
освоенных тобою инструментов,
прощаясь, благодарно возвратят
энергию прикосновенья рук.
И в немоте отбойных молотков
проявится вдруг книжечка стихов,
брошюра, неказиста и мягка,
легка, не толще ручки мастерка,
не тяжелей стамески… Так не медли
на выдохе: Мечтал. Но больше — делал!
И на шкалу, где замерла стрела.
* * *
Достойно зреющий мужчина —
приветлив и не говорлив,
устроен крепко, но не чинно
и — без слащавости — красив.
Богат он берегами странствий,
морщинок кладом на висках,
послушен инструмент опасный
в его уверенных руках.
То ладный клоун, то — ученый,
психолог и веселый бард,
деревья он взрастил у дома,
а сыновьям — и друг, и брат.
Презрев насмешкою кручину,
труда и совести корсар, —
он скромно создает причину
Творцу гордиться в небесах.
АСТЕРОИД ЭРОТ
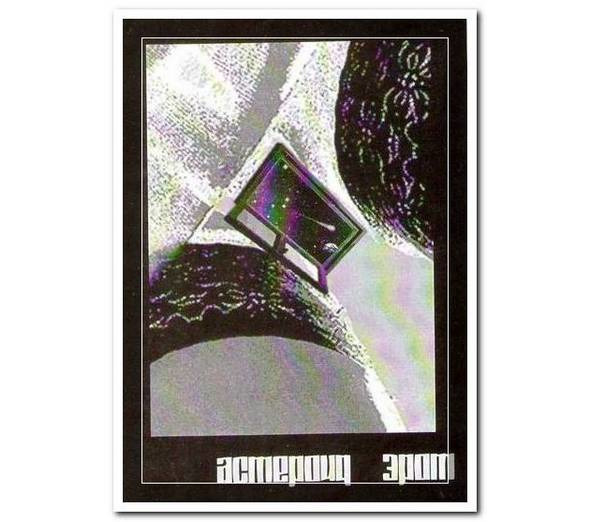
Нам камасутру с детства не читали,
и пальцев электрическую цепь
мы словно Фарадеи открывали
в бараке леспромхоза. По утрам
брели коровы за окном. Мешали
соседские клопы нам хохотать
над сутью бородатых анекдотов,
лишь выдавался перерыв в желаньях…
Пусть наши тайны постареют с нами.
Ты помнишь город? Сколько раз обои
мы клеили, мечтая о картинах.
Фламандцы, Поль Сезанн, Матисс
нам чудились в настенных завитках.
А рядом, в самодельных колыбелях,
плоды любви творили, — их дуэт
нас развлекал почище оперетт,
и мокрые пеленки третий год
особый создавали натюрморт.
…После ночной плетешься точно гомик.
Хотя по правде, что механик-хроник,
что сторож, наркоман недосыпаний,
как ни крути, вопрос трудостараний
во многом упирается в постель.
Где, отвернувшись, дремлющей Венерой,
нагие доверяя полусферы
блуждающей за окнами звезде, —
лежит твой незаконченный шедевр.
Вглядись, художник! В покоренных тенях —
власть Линии. Ее живой изгиб
струится от плеча, касается руки,
чуть медлит в талии и — вдохновенно —
взлетает по округлости бедра,
высвечивая женственный овал…
Приятней нет послания мирам,
откуда часто сладкоротый Эрот
не зря в мое жилище залетал.
* * *
«Встреча… ветреный… весло…» —
в многотомии словарном
отбираю сотню слов
для целительных отваров.
Тайна колдовской игры,
код алхимиков веселых,
слова — символы, миры:
«легкокрылый… луч… любовник…»
Так суровые масоны
вслед за мудрым Хаммурапи
высекали на колоннах:
«муза… милая… объятья…»
Пробираясь в пуще, грел
у огня ладони, мысли:
«теплый… творчество… хорей…
юность… ясный… ягодицы».
* * *
Живу! Влюблен! Как пахнут доски
из под растаявшего снега!
Открыт сезон. И дачник бледный
выходит на крыльцо в обносках.
Вгрызается ножовка в древо,
жучок испуганный скребется.
А рядом — взгляд серьезных, серых
глаз, от которых сердце рвется.
Незаменимый стимул жизни,
мотор для ломика с лопатой —
грудная впадинка богини
в тепле линялого халата.
Готов в опилки и полешки
Эльбрус спилить за предложенье:
— Быть может, отдохнем? — с движеньем
на старенький диван у печки.
* * *
В ее плечах — упругость лука,
а в шее — романтизм стрелы.
Но гладиаторская куртка?
Тут слезы лить.
И недогадливы ухмылки
стрельцов, их алчный полувзгляд, —
ей спать с подругою в обнимку
естественно, как защищать.
А все же грустно, отчего
нам женское непостижимо,
и для кого кольчуги звон
на теплой скрипке линий.
Но — «милая моя» — сказать
так хочется на поле брани,
и жесткость губ смягчить губами…
А — невозможно, плачь не плачь.
* * *
Словно в бессловесный мрак,
к шкурам — кремниям
провалился.
И в зрачках — ощущения.
И как будто без затей
ее «здравствуйте», —
только дрожь биополей
в общем радиусе.
Только легкий ветерок
в позвоночнике
первобытным языком
что-то прочит нам.
Может, вдруг, за темнотой-
холод и стена?
Лишь метеоритный дождь
чертит тайный знак.
И не нужен перевод
у костра для тех,
кому звездный небосвод
в собеседниках.
* * *
Она не могла
говорить ему «ты»,
он — тыкал,
при этом словно
задыхался от теплоты,
забившей той ночью горло.
Ее же,
не смог обогреть до утра, —
(диванчик общаги стынет…)
— Не уходите! — как жгущий шрам
приличному семьянину.
А за спиною —
жена в слезах
выставила хорошее…
«Не уходите…» — легко сказать,
у кого с родинку прошлое.
Ждать,
когда выпадет тайна — ночь
с той, что затопит радостью.
Ждать и молиться вором: Еще!
Хоть бы разок до старости.
* * *
Объятия без глаз, без губ,
без слов признания печально
отпустит ночь. И Анатом
неотвратимо на рассвете
сдирает ложь с души пинцетом
(как фартук его жесток, груб).
Спасительная дверь! Бегут
любовники, тая надежду,
в душевный бред, в сердечный скрежет,
забыв случайную кровать,
пока в печенку не проник
ногтем безжалостный мясник.
А с рук его стекает горечь.
А с рук его сползает, корчась,
сонм грешников. Но не убить
в тоске отчаянной, звериной,
как стон, не называя имя,
зовущее: Любви! Любить!
* * *
Но однажды,
ощутив марианский провал живота,
ты не сможешь ее не узнать —
это та,
уже и не жданная, с которой
не видя ее, говорил,
обнимал, прислушивался к дыханию,
о своем твердил,
ссорился, ждал примирений,
обдавал холодом, грел,
открывал в ней все больше,
брал, отдавал, старел,
выводил быстроглазых, крикливых,
быть может, двоих — троих,
и когда-то, почувствовав ее пальцы —
с благодарностью стих.
* * *
Ресничны поцелуи век
и опьяневший сторож сна
уже не служит. Лишь Луна
из звездной винодельни свет
струит по стеблю шеи, в грудь —
две чаши славные… Мой друг,
не выпить мне их, ждут давно
напитки живота и ног.
И по серебряной тропинке,
на зачарованной земле
ты в подколенную ложбинку
войдешь, вдыхая сладкий плен.
Но как бы ни томил глоток
зрачки и ни дурманил память, —
заветной амфоры исток
откроешь лунными губами.
* * *
Мы уже ведь идем, подруга, — крепи
наши пальцы в замке… Что-то нечисть вопит,
на болотах чадят и плюют пузыри,
сверлят спины нам гнусы, хрипят упыри,
но нельзя заплутать, не дано разойтись,
слишком мало осталось,
тем, кто поздно нашлись.
Мы выходим на поле. Струится рассвет,
тайный трепет печалью
в бледной траве.
Одинокое древо лижет туман.
Все как призрачный сон. Но это — обман.
Ты не верь, если трудно — веки сомкни
на минуту-другую. Вместе мы.
Мы выходим к жилищам. Город Зеро,
где лишь входы без выходов.
Видимо кров
здесь устраивать нам. Готова ли ты
открывать эти ставни, ворота, мосты?
Мы идем и не знаем: те, кто не спят —
пораженно за нами следят.
От кого эти блики, мерцанье во мгле?
За плечами странников — пара колец.
Две луны серебрятся по волосам,
обнимая друг друга, играя, искрясь.
И сойдясь воедино лучом круговым,
освещают идущих огнем голубым.
* * *
Неделя до приезда твоего.
Всего неделя… Ждать уже невмочь.
Ни спать, ни есть, ни думать о другом.
Год в каменной тоске. И видит Бог, —
не спился, ни скулил. Но сдерживая вой,
лунатиком у кассы трудовой
на ведомости, как в наркозном дыме,
не подпись ставил, а твое лишь имя…
Всего неделя… Правда, что змея,
разрубленная пополам стремится
горячей раной вновь соединиться?
Подобно ей ползу. Смеясь
сам над собой. Неловко мужику
так поклоняться образу, звонку,
письму, воспоминаньям, снимку,
с которым маешься, как псих, в обнимку.
А впрочем, Главный врач боготворить
тебя позволил. (Хоть закон игры
восторг предполагает обоюдный).
И если руки не в ремнях, — нетрудно
с иконостаса вновь перенести
в холодный тамбур светлые черты,
в дым сигареты, в перестук на стыках,
и в мысли о надеждах и ошибках.
Качается, будто хмельной, вагон.
На суточное перемирье обречен
сожителей плацкартных коллектив.
И лязг металла выстрочит мотив
крестами на висках. Да за окном,
как в зеркале, печальным рукавом
виденье привязалось: « долг… должна…»
А за стеной, откроешь дверь — стена.
Скрипит состав. Старея, гнутся оси
колес, планет, миров. И рычаги,
как ножки насекомых, как крюки,
снуют без остановок, вкривь и вкось
людей сцепляя: он — она — они…
Тряси, вагон! Обманывай, звени
железками. В движении забыться
приятнее, чем кислоты напиться.
Кого мы ищем в «завтра», не в «сейчас»?
Любимого? Учителя? В дороге
о друге, о товарище у Бога
выпрашиваем. О проводнике,
чей силуэт мерцает вдалеке
как выход из тоннеля, свет в окошке…
И страшно разминуться. Не узнав, —
сойти с подножки.
ПАРАЛЛЕЛИ

Как порождения веры
в белое или в черное, —
кружатся в ноосфере
призраки — мыслеформы.
Сущности идеализма
не покидают мир,
полюсы катаклизмов,
тени света и тьмы.
Сталкиваясь, разрушают
непримиримый пыл,
временно побеждая,
временно отступив.
И никому не ведом
схватки этой исход —
видимо бесконечен
диалектичный ход.
И принимая смело
битвы великой груз, —
магии черно — белой
чувствуешь терпкий вкус.
* * *
Он живет на антресоли. Стук да плюх.
Не поймешь, когда доволен. Шумный дух.
Из миров, из параллельных приблудил.
Афры, может, или Гермы — он — фродит.
Может внешностью не так он и крут —
дела божьего шутливый продукт.
Но к столу он на контакт — не идет.
И часам настенным в такт — не пробьет.
На фальшивую строку — деловой! —
направляет сердца стук. Моего.
Оттого его бачок всегда сыт.
Еще многих, старичок, обстучит.
* * *
ШУТОЧНОЕ — РЕИНКАРНАЦИОННОЕ
Переселенье душ… Кем был
я в прошлой жизни —
тараканом? Наполеоном, может быть?
Приметы прожитой судьбы
находишь в нынешней случайно.
Вот — тюбик краски. Почему
так запах масляный тревожит?
Летишь сквозь подсознанья тьму,
где средь венецианских лоджий
кого-то видишь у холста…
Вот — отзвук медного листа,
чеканщики куют посуду…
Как странен этот звук. Откуда
ты с ним знаком? Коварный Рим
жесток к своим мастеровым.
И оторопь берет, когда
услышишь птичий крик у моря
вокруг скалистого гнезда…
Ах, хорошо жить бывшей птицей!
Но не шутом. И не убийцей.
* * *
Сквозь нас невидимые нити
энергетических сцеплений
проходят, тайнами звуча.
И в этом мире откровений,
признаний, просьб, чужих волнений
мы — параллельных два луча.
Но — удивительная жизнь —
порой одной короткой встречей
лучи легко соединит, —
и между нами молчаливо
золотосветной паутиной
протянет трепетную нить.
* * *
ВАЗА И ЧАЙНИК
Стремится ваза в неземную даль,
Но мудрый чайник выдержку хранит, —
Удерживая бьющийся хрусталь,
В их тесной связи строг и деловит.
Она — порыв, томление, восторг!
Он — лишь сосуд практичный для воды…
И обречен на вечность натюрморт
Единством их союза и вражды.
* * *
ВСТРЕЧА
На семинаре чудотворцев славно,
мудреную заслушивая речь,
приметить, как воздушные созданья
знакомиться вспорхнули
с наших плеч.
Мгновение — и ангелы печали
уже вздыхают вместе в уголке:
мой — пухлощекий негерой астральный,
твой — остроплечий,
с тушью на щеке.
И, не скрываясь, ангелы веселья
уже хохочут, угадав дружка:
один — самоуверенный и смелый,
другой — с морщиной теплой
у виска.
* * *
Как уберечь в толпе тысячеглазой
вздох призраков, фантазий, свое «я»? —
Уйдешь, чтобы спастись, остаться тайной,
единственною мерой бытия…
Но если станет пусто в пресыщеньи
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.