
- Все
- Экономика и бизнес
- Промышленность
- СМИ и индустрия развлечений
- Издательская деятельность и журналистика
Бесплатный фрагмент - Мемуары уфимского школьника

Шамиль Валеев
МЕМУАРЫ УФИМСКОГО ШКОЛЬНИКА
Книга нашего времени

Эти записи были собраны в единое целое благодаря доброй, бережной и крепкой руке моего старшего товарища и наставника Рушана Ахняфовича Киреева (1955–2021).
Книга уфимского журналиста и общественного деятеля Шамиля Валеева посвящена классической триаде современного человека — детству, отрочеству, юности и их воплощению во взрослой жизни.
Внимательный читатель сможет ещё раз войти в пространство своего прошлого, но теперь уже с внимательным и понимающимся проводником. Вспомнить всё чудесное, что было с тобой в прекрасное время жизни, увидеть красоту места, где живёшь, — вот девиз этой книги.
© Валеев Ш. Р., 2021
© Валиахметов Р. Г., обложка, 2021
© Якунина Н. В., иллюстрации, 2021
Дорогие друзья!
Большую часть этих текстов — собственно сами «Мемуары уфимского школьника», я написал во время, которое называется «кризисом среднего возраста», где-то на стыке четвёртого и пятого десятка, то есть около сорока лет. Психологи говорят, что его легче преодолевать, если себя — забытого маленького, мягкого, хрупкого и беззащитного — вспомнишь, поговоришь с ним, возьмёшь под свою взрослую защиту, успокоишь и погладишь по голове.
Получается, что вспоминая своё деревенское и уфимское детство — ковыльные лесостепи Чекмагуша, прохладные лесопарки Новостройки, учителей 49-й школы, преподавателей БашГУ, — я так и сделал. Мне это помогло найти мир с собой, проплакать невыплаканное, сказать несказанное, понять непонятое. Но попутно выяснилось, что не один я такой — десятки, если не сотни, мальчиков и девочек семидесятых, восьмидесятых годов написали мне об этом: каждый нашёл что-то своё. И оказывается, нас — начитанных и ранимых, умных и добрых — много. Целое поколение. Моё поколение.
Так я понял, что эти строчки адресованы не только мне. Вот.
Я очень надеюсь, что книжка, изданная на бумаге, не потеряет электрической энергии текстов и будет стоить вашего (и моего) потраченного времени. Спасибо, что читаете!
Ваш Ш. В.
Февраль 2021 года

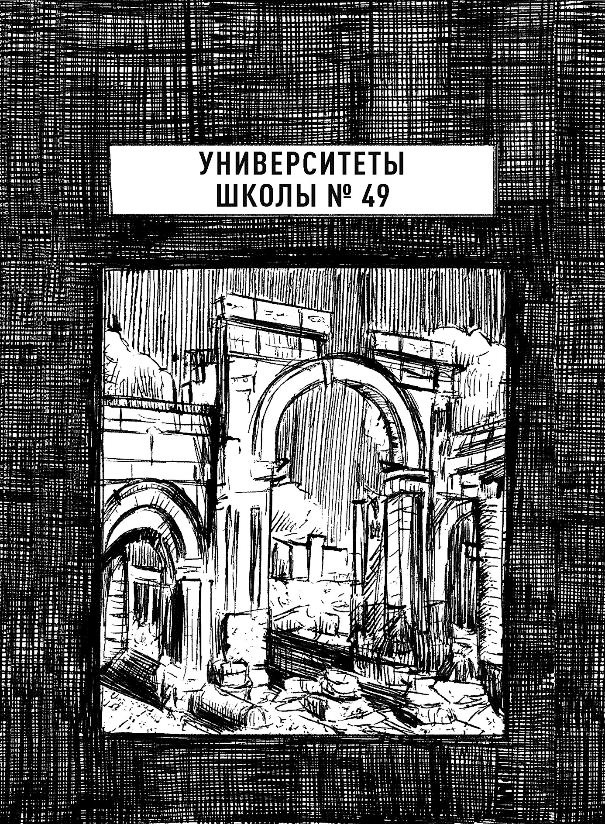
УНИВЕРСИТЕТЫ ШКОЛЫ №69
НУЛЕВОЙ УРОК
Старая добрая Новостройка
Я — уфимец с короткими перерывами с конца лета 1980 года; школьное детство и юность мои прошли на Новостройке. Я помню первое впечатление от неё, когда въезжал по улице 50-летия СССР мимо «сорокового завода» и смотрел через лобовое стекло на огромные изогнутые белые дома-корабли, которые стояли уступами на другом «берегу» оврага-долины Сутолоки. На балконах висели красные растяжки, наверняка про «ум, честь и совесть нашей эпохи».
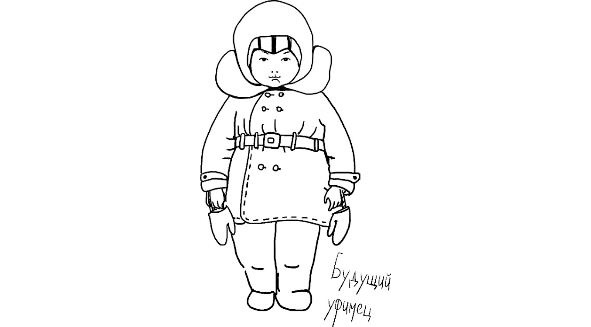
На зелёном заборе «сорокового завода» висел зомбификатор восьмого уровня «Учение Маркса, Энгельса, Ленина всесильно, потому что оно верно!». Меня, семилетку, уже запойного читателя взрослых книжек и учебников, привезли в Уфу из деревни — аж за девяносто три километра — 30 августа 1980 года. И ещё никто не знал, возьмут ли меня в школу, а если и возьмут, то в какую. Взяли. В 49-ю. Хотя была ещё 42-я. Но — переходить дорогу. Мы и не знали, что лучше в 39-ю, и знать об этом надо было не менее чем за год-полтора, а лучше прямо с рождения. Такое было время.
Брать меня, деревенского, не хотели, вроде всё было укомплектовано, и причём давно. Матушка моя случайно услышала в разговоре директора «позывные» — имя-отчество какого-то Ильгиза Шарипыча, заведующего профильным отделом обкома КПСС, козырнула знакомством, и меня, униженного недоверием и заплаканного, взяли.
И определили в шахматный элитарный класс. Первого сентября меня коллективно признали «самым умным в классе», чем малость поправили самооценку. От избытка чувств я опять разрыдался, и меня доставили домой, благо идти было три с половиной минуты.
Матушка успела пообещать директору Герману Константиновичу, что я стану лучшим шахматистом, и мне пришлось ходить на эти шахматы до шестого класса, когда все уже на них забили, а Германа уже давно не было в этой школе. С тех пор не люблю эту игру.
Отец свою первую квартиру — двушку в хрущёвке — получил по линии обкома комсомола в двадцать семь лет. Как-никак журналист — это почти знаменитость и почти начальство. По слухам, до нас в этой квартире жила семья, из которой вышли министры и даже главы администраций районов и чуть ли не президентов. Я в свою первую однушку въехал в двадцать девять. Уже в Новиковке. Через лесок от Новостройки.
До седьмого класса я был деревенским жителем и при первой возможности сваливал к бабушке и проводил там все каникулы, очухиваясь от лета только в зябкие августовские ночи, когда возвращался домой в мокрых от росы сандалиях и джинсах от Салаватского ПШО и Jantar.
В 1987 году, после того как впервые остался в городе из-за лагеря труда и отдыха («Росинка», совхоз имени 50-летия СССР), я стал полноценным горожанином, а не «учебным мигрантом». Я понял, что вряд ли вернусь в деревню председателем или, на худой конец, «парткомом» после пятнадцати лет в школе и, разумеется, сельхозинституте. Так мне обещали в августе 1980 года, когда разводили на переезд. И я начал делать гуманитарную карьеру, забив на алгебру, геометрию, прилежание и отчасти даже на поведение.
С партийно-комсомольской карьерой я завязал ещё перед первым смотром строя и песни, когда меня административным путём забаллотировали на выборах в командиры отряда юных суворовцев, приведя неотразимый аргумент — «а у него голос тихий». В противные и многообещающие девяностые я вырвался из родного и уютного «микраша» в студенчество, аспирантуру и журнализм. Для меня Новостройкой теперь уже была вся Уфа. И в силу своего представления о романтике, а также в меру юной энергии и любознательности я пытался отметиться хоть каким-нибудь образом в каждом районе города.

Особенно манили те места, куда мне, бывшему подростку с ТЦ «Башкирия», путь по геополитическим причинам был заказан. Транспорт тогда ходил бесплатно, но только днём. Радиотакси тем более ещё не было. Пару раз обнаруживал себя в таких районах, откуда можно прийти пешком (или доползти) только к утру. И как-то раз, возвращаясь домой, услышал, к своему удивлению, стук вагонных колес на стыках. Это же надо, как тихо тогда было ночами, — аж Транссиб было слыхать на бульваре Молодёжи!
В нулевые годы я изменял родной Новостройке с Новиковкой, Садовым кольцом и Восточной Сибирью. Объездил все муниципальные образования республики в составе различного рода кортежей и пулов — не был разве что в Абзелиловском районе.
А недавно вернулся сюда как блудный сын, проапгрейдив лишь метраж и «микраш», а также компенсировав убывшего себя юного в четверном размере. Теперь район показался немного запущенным, но вполне себе уютным, винтажным и удобным для жизни. Хотя коммуналка здесь пока никакая, но это скоро пройдёт, это вам бывший сотрудник фонда ЖКХ говорит!
Чуток ещё есть наркоманов и алкашей, но это, как показывает опыт, тоже лечится естественным путём по теории Дарвина. Квартиру в одном из первых домов Новостройки нашла моя половина, и я тихонько её оформлял, подавляя в себе писки радости и прыжки до потолка.
Сейчас Новостройка, уже как и вся остальная Уфа, сильно меняется. Не всегда в лучшую сторону, но довольно основательно. И выглядит совсем не как новостройка, за исключением примерно пяти точечных свечек времён градостроительного беспредела второй половины девяностых.
Как-то раз, глядя в окошко своего служебного кабинета на колокольни Соборной площади Кремля, я понял, что мне жалко терять безвозвратно и бесследно мою старую Новостройку. И я начал её складывать кусочками в социальную сеть в виде формулировок во время приступов ностальгии. Кто же знал, что возвращение на родину будет таким таргетированным и оперативным? Скулил-то я искренне и безысходно, не надеясь, что упырей, чуть не укравших мою родину, загонят за Можай скоро, и я смогу вернуться так точно, что до сих пор не верится. И сейчас правлю пост в сие гостеприимное коммьюнити и боюсь выглянуть в окошко — вдруг это всё мне приснилось…
Но раздвинув занавески, к счастью, вижу милые сердцу дома, улицы, магазины, деревья, которые навевают геоисторические «вспоминалки» — об объектах той самой Новостройки, которая была новостройкой всего-то сóрок лет назад.
«Новостройка» — историческое название части Октябрьского района города Уфы, которая активно застраивалась с конца 1960-х годов. Собственно новостройкой этот район был в начале семидесятых, но название прижилось и в ходу до сих пор, хотя новое поколение уфимцев и гостей столицы называет его по торговому центру «Башкирия», а официальные власти предпочитают именовать его по старинке Лесопарковым. Новостройка состоит из трёх «микрашей» — таково местное название микрорайонов.
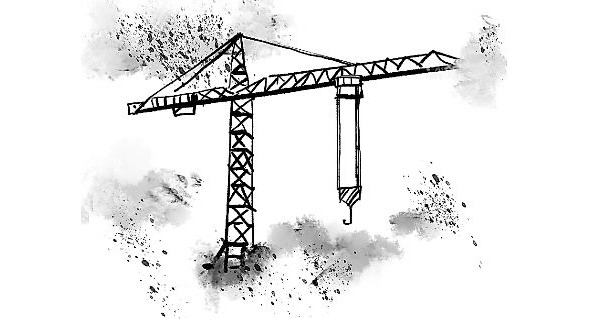
Первый «микраш» ограничен улицами Менделеева, Лесотехникума, Клавдии Абрамовой, 50-летия СССР.
Второй «микраш» — улицей 50-летия СССР, Лесным проездом, бульваром Молодёжи, Менделеева (на самом деле — «тридцатым магазином», ныне цепочкой магазинов в здании по Менделеева, 207).
Третий «микраш» (тоже небольшой) — улицей Менделеева, бульваром Молодёжи, Лесным проездом. В общем, между ТЦ «Башкортостан» и ГКБ №21 +49-я школа. Ориентир — «Трамплин».
Возможно, такое деление связано с номерами участков ЖЭУ №44, которое до последнего времени обслуживало здесь большинство домов.
«Сороковой завод». Исторически Новостройка тесно связана с Уфимским приборостроительным заводом — некогда «почтовым ящиком №40», ныне УППО. Многие работники УПЗ жили именно здесь, в первом и втором «микраше». К заводу, судя по всему, имеет историческое отношение и стадион «Трудовые резервы». УППО шефствовало над СШ №49 и рекрутировало оттуда кадры посредством ШРМ (школы рабочей молодёжи) и «училяги» (ГПТУ №37). Нас на завод водили всем классом, чего там точно делают — не знаю. Что-то секретное. Известна бритва «Агидель» — популярный советский бренд, который побывал в космосе, сейчас тоже вроде выпускается. Видимо, электробигуди с одноимённым названием — тоже продукция этого же предприятия. «Красные дома» по Луганской напротив завода (и бывший супермаркет «Ниагара», на котором раньше была непонятная вывеска «Проектно-сметное бюро») — это, как говорят местные жители, был край Уфы до того, как Новостройка была просто новостройкой.
Сутолока — река, которая является душой Уфы, река, где водилась форель, река, где сейчас пока помойка. Она самоочищается, перестала уже пахнуть баннопрачечными отходами. Видимо, сдохло какое-то мерзкое совковое производство. Да и уважаемые жители Вишерской и Шелководных улиц перестали сбрасывать туда мусор — скорее всего, потому, что им теперь мешает проспект Салавата Юлаева. Там можно было найти всё, вплоть до ржавого «Жигуля» или «Запора». Где она точно начинается, я так и не выяснил доподлинно, зато её устье — у всех на глазах: она впадает в Белую рядом с монументом Дружбы. Вроде, часть её забрана в трубу. Но сам я не видел. В восьмидесятые годы ходили «телеги», будто бы какие-то комсомольцы хотят её вычистить и пригнать к её устью пароход «Ост», на котором прибыл в Уфу Ленин. Видимо, враньё или прожект.
Торговый центр «Башкирия», «торгушник», «торгаш» — крупнейший торговый комплекс республики, который был построен к ноябрю 1987 года. Мы ещё в 1980 году играли в его котловане, находили там залежи минерала слюды. В 1987–90 годах там правили бал банды подростков, которые шакалили «залётных» — юных представителей других районов города, приехавших без родителей за ранцами и школьной канцеляркой. Из-за них молодым одиночным новостроевцам приходилось передвигаться по остальной части города короткими перебежками. Ответ «с „Торгового“» на вопрос «откуда, пацан?» — чаще всего получался неправильным и неполезным для красоты черт лица. Самая жуть заключалась в том, что во взрослом мире всех этих мальчишеских преступлений не существовало. До того как показали документальный фильм про казанских мотальщиков. Там были кадры с похорон, из прозекторской и с коллективной дискотеки, где казанцы танцевали строем, как «Тодес» сейчас. Только в телогрейках.
Иногда ходили слухи о замирениях с «верхней Айской», но в «Коробочке», на «Карлухе», в Глумилино и Орловке и даже в соседней «Молодёжке» чаще всего нам было делать особо нечего. Дело доходило до того, что дрались «микраш» на «микраш» внутри Новостройки. К нам в школу на линейку приходили милиционеры, которые рассказывали, что одного пацана с Первого за трёхкопеечное шакальство закрыли на три года в спецшколу или даже колонию.
«Три года за какие-то три копейки!» — возмущались мы. Я не ходил никого «выцеплять» — было очень противно, хотя помальчишески меня часто подначивали «на слабо» и говорили, что так можно «заработать» денег. Такой дворовой инициации я не прошёл: вдесятером на одного — так себе, хотя рассказывали, как о подвиге Матросова. В лесопосадке ближе к Уфимке была якобы целая вытоптанная в снегу поляна, усеянная выбитыми зубами и покрытая лужами крови избитых «залётных». Достаточно было привести туда любого смельчака, чтобы он отдал все наличные без боя. Сам не видел, особого желания во всём этом участвовать не было, как и коммерческого интереса к добыванию средств методом грабежа. В ТЦ постоянно тусовались компании полузнакомых подростков человек по двадцать. Они подсылали к потенциальным жертвам наглых «молодых», которые провоцировали залётных чуть постарше себя на подзатыльник. После него появлялся формальный повод компании местных «вступиться за униженного и невинно обиженного младшего товарища». Эта тема требует отдельного исследования, но коснулся я её здесь потому, что «торгушник» конца восьмидесятых для подростков значил именно это.
Лесопарк, зверинец, вольер — специализированное лесное парковое хозяйство. В вольере живут в неволе медведи, зубры из Беловежской пущи, кабаны, лошадь тарпановидная, орлан-белохвост, верблюд, волки и ещё какие-то звери. Раньше были косули и лоси, но потом хозяйство пришло в упадок, огороженная часть стала открытой, были повалены секции забора. Площадка перед вольером — место проведения быдляцкого досуга с 1,5–5-литровыми полиэтиленовыми ёмкостями пива. Можно найти и шприцы. Кучи мусора и мамаши с колясками. В последние годы там стало невыносимо. И народу до фига. Раньше было классно. Особенно когда нет комаров. Проходя производственную практику на УПК, я иногда вместе с одноклассниками убирал там медвежьи или чьи-то ещё какашки. В одно время их кормили калиной, с тех пор я её не очень люблю. Разве что тёртую, без косточек, которые всё равно не перевариваются.
21-я больница — та самая новая больница на тысячу коек, которую правдинский собкор Прокушев упоминал в знаменитой статье «Преследование прекратить…». Раньше, когда нигде не было охраны, там можно было тусоваться, молодёжь собиралась в «тупичке» одного из учебно-демонстрационных корпусов. Кавалеры с Новостройки жаловали общагу (так называемый «квадрат») Лесной проезд, 3, где проживал младший медперсонал. Есть морг с анатомическим театром-аудиторией при кафедре паталогической анатомии мединститута, куда можно было ходить пугаться — смотреть трупаков и уродцев в банках вперемешку с разными опухолями. В одно время молодёжь там собиралась в деревянной вентиляционной башне, весь объём которой был заполнен деревянными же рейками в качестве фильтра. Разумеется, она сгорела. Очень надеюсь, что эта система работала на «вдох», то есть забирала воздух для вентиляционной системы больничного городка с улицы, а не наоборот — выдыхала содержимое тысячи пар нездоровых лёгких. В первый свой приход в эту башню я шагнул в пустоту и аккуратно приземлился на канализационные трубы, чудом оставшись живым.
По городку больницы прикольно было кататься на велике — мы играли в догонялки, подрезая друг друга у бордюров. У меня была складная «Кама» — отцовский подарок за сто четыре рубля.
Завод «Промсвязь» — раньше делал что-то инфраструктурное для АТС, теперь он работает на «Башинформсвязь», производит уплотнительное оборудование для абонентов сельских АТС (www.uzp.ru — прочитайте, там интересно написано про его славную историю).
Трамплин — на крутом берегу реки Уфы (Уфимки, Караидели) было несколько трамплинов, в итоге в двухтысячные годы был выстроен, если не ошибаюсь, девяностометровый трамплин с лифтом и яичком-кабинкой наверху. Но, к несчастью, ближе к столу приземления располагаются очень подвижные грунты, потому современный трамплин начало гнуть и корёжить. Его распилили и сложили кусками. Зрелище грустное. (Хотя мой коллега Колпаков и писал об этом нечто обнадёживающее.) На крыше железной судейской будки слева от старого трамплина очень удобно и прикольно пить пиво. Самое главное — соблюдать меру, чтобы не выпасть и не навернуться во время спускаподъёма.
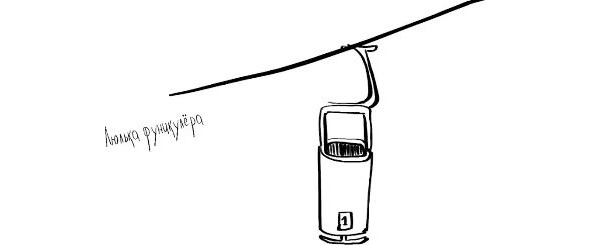
По той же причине — сползание грунта — был перенесён на двести метров южнее своего первоначального расположения и фуникулёр (к счастью, работает). Я стараюсь туда попадать хотя бы раз в год. Десять минут счастья и покоя — почти свободное парение под поскрипывание канатки с видом на кубокилометры Зауфимья.
Раньше были спортивные секции, проводились международные соревнования. Сейчас там два популярных спорткомплекса для любителей горных лыж и сноуборда и много общепита. Летом я люблю проводить экскурсию «фуникулёр + государственный паром». Но удаётся всё реже. И особо некому её, эту экскурсию, проводить — всех, кого хотел, уже перекатал почти, а на второй раз не так часто соглашаются даже мои собственные дети. Кроме меня, вообще мало кто фанатеет по скромным новостроевским достопримечательностям и скудным развлечениям. Такое складывается впечатление.
Дýдкино — село на противоположном берегу Уфимки. Там у многих новостроевцев дачи. Немало и заброшенных. Поскольку затапливает и комарики. А на машине фиг проедешь, разве что сильно в объезд. Потому молодёжь туда не особо ездит, всё больше старики и старушки с рюкзаками. Судя по всему, они экономят на фуникулёре, поскольку предпочитают карабкаться в гору пешком (в принципе, по времени — столько же, но нагрузка — хоть в экзамен на краповый берет включай).
Строиться основательно там непросто. Одно дело — стащить с предприятия три доски и переправить их туда на велосипеде, а другое дело — современное строительство. Даже машину навоза привезти — проблема. Говорят, есть какая-то самостийная автодорога, петляющая между деревьями. И есть надежда, что недостроенный туннель с помощью моста соединит Галле и выезд на M-5. В Дудкино есть аборигены — домов пять сельских жителей, до которых не всегда доходят социальные блага. Главная там — бабушка Мария Петровна, всё потомство которой летом занимается частной переправой на железных плоскодонках. Надеюсь, она жива. Я делал репортаж оттуда в 2001 году. А знаменитый журналист Марсель Гафуров посвятил жителям этого села целую книжку.
Лесопарк имени Лесоводов Башкирии. Примерно сто гектаров лесных насаждений — как хвойных, так и лиственных, как естественных, так и искусственных. Массив ограничен с разных сторон рекой Сутолокой, 21-й больницей, 49-й школой, улицей Менделеева, проспектом Салавата Юлаева, жилой застройкой по Лесному проезду. Через этот лесок можно было быстро (минут за пятнадцать — быстрее, чем на троллейбусе!) добежать до универмага «Уфа», Автотранспортного техникума, Вишерской, «Молодёжки». Раньше днём там чаще всего можно было встретить пациентов 21-й больницы, а сейчас — группы молодых людей, употребляющих что попало. В потаённом месте растёт несколько молодых, лет тридцати, кедров. Где — не скажу.
К парку примыкает Уфимское лесохозяйственное производственное объединение (УПЛХО) с Лесным музеем. В начале восьмидесятых годов были построены скамейки и столики, выпиленные и выдолбленные из брёвен. Сейчас их уже разломали. Машинам туда ходу нет и не должно быть. Есть берёзовая роща, посадки хвойных пород, элементы ландшафтного дизайна — В пятидесяти метрах за стелой памятника Лесоводам Башкирии (в девяностые почему-то никто не догадался переименовать его в памятник Лесоводам Башкортостана). В гуще лесных насаждений — несколько частных домов с большими собаками, и именно желание избежать контакта с этими домашними животными оставило приватность жителей этих домов в неприкосновенности.
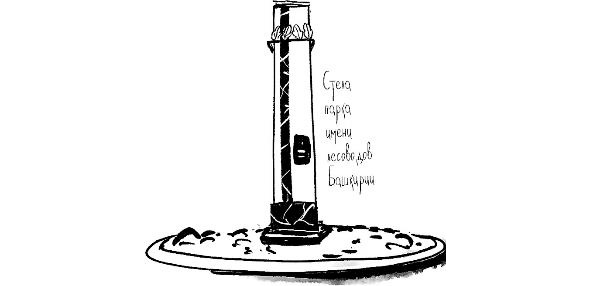
Ботанический сад. Это уже не наша история, как и стройфак УНИ (УГНТУ) с Минлесхозом, — пусть о них пишут жители Новиковки. Ботсад — место хорошее. Академичное и праздничное. Лучше всего там перевести дух в лютый беспросветный мороз, когда до весны далеко. Лишь бы свадеб в тот день не было. Говорят, пары́ шампанского неполезны для нежных растений.
Распивочная, некогда расположенная в северном торце дома №207 по Менделеева. Раньше там из железной амбразуры продавали водку, а в очереди алкаши и просто мужики лупцевали друг друга не по-детски, и иногда дело доходило до Страшного Советского Оружия Алкашей — «розочек». Мы ходили на это шоу смотреть во время антиалкогольной кампании. Это заведение в девяностые годы было интересно тем, что там не предполагалось обслуживания клиенток. В отхожем месте не было полноценного унитаза, а только раковина и писсуар. Неоднократно видел, как туда заходили, предварительно напившись пива, дамы, что-то там долго делали, потом выходили, немного сконфуженные, но довольные. Иногда слегка обрызганные. Сейчас, я уверен, там всё по-другому.
Хозмаг. До появления ТЦ «Башкирия» был одним из немногих интересных магазинов в районе. Там можно было купить резиновый клей, из которого катались очень прыгучие мячики. Надо было купить много тюбиков этого клея, а потом намазать его на открытку, чтобы он немного подсох, — И начинать натирать этот слой клея пальцем. Самый крупный катышек по принципу снеговика можно было превратить в мячик произвольного размера в течение нескольких часов. Лучший мячик получился у моего одноклассника и соседа по парте Славки, который погиб в восемьдесят седьмом году, переплывая Уфимку в районе острова Безымянного, чуть выше по течению, чем паромная переправа.
Учебная парикмахерская. 47-й дом по «полтиннику» (улица 50-летия СССР). Там можно было постричься дешевле, поскольку на твоей голове тренировались молодые парикмахерши под присмотром наставников. Получалось долго, зато весело. Мне больше нравилось в парикмахерской, что в доме 207/1. И сейчас в «учебке» есть какой-то учебно-парикмахерский центр, называется «Алтынсэс» — «Златовласка» по-башкирски.
Театр «Нур». Долгострой ещё с советских времён. По неподтверждённым данным, стоил миллиард рублей по ценам, например, 2003 года. На его месте начинали строить кинотеатр, которого в восьмидесятые годы нам так не хватало. Мы хотели кинотеатр, поскольку приходилось собираться человек по двадцать, чтобы безопасно дойти до «Искры», «Теремка» или Гагарина без оглядки на местных и попутных орловских.
Яблоневые сады. Если встать на путепроводе по улице 50-летия СССР и посмотреть на юг вдоль проспекта Салавата Юлаева, можно представить себе огромный овраг, долину реки Сутолоки, в которой располагались садовые участки, судя по всему, принадлежащие работникам «сорокового завода». В восьмидесятые там уже было не так много «населённых» домиков, сады казались полузаброшенными, а яблоки почему-то попадались зелёные. Такая же история — если смотреть на север, в сторону туннеля. Ходить туда было страшновато — мало ли кто там водится. Мы смотрели на эти сады через зелёный забор и гадали — где же начинается Сутолока.

Общаги. Бульвар Молодёжи, разделяющий Второй и Третий «микраши», за исключением двух домов, состоит в основном из «общаг». Ведомственная принадлежность их разнообразна: сельхозинститут, ОАО «КПД», министерство культуры и национальной политики. Ещё несколько малосемеек, которые можно отличить от других по зелёным квадратам под окнами.
Верхняя общага — бульвар Молодёжи, 10 — стала в девяностые годы одним из первых «бизнес-центров» в Уфе. В одно время там сидела даже Уфимская таможня и море разных фирм. Уже в девяносто втором году там были ужасные пробки из-за того, что машины парковались чуть ли ни друг на друге.
«Музыкалка» — там часто можно стретить разных знаменитостей, актёров, певцов, кураистов. Из её окон можно было слышать духовые, ударные инструменты, а когда я учился классе в пятом, там жил трубач. Туда любили хаживать местные донжуаны, доподлинно не знаю, насколько эффективно. Там живут люди семьями, есть и те, кто живёт там уже много лет. Один из первых массовых протестов против практики точечной застройки был инициирован жителями «Музыкалки». Несмотря на протесты, дом, в нарушение норм СНиП о соляризации, встал на месте детской площадки и песочницы. Кстати, видимо, на Новостройке есть определённый дефицит коммунальной инфраструктуры, поскольку домов точечной застройки там всего несколько.
Сельхозовская общага — бульвар Молодёжи, 4, кажется. С ними, помнится, в восьмидесятые дрались новостройковские пацаны. Её жители играют в футбол на подземном гараже. Привить деревенские обычаи — «массовая драка за клубом по субботам» — им здесь так и не удалось. Своих обычаев хватало.
Одна из малосемеек — кажется, бульвар Молодёжи, 2, — носила романтическое название «Гузаль». Для некоторых жителей Новостройки это было неким романтическим призывом. Во что это конкретно выливалось — могу только предполагать.
Уварова поляна. Если двигаться по асфальтовой дорожке, соединяющей стелу-памятник Лесоводам Башкирии и выход на улицу Менделеева к Ботаническому саду, то по правую руку, где-то в середине пути, откроется Уварова поляна — популярное место для проведения спортивных мероприятий.
Её признаки: футбольные ворота на вытоптанном (видно даже на спутниковых картах) поле и остатки какой-то дачи с одичавшими плодовыми насаждениями в её восточной части (ближе к улице Менделеева).
На ней, помимо регулярных любительских футбольных матчей, проводились общегородские Слёты школьных лесничеств (восьмидесятые годы), а также финальная часть школьных сборов по начальной военной подготовке, где нас учили ходить в атаку «двойками», прикрывая друг друга, с применением дымовых шашек с CS («Черёмуха»), чтобы не сачковали и не вытаскивали клапаны противогазов.
49-я школа. Она известна как спортивная (на её базе располагалась ещё ДЮСШ №10). С ней связаны имена таких известных в Уфе педагогов, как Миняевы (Герман Константинович и Александра Александровна), — представители этой династии работали, как я слышал, впоследствии, в школе №16 в Новиковке. Кроме того, в ней работал и легендарный тренер Валентин Николаевич Семёнов, воспитанники которого добились немалых успехов в гандболе и хоккее с мячом.
УРОК №1
Сладкий ужас и одинокая гравитация
уфимского «жаворонка», бывшего сельчанина
Ах, как хорошо быть «жаворонком»! Вы ещё только просыпаетесь, а я уже знаю, что вы будете обсуждать целый день, ну, примерно на сóрок процентов.
Я начал просыпаться в четыре-пять утра лет тридцать пять назад, в первом классе, когда начал ложиться в девять или десять.
До того я жил в деревне и спал до десяти, хотя и видел, как просыпаются бабушка Хадича и дедушка Мидхат, чтобы выпустить корову, тёлок и овец в стадо.
Ложился я тогда вместе со всеми в одиннадцать-двенадцать после процедуры разбора постели ко сну. Как и еда, отбой и подъём в сельском укладе регламентированы и коллективны. Только дядя Рифкат мог работать на тракторе аврально, возвращаться после отбоя или уже часа в четыре от будущей матери двух моих кузин и одного кузена.
Лет в одиннадцать (все каникулы — В деревне) начал пропускать отбой и, полный тщетных эротических надежд, засиживался на скамейке среди старших парней и девушек, разумеется, исключительно ради девушек. Некоторые из них были суровы, некоторые — хохотушки, некоторые — родственницы-хохотушки.
Так вот. Приехав в Город и поступив в «среднюю школу №49 Октябрьского района г. Уфы», как писали мы на блёкло-зелёных обложках тетрадей, обнаружил, что я — «жаворонок».
Ложиться спать по дисциплине в 21:00 стало возможным из-за того, что квартира была (и остаётся) двухкомнатной. То есть в спальне можно было выключить свет.
Кроме того, у меня появилась своя кровать, что было неожиданно. В деревне диспозиция часто менялась. Иногда укладывали с бабушкой, иногда стелили на полу, иногда — на тахте возле печки: там светила яркая луна и фары ночных машин и периодически охватывал экзистенциальный ужас.
Очень рано я понял, почувствовал, что, несмотря на большое количество тогда ещё живой родни, я — мелькнувший микроб, песчинка, еле различимая на фоне тёмных, гулких и одновременно глухих и холодных пространств, где, провалившись в чёрную пульсирующую пустоту космического вакуума, даже упасть некуда. Как у Клуни и Баллок в фильме «Гравитация».

И это ощущение сладкого холодного пульсирующего безысходного ужаса одиночества и ничтожности наполняло мои лёгкие и загривок именно на этой временно доставшейся персональной тахте у печи. И когда кто-то есть и что-то происходит в жизни, хорошее ли, плохое ли, — это лишь повод отвлечься от состояния ничтожной песчинки в пространстве. Я бы назвал это ощущение одним из самых в моей жизни глубоких, рядом с которым все другие переживания меркнут.
А в городе-миллионнике появилась Собственная Кровать. Собственно кроватью эту советскую народную «икею» назвать было трудно. Это был скорее поддон под мощный пружинный матрас (я в нём позже прятал и «потерял» порнографическую негативную фотоплёнку).
Отец приволок эти модульные конструкции из столярки местного домоуправления — ЖЭУ-44, где, видимо, и разместил заказ, ещё когда жил с нами. Тот год, когда мои родители развелись, врезался в память отчётливо, хотя я был ещё довольно мелким. Летом мы заходили в какое-то здание в центре, оно похоже на то, что горело недавно на углу Пушкина — Карла Маркса, вроде там был какой-то суд. Мы уже получили эту квартиру. Я помню, как мы сидели на чёрном башкирском ковре (привёз отец из Бишбуляка родителям мамы в подарок) на кухне и пили чай, потому, что стола ещё не было.
Я радовался каждому приобретению как завзятый вещист, так как многие вещи, телевизор, пылесос были взяты напрокат. Это был мой будущий счастливый дом, куда я приеду поступать в школу. Мне рассказывали, что до нас в этой предпоследней квартире жили Сагитовы, семья будущего министра культуры и председателя телевидения, отца двух мальчиков, ныне больших начальников.
А когда отец уехал «в длительную командировку» и я остался за старшего мужчину, мы спокойно могли эти кровати передвигать, делая перестановки, поскольку у меня хватало сил двигать эту мебель даже без мамы. И даже ремонтировать, ненадолго подбивая её слабые чёрные ножки привезёнными из деревни гвоздями.
Городским утром я просыпался безо всяких будильников, которые и сейчас для меня формальность. Ощущение холодного чертополоха в затылке и пузырчатое бульканье в животе говорило о том, что подорвался слишком рано, в фазу медленного сна, и день будет утомительный, нервный.
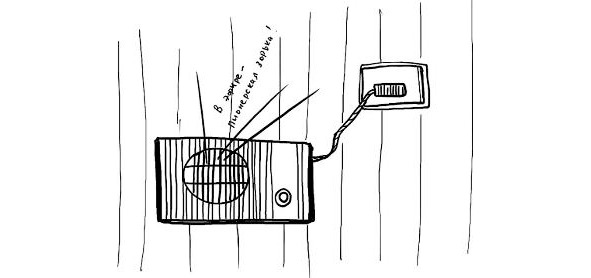
Приятнее всего было просыпаться в 5:30, когда голова ясная, а примеры решались быстро. Глаза не «засыпались песком», и ещё оставалось время почитать до рассвета Ожегова и услышать, как радио начинало кашлять и тарахтеть в 6:40, прежде чем звонкий голос мальчика Айгистова (в прошлом году, кстати, познакомился с ним) не прокукарекал под фанфары: «Здравствуйте, ребята! в эфире — „Пионерская зорька“!»
И тогда уже всё становилось обычным, Земля и Уфа переставали быть моими, начинали шипеть мётлами дворники (кстати, где они сейчас, утренние люди с вениками?), в 6:50 включался светофор на «Трамплине» из режима жёлтого моргания в красно-жёлто-зелёный.
И я переставал быть единственным человеком на планете. И нужно было кого-то слушаться, во что-то встраиваться, бояться, любить, гнать, терпеть, обижать, видеть.
Сливаться. Наливаться. Называть по имени. Удивлённо учитывать наличие.
УРОК №2
«Держи вон того, волосатого!»
При примерном поведении и хороших оценках у меня во время обучения в средней школе №49 Октябрьского района города Уфы БАССР (1980–1990 годы) была проблема: постоянные угрозы репрессий за стрижку, вернее, за редкость её процедуры, и неидеологичность, что ли…
Сразу скажу, меня сейчас чаще можно увидеть бритым наголо (особенно летом), чем патлатым. И хиппи я не стал, и не облысел, и педикулёзом с себореей не страдаю. Диссидентом или рок-музыкантом тоже не стал. Но тогда, в восьмидесятые, почему-то было принято уделять большое внимание причёскам молодых людей. Я так понимаю, что речь идёт об ушедшем ещё до нас времени, когда была модна причёска «квадратный вырез для лица», как у битлов.
Самым жутким кошмаром для меня второклассника было: во время перемены меня ловит директор Лариса Дмитриевна и, запуская свою пятерню в мои патлы, мило так спрашивает: «Ну, что, Валеев, стричься будем?»
Один год до этого у нас был директором Герман Константинович Миняев, знаменитый на всю Уфу преподаватель из СШ №39, основатель популярного в башкирской столице педагогического клана (насколько я понял, их вотчиной потом стала СШ №16, район Минлесхоза). С ним у меня не было никаких столкновений, кроме одного прямого, когда я с ходу наскочил на него около медпункта.
Мой отчаянный спринт в направлении кабинета труда разбился о его колени. Я был приподнят в воздух, мною было совершено несколько махов в воздухе, прогремело «Это что за беготня!» После чего я пару недель безуспешно в ужасе ждал исключения из школы и зарёкся бегать и вообще косорезить там, где можно напороться на начальство.
Говорили шёпотом, что Г. К. Миняева «выжили из школы», но супругу его, Сан Санну, к счастью для меня, «выжить» не смогли. С четвёртого по восьмой класс она вела у нас историю в 322-м кабинете, оборудованном силами шефов с УПЗ — УППО — завода №40 роторными самоподъёмными чёрными шторами для просмотра диаи кинофильмов.
Бегать в местах расположения начальства я перестал, а вот тягу к длинным стрижкам за рубль тридцать («Модельную, пожалуйста»), которую мне привили в нынешнем салоне-парикмахерской «Прелесть» (Менделеева, 207/1), я не потерял.
Сначала меня терроризировала (довольно мило, по-старушечьи) учительница начальных классов Алевтина Александровна Ваганова.
Я искренне не понимал, в чём причина повышенного внимания педагогического коллектива к моему пышному волосяному покрову. Хотя все школьники класса до седьмого (там началась перестройка и пубертатный период) ходили строго в модели
«Спортивная» (40 коп.), которая произошла из какого-то «Полубокса», как мне подробно пояснила соседка Татьяна Петровна, ветеран парикмахерского дела.
Не могу сказать, что мне было важно выглядеть каким-то образом или я дорожил свободой самовыражения. Просто покидая стены школы, я напрочь забывал о том, что мне строго-настрого было велено постричься.
Это же глубоко личное дело! Стригся я ровно раз в месяц, сам за этим не следил, пока гормоны мои ещё не проснулись, пока матушка, выделив мне рубль и (почему-то) семьдесят копеек, не отправляла к мастеру. Сдачу можно было оставить себе.
Лариса Дмитриевна Бабенкова ловила меня раз пять. Мы были в разных весовых и иерархических категориях, разница — не в мою пользу.
Но больше страха я переживал в те моменты, когда проходили разные торжественные мероприятия, от которых нельзя было отлынивать. Дело доходило до того, что я, оставаясь за сценой в роли диджея литературно-музыкальных монтажей, всерьёз опасался, что за кулисы ворвётся кто-то из руководства школы или РОНО и вытащит меня на публику, под осмеяние и осуждение. Я предпочитал диджействовать за кулисами, пользуясь гаджет-продвинутостью и лёгким за-заиканием. На линейках я шкерился во вторых рядах — уже после первой репетиции смотра строя и песни в первом классе я понял, что моя партийно-комсомольская карьера не задалась из-за отсутствия звонкого командирско-декламаторского голоса. (Педагоги СШ №49 совершили глубокую ошибку, не разглядев и не развив во мне задатки организатора, — глядишь, сейчас был бы уже в полковниках или секретарях обкома ЕР :-)). Так я и остался непонятным для системы косноязычным умником-тихоней, у которого под волосьями зреет какая-то смута и склонность осмеивать ошибки менеджмента — самое то, если хочешь быть журналистом.
И вот оно произошло. Уважаемая мною строгая и деловая учительница точных наук, которая была ещё и завучем, поймала меня классе в шестом в коридоре и сказала: «Ты опять не постригся? Подожди-ка! Сейчас ты узнаешь, где раки зимуют!»
И… на внезапно объявленной линейке в рекреации с участием всей параллели, а может, и всей дружины завуч по воспитательной работе (другой завуч, не инициатор моей «порки»), которая курировала пионерское движение, вызвала меня на середину и… в общем, я был подвергнут остракизму, публично. Довольно унизительно и одновременно смешно. Гузель Сайрановна приводила в пример свою причёску, которая была явно короче, чем у меня.
А я с удивлением увидел, что оказавшись в рядах вечных «героев» воспитательного процесса (которых драли в основном за реальную хулиганскую деятельность), можно просто гнусно ухмыляться, демонстрируя своё отношение к школьному тоталитаризму.
И, самое главное, с тех пор я начал ловить на себе заинтересованные взгляды незнакомых девочек из параллели и тех, кто чуток помоложе, и даже, о Боже, девочек постарше — настоящих недосягаемых небожительниц, у которых уже всё, что требовалось, находилось в тех местах и кондициях, в которых требовалось моему неискушённому взору.
Так я понял, что можно быть фрондёром и не прятаться за кулисами. И даже снискать некую дешёвую популярность.
Потом началось безумие. Седьмой класс. Гидроперит, аммиак. Некоторые, как Азат Гимранов и Рим Сайфиев, становились «блондинами» полностью. Некоторые (в том числе и я) обесцвечивали прядку чёлки.
В подростковую моду вошла затейливая прическа «Асимметрия».
«АсиММетрия», или на нашем языке «аССиметрия», — В парикмахерском обиходе «Теннис», рубль семьдесят — содержала в себе скрытый вызов и насмешку над прогнившей системой.
Дело в том, что политически-гигиенически-эстетические установки педагогического состава преследовали тех, у кого были длинные космы на затылке, а причёска «полубокс» даже предполагала чёлку, размер которой никакими инструкциями РОНО не регламентировался.
Так вот, «Асимметрия» — это был до абсурда доведённый «полубокс» (бритый затылок + чёлка, которая закрывала всё лицо). Предполагалось, что на уроках чёлку можно зачесать набок, обнажив «асимметрично» бритый висок, а всё остальное время она должна была закрывать «асимметрично» же половину лица. Кончик чёлки был всегда заслюнявленный. Считалось, что эстетический эффект достигнут, когда чёлка дотягивается до подбородка.
Придя в парикмахерскую, юный новостройковский модник говорил, например, так: «С боков и сзади — под машинку, чёлку не трогать».

Первое время даже не ругались, увидев лихие чубы, — видать, думали, что мы подражаем кубанским казакам тридцатых-пятидесятых годов, а не лондонским панкам семидесятых (хотя мы об этом даже не догадывались) или лос-анджелесским яппи восьмидесятых, точно не знаю.
Ругаться начали, когда чёлки стали краситься, вернее обесцвечиваться. Методом М. Монро. Химическая реакция: аммиак из автоаптечки в ампулах + гидроперит в таблетках из шкафчика над ванной — всё это мажется на полуметровый чуб. На совмещённом с учениками родительском собрании драли меня за бесцветный чуб и ухмыляющийся вид (причём, орала больше какаято родительница — мама одной девочки, я так и не понял, по какому такому праву).
А крепче досталось Азату — он же Зондер, — который к тому времени был уже совсем блондин. Причём ругали его примерно так: «Азат! Зачем Шамилю краску дал?!» Уже не было стыдно и страшно — было смешно, Муза Махмутовна.
Но к тому времени я, такой белый и пушистый, умный и талантливый, добрый и эрудированный, приобрёл стараниями моих реакционно настроенных одноклассниц (Таня, кстати, где мой полтинник, который ты стрельнула в 1997 году «для прохождения флюорографии» явно на опохмел?) довольно мерзкое и примитивное погоняло «Волосатый».
И когда на коллективном просмотре в к/т «Искра» мы всей параллелью или классом смотрели «Одиночное плавание» (наш ответ «Рэмбо-2») про высадку наших морпехов на острове, где пендосы пытались запустить ракету и развязать пожар ядерной войны, когда старшина, герой Фатюшина, гоняясь за наёмником-хиппи, крикнул: «Держи вон того волосатого!» — мне казалось, ржал весь зал, рядов шесть, как минимум. Причём явно в мой адрес. Было так себе, хотя ржал и я тоже.
«Волосатый» как только не модифицировался: и в «Плешивого», и во «Вшивого», — В зависимости от уровня враждебности ко мне. Прямо скажем, по благозвучию далеко не «Чёрный Плащ» и не «Гроза Испанских Морей».
Всё кончилось в старших классах. Физик (А. Г. Иванов) пару раз пригрозил, что заставит всех (патлы «под металлистов» были уже у всех — к чубу добавилась ещё и косичка — охренительно красиво!) постричься под себя, лысого, но дальше шутливых угроз дело не пошло. Я уже был такой не один.
Директору Алевтине Алексеевне Копанёвой было приятно, видимо, что у неё под началом — стая молодых и симпатичных орлов (девушек она взаимно не жаловала, а к господам старшеклассникам была снисходительна), которые имеют право распускать свой павлиний хвост в период полового созревания, как бы по-дурацки он ни выглядел. За что ей и спасибо.
А организацию моего публичного остракизма перед линейкой я уже больше, дорогая Людмила Александровна, не считаю подставой. Это просто такое жёсткое партийное взыскание, полезный урок, который лишил меня пары лишних страхов и закрыл коекакие гештальтики. В том числе и в отношении Вас.
P.S. Кстати, эпизодическую роль волосатого хиппи-наёмника в фильме «Одиночное плавание» (© «Мосфильм», 1986) играл знаменитый постановщик трюков Александр Иншаков.
УРОК №3
Военрук Солдатов
Гвардии подполковник запаса Григорий Мартьянович Солдатов. Без этого преподавателя, военрука, трудно представить среднюю школу №49 в семидесятые-восьмидесятые годы.

Как говорят кадровики, пользовался гвардии подполковник Г. М. Солдатов заслуженным авторитетом среди как преподавательского, так и личного состава учеников.
Тогда сознание людей было насквозь милитаризировано, в школе начальная военная подготовка (НВП) была полноценной, её основу составляло военно-патриотическое воспитание и подготовка допризывников к нелёгким будням защитников родины.
Судя по всему, гвардии подполковник запаса Г. М. Солдатов работал политруком, служил, по его собственным, очень фрагментарным рассказам, где-то на Дальнем Востоке. Несмотря на расхожее представление о политруках в войсках как о профессиональных непрофессионалах, Григорий Мартьянович глубоко знал военное дело и разъяснял азы ратной науки доходчиво и наглядно. В его авторитете, знаниях и выучке сомневаться никому даже в голову не приходило. (В отличие от вузовских преподавателей военной кафедры, которые, разочаровавшись в стране, в большинстве своём отрабатывали номер, зачастую создавая почву для анекдотов.)
Он был подвижником военно-патриотического воспитания, в рамках своей компетенции и возможностей школьного военрука прививал любовь к стрелковому оружию. Предоставлял возможность пообщаться вволю и с 7,62-мм автоматом Калашникова образца 1947 года, а особо одарённых записывал в стрелковый кружок, где можно было хорошо потренироваться в стрельбе из 5,6-мм нарезного оружия (винтовки ТОЗ-8 и ТОЗ-12). На его языке это называлось «жечь патроны», особенно когда юный стрелок не достигал высоких результатов. Учёт боепитания был налажен им на высоком уровне, но кое-какие боеприпасы стырить удавалось.
Младшеклассникам, которые просились «пострелять в тире», он предлагал это сделать разве что «из личного оружия», и тем оставалось только гадать, что же за «личное оружие» имелось в виду, да ещё у которого можно было бы «передёрнуть затвор».
Кроме курса огневой подготовки он, весьма грамотно и методически выверенно, обучал военной топографии. Единственное, что меня сильно расстраивало в школьном курсе НВП, — излишнее внимание к предметам по гражданской обороне. Страна явно усиленно готовилась к отражению ядерной атаки, и чем больше мы узнавали о поражающих факторах различного оружия массового поражения (ОМП), тем очевиднее становилась безысходность ядерной зимы.
Теория «ядерной зимы», которая получила распространение в восьмидесятые годы, предполагала климатическую катастрофу на всём земном шаре после масштабного боевого применения ядерного оружия. И это делало, по мнению ведущих военных и экотеоретиков того времени, любую военную доктрину, основанную на ядерном ОМП, бессмысленной. Но в каждом из нас сидел подсознательный страх, что в любой момент может разразиться («…одна ошибка, случайный взлёт — И неизбежен удар!», © «Ария», 1986 год) глобальная катастрофа.
Но благодаря урокам НВП мы получили в своё распоряжение настоящий дозиметр, со шкалой, контрольным источником слабого радиационного излучения, основанный на счётчике Гейгера. Я лично (вместе с одноклассниками Русланом и Римом) пробежался по всему Третьему микрорайону, проверил даже белорусско-молдавско-украинские консервы в двадцать первом магазине на предмет «чернобыльской заразы» и могу заявить: щелчки были раз в минуту-полторы, что соответствует нормальному фону ионизирующего излучения.
Знания по боевым отравляющим веществам мне лично пригодились в 2005 году при подготовке серии публикаций в «Российской газете» об объектах Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия оружия в удмуртских городах Кизнере и Камбарке (см. раздел «Обществоведение»). Люизит, зоман, зарин — произвести эту гадость стоит рубль, а уничтожить — миллиарды рублей. Спасибо за науку, Григорий Мартьянович!
То, что руки до сих пор помнят раздолбанный 7,62-мм АК-47, перманентная разборка и сборка которого была своеобразной шаолиньской тренировкой, — результат моей глубокой и крепкой любви к стрелковому оружию.
После, на «военке» в БГУ, я, обдирая пальцы в кровь, как фанат, перебирал косточки более современному и мощному оружию: крупнокалиберному 14,5-мм пулемёту Владимирова, ПК, ПКТ, РПК, СВД, АГС-17 «Пламя» и др. Но первое волнение от прямого контакта с красивым воронёным металлом и от щекочущего ноздри сладковатого запаха гари бездымных порохов я ощутил именно в тёмном подвале Мартьяныча.
Некоторые называли его довольно злобно Портьянычем — разумеется, речь идёт о моих ровесницах. Я этого отношения разделить никак не могу. Просто он требовал, как положено, и от девочек, которые тогда пытались более чётко обозначить свою половую принадлежность. Разумеется, элементы казарменного юмора присутствовали в его речи, и иногда, вслед за Солдатовым, мы начинали верить, что девушка, которая не умеет красиво ходить строем, никогда не выйдет замуж.
Под его руководством мы в одиннадцатом классе прошли одно из самых важных событий мальчишеской школьной жизни: учебные стрельбы из АК-47 (!), боеприпасами 7,62 — калибр не хвост собачий, а трёхлинейка. До сих пор помню свои ощущения от трах-бабахов с обеих сторон и белое, как полотно, лицо Руслана Абдрахманова, который, повернувшись ко мне, произнёс после первых очередей: «Да, нервная работёнка!» Через пять лет, когда я лежал на дне окопчика в Алкино, после метания РГН было не так круто, хотя я бы с удовольствием повторил и то, и другое.

Мартьяныч за какую-то провинность гонял меня, оставив после уроков, по военной топографии, и я с тех пор научился более-менее читать карту с условными обозначениями — где какой брод, где какой грунт, куда течёт река Безымянная и какой склон круче у высоты Высокой. Этим знанием горжусь и дорожу, хотя с тех пор многое изменилось, но военные карты Башкирии выпуска 1987 года — до сих пор самые лучшие и подробные (сходите сами на башмап. народ.ру).
Один раз я удостоился быть отобранным в сборную школы по стрелковому спорту после того, как уложил на двадцати пяти метрах четыре пули в десятку с открытым прицелом в упражнении лёжа. Пятое попадание не смогли найти, поскольку вся десятка была разбита, потому Г. М. посчитал её за «молоко» для верности. Но потом, когда я не смог дать стабильный результат под пятьдесят, меня отсекли от соревнований, сказав непонятную тогда фразу: «Вы вышли в тираж». Было обидно, но не на Солдатова. Тем более что в школе мало кто обращался к ученикам на «Вы».
Самое загадочное — это тактика одиночного бойца, которую преподавал нам на занятиях Солдатов. Нигде в учебниках военного дела того времени я, будучи на «военке» в университете, не видел такого способа передвижения по полю боя. На «военке» нам говорили, что надо идти по колее танка или БТР, двигаться колоннами, цепью, в общем, сейчас уже точно не помню. А Солдатов преподавал (и отрабатывал!) следующий алгоритм.
Движение парами. Первый номер — выбежал на двадцать-тридцать метров вперёд, упал, дважды перекатился в сторону от того места, куда упал, встал на колено или в позиции «лёжа», взял на мушку направление движения и угрожающие кустики. Как только Первый взял наизготовку оружие, Второй номер — начал движение и, обогнав Первого, плюхнулся на пятнадцать-двадцать метров впереди него, перекатился, занял позицию, после чего Первый повторяет то же самое. И так, попеременке, прикрывая друг друга, — до рубежа, когда предполагаемую позицию супостата можно накрыть гранатами.
Сколько потом ни смотрел я в учебниках по тактике для мотострелков (на «военке»), ни разу такого диковинного, но рационального способа передвижения не обнаруживал. Уж в каких таких войсках гвардии подполковник запаса Григорий Мартьянович Солдатов до этого служил на Дальнем Востоке, не знаю. Может быть, в морской пехоте? Хотя знаки различия у него были артиллеристские, в красных петлицах. И задания он давал какие-то странные для школьных мотострелков — две разведывательно-диверсионные или поисковые группы должны были встретиться, выйдя скрытно из разных точек, следуя по азимуту. И, найдя друг друга, следовало сначала окопаться в индивидуальные ячейки, а потом вступить в боестолкновение, покрошив друг друга в салат под бабахи взрывпакетов и дым слезоточивой шашки. Мы, конечно, сразу же потерялись. Потом нашлись и долго ходили друг на друга в атаку, барахтаясь по уши в грязи. До сих пор нет уверенности, что в курс НВП одиннадцатого класса входили именно такие практические занятия.
Я же — как юный фанат пендосовских фильмов про подготовку спецназовцев и прочих коммандосов — был бы счастлив, если бы он ещё постреливал из пулемёта над нами, когда мы ползали по-пластунски, да орал: «Мне плевать, кто вы были в прошлой жизни, — теперь я ваш бог, ваша мама и ваш папа, и не забывайте, девочки, добавлять в начале и в конце каждой фразы „сэр“!» Но он демонстрировал при проведении учебных занятий отеческую любовь и крайнюю бережность к безусому личному составу.
Г. М. Солдатов для меня (я думаю, со мной согласятся многие) был образцом советского офицера, наставника и нормального мужика, который редко на нас сердился, относился с юмором к нашим проделкам и невнимательности к устройству ватно-марлевой повязки, призванной сберечь нас от ряда весьма существенных поражающих факторов ядерного взрыва.
В конце десятого класса он вместе с учителем музыки В. М. Валтышевым (возможно, кстати, парторгом школы был он, а не Мартьяныч) заводил речь о рекомендации моей скромной и, в общем-то, пацифистской персоны в какое-то общевойсковое высшее командно-политическое военное училище. Но этому не суждено было сбыться.
И ещё. Именно на его примере я понял, что военная власть всегда должна быть ниже по статусу, чем гражданская, ведь каждый год командующий парадом, выстроив нас на смотре строя и песни, строевым шагом подходил к очередной мурзилке: «Товарищ директор школы! Учащиеся таких-то классов для проведения смотра строя и песни построены. Докладывал гвардии подполковник запаса Солдатов!»
Москва, 2008 год
P.S. 6 апреля 2016 года внук Г. М. Солдатова, пользователь ЖЖ igorbat, нашёл эту запись и пролил свет на его боевое прошлое. Вот что он написал:
«Наткнулся на эту статью. Пришлось даже зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий здесь. Я внук этого замечательного человека, и было очень приятно про него прочитать эту статью. Скажу, что он воевал и имеет две Красных звезды, одну я даже нашёл за что — за бой под городом Нейссе 25–26 марта 1945. Он никогда не рассказывал про войну, даже дочери, т. е. маме моей. Да, любили мы в детстве с братишкой к дедушке в тир ходить, самый лучший дедушка, я его таким знал».
P.P.S. Недавно в интернете я нашел подтверждение этим словам. Это описание подвига:
«Тов. Солдатов отличился в боях под селением Биллау, район города Нейссе, 25–26 марта 1945 г. Противник упорно защищал это селение, стремясь любой ценой удержать его, и часто переходил в контратаки при поддержке самоходок.
Тов. Солдатов показал высокое мастерство командования взводом и личное мужество и отвагу, метким огнём уничтожил и рассеивал пехоту противника, идущую за самоходками, он успешно отразил на своём участке 5 контратак, после чего противник больше не пытался пройти на этом участке через нашу оборону».
ДАННЫЕ ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА:
Солдатов Григорий Мартьянович, 1924 г. р.
Звание: мл. лейтенант
в РККА с 27.08.1942 года
Место призыва: Альшеевский РВК, Башкирская АССР, Альшеевский р-н Место службы: 1015 сп 285 сд
Дата подвига: 25.03.1945–26.03.1945
№ записи: 43604065
УРОК №4
Физик Иванов
Александр Георгиевич Иванов работал в нашей школе где-то с 1986–87 по 1993 год. Он вёл физику и астрономию и был у нас (9–11 «а» набора 1980 года) классным руководителем.

Его все знали по его неординарной внешности: как он сам говорил, «толстый, лысый, с бородой». У него был громкий голос и доброе большое и больное сердце. У него были синеватые губы и лицо с проступающими капиллярами. Я так и не понял, от чего он умер, — то ли от инфаркта, то ли от инсульта, то ли от сердечной недостаточности. У него были коричневые пиджаки, рубашки хаки и коричневые же короткие галстуки с толстым узлом.
Он был добрый, хороший и порядочный человек. Настоящий педагог и предметник экстра-класса. Он объяснял по-настоящему, так, чтобы понял и ленивый дурак, и отличник-зазнайка. Он был справедлив и никого не выделял, со всех спрашивал строго.
Мне он рекомендовал получить настоящую профессию, связанную с точными науками. «Скоро болтуны не смогут найти себе работы, — убеждал он меня, — надо идти в инженеры с твоими мозгами. Всегда будешь при деле». Всё случилось с точностью до наоборот: в девяностые годы инженеры не выжили как класс — убежали от нищеты, ушли в бизнес или за бугор — кто знал английский.
Я в итоге пошёл на истфак по настоятельной рекомендации легендарной Сан Санны Миняевой, супруги Германа Константиновича — бывшего директора нашей школы, а потом СШ №16 на Горбатова, ставшей
«элитарной» благодаря этой замечательной семье, членами которой были ещё биолог Александр Григорьевич Крыгин и наш физкультурник (во втором классе) и историк Сергей Иваныч Гилёв.
Физик (так его называли уважительно пацаны постарше, а девчата помоложе обзывали его Колобком) на каждом уроке говорил: «А теперь, когда вы прочитали учебник, я вам объясню физический смысл этого явления». И показывал настоящий спектакль, с указкой, жестами. Он личным бегом вдоль стола и взмахами указки показывал аудитории, как бегают по цепи электроны при постоянном и переменном токе.
За ним записывали его личные фразеологические обороты. Он дал жизнь паре примерных виртуальных учениц — Гусейкиной Васейке и Голопупенко Василисе. Каждый раз он приводил их имена, когда требовалось подписать листок с контрольной работой. И каждый раз мы искренне смеялись, будто слышали эту шутку впервые.
Все радовались, когда слышали его фирменное «угнездился невосвояси» (меня с моим другом Русланом он часто рассаживал, чтобы мы не очень-то отвлекались), «маковку кажешь» или «о чём задумался, детина (дивчина)?».
У него были двойные очки — вернее, он любил вставлять ещё одну пару линз (старые очки с отломанными дужками) между глазами и толстыми очками. Он не любил, когда кто-то их трогал, — мы же на переменке его пародировали, надев его двойные очки. А он, вернувшись на урок, просил только не класть их линзами на парту, а то царапаются.
Он разговаривал с ребятами по душам в лаборатории физики. Его постоянно подозревали в том, что он поддаёт, но я ни разу его не видел и не чуял за ним такого. Но, видимо, только я. Кто-то из дежурных заметил, что у него в шкафу стояли пустые бутылки ароматизированного (о ужас!) вина «Полянка». Жуткая гадость, но мне на первом курсе нравилось пить его в общаге с картошкой. Мне тогда много что нравилось из того, на что я сейчас и смотреть бы не стал.
Он, кстати, тайком рассказывал пацанам, что не надо брать в жёны городских девок, так как они норовят подставить во время близости место, которое не предназначено для этого дела, к нашему глубокому сожалению, не уточняя деталей.
Он ходил на работу пешком с Ботанического сада, где выходил из троллейбуса, чтобы прогуляться по лесопарку перед работой. Жил он на Кувыкина или Батырской со своей второй семьёй, говорят, платил кучу алиментов.
В 1993 году мы его похоронили в селе Красный Яр Уфимского района, на исторической родине. Его хватил удар (как он сам говорил, «понюхал Кондратий»), когда он сидел на скамейке где-то в сквере, как я понял, недалеко от дома.
Мы тогда были уже совсем взрослые. Мои бывшие одноклассники и я забирали его из морга на Цветочной, чтобы отвезти домой. Самое странное, что его катафалк — школьный продуктовый фургон системы «газонваген» (ГАЗ) стал последним в его карьере наглядным пособием для учеников, которым тогда уже стукнуло по двадцать лет. Так вот, внутренность фургона, в котором перевозили гроб с криво набитым крестом из чёрной ткани, являла собой чистейшую камеру-обскуру. Пока ехали вдоль проспекта, можно было наблюдать на стенках кузова цветные перевёрнутые изображения зданий Госцирка, УНЦ РАН, дома на Чудинова, где «Охотник-рыболов», «Синтика-Шадыма». Совсем как в старом фотоаппарате.
Лёха с Толяном были на зелёном «Запорожце», кажется, Сашки Семёнова, и доехали до морга самостоятельно. Кое-кто для смелости курил конопель.
Я намазал под носом бальзамом «Звёздочка», но это не больно помогало. Санитар рекомендовал нам особо в помещении не тусоваться — поскольку джинсовый костюм надолго впитает многолетний запах формалина и мертвечины.
Его отдали нам после вскрытия, и мы увезли его домой. А на следующий, кажется, день отвезли на историческую родину — В Красный Яр.
P.S. Этот текст был опубликован в 2008 году в «официальной» «ВКонтактовской» группе СШ №49 Октябрьского района Уфы. Но группа закрытая, реакция за пять лет была слабенькой. Посему я сделал вывод, что там, в этой социальной сети, можно публиковать только линки, а текстам место в «Живом журнале» (потом и найти легче, если что, да и прочитает аудитория, больше настроенная на литературу, чем на воспоминания о кидании меловых тряпок на платья одноклассницам, что тоже важно, кстати).
P.P.S. А в августе 2011 года мы, одиннадцатый класс 1990 года выпуска, ещё раз его навестили, с трудом найдя могилу на кладбище посёлка Красный Яр Уфимского района Башкирии. Недалеко от старого центрального входа, чуть левее во втором-третьем ряду. Когда я делал GPS-отметку его могилы, у меня села трубка, но, видимо, и так теперь найдём.


КРАЕВЕДЕНИЕ
УРОК №0
Альбом «Утро Башкирии»
На даче у друзей, в уютном дощатом сортире, наткнулся на книгу-альбом «Утро Башкирии», выпущенную в 1978 году издательством обкома партии.
Помимо кондовых копирайтерских текстов, не предназначенных для чтения, она состоит из среднего съёмочного качества цветных фотографий Уфы, той самой,..
…с пустыми по нынешним временам магистралями,..
…с небритыми как эротические картинки нашего детства и отрочества газонами
«ландшафтного дизайна»,..
…с редкими по нынешним визуально перегруженным временам «рекламами» ленинизма и КПСС.
Они создают ощущение Солнечной Башкирии — на самом деле той самой Уфы с крутыми лбами круглоглазых троллейбусов №6, 7, 8 и пыхтящими, раскалёнными ЛиАЗами 11-го, 17-го, 29-го маршрутов,..
…той Уфы, в которую я впервые приехал из деревни году в семьдесят шестом — семьдесят седьмом, а с 30 августа 1980 года остался Уфимцем.
Со всеми переездами в Москву и возвращениями, с офисами от «Полгоры» по Уфимскому шоссе до Уфимской Гауптвахты на Пушкина (на Советской площади), с внезапно вспыхнувшей и поселившейся навеки в сердце любовью к Садовому, Покровке, 5-й авеню, Флит-стрит, Баумана и авенида де Майо.
Я не тот уфимец, который считает Черниковкой всё, что севернее остановки «Спортивная», а то и Центрального рынка.
Я не очень убиваюсь по деревянным домам купца Козюлькина с резным палисадом, моя Уфа — немного другая: лесная, промышленная, спальная, Уфа хрущоб и девятиэтажек брежневского типа.
Та, которая строилась при Шакирове. Надёжная, спокойная, солнечная и внушительная. Самым большим начальникомродителем в моём классе был отец — главный инженер «сорокового завода». У некоторых была машина. У меня в хрущёвской двушке была своя кровать, и это уже было неплохо.
Я помню с того времени запах неотряхнутой земли из овощного магазина и звуки закрывающихся алюминиевых дверей, гул электромоторов, уютное бормотание радиоточки, верещание ласточек, снующих над верхними этажами, и пшиканье автоматов по продаже воды.
Не было того давящего на уши городского шума непрекращающегося движения, который перестаёшь слышать и осознаёшь только за городом.
Было ощущение нового для меня счастья Солнечной Уфы, где можно встретить Мустая, Фидана и Магафура Хисматуллина прямо на улице, где возле школы увидишь Героя Советского Союза, где всегда есть в продаже лимонад и мороженое, а квас бывает в жёлтых бочках на колёсах, где можно кататься на лифте в соседнем доме, где много машин и мало лошадей с телегами, а все люди незнакомые, ходят в красивых рубашках и платьях каждый день.
УРОК №1
Воспоминание раннее: «Мишка! Мишка! Мә! Мә!»
Одно из ранних и страшноватых: я стою возле забора — серого, некрашеного, деревянного — у нашего деревенского дома. От соседей (Шакировых) бежит наискосок, прямо на меня, молодой бычок («башмак» по-татарски). Это как телёнок-подросток, но уже не ласковый, а тёмный и агрессивный (агрессивных животных — драчливых петухов, кусливых гусей — обычно распознаёшь). Я стою и не могу пошевелиться, жду, вычислив его траекторию, как неминуемо он меня забодает. Хозяева — сестра и брат моего друга Макса, их зовут Флида и Фирзат, кричат ему: «Мишка! Мишка! Мә! Мә!» Их отец Фарит тоже с ними. Мишка бежит, выпучив глаза, у него тёмно-красная шерсть, я вижу кудряшки на лбу и пробивающиеся рожки, он уже довольно крупный. За спиной у меня забор, но никого из моих, кажется, нет рядом. Я оцепенел, вроде бы соседи-хозяева кричат мне «Кит! Кит! Кач!», чтобы я убегал. Но я стою.
В последний момент Мишка меняет траекторию и проносится мимо меня, в проулок. Выбегает дедушка с вилами, в серой дворовой одежде, видно, ворошил навоз или солому. Время ещё предсумеречное, серое. Дедушка грозит вилами вслед убежавшему бычку-башмаку: «Ух мин аны!» («Ух я его!»). Где-то рядом появляется бабушка и, возможно, тётя.
Я могу шевелиться.
УРОК №2
Счастье башкирского интроверта

Вроде достаточно быть самим собой и оставаться в своём объёме, блуждать в персональных закоулках, чтобы испытывать тихое счастье интроверта.
Но то ли профессиональный невроз нарцисса-коммуникатора, то ли младенческий страх быть лишённым Титьки, Любви и Признания заставляют выплывать из своих кашалотных глубин стрекочущим дельфином с целью или поделиться накопанным, или сверить компас — вдруг ещё кто есть такой же.
Животное мы коллективное. И, наверное, и вправду усохнет позвоночник, как у той китайской кошки из пословицы, которая осталась без поглаживания, ну, то есть признания. Будь ты хоть самым примерным нелюдимым интровертом.
Да, я часто вижу и слышу людей через пелену и вату (даже своих детей часто, и родных, и близких), и мне было стыдно от этого лет сорок сознательных. Ну, в смысле, совестно.
Да, мне часто огромного усилия стоит оставаться в контакте с социальной, полной обязательств и невыносимых для меня упрёков, тревог, косяков и унижений реальностью.
Я за часы и сутки, проведённые наедине с самим собой, расплачиваюсь трудным рудным золотом своего таланта, намытым в неуправляемом путешествии во внутренние горы, ручьи и леса.
И иногда оно бывает самородным, иногда его удаётся превратить в изделие. А я, перфекционист, как будто хочу набрести на самородок — сразу в виде скульптуры или перстня. Но так не бывает. Как стрелять на четыреста метров с повязкой на глазах.
И мой внутренний ландшафт — как моя Башкирия. Там есть каменистые ручьи вдоль дороги, как на белорецкой трассе, от которой пьянеешь без коньяка. Там есть ковыльная лесостепь чекмагушевского воздушного океана, появилась не так давно и ставшая известной из-за угрозы исчезновения меловая гора. А вот и крутой берег салаватского Алькино с Айем, полным кусачих гидр под гремящими каменьями, и магический Магинск, и байбачье царство моей паспортной родины — Бижбуляка, и домик жреца в Татышлах, и озёра, пруды, и трёхречье Сим — Белая — Инзер; и журавль, махнувший огромным крылом перед скачущим по камням Иремеля уазиком, и раевский холм над рекой с зелёным ковром, и акъярский песок на зубах, и вьющаяся по Баймаку Малая Уртазымка, которую курица вброд перейдёт, и, разумеется, иртэнге туман под музыку Рима Хасанова над верховьями Агидели, в Бурзяне.
Каким-то странным образом ландшафты проникают в мой организм через глаза и ноздри и остаются там, причём Башкирия занимает непропорционально большое место в области любимой мною с недавних пор диафрагмы. И я там гуляю.
УРОК №3
Покатушки на газике, или Вчерашний комбайнёрский «липтон»
Который год отговариваю себя от поиска и покупки старого бортового газика, «чтобы был», чтобы «поставить в деревне». Он может быть с клиновидным капотом, как морда у бычка, как ГАЗ-51, на котором Агутин изображал арбузовоза в «Старых песнях о главном». А может быть с выразительными круглыми глазами по краям и китовой улыбкой, как 52-й.
Будучи фанатом автомобилизма по журналу «За рулём», по передаче «Top Gear» c Джереми Кларксоном, по подбитой двадцать лет назад шефовской бодрой старушке BMW-525i, по незавершённым автокурсам БРУКК, при отсутствии прав, с жутким страхом встречной полосы, — я до сих пор не понимаю, зачем мне этот автохлам.

И даже историческим образованием его не оправдать и ностальгическим серфингом, я же даже завести его не смогу «с кривого стартёра», если у него аккумулятор сядет.
Теперь разобрался. Мне нужна не езда на нём. Нужен запах кабины — металл, масло, дерматин. Сочетание — прямое в сердце мальчишеское попадание, — как у СВД с подушечкой для щеки на прикладе.
В 1981 году мало у кого были колёса, и сейчас это трудно представить, но катание на машинах было одним из самых важных, элитарных мальчишеских развлечений.
Я не говорю про частные легковушки, как, например, акварельно-зелёный «Москвич» тёти Лилизы, которая приезжала, удивляя деревенских родственников своим автомобилизмом и восхищая меня тем же самым. Или белая «копейка», моя ровесница, дяди Луиса, которая была оборудована японским кассетником. И не синие «жигули» маминого начальника Рябова, который приезжал к нам в деревню за кумысом. И не отцовские собкорские «волги» из гаража обкома соседней Татарии с водилой, который умел в каждом городе найти зазнобу и встать к ней на постой.
Это всё были «лёгкие» машины, как их по-татарски называла моя бабушка, «җиңел машинá». Кататься на них было почётно, но не так смело и мужественно, как кататься на «грузовóй машинá» или на «техника».
У меня была огромная привилегия, можно даже сказать, «блат»: мой дедушка Мидхат Багаутдинов во время уборки урожая работал учётчиком на зернотоку бригады №3 колхоза «Красный Октябрь» Чекмагушевского района. Он забирал у водил талоны учёта, которые передавали им комбайнёры, выгрузив бункер, складывал их в специальную кассу с именами комбайнёров и марками комбайнов: Газизов Талгат — «СК5», Курбанов Акрам — «Нива», записывал их в специальную книгу учёта («эксель», по-вашему) на зелёные листы щегольским почерком, который ни с чьим не перепутаешь из-за надстрочных горизонтальных завитушек над буквами «б», например. Самое интересное — он взвешивал целые гружёные машины на автомобильных весах-площадках «Армалит» (завод и до сих пор работает), под которые был построен целый сарай без торцевых стен, зато с пристроенной будкой весовщика-учётчика. Мы строго смотрели с дедом (он — поверх очков) в специальное окошко на заехавшие на весы машины и двигали на градуированном по центнерам рычаге безмена гири. Фактически он был самый главный, считал на счётах, кто и сколько сжал-смолотил-перевёз, и от этого считалась, наверное, и зарплата, хотя и не был бригадиром, председателем колхоза и вообще в начальство не рвался (и мне это передалось). А может быть потому, что он был самым добрым, честным и справедливым, — И на меня распространялось уважение, адресованное ему. И ещё он был коммунистом, вступившим в партию во время войны. Я помню, когда это слово произносили с гордостью. По крайней мере, моя лёгкая на поругаться («порычать», как она сама говорила) бабушка Хадича укоряла его, когда он приезжал домой на кобыльем автопилоте: «Коммунист башың белән!» («А ещё коммунист!»).
На лошади дедушка разъезжал круглый год. Зимой — В огромных валенках с галошами и в брезентовом кожане. А когда в стареньком телевизоре начинались предновогодние программы, он привозил на дровнях молодую сосну с пятью-шестью мутовками, которую в наших краях было почему-то принято устанавливать вместо ёлки.
Во время уборки урожая водилы, часто залётные (прикомандированные), с номерами на букву «Ю» — московские или подмосковные (у нас были БАШ или БША, в крайнем случае БШЖ), брали меня и компанию «покататься». То есть можно было сесть рядом с шофёром в кабину, на моё любимое штурманское место, доехать до поля, высмотреть комбайн, который включил жёлтую мигалку, доехать до него, вспрыгнуть за талоном на комбайн, вывернуть его боковую трубу-транспортёр над кузовом газика или зилка (иногда «Колхиды»! ), помочь раскидать по углам короба зерно, стараясь в нём не увязнуть, прыгнуть обратно в кабину и дальше его сопровождать на зерноток, вплоть до самой выгрузки.

Лишь один раз водила Саша, с которым мы, как я думал, подружились, простодушно отмахнулся на моё «покататься»: да надоели вы со своим катанием! Я сыро заморгал и начал глотать-переваривать горячий мокрый клубок в пищеводе. Тут ему кто-то объяснил насчёт дедушки-учётчика, водила извинился даже, кажется, и позвал кататься, мол, я же не знал. Я, конечно, прокатился с ним до поля, но, искренне думая, что заслужил право на «покататься» целыми днями, подавая ключи, когда он валялся в яме под своим зилком-пердунком, простить его сразу не смог.
Потом, когда мне было уже лет десятьдвенадцать, дядя Рифкат уже сажал за руль своего «Беларуся», вовремя и бережно подхватывая мои попытки завалить его на обочину, а потом «у нас» появился даже свой «Колос», комбайн с двумя бункерами для зерна по бокам и жаткой аж шесть метров. Он был страшно шумный в работе — движок располагался за дверью кабины механизатора, в отличие от интеллигентской «Нивы», у которой кабина была сбоку и можно было слушать радио.
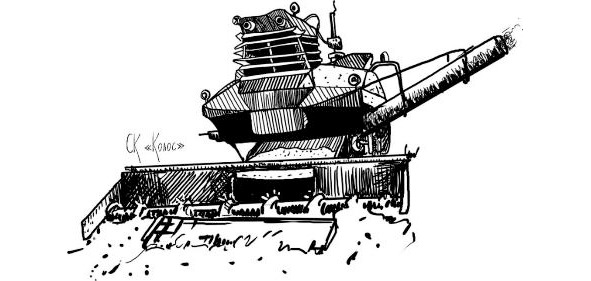
А молодые комбайнёры давали мне порулить и своими огромными машинами, а на рычагах управления были нарисованы заяц и черепаха, которые позволяли определять, что будет, если повернёшь рычаг в ту или другую сторону.

А ещё в комплекте у комбайнёра с завода шёл металлический термос, который позволял до вечера сохранить горячим тогдашний комбайнёрский «липтон»: чай, размешанный со смородиновым вареньем. Если пить прямо из его крышки, не обтереть губы от липкого, то скоро на них оседала пыль и соседский дядя Акрам, пытаясь со мной говорить порусски, смеялся: «У тибя усы, каг у ката».
А вот на урожай-83 дедушка уже не вышел: заболел раком желудка, поехал в Трускавец даже, лечиться в санатории, что ему не очень-то помогло. И в один из таких дней, между летом и осенью, ровно тридцать лет назад, на первом моём уроке с белым, уже прочитанным за лето учебником «Физическая география» меня выдернули ехать в деревню, провожать дедушку.
Кто-то подумал, что я, наверное, испугаюсь смотреть на покойника (на татарском это формулируется «жалеть будет»). И меня оставили в доме у тётушки. А я, дрожа от чего-то, смотрел оттуда, как зелёное пятно одеяла, в которое завернули моего исхудавшего коммуниста и фронтовика, быстро поднимается на уважительных руках деревенских мужиков третьей бригады на гору с нашим кладбищем. Где и мне, думаю, со временем нужно быть.
В январе 2012 года я нашёл в Сети его, то есть деда моего, Мидхата Абдулловича Багаутдинова (1915–1984), старшего сержанта, наградной лист на орден Отечественной войны второй степени.
Он взят из базы данных «ПодвигНарода» (www.podvignaroda.ru) — там наградные документы войны. Искать не так просто: нужны вариации фамилии, знание места призыва — В общем, все уловки использовать.
И теперь я знаю, что он был призван в июне сорок первого, в том же году попал на фронт, воевал в составе танкового подразделения. С сорок четвёртого — В 206-м отдельном корректировочном разведывательном Кёнигсбергском авиационном полку мастером по вооружению. Обеспечил 425 боевых вылетов Ил-2 без единого отказа вооружений. Служил подо Ржевом и брал Кёниг, был трижды ранен.
Примерно за пятнадцать минут была раскрыта тайна моего детства — кто такой молодой лётчик, капитан Грязнов, о котором дед рассказывал иногда за вечерним чаем с душицей и молоком. Его дед тащил из-за линии фронта после того, как их сбили в 1944 году, а тот предлагал не мучиться, пристрелить его и пробираться к своим в одиночку. Так шансов на спасение было больше. Не пристрелил, дотащил. И не зря.
Удалось разыскать телефон родственников К. В. Грязнова. В тот же вечер дозвонился до потомков гвардии капитана Грязнова. Узнал подробности его дальнейшей службы.
Кирилл Васильевич Грязнов через год после этого удостоился звания Героя Советского Союза (24.03.1945, медаль №4198), дослужился до полковника, умер в 2000 году. Можно ли было им устроить встречу году в восьмидесятом? Я не знаю. Сейчас бы — легко. Только встречаться уже некому…
В том же году, в той же базе данных «Подвиг народа» нашёл ещё один наградной лист моего деда, отца моей матери. Там написано, за что мой дед награждён медалью
«За боевые заслуги». Не орден Победы, конечно, но награда достойная и заслуженная. Серебряная по исполнению. Явно выше, чем массовые юбилейные или «за взятие». Хорошая награда для гвардии сержанта. Первая в жизни государственная награда для сына раскулаченного репрессированного священнослужителя Абдуллы, который освободился после выписанной «десятки» только в 1943 году, я думаю, была очень важной. Сначала медаль, потом — орден. Членство в ВКП (б). Восстановление в попранных правах.
Маршал Советского Союза И. Баграмян, про которого часто с восхищением рассказывал дед Мидхат, писал про неё (медаль
«За боевые заслуги») и про медаль «За отвагу»: «Когда такая медаль украшает грудь человека, сразу ясно: доблестно, храбро воевал солдат! Мне не раз доводилось на фронте от имени государства награждать отличившихся. И прямо скажу, не было случая, чтобы солдат посетовал, что вручили ему не орден, а медаль. С волнением и гордостью принимал он награду и в новых боях сражался ещё лучше».
Я про неё знал, может, даже руками трогал, играл, когда был маленький.
Кто её потерял, интересно? Надеюсь, что не я.
P.S. Здравствуй ещё раз, дедушка! Это я, Шамиль. Твой старший внук, которого в одиннадцать лет не взяли на твои похороны, чтобы впечатлительный мальчик не испугался родного мертвеца. А я стоял и смотрел из двора наших родственников, куда меня определили на постой в день твоих похорон, как несли тебя на специальных носилках на гору, укутанного зелёным таким детсадовским каким-то одеялом.
УРОК №4
Моя бабушка Хадича
По одной из известных мне версий, 15 сентября 1916 года родилась моя бабушка, мама мамы Хадича Файзрахмановна Ахметшина.
Она всю жизнь проработала продавцом в системе потребительской кооперации, в сельском магазине-сельпо. Всю жизнь боялась ошибиться на две копейки или что её обвинят в обсчёте или обвесе. Слово «ревизия» висело в воздухе, хотя я родился, когда ей уже было 58 лет (на 15 лет больше, чем мне сейчас). Начальником у неё в райпо был Турьян Дусалимов, отец главного почтмейстера постсоветской Башкирии.

Она была замужем, но не уверен, что расписана с Мидхатом Абдулловичем Багаутдиновым, 1915 года рождения, от которого родила восьмерых детей. Из них выжили трое: девочка 1949 года, девочка 1954 года и мальчик 1959 года.
Я у неё был первым внуком и оставался единственным с 1973 по 1982 год. За это время она меня один раз обозвала Мэджнуном, один раз пригрозила шлёпнуть мокрой тряпкой (на словах, без замаха). Остальное время — купала в любви.
Помню, как будучи пятилеткой, шутил по-детски. Бабушка спрашивала: «Сиңә ничә яшь тулды?» («Сколько тебе лет?»). А я кокетливо обманывал, что четыре: «Миңә дүрт яшь!» — И заливисто хохотал. И так несколько раз подряд, и каждый раз бабушка начинала уговаривать, что я уже большой, пятилетний. Меня ещё тогда брали с женщинами в баню, я видел, как бабушка расплетала свои косы и мыла голову катыком. И ещё мне рассказывали про хорошую девочку Чулпан, которая родилась у соседей и совсем не плачет, когда в глаза попадает мыло. Мне в основном не нравилось, что в бане душно, и мне не разрешали сидеть на «тупсе» (широкой и массивной пороговой доске), потому что из-под двери тянуло холодом.
Остальным членам семьи от бабушки постоянно доставалось, она была очень волевой. За словом в карман не лезла. Когда в нулевые годы она перестала слышать и, будучи уже не в твёрдом сознании, начала забываться, то украдкой просила слуховой аппарат, чтобы быть в курсе и продолжать рулить в семье. Смотревшие за ней родственники категорически запретили мне это делать. Думаю, не без оснований.
Она, как и вся деревня, вставала рано утром, чтобы успеть подоить корову и, не дай Аллах, пропустить выгон стада. Пропуск выгона считался ЧП. Соседка Мукарама, конечно, подстрахует, но вся улица увидит, что в первом доме не проснулись. Потом надо было затопить печь в подстывающем к утру доме, чтобы мне было не холодно вылезать из-под одеяла. Погреть в банного типа ковшике вчерашний суп-лапшу. Пожарить на сковороде картошку и мясо из него.

Потом за матерчатой перегородкой «чаршау» жужжал сепаратор, и нужно было обязательно встать к моменту его разборки и мытья, чтобы слизать с бабушкиного указательного пальца свежеснятые горячие густые сливки-каймак, которые она достала из-под обода какой-то чаши агрегата. Иногда мне доверялось крутить центрифугу, но я крутил не так ровно, что влияло на качество сметаны.
Порой она ложилась ко мне спиной и спала в «душагрейке», а я прятался за ней, как в окопе, и горевал, считая, сколько будет лет в двухтысячном, например, году мне и ей — двадцать семь и восемьдесят четыре. Я думал, я уже буду достаточно взрослым, а она будет достаточно старой, чтобы я выдержал её смерть. И прислушивался к её дыханию, не остановилось ли?
Прожила она до декабря 2008 года. Тогда я находился в политэмиграции в Москве.
Когда она умерла и утром мне позвонили, я вдруг понял, что не смогу вылететь из Москвы и не успею проводить бабушку, — то как ребёнок проплакал весь день, заливая слезами презентации и пресс-релизы госкорпорации «Фонд ЖКХ».
Иногда я слышу в голове её неторопливую речь, как будто она меня утешает и успокаивает. Как будто у меня болит ухо, а я лежу у неё на груди, на коричневом колючем свитере грубой вязки.
Она не выпила и рюмки, не съела и таблетки.
Я проводил из их поколения только одного деда Салиха, отца отца, лично уложив его, невесомого, в боковой промёрзлый подкоп. И брата бабушки — одноногого дядю Ханифа.
Провожать гораздо лучше.
УРОК №5
Родина — Чекмагуш, характер — чакматаш,
или Чем пахнет «Шанель №5»
Про эти хлебные края написано много книг и статей. Как правило, в двух жанрах — хвалебно-хозяйственном и сельско-описательном. Первый делали по заказу начальства лучшие перья республики, второй — народные авторы, архивисты и этнографы, вскладчину по «фьючерсной» системе. Так что с парадной стороны у Чекмагуша всё давно в порядке, как и с урожаями и надоями. Попробуем приблизиться к его живой, неформальной, может, в чём-то мифической стороне.
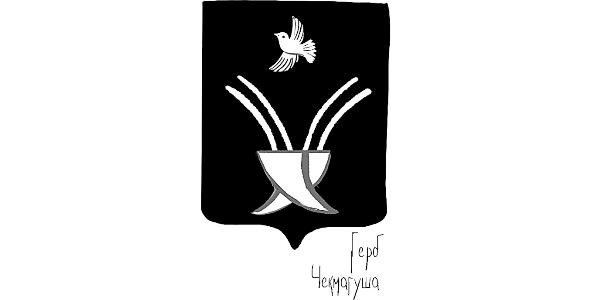
Женихи и невесты района. Говоря о людях из «самого татарского», Чекмагушевского района, жители республики дают противоположные характеристики. Жён оттуда лучше, видите ли, не брать, поскольку характер у них крутой, даже сварливый, а с другой стороны, эти же женщины считаются в целом «чибәр» и «үткер». То есть красивыми и острыми на язык и на дело. Сами не успокоятся, и другим не дадут покоя, пока не выведут тебя в люди, а себя в абыстайки и жёны начальника. Иногда, конечно, попадётся «җебегән», то есть размазня. Но и она даст фору многим.
Те же самые мужики, которые жалуются на энергичных дам из «Чикаго» (название райцентра и района, получившее распространение в хипанские семидесятые), откуда-то слишком хорошо осведомлены об особенностях их крутого нрава — не иначе как на своём ежедневном опыте совместной жизни: «Бар-бар-бар, ступай, не сиди дома, мужик днём должен быть во дворе». Но никто, даже самая строгая «быянай», не скажет про невестку из Чекмагуша, мол, неряха и ленивая.
И вообще, родственникам видней, как тебе жить и детей воспитывать. На-ка, энекәш, братишка, забери коровью ногу, приготовишь фарш и холодец, позовёшь на Коръән ашы. Любовь тут сообщается детям через шлепки (иногда — замахи мокрой тряпкой, иногда — прутом из колючей чилиги «шилык», растущей на ковыльных холмах) и обильную, но не такую жирную, как у степняков, скорее, постную (мясо-тесто) еду. Ни разу не видел, чтобы лапшу рубили квадратиками, под бешбармак, — всегда только исключительно тонкие ниточки. Чем тоньше, тем круче «килен». Мужики там одновременно и «юаш», добрые, и кроткие до робости. Здесь устойчивый матриархат, мужика нужно и можно брать за ноздри, как быка за кольцо, и вести к счастью, скорее материальному, чем духовному.
Давая потенциальному жениху лестное описание, говорят так: фигурой он «дастуин гына» (достойный, высокий, значит, широкоплечий), до дела «үткер», то есть острый и быстрый, но сам он в это время «простой гына», то есть простой, без затей и заумного выкаблучивания. В общем, идеальный исполнитель воли супруги. Ключевое слово здесь — «гына», которое переводится как снисходительное «довольно-таки», здесь ни в чём не принято быть «в высшей степени» — сразу обвинят в «минминлек» (выпячивании себя) и назовут «мактанчык» — хвастунишкой.
Стороны и края Чекмагуша. В самом Чекмагуше, где, как известно, самая главная улица называется по индустриальной моде тридцатых годов Тракторной (райцентром это село стало в 1930 году), ещё тридцать лет назад можно было услышать от молодки в норковой шапке на «щисто татарском»: «Что син?!» Но теперь больше говорят на русском. Просто тут важен престиж. А русский язык — это престижно.

Иногда кажется, что именно здесь столица мягкого, почти ласкового, тюркского «Щ», и надо говорить «Щакмагыш», если хочешь сойти за своего. В разгар борьбы за перепись тут газета выходила — «Сакмагыш саткылары», на которую никто не обижался: раз нащальство велело, значит, так нужно, пусть будет «Сакмагыш».
С тех пор прошло семнадцать лет, и лишь в этом году обнаружил паспорт своей прабабушки по женской восходящей линии Галимы Ахметшиной, где было написано чернилами по белому «башкирка». «Эх, всего одной прабабушки-осьмушки не хватило, чтобы назваться природным башкиром, как иные карьерные мои соплеменники-необашкиры! Выучил „Хөрмәтле дуҫтар!“ — И алга, как говорится, работать для людей да время созидания устраивать», — это амбициозная, честолюбивая часть моей чекмагушевской натуры говорит. «Как-нибудь переживём, не позорься, оставайся собой, не лезь в начальники любой ценой», — отвечает разумная, спокойная, в чём-то даже смиренная, стеснительная часть той же натуры. Для справедливости скажем, что звание «чекмагушевский башкир» вызывает снисходительную, понимающую улыбку, в то время как «балтачевский башкир», например, — дружный и весёлый смех, переходящий в «ой-ой-ой». А башкирские деревни в Чекмагушевском районе, между прочим, есть.
Здесь не «чекают» и не «цекают» даже мишаре, более известные в местных лесостепных краях как «томэннэр», которых, по местной антропологической легенде, можно отличить по девяти парам рёбер вместо положенных четырнадцати. По крайней мере, так меня уверял на полном серьёзе дедушка Мидхат, усадив на худые свои колени и пробитое осколком бедро.
Почти в каждой деревне — «моём» Старокалмашево, Рапатово (это где телевышка «слева» от райцентра и каскад прудов), Верхнеаташево (откуда Бигнов родом) — есть какая-то этническая сторона («як») или конец («оч»): башкорт ягы, томән (это как бы мишаре) очо, даже «чирмеш очо» — марийский конец улицы.
Есть чувашские места — это знаменитый и при Рахимове, и при Хамитове колхоз
«Базы» с самым крепким хозяйственником Башкирии Вадимом Соколовым во главе. Есть даже село Муртаза (правда, Новая), куда в своё время дошёл сетевой газ и не дошёл асфальт. Тёзка, видимо, так и не доехал. Отсюда родом, кажется, только татарские мурзы, у каждого второго фамилия Мамлеев да Еникеев — например, Рифкат Еникеев, крутой, знаменитый на всю страну председатель колхоза, Герой Социалистического труда.
Русский язык здесь знают хорошо. В своё время достались отличные учительницы из эвакуированных, о которых слагают легенды. Да и до Уфы всего 90–120 километров, иди, дружок, поступай в университет, а теперь, как появился ЕГЭ, — прямиком в Санкт-Петербург. Дети, рождённые в девяностых годах, едва оперившись, уезжают в большие столицы нашей Родины. Оказывается, у них своя вертикаль, ученическая, и они, однажды зацепившись, затягивают друг друга в свои вузы, наладив канал телепортации с берегов Калмашки и Сыерышки до набережной Фонтанки или Яузы.
Лица здесь мягкие, хотя и с еле заметными тюркскими чертами — редко у кого имеется эпикантус. Когда я в детстве впервые увидел тётеньку с «монгольским» разрезом глаз, мне показалось, что она слишком строго на меня смотрит, прищурившись, и хочет за что-то отругать. Заметив, как жмусь к подолу своей ярко-рыжей тёти, она звонко рассмеялась, ловко поймала меня, погладила по голове и дала конфетку-барбариску.
Всё как у людей. Здесь принято меряться ворóтами и «обшавать» (обшивать досками, а теперь, к сожалению, и дурацким металлическим сайдингом) дом. Подверглись этой напасти и мои дорогие родственники, и я пока ума не приложу, что с этими архизлишествами делать, но не мне здесь зимовать — им виднее.
Оставить простые брёвна — для чекмагушевского села совсем не круто. Лучше, чтобы дом был похож на так называемый финский, сборно-щитовой. Со стеклопакетами, АГВ (спасибо программе газификации дорогого Муртазы Губайдулловича), спутниковыми антеннами, по которым раньше вычисляли самогонщиков или сибиряков, и даже кондиционерами, которые понадобились для ставших вдруг душными от всей этой отделочной красоты домов. Это обшивание и обкладывание кирпичом — продолжение той татарской моды «мерения» воротами, которая является здесь двигателем прогресса. Люди влезают в кредиты, гробят здоровье на маятниковых «северах», чтобы сосед, придя в гости раз в год, увидел «полную чашу».
Кстати, о нефтяниках. Несмотря на подкупающее название — НГДУ «Чекмагушнефть», — головной офис этой конторы расположен в соседних Дюртюлях. Сырьё добывается, временно складируется в огромных бочках и транспортируется на территории Чекмагушевского района. А основные радости от этого получает, как мне кажется, более везучий сосед. А раньше, не доезжая до райцентра со стороны Уфы километров пятнадцать, ты захлёбывался в запахе тухлых яиц — сероводороде, который выделялся из добытой или транзитной нефти. Попутный газ пускался прямо на факел, к счастью, это безобразие закончилось в начале девяностых — после публикаций в перестроечной газете. Но внушительные объекты «Башнефти» и «Транснефти» здесь есть. А существует ли от них эффект для казны района, — спросите в администрации.
Чекмагуш — крупный поставщик рабсилы на бескислородный Север, народ отсюда за длинным рублём стронулся ещё в восьмидесятые годы, кто-то уехал Агидель строить, а кто-то — сразу в Когалым, Лангепас и Урай, а также в Губкинский.
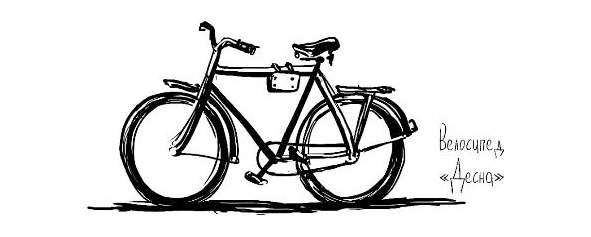
Скотину крупную здесь, как и во многих местах нашей благословенной республики, уже почти не держат — та требует много сил, постоянного внимания. Корма купить на селе особо не на что, прибыли не те, а воровать, как при Черненко и Брежневе, уже трудно: у всего «общего, колхозного» появились вполне конкретные хозяева. В детстве я и сам ходил ночью наполнять сенажом из ямы картофельный мешок, чтобы перекинуть его через велосипедный багажник. Сейчас что-то не хочется играть в эти деревенские виды спорта.
Любят ли тут блат, есть ли тут клановость, или, по-научному, трайбализм? Скорее, да. Мне приходилось с этим сталкиваться. Как только по району распространился слух, что «ещё один» появился на хлебном месте (в «Башнефти», а потом в «Башинформе» в качестве «зурнащальника»), так ко мне потянулась вереница внезапных родственников и знакомых с хорошими парнями, которые умеют «всё программировать и любой текст написать», а также с различными соблазнительными проектами денежного участия. Дело, как правило, редко доходило до тестового задания для перспективного кадра. Сейчас, к счастью, поток незнакомых родственников и земляков иссяк — то ли слух о плохом, зазнавшемся Шамиле дошёл до «кланового компьютера», то ли отставка моя разочаровала. Мне стало намного легче: несмотря на мой либеральный HR-подход, внутри глубоко сидит желание угодить роду и малой родине. Но я его подавляю.
Народ тут в целом совестливый, стыдливый, от религии далеко не отходил даже в самые безбожные времена. И даже в самые безбожные времена здесь не прекращалось отправление всех необходимых обрядов — от имянаречения до финального омовения. Переделав мечети под клубы и школы, отправив своих имамов-лишенцев на лесоповал, беднота начала приглашать на поминальные трапезы особо начитанных бабушек, «абыстай», которые в меру своего понимания отправляли все обряды вплоть до самых девяностых. В непростые времена застойного двоемыслия выходец из района Абдулбарый Исаев был муфтием ДУМЕС с 1975-го по 1980-й. Он ушёл — впервые в истории — с пожизненного поста сам, а его потом сменил Талгат-хазрат Таджуддин. Мечети здесь строят особо зажиточные сограждане, выходцы из села, называют по моде именем собственной матери, да и что в этом плохого?
Хуже, когда мечеть стоит без имама — заполняется в таких случаях бородатыми гражданами России, которые не отращивают усов и не любят носить исподнее. К молодым сильно набожным козлобородым здесь относятся насторожённо. И неспроста. Дело доходило до того, что в нулевые годы кто-то сдавал экзамен по взрывному делу на местном материале: какой-то самоделкой хлопнули масляный радиатор трансформаторной подстанции, оставив несколько деревень без света на пару дней. А ещё кто-то за околицей деревни пытался вывести из строя электроопору, а на остановочном павильоне дороги Дюртюли — Буздяк находили набор юного минёра — И это тоже в Чекмагушевском районе! Вы, пожалуйста, меня не переубеждайте, я на эти темы с генералом Черноковым разговаривал. Сейчас вроде чуток улеглось. Мечети по праздникам заполняются, старушки планово обретают истовость характерной манеры подвязывания. В сёлах слышен азан и от живого, и от цифрового муэдзина, на праздниках религиозных всё честь по чести — благочинно и чисто.
Воспитание татарских девочек в Чекмагуше также трудовое и, я бы сказал, ханжеское. Вот образчик воспитательной речи, которую слышал своими ушами в семье, где много дочерей, — старшая, замужняя молодка лет двадцати восьми, крепкая на слово и руку, костерит среднюю, лет шестнадцати-восемнадцати: «Ты чего среди бела дня с парнями заигрываешь, стоишь с ними, смеёшься? Иди свёклу наруби, корову подои, корма задай телятам, посуду вымой, шторы погладь — И иди потом флиртуй с парнями сколько хочешь. Если силы останутся. Хоть до утра! Ты чего мать и сестёр позоришь, среди бела дня с парнями стоишь у забора, смеёшься?!»
Василий Алибабаевич. Воспитание же татарских мальчиков направлено на самурайскую сдержанность чувств и подчинение авторитету «зурнащальника», системы, государства. Надо быть во дворе, желательно с вилами в руках, обязан увлекаться сборкой-разборкой дизельного двигателя, все «сю-сю, люблю» произносятся один раз в жизни, делая предложение руки и сердца. В результате получаются скромные работяги и карьеристы. Не зря же Чекмагуш — родина двух (!) руководителей субъектов, если можно так сказать, РСФСР: первого татарина во главе Татарстана Зинната Ибятовича Муратова (руководил ТАССР с 1944 по 1957 год) и Ревмера Хасановича Хабибуллина, который «рулил» нашей БАССР аж три перестроечных года — с 1987 по 1990. Между прочим, вы хорошо знаете сына Муратова по имени Раднэр, он снялся в роли Василия Алибабаевича в «Джентльменах удачи».
Чекмагушевцы очень «служебные» — охотно идут в полицию, прокуратуру, армию, на госслужбу. Наверное, тут дело не только в карьеризме (что в этом плохого, кстати), а в сопричастности к чему-то большому. Вроде как неловко на чём-то настаивать, чего-то добиваться от своего имени, поскольку это эгоцентризм и гордыня, невежливо. А вот ради интересов службы, за страну и республику порадеть, за порядком и справедливостью приглядеть — тут уж мышь не проскочит. Разве что землячкой окажется. Тогда проскочит, но аккуратно.
В купечестве, чиновничестве и красном директорате Чекмагуш хорошо представлен. Тот же Рамиль Бигнов, давно уже миллионер, Валерий Мансуров, который «СУ-10», уже не может, видимо, спокойно мимо лимонария проехать, не окинув территорию взглядом крепкого хозяйственника. Фарит Гиндуллин — первая в Уфе сеть магазинов шаговой доступности «АиФ». Ринат Баширов, бывший замминистра финансов, сотрудник Администрации Президента РФ, человек выдающихся способностей, внёсший уникальный вклад в обновление политического режима в нашей республике (вроде тоже из каких-то Калмашей). Альберт Дусалимов, многие годы главный почтовик Башкирии, министр ипотечного строительства Камиль Мансуров.
Политтехнологи на службе у Белого дома Данил Азаматов (его предки здесь трудились на партийных должностях), Альберт Мифтахов (через супругу) имеют к Чекмагушевскому краю если не прямое, то косвенное отношение — например, по женской линии, о характере влияния которой говорилось выше.
Описывая отношения чекмагушевцев с имуществом, часто приходится слышать «саран», прижимистый, хотя в моём окружении всё время попадаются люди, готовые делиться последним. Тут, скорее, дело в бедности, чем в геопсихологии.
В ответ на вопрос о музыкальности чекмагушевских людей приведу три золотых певческих имени: великий Ильфак Смаков, заслуженный Рамиль Хазиев и бахыр Венер Мустафин, вечная ему память и вечный укор его донимавшим.
В науке тоже представлены богато, назову лишь имена профессора Юлая Шамильоглу, одного из ведущих специалистов мира по истории тюрков и Золотой Орды, и Оскара Кайбышева, основателя Института сверхпластичности металлов, недавно нас оставившего. Всего тут человек триста докторов и кандидатов наук, упомянем только Бахтизиных. Фамилии врачей — Нартайлаков, Бадыков, Саубанов — известны на всю республику. Отсюда, из небольшого села Таскаклы, ведёт своё начало и фамилия Набиуллина, которую председатель ЦБ РФ унаследовала от своего отца, простого шофёра Сахипзады Саитзадаевича, по обычаю там и нашедшего своё вечное пристанище.
У меня есть ещё более планетарная история, связанная с Чекмагушем. Не назову себя краеведом, но изучать историю своего родного села приходится. Из свежеизданной книжки 1982 года об истории села, написанной бывшим замнаркома просвещения БАССР Насибом Тимашевым, выяснил, что в окрестностях Старокалмашево было расположено имение дворян Веригиных, так называемый «Аллабердинский хутор». Далее раскопал кое-что о Веригиных в интернете.
У них было несколько имений, на юге и на севере, но именно сюда, в поместье отца в Уфимской губернии, будучи ещё мальчиком, наведывался Константин Михайлович Веригин. Они жили на земельную ренту с наших крестьян словно короли, судя по описаниям быта. В 1920 году в звании корнета кавалерийского полка Добровольческой армии Константин эмигрировал в Париж, долго там мыкался, пока не поступил на работу в мастерскую Эрнеста Бо (тоже русского эмигранта французского происхождения) в доме Коко Шанель, и вместе с ним разработал самые знаменитые духи всех времён и народов — Chanel No. 5.
Примерно сто лет назад, устав платить ренту, крестьяне села Старокалмашево и окрестностей выкупили эти земли у Веригиных. А названия «виригин» в топонимах остались.

Изучая историю Веригиных, параллельно сделал для себя открытие: «Шанель номер пять» — первые и главные духи эпохи авангарда, до них все обливались цветочными водичками, а Бо и Веригин, работавшие на Коко, выявили альдегидную сущность женского очарования. А я-то всё удивлялся, чего это моя матушка со всех дьюти фри заказывает только одну марку духов.
В своей книге «Благоухание» Константин Михайлович ничего не пишет о влиянии полынной горечи, летучего и пряного запаха чабреца, сладкого чертополоха, ковыльных калмашевских степей на самые знаменитые духи мира — вот контра белогвардейская!
Искренне благодарю за поддержку и научное консультирование Ильдара Габдрафикова.

УРОК №6
У нас всегда есть какой-то «доброжелатель».
Злопыхатели для рода имамов — экзамен на доброту
Сегодня всё больше людей обращает внимание на историю своих предков.
Многие поднимают архивные документы и выясняют, как их дедов давил каток советских репрессий. Отправить человека в Сибирь могли даже за то, что он был сельским муллой или известным богословом.
У меня тоже появился опыт личного погружения в историю рода — я покопался в биографиях своих предков и выяснил немало любопытного.
Вояж в историю предков
В 2016 году я начал удивительное путешествие в прошлый и позапрошлый век, которое оказалось путём в себя. Запоздалая и неизбежная депрессия после очередной обидной отставки и опалы за крепкую и верную службу очередному губернскому режимчику заставила искать новый источник сил. И помощь пришла с неожиданной стороны. В моё цифровое облако стали собираться документы и фотографии прошлого, позапрошлого века, архивные и личные бумаги о жизни моего рода. Там появились незнакомые, но очень знакомые люди — мои предки.

По мусульманскому (не только, наверное) мировоззрению, за каждым из нас есть целое сонмище духов-арвахов. Они ждут. И единственное, что я, октябрёнок и пионер восьмидесятых, умею делать уверенно — это просить дежурного муллу помянуть их в молитве. Дорогих моих покойников надо назвать поимённо: двоюродный братишка Булат, которого в восемьдесят втором принесли поперёк подушки, а в девяносто восьмом — унесли; суровая ко всем, кроме меня, Хадича; добрый дедушка Мидхат, от которого я унаследовал мягкую душу, кожу и запах; строгий и добрый дед Салих; глуховатая Фазыла, гладившая меня по спине; незнакомый мулла и хаджи Габдулла; его молодая красотка Фатима, дочь бая Ибрая из Аблая; незнакомый пока прапрадед Багаутдин; внезапно оказавшаяся башкиркой мама бабушки Галима Хамиддиновна.
Они отвечают благодарно — дают силы, открывают голову для светлых мыслей, заряжают творческую батарейку, позволяют лучиться мягким светом по отношению к людям, даже не очень приятным. Все они населяют сейчас холм над Старым Калмашем Чекмагушевского района и маленькое кладбище села Дюсяново отцовского Бижбуляка. Кроме Карима «Красного Паши» Хакимова, первого красного дипломата, про которого отец моего отца написал химическим карандашом, что он — родня, но не объяснил, какая именно. Он с января 1938 года покоится в Бутово, на расстрельном полигоне. Тем дорогим моим башкирам-валидовцам, которые упрекают его, красного командира, и меня в том, что он арестовывал первое башкирское правительство, иногда отвечаю за Хакимова: всего лишь арестовал, потом же — отпустил, хотя в то крутое время могло бы быть совсем по-другому.
Драма рода
Истфак и курсы тюрки помогли мне узнать имя шестого колена — Галикей, как впоследствии выяснилось, Габдразаков сын. Его сын Шарафутдин в двадцать восемь лет был прислан из Мензелинска или Казани «указным» муллой в Старый Калмаш в 1826 году. У него были две жены — Бисафа и Гайша, причём одна из них была постарше, как водится у мусульман вслед за нашим пророком. Женщина далеко за тридцать, наверное, оставшаяся после смерти старшего брата. Из семи пока известных колен предков по маминой линии трое или четверо оказались людьми духовного звания.

Загадочным образом это докатывается и до нашей эпохи интернетной злобы: мне хочется обогреть и приласкать признанием самого ярого тролля, стукача и мерзавца — двери храма и души должны быть всегда открыты, подсказывает внутренний голос. Особенно для тех, кто заблудился или не может справиться со своими демонами. Или просто стонет от одиночества и непризнанности. Такое вот наследство, за которое я пока расплачиваюсь жировым бронежилетом и мигренью. Такая фамильная работа — вроде как больше некому особенно и признать, и вдохновить. Драма нашего рода — а мне пока открыты явным образом только мамины предки, — вместе со всей страной пережить репрессии, унижения и беды-комбеды.
«Доброжелатели» довоенные и нынешние
Житья моим не стало уже в двадцатые годы: в двадцать четвёртом прадед Габдулла сложил с себя сан, стал лишенцем избирательных и прочих жизненных прав, негражданином, которому один шаг до «Беломорканала» и десяточки в лагере, которая стала явью в 1933-м. Сейчас по моей просьбе разбирают крючок за крючком дело пока последнего муллы моего рода Габдуллы Багаутдинова.
В 1930 году он попросил вернуть ему его права — сложилось дело о сорока листах, слушали — постановили — отказать. Был, дескать, батрак аж до двадцать восьмого года в хозяйстве. Мой новый знакомый и коллега Иршат-агай Зианбердин, который любезно портит глаза об эти жёлтые бумаги, заметил: в деле есть какая-то странность — кто-то из письмоводителей постоянно вторгается в жалобную переписку прадеда с волостью, как будто следы свои липкие прячет.
Я и сам знаю, и родня говорит — В этом ничего нового нет, у нас всегда есть какойто «доброжелатель». Есть такие и у меня. Мы не обижаемся на таких, вот уже почти сто лет, четыре колена. Злопыхатели для рода имамов — лишь экзамен на доброту и готовность принимать людей с их ошибками и им тоже дарить надежду.
Есть особый напряг: кажется, что моё поколение — последнее, кто интересуется предками, и первое, кто может получить к архивам более-менее нормальный, иногда даже цифровой доступ. Слёзы, брызнувшие на клавиатуру от наградных документов деда Мидхата, — тому подтверждение. За бумажками стоят люди, и сонмище тех, которые заведомо, авансом и наперёд любят меня уже много столетий, пополняется новыми именами, проступают через мглу моего невежества седые бороды, густые брови, озорные косы, мягкие шляпы, звенящие мониста, тыпырдык-чечётка подбитых деревом лаптей и расшитые камзолы. И всё это теперь — моё, и моих деток, и далее. Потому я больше откладывать встречу, пока виртуальную, со своими предками не могу. И вам бы уже поторопиться.
УРОК №7
«Чайник нерж. 8 руб.»
Будучи в гостях у дяди Рифката в деревне Старокалмашево, обнаружил в целости и сохранности (правда, с крышкой, немного модифицированной латунной вставкой) уфимский чайник детства, разработанный и изготовленный на заводе «Гидравлика».
«Гидравлику», производителя, определил по логотипу, который пережил страну, пик и форму собственности завода.
Всегда имел некоторый интерес к этому скобяному изделию в группе товаров народного потребления, выпущенных по моде, заданной ЦК КПСС, помимо другой «гидрологической авлики», наверняка оборонной.
Дело в том, что году в восьмидесятом у нас был сосед, который якобы являлся чуть ли не разработчиком (или дизайнером? — во всяком случае, мама называла этого бородатого дядьку из сто семнадцатой квартиры «художником», он потом переехал) этого товара, продаваемого за 8 рублей.
Его особенность — помимо того, что он был похож на бак для гептила или жидкого кислорода, а также помимо блеска конверсионной нержавейки (кстати, не заржавела за тридцать пять лет) и якобы несгораемой пластмассы, — заключалась в том, что ручка фиксировалась специальной фигулиной сбоку (и до сих пор сохранила необходимую тугость хода), в верхнем положении. То есть не раскалялась лепестками метанового или пропанового огня, как обычно.

Кроме того, крышка закрывалась туго, для того чтобы её не выбивало кипением фазы рвущихся пузырьков — бурления. По моим ощущениям, 8 руб. — это довольно круто по тем временам.
Моя бабушка Хадича отмечала при хороших прочих потребительских свойствах этого изделия слишком короткий носик, сделанный в угоду силу через который пере гретый пар начинал выбрасывать на кон форку кипяток.
В целом он был лучше своих эмалированных собратьев, царивших тогда, и точно более живуч — сделан с избыточными по вэпэкашной моде добротностью и качеством, из отличных материалов. Хорошего дизайна (без цветочков), уникальной формы и инновационной конструкции.
Ему немного не хватило фазы ß-тестирования у потребителя, чтобы быть совершенным.
Радует ещё то, что спецпластмасса, использованная для ручек, при нагревании не начинала разлагаться с едким запахом, как у китайских «последователей».
С учётом того, что нержавейки тогда в обиходе, за исключением ложек-вилок, практически не было, чайник за 8 руб. составлял гордость каждой уфимской кухни, выглядел как импортный.
Какова была его себестоимость — одним экономистам завода и Госплану известно.
Никто не знает его историю подробней? Был ли он известен за пределами БАССР?
УРОК №8
Мои караидельские бригантины
До самого конца советской Башкирии по её рекам сплавляли лес — плотами, пучками, прицепленными к «речным толкачам» толстыми, усатыми боковыми тросами. РТшки должны были толкать своими «бивнями» баржи с песком, но к ним цепляли срубленные в верховьях Караидели тополя, берёзы, сосны и дубки. Это называлось «молевым сплавом», который был отменён вместе со страной и моим детством-юностью из-за неэкономичного топляка.
Не могу не написать о том, что и я стал причастен в детстве к этой отрасли, поскольку там, в верховьях Уфимки, работал мой дядя Рифкат Багаутдинов, лесорубом. С 1985-го по 1987-й слова «Магинский», «Озерки», «Новомуллакаево» в нашем доме звучали постоянно.
Лес, заработанный и отобранный молодыми деревенскими парнями (дядя мой 1959 года рождения, двадцать восемь лет ему было, получается), им нужен был для постройки дома.
Корабельные сосны метров по двенадцать доставлялись в места проживания лесорубов рекой, в пучках, скреплённых боковыми тросами в огромные плоты.
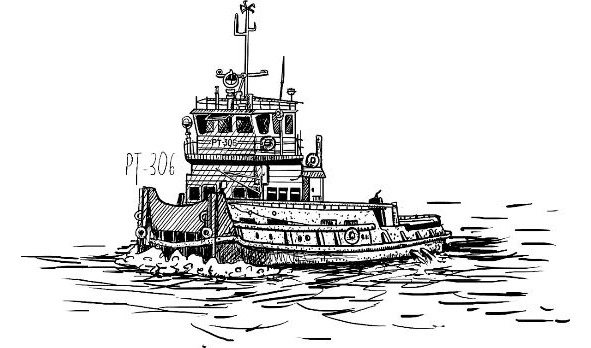
Право на их вырубку зарабатывалось адским трудом на лесоповале. Но то был шанс для деревенского парня без денег за три-четыре года построить дом у себя в деревне, а дом добротный поднять тогда стоило десять-четырнадцать тысяч советских рублей при зарплате (хорошей!) сто двадцать. Два года зарабатываешь лес (и на сруб, и на доски, и на продажу), и два года строишь.
Летом, в июне 1987 года, я сплавлялся с дядей и его компаньонами-лесорубами в составе стосемнадцатиметрового «кооперативного» (не от слова «кооператив», а от слова «кооперация») плота, вернее, «хлыста», который следовал от Озерков до Кушнаренково, огибая Уфу.
Примкнул к ним на Павловке. Прилетев в Караидель на Ан-2 за 7 руб. 80 коп. по комсомольскому билету вместо паспорта, догнал на «Заре» по реке. Предварительно сделал прививку от клещевого энцефалита — это было жёстким условием моего допуска в мир лесорубов.
Мы цеплялись к «государственным хлыстам», которые вели РТшки.
«Попутку» приходилось ждать дня по два-три. Жуковатые монополисты-речники брали рублей триста-четыреста за каждый отрезок (Верховья — Павловка, Павловка — Уфа, Уфа — Кушнаренково) и норовили сбросить нас, якобы опасаясь речной инспекции. Так они один раз и поступили где-то на подходах к Уфе, не уведомив нас предварительно. Команда корила «переговорщика», который им дал предоплату. Он, меряя всех по своей добросовестной советской мерке, простодушно разводил руками, мол, когда даёшь деньги вперёд, люди же лучше работают.
Наш хлыст был самый продвинутый, голова его была собрана в жёсткую платформу тринадцати метров шириной, чтобы можно было пройти шлюз на Павловке, пусть и шкрябая бетонные его стены. На этой бревенчатой платформе стоял сарайчик с буржуйкой и полатями, где жили человек пять из десяти скооперировавшихся лесорубов. К нему по бокам были приделаны толстые тросы, которые держали пучки в периметре. Пучок состоял из пяти-семи брёвен, схваченных тросами потоньше, друг к другу они цеплялись стальной проволокой. Хитрость конструкции хлыста была в том, что каждый его элемент имел самостоятельную плавучесть, не будучи жёстко закреплённым с соседями. За хижиной одного пучка не было — там плавали дрова для печки, под хижиной горкла в плескающейся воде деревенская сметана, а картошку хранили на крыше.
Мне было строго-настрого запрещено перепрыгивать по пучкам государственного плота, который тянул толкач, поскольку деревья там были лиственные, кривые и тонкие, на дрова или ещё для чего. Осина, берёза — чего только там не было! Провалиться между ними было очень просто, шансов же выплыть из-под идущего молевого плота длиной в триста метров при моей физподготовке было немного. Я, конечно, прыгал и по ним, балансируя по скользким брёвнам, опасливо заглядывая в глубину. Мы гордились своим плотом, а вся навигация уже за пару дней знала про весёлых и богатых чудаков из «хижины дяди Тома».
Кроме того, мне было велено быть осторожным при проходе других судов. Кильватерная струя некоторых из них имела очень большую амплитуду, и у нас на плоту всё начинало ходить ходуном, как во время шторма. Потому речники, зная о неудобствах, которые они причиняют, сбавляли ход, завидев населённый плот, на манер того, как водители на трассе выключают дальний свет при разъезде со встречным транспортом. Но были говнястые катера-водомёты, которые сами были невелики, но шли полным ходом, вызывая волну и заставляя нас колбаситься даже после того, как они скрывались за поворотом Уфимки.
Участники кооператива то приплывали, то отплывали по длине маршрута. Постоянно на борту было четверо-пятеро человек. Чтобы отправить кого-то на берег, нужно было отчалить с лодкой (она, конечно, тоже имелась, плоскодонка, как же) в голове хлыста, совершить высадку и приналечь на вёсла, чтобы успеть к хвосту проходящего плота. Иногда к нам прямо на ходу пришвартовывалась (ненадолго и видимо, в нарушение устава) «Заря» с очередным членом нашей команды.
Мы медленно, днями шли мимо сёл, рыбаков и стад. Нам приветственно махали руками ребятишки, которые пасли гусей.
Особо волнительны были шустро и целенаправленно проплывающие мимо богини красоты (насколько можно было разглядеть русую чёлку, выбившуюся из-под какого-то, видимо, обязательного, шлема, — разглядываешь, остальное достроит воображение) на байдарках, с которыми мы (ну не я, конечно, мне было четырнадцать лет) пытались познакомиться прямо на ходу.
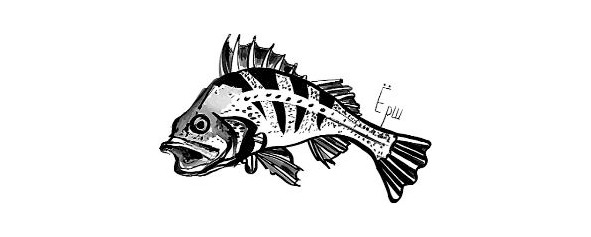
Но они смотрели строго вдоль фарватера и только прибавляли вёсел, когда их окликали свистом и разными зазывными словами истомлённые деревенские донжуаны, вырвавшиеся из леса.
Было интересно идти мимо Инорса, Сипайлово, особенно — идти мимо Трамплина, где купались сухопутные лентяи и неженки с Новостройки, а я уже стал за три дня бывалым матросом речфлота, руки мои были истыканы ржавыми усиками от троса, голос охрип, волос выгорел, морда потемнела и обветрилась. Речь моя долго ещё была пересыпана кранцами, бакенами, чалками, фарватерами, навигациями и прочим нехитрым мелководным рангоутом.
И жаль было только, что в этот момент не купались на Трамплине мои одноклассницы, а лучше — кто-нибудь из класса «В», где концентрация красавиц была неимоверной. Позже я узнал, что одноклассники мои там купались, а Слава Чудов, с которым мы сидели в первом классе за одной партой, утонул.
Мы питались дефицитной тушёнкой «Великая стена», используя оттуда только мясо и выбрасывая жир, который составлял половину банки. Тогда я понял, что не всё импортное — хорошее. Но всё равно это был дефицит, доступный только лесорубам. Пили (я тоже, тайком от дяди, за сараем, причём наливал каждый, потому я был кривой и чуть не выпал под пучок) сладкое узбекское вино «Сэхрэ». Там меня научили жарить картошку на воде, без применения масла и прочего.
Поздними июньскими зорями на реке из нашего двухкассетника раздавались сладкие постанывания педоватых немцев про «Братца Луи» из Второго Альбома «Современного Разговора» («Модерн Толкинг»). В целях экономии батареек несознательными участниками навигации с сигнальных огней («фотоэлемента») соседнего плота были скручены элементы питания, которые были последовательно присоединены к магнитофону, оравшему от этого громче обычного.
Долго стояли возле Уфы, на уровне ТЦ «Юрюзань», где нас адски искусали грязные городские комары с холодными лапками. В одно утро к нам пристал какой-то алкаш на лодке, интересуясь, нет ли у нас хотя бы «синявки быстродействующей», она же нитхинол — синяя жидкость для мытья окон, которую, видимо, употребляли в качестве алкогольного суррогата.
Путь завершился в Кушнаренково, где пучки брёвен были затащены на песчаный берег, каждый из них помещался в рыжий КамАЗ-самосвал, у которого после такой погрузки отрывались от земли передние колёса.
Дом был окончательно достроен моим дядей к 1990 году на основе сруба десять на двенадцать.
УРОК №9
Старокалмашевцы вспоминали доброе дело
депутата-эколога в течение 20 лет
Грустно осознавать, но наш изобильный на красоты край страдает от маловодья. Мы привыкли к тому, что у нас есть красивые озёра, водохранилища и реки, но когда дело доходит до практики, воду найти непросто. Набрать в чайник, искупать деток, полить огород. Мы все в этом хорошо убедились по-настоящему жарким и важным для республики летом 2010 года. Люди, измученные жарой, с интересом вглядывались в «водные» строки в резюме нашего нового руководителя, в недавнем прошлом — министра экологии, федерального инспектора, руководителя агентства.
Если почитать перестроечную прессу начала девяностых, покажется, что большое и процветающее Старокалмашево Чекмагушевского района оказалось на грани небытия. Люди, писали московские газеты, готовы побросать дома и уехать, лишь бы не пить отравленную воду, не дышать отравленным воздухом. Половина села — двухэтажные «высотки» нефтяников, половина — добротные дома местных жителей. Большая и зажиточная деревня, полно техники, ферм, полей. Колхоз всегда «показывал результаты», гремел, как сейчас гремит хозяйство знаменитого соседа Вадима Соколова. Но работать нефтяником всегда считалось более престижным. Сельчане — скотники, механизаторы, свекловоды — всё же тихонько, хотя и не подавали виду, завидовали мужикам с хорошей зарплатой и пайком, которых утром забирают, а вечером чистеньких привозят на вахтовой «шишиге».
Устроиться на объекты трубопроводного транспорта и нефтедобычи простому деревенскому мужику тогда было непросто, а сейчас — просто невозможно. Даже с блатом. Через дорогу от села — нефтепарк местного НГДУ (это такие огромные бочки, величиной с дом, покрашенные «серебрянкой» с надписью: «ОГНЕОПАСНО») и НПС — нефтеперекачивающая станция. Что ещё там за забором — не все калмашевцы точно знают и до сих пор.
Нефть здесь и добывают, и собирают, и перекачивают. Догадаться о том, что в Калмашево царят углеводороды, мог и слепой, поскольку сероводородная вонь накрывала всех проезжающих по трассе Кушнаренково — Бакалы километра за три до села.
Здесь же, неподалёку, проложили газопровод «Дружба», благодаря которому все выучили названия трёх городков: Уренгой, Помары, Ужгород. В общем, весь «оздоровительный букет». Слово «экология» тогда было не на слуху, никто и не слышал про очистные сооружения, а за околицей вечно смердел факел с попутным газом.
У появления «газетных уток» в перестроечной экопрессе всё-таки была реальная подоплёка. В один момент вода в деревне начала издавать такой резкий химический запах, что и без особых исследований было ясно — она совершенно непригодна для употребления.
Дело в том, что действующая около Старокалмашево нефтяная термохимическая установка (ТХУ) окончательно загрязнила прилегающие земли, приведя в негодность и грунтовые воды. В придачу к запаху сероводорода в воздухе горькой стала и без того жёсткая вода.
Однако система продолжала работать, очистные мероприятия проводить никто не собирался. И жителям села ничего не оставалось, как самим решать свою судьбу. Собрали деревенский сход, поговорили о наболевшем.
Оказывается, в районе возросло количество онкологических заболеваний, что увязали с потреблением некачественной воды. Люди сами рыли скважины, вода появлялась метрах на шестнадцати и быстро «прогоркала». Пробу из местного родника периодически прилетали брать аж на вертолёте, который в другое время патрулировал здешние переплетения труб и бочек на предмет утечек и порывов.
Делегировали четырёх активистов в ходоки. В инициативную группу вошли уважаемые люди: председатель сельсовета, начальник узла связи и два учителя — Айсылу Багаутдинова и Айсылу Салимгареева.
— Уж к ним-то в Уфе прислушаются, — верили старокалмашевцы.
Вот как вспоминает ту поездку учительница истории Айсылу Багаутдинова:
— Осенью девяносто второго года мы встретились в Уфе в Верховном совете с народным депутатом, председателем комиссии по экологии и рациональному использованию природных ресурсов Рустэмом Хамитовым. Состоялось заседание комиссии, на которое были вызваны представители нефтяных компаний, вёл его Рустэм Закиевич, — рассказывает Багаутдинова. — Он внимательно нас выслушал и с пониманием отнёсся к нашим проблемам. Тогда были приняты спасительные для деревни решения: убрать подальше ТХУ, пробурить скважину и провести водопровод. Быстро были розданы нужные команды, нефтяники оперативно взялись за дело и обеспечили нас водой аж на двадцать лет вперёд.
Конечно, попытки организовать централизованное водоснабжение в деревне периодически предпринимались и прежде. Трубы начали прокладывать ещё в семидесятые годы. Но дело до конца довели только после вмешательства из Уфы.
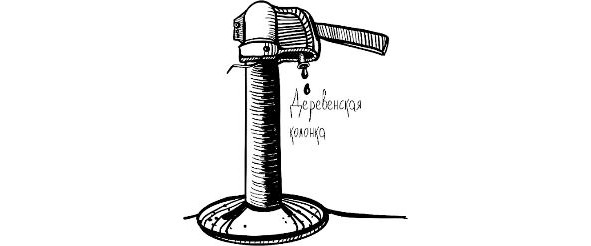
Работы начались безотлагательно. Нефтяную установку перенесли, а в четырёх километрах от деревни, у горы, пробурили скважины. А самое главное — к 1993 году на улицы Старого Калмаша провели воду, установили колонки. Люди знали, кто их выручил, и следили за карьерными передвижениями депутата Хамитова, узнали, что он работает в Москве как раз по «калмашевскому профилю» — главным по воде. И в жаркое засушливое лето 2010 года обрадовались, когда из столицы вернулся «старый знакомый».
Сегодня вода в Старокалмашево вроде есть, но тем же летом 2010 года многие колонки пересохли, продолжают сбоить и сейчас. Но, как утверждает глава поселения Альберт Макулов, качество воды отвечает всем нормам. Водопроводная вода из тех самых нагорных скважин гораздо вкуснее, нежели из дворовых колодцев — кто знает, сколько потребуется природе времени, чтобы окончательно очиститься от многолетнего отравления. Только время, к сожалению, не щадит рукотворный водопровод.
Изношенные ржавые трубы всё чаще напоминают о себе, требуя замены.
Даже незначительные поломки, вызванные, например, непогодой, надолго оставляют без воды целые улицы.
Такая экстренная ситуация возникла и зимой 2010 года, когда из-за сильных морозов произошёл обрыв на линии, и вода в некоторые колонки дошла только к концу июля.
По словам Макулова, сельский водопровод в ближайшие годы ожидает капитальный ремонт. Старокалмашево включено в республиканскую целевую программу «Чистая вода». В 2013 году предполагается начало изыскательских работ. Основные мероприятия по обновлению водопровода запланированы на 2014 год. Но до четырнадцатого года ещё надо дожить, кряхтят калмашевские бабули и спрашивают у журналиста:
«Как бы побыстрее колонки в порядок привести?»
УРОК №10
Безопасная бритва против раздражения
Такая бритва была у моего дедушки Мидхата. Я перенял его способ избавляться от густой трёхцветной щетины: мне от них — дедов-прадедов — досталась кипчаковатая рыже-чёрно-русая борода.
Электробритва (при всей любви к космической продукции УППО) сразу не зашла, вызывая «раздражение» (дед и дядя так и говорили — «раздражение була»). Несколько студенческих лет я брился опасной бритвой, играя в юного джентльмена с кёльнской водой, виндзорским узлом и запонками.
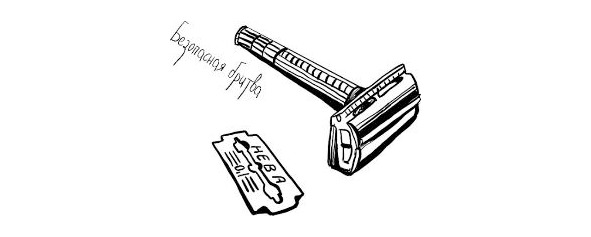
Но в итоге вернулся к дедушкиной безопасной, разве что лезвий прибавилось, вместо стальной изогнутой пластины, рифлёной ручки с резьбой, «Невы» и «Спутника» пришли сменные картриджи Gillette и Schick, известные и вожделенные по product placement в советской литературе с детства.
Я постоянно находил залежи его отработанных лезвий за верхним фигурным наличником окна = тәрәз башында, строил из них браслеты, гусеницы, «сюрикены» и постоянно же резал пальцы до крови об них, ломая пополам и делая из них «макетные ножики».
Мне нравилось смотреть, как дедушка степенно делает мыльную пену в специальном алюминиевом микротазике специальным помазком из любого мыла. Бряканье помазка об «тазик», удобно расположившийся в высоком бритвенном стакане для ополаскивания, до сих пор — один из лучших звуков для сердца.
Секрет в том, чтобы терпеливо дождаться, пока размягчится волос, — иначе не срезать без травм нашу с ним густейшую и толстую щетину: берет её, не забившись, не всякая бритва.
Неминуемые порезы заклеиваются кусочком газетки. И — непременный кайфовый, с кряхтеньем, хлопок по подбородку фонтаном из «Тройного» одеколона, вонючего гусарского «Шипра» или «Огуречного» лосьона.
После него недолго порычит бабушка — «Фуу, сасы адикалон исләре!» А меня можно взять на колени, чтобы поиграть моими подмышками «на баяне» до визгливого хохота и хрюканья. Или поехать на телеге в канцелярию-«кәнсәләр» колхоза «Красный Октябрь» по важным делам справедливого учёта зерна, силоса и труда в многостраничном «экселе» из рыхлой зелёной бумаги с картонной обложкой.
УРОК №11
Санки: зимний серфинг
А интересно, куда санки деваются? Они же крепкие, зелёные, с разноцветными реечками из толстенной фанеры, из листового железа хорошей толщины. Конечно, если они въедут тебе в верхнюю губу или лоб, мало не покажется.
Облизывать их тоже не рекомендуется — интересно, знают ли наши дети об опасности примерзания языка и губ к гаражам, качелям и воротам?
Зелёные железные санки «хрущёвской оттепели» сменились более лёгкими, алюминиевыми с продольными, впоследствии поперечными, реечками ярких цветов, а в более глубокие восьмидесятые «рейки» начали имитировать из ломкой на морозе пластмассы.
Их, по отзывам, хватало на сезон-другой. Да и санками не хотелось считать, несмотря на модный вид и более удобную спинку. Спинка, погнувшись, вылетала, алюминий чернел, «лонжероны» расклёпывались, углы разламывались, пластмасса разрушалась в кусочки. Так вместо «тёплых ламповых» в нашу жизнь стали приходить эрзац, масс-продукт и штамповка.
Несмотря на то, что кататься под горку шансов было ну не так уж и много, а вариантов, что кто-то подвезёт тебя за верёвочку, — вообще практически не было, все ходили на прогулку со своим «транспортом».
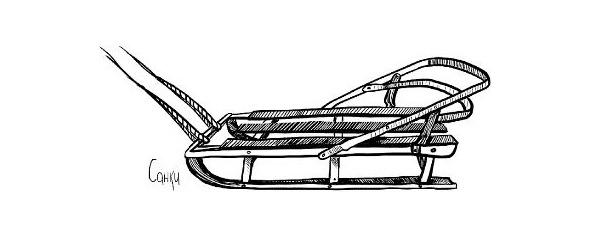
Санки — прицеп на верёвочке к мальчику — зимняя замена игрушечному самосвалу, который катался за ним летом.
Катание на чём-то — основное развлечение нашего детства, в котором ещё не было скейтборда. Не только с горки. Подмерзшая длинная лужа уже была ценным скейтинг-рингом, если её очистить от снега и прокатать тропинку.
Развлекательный эффект заключался в том, что ты как бы стоишь и ничего не делаешь, а инерция тебя куда-то тащит. Типа перемещаешься, отдыхая. Приобретаешь суперсилу.
Фигня, что нужно потратить кучу кинетической энергии на разбег или подъём на горку, а потом на удержание равновесия. Катание на лифте, на попутной машине или телеге, на санях-розвальнях, на троллейбусе снаружи, рискуя жизнью, прицепившись во дворе к грузовой машине железным крючком. Каких только видов смертельно опасного сёрфинга не поджидало пытливого пацана!
Я как-то нашёл под окнами школы выброшенные кем-то в сугроб чертежи семиклассников и отнёс их на горку, предложив одноклассникам на прогулке в качестве одноразовых ледянок. Бумага чудесно скользила по снегу. Некоторые начали кататься на моём «изобретении», например Азат Гимранов. Но тут пришла наставница продлёнки другого класса Адель Мухаррямовна и гаркнула: «Это кто тут разбросал?!» — после чего я всё быстро собрал, отнёс в изначальный сугроб и там присыпал снежком. Как-то расхотелось кататься и катать друзей.
В общем, санки — настолько встроенная в нас вещь, что мы никогда не замечаем, когда они есть.
Их иногда приходилось использовать и по «хозяйственному» назначению — тащить на них малыша (то есть тебя), коровью ногу или вязанку дров.
Четверть замёрзшей туши волочилась по земле, вязанка рассыпалась на ухабах, малыш (то есть ты) орал и выпадал. Так себе прицеп.
Потому что главная задача санок — просто болтаться за тобой на верёвочке и дарить надежду: вдруг подвернётся горка, добрый человек или другой тягач!

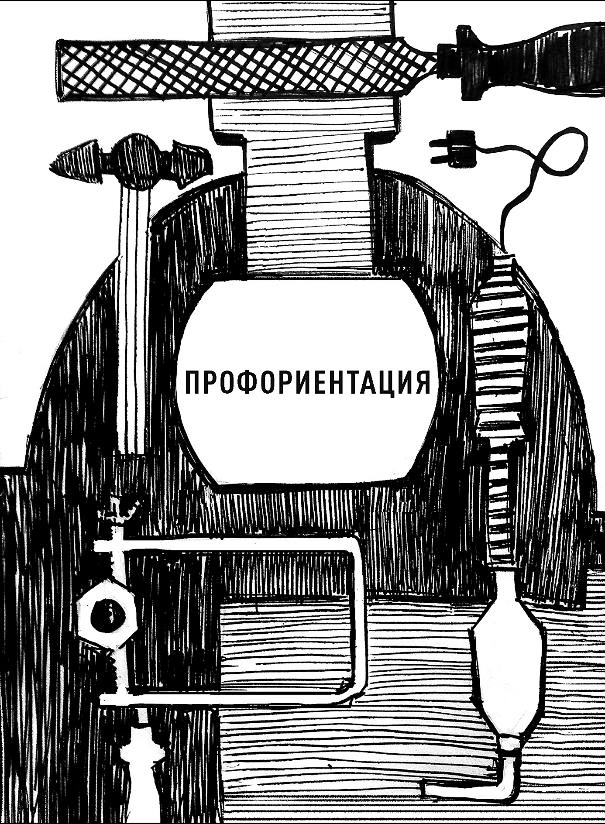
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
УРОК №1
Ужасы младшего студента
Что я делал на истфаке БашГУ — до сих пор для меня загадка (по крайней мере, до «экватора»). Год я вообще не понимал, как меня туда занесло, и находился в перманентном ужасе. Вроде домашнее задание не проверяют на каждом уроке. Но какие-то закорючки ставят в кондуит на семинарах.
На самом деле меня туда навострила учительница истории Сан Санна Миняева, супруга основателя знаменитой учительской династии Германа Константиновича [cм. «Университеты школы №49». — Авт.].
На фоне моих однокурсников, которые в школе запойно читали В. Яна, Ф. Энгельса, В. Костомарова, Б. Грекова и других, я был какой-то поверхностно нахватанный.
Мне было жутко неинтересно, кто кого воевал (это вообще тощища — ну армия этого двинулась туда, армия того заняла такой-то город), особенно не нравилось знать, где какая династия правила. И даже забавные казни Сыма Цяня не очень забавляли.
Знакомая по школьному учебнику и «Клубу путешественников» египетская древность оставила в голове ровно одно представление: царско-храмовое хозяйство. Типа, из-за Нила земля была до того плодородной, что людей надо было чем-то занять. Например, пирамидами. Там и сейчас со жрачкой хорошо, особенно с овощами, пять урожаев в год, разве что говядины маловато.

Любимое по «Айвенго» Средневековье оказалось беспросветным кошмаром про каких-то безземельных крестьян и совсем не про благородных любовников и рубак.
Любимая по легендам и мифам, персеям и гераклам Греция — «и ты, Брут!» — приобрела очертания в моём удивлённом мозгу лишь в середине нулевых, когда услужливый Голливуд начал визуализировать все эти сказочки, шутка ли: мама Александра Великого — Джоли, богиня хищной красоты. Самое интересное было, что во время просмотра этого кино про Античность я всё время знал, кто это на экране, какие у него ресурсы и повадки и что будет дальше.
В принципе, несколько курсов древняка и средняка можно бы заменить хорошими сериалами, типа Rome (HBO, 2005). Но с обязательным разбором полётов на «коллёквиуме». Общее ощущение от первого курса — я здесь по ошибке. Забоялся ехать в МГИМО. Ни черта не понимаю в том, что рассказывают на лекциях. Зябко в 215-й. Занимаю чужое место. Перестройкой тут и не пахнет: сплошные, беспросветные классики МарЛена.
Хотя конкурс был 4,5 на место, в моём 1990 году уже партийной, политической карьеры было не сделать. И основу курса составляли разночинцы, а не номенклатура. И были ребята, которым на самом деле было интересно про всяких меровингов и каролингов. И мне от этого вдвойне было стыдно.
История не давала ответа на вопрос: ну и что? Ну, было и прошло. Разве есть какие-то законы, цикличность?
Игнорируя всякие грюнвальдские битвы (1410 год?), басилевсы и северные царства, мозг всё же цеплялся кой за что. Например, за факты и суждения, обнажающие структуру, методологию, систему. То есть мне всё же нужны были правила, закономерности. Которых было крайне мало в безумной куче цифр, названий и имён, большинство из которых я потом тоже не слыхивал. Ну и чему учит история? Тому, что она ничему не учит.
На удивление было нечто для меня интересное в схоластических предметах (об этом особо — на следующем уроке) этнографии, хотя мне жутко не хватило филологических подходов в изучении народов и собственно запрещённой науки этнологии. Я даже законспектировал энгельсово «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и, найдя там некую методу, нанизывал на неё описательные, повествовательные предметы. Кроме того, внимание выхватывало всё, что связано с технологиями завоевания и отправления власти, пропаганды, поведением политических элит (как правило, вероломным, предательским, циничным и антигосударственным), и то, что связано с региональностью, царской властью и этнопсихологией. И это здорово пригодилось потом, при демонтаже региональной этнократической (как мне казалось тогда, на самом деле она была аграрной) тирании, которую идейно строили примерно такие же истфаковцы, как я. Но это — уже другая история. Ненаписанная.
Самое главное, что я с болью и кровью усвоил в первые два курса: если не хочешь погибнуть под завалами информации, — ищи систему, закономерность. Хотя как грюнвальдская битва повлияла на позицию Гильфердинга по поводу эстетики баухауса, я так и не понял, Иван Дмитриевич!
Второе самое важное: мы все ничтожные микробы, и нельзя ни из кого и ни из чего делать культ, поскольку всё проходит.
И третье: никому не верить. Ни либералам, ни демократам, ни консерваторам, ни тиранам. Вообще никому.
Четвёртое: ты для всякой современной политики даже не врач, а скорее патологоанатом. Поскольку и это пройдёт.
Только спустя много лет (а уже двадцать прошло, оказывается) я понял, что иного образования (широкого политического) мне и не нужно было особо. Здоровый докторский цинизм, приобретённый во время раскопки унылых косточек и щупанья нестрашных черепов, здорово помогает видеть за происходящим чуть большее.
И все остальные гуманитарные науки мне кажутся у́ же и схоластичнее, «болтологичнее». Там ведь меня никто не учил думать — типа, думай так, а потом вот так, и это называется «силлогизм». Просто вываливали то, что считали нужным, мне на голову так, чтобы я имел стимул и шанс приспособиться к переработке кучи, казалось бы, бесполезной информации.
Кто ж, кроме футуристов и фукуям, знал, что в XXI веке, ровно через пять лет после чуть не потерянного по пьянке диплома, этот навык — вычленять главное в любой куче «говн мамонта как исторического источника» — окажется самым важным в моей работе и жизни.
УРОК №2
«Барминизм» — вспомогательная дисциплина для юного историка
Я продолжаю публиковать-собирать в одном месте свои заметочки на полях интернета, разбросанные мной по нулевым годам. Тогда было очень туго в Башкортостане с письменной рефлексией (по крайней мере, на русском языке) — В отличие от сего дня не было ни открытых виртуальных площадок, ни живых пространств, ни аудитории, ни обратной связи.
Я писал эти и подобные заметочки тридцатипятилетним «политтаджиком» [профессиональное арго: гастарбайтером в области политтехнологий. — Авт.], сидя в Москве прямо на Садовом кольце, во время офисных дежурств, возникших из-за обширности нашей великой Родины, разделённой десятью часовыми поясами. Склонившись над Google map, я проливал слезу над маленькими и зачастую новодельными достопримечательностями нашей малой родины, над масштабными и наполненными свистом ветра в ковыле её пейзажами, скучая на «хорошей» московской зарплате клерка по тугому и тёплому степному ветру. Виртуальная угроза потери Башкирии так обнажила мою эмоциональную связь с ней, что счастье возвращения (уже в июле 2009 года) наполняет меня до сих пор.
Этот текст был опубликован в группе истфака БашГУ соцсети «ВКонтакте» в конце марта 2009 года, поскольку я выпускник 1995 года дневного отделения исторического факультета Башкирского государственного университета им. 40-летия Октября. Специализировался у доктора исторических наук, академика АН РБ Н. А. Мажитова, на кафедре археологии, древней и средневековой истории. Много читателей и отзывов не собрал из-за особенностей этой платформы, но те, кто отозвался, меня поощрили, вдохновили и обрадовали.
Публикуя его здесь, я некоторым образом рискую не угодить широкой аудитории нашими цеховыми и кастовыми делишками (ну кому интересно, кто кого за косичку дёргал, кроме непосредственных участников школьного флирта восьмидесятых, например), но смысл публикации — сохранение рукописи (клавописи), которая может учахнуть и быть потёртой вместе со всей подростковопиратской соцсетью.

Итак,
все истфаковцы БашГУ конца XX века н.э. так или иначе прошли через цикл предметов, объединённых на студенческом языке общим понятием «БАРМИНИЗМ». Преподаватель Зинаида Владимировна Бармина работала на «янгузинской» кафедре этнографии/истории Отечества советского периода (названия менялись год от года), вела в семидесятые-девяностые годы целый ряд очень лёгких и совершенно вспомогательных дисциплин. Встреча с этим преподавателем происходила если не в каждом семестре, то на каждом курсе, кроме пятого. Если не считать того, что в те времена на пятом курсе можно было подбирать хвосты и пересдавать тройки за первый — четвёртый курсы.
В результате её деятельности примерно 1/5 студентов дневного отделения исторического факультета (то есть один сборный курс, 75–90 человек) находились на грани отчисления (© И. Д. Чигрин, 1 сентября 1990 года). (Список предметов, которые преподавала ЗВБ в 1990–1995 годах, приведён в разделе «Справочная информация», см. ниже.)
«Барминизм» через страдание делает тебя посвящённым, членом тайной масонской истфаковской ложи. На истфаке принято гордиться мучениями, связанными со «вспомогательными предметами»: «Я семнадцать раз сдавал Бармину!» (© В. Завьялов, 1989–94).
Спектр эмоций, которые вызывают упоминание или воспоминания о Зинаиде Владимировне Барминой у бывших студентов истфака, широк: от ненависти до восторга. Её отношение к предмету, манера вести лекции и семинарские занятия, неподкупность и требовательность, отношение к студентам делали её своего рода становым хребтом исторического факультета в течение двух десятилетий. Несмотря на массу разговоров и реминисценции, «феномен ЗВБ» мало изучен. Она психологически выполняла функцию «злого сержанта», которому всё равно, «кем вы были в прошлой жизни». Одновременно сдача очередного «барминизма» — это своего рода квалификационный рубеж, отделяющий зелёного приготовишку от зрелого истфаковца.
Для историка предметы цикла «барминизма» были чем-то вроде ОФП для офицера милиции, который должен был не разжиреть при сидячей работе и находиться в тонусе в ожидании ежегодной аттестации. Ей было всё равно, каким секретарём какого партийного комитета является ваш дядя. На фляге бортевого мёда, четверти копчёного кабана и уже тем более на четырёх палках сыровяленой конской колбасы и бутылке кумыса к ней подъехать было тоже невозможно.
Руководство факультета, очевидно, понимало полезность такого эталонного в плане антикоррупции преподавателя и ссылалось на неё как на явление природы при разговоре с высокопоставленными родителями или покровителями очередного бестолкового студента. Более того, я уверен, что, например, Иван Дмитриевич Чигрин сам приложил руку к поддерживанию и раздуванию мифа «О великом и ужасном Суккубе Истфака».
Несмотря на все кошмары, которые рассказывались о ЗВБ, у меня, например, особых проблем со сдачей цикла её предметов не было. Ну, пару раз попересдавал библиографию. Всё-таки, как мне кажется, тут было больше народного творчества и тревожных ожиданий студней. Никаких необычных требований и зверств у неё в наше время не было. И назвать кого-то, кто поломался на «барминизме», я назвать из потока 1990–95 годов не могу. Надо ходить на лекции, участвовать в семинарских занятиях и немного всё-таки втыкаться в тему, а не откладывать всё на последнюю ночь. Бывали и покошмарнее преподаватели.
Инициацией являлся предмет «Библиография», который ввели не в первом семестре, как следовало бы с учётом того, что студент в начале первого курса приучается к библиотеке, а во втором. Видимо, руководство факультета опасалось, что немногие перваши смогут преодолеть встречу с феноменом ЗВБ с наскока. Или, испугавшись, разбегутся по мотострелковым дивизиям и вечерним отделениям.
На истфаке существует масса мифов, преданий и прочих неписьменных, нематериальных источников, которые раскрывают будущим поколениям сущность духа истфака, воплощением которого в семидесятые-девяностые годы, несомненно, являлась Зинаида Владимировна. Например, классические для студфольклора народные сказания поведали о журнале «Свиноводство», который на её домашний адрес выписывали студенты, премного благодарные за науку.
Существуют и предания о гробах и другом погребальном инвентаре, который якобы возлагался к её дверям мстительными двоечниками перед уходом на центральный сборный пункт Башвоенкомата. Есть эпос и о студенте, которому пришлось поехать в город-герой Москву, чтобы сдать зачёт Зинаиде Владимировне, которая в это время, разумеется, занималась в библиотеке (хорошо, что не в Мавзолее!) им. В. И. Ленина или в Центральном госархиве. Вот ещё одна быль: «Моему однокурснику (дело было гдето в 1986–1987 годах) пришлось идти сдавать ей зачёт на дом. Так она разговаривала с ним через дверную цепочку, а дверь так и не открыла, и он вынужден был стоять и отвечать на вопросы в подъезде» (препод.грок.ру).
«Туманно, туманно…» — эта характерная фраза З. В. Барминой, произнесённая на экзамене или зачёте, означала пересдачу. Не менее зловеще звучало и восклицание: «Лондонский туман у вас в головах, товарищи!»
Славилась З. В. Бармина и феноменальной памятью на лица и фамилии студентов, что делало жизнь прогульщиков предсказуемо тоскливой.
Сдать предмет барминистического цикла методом простой усидчивости и зубрения было трудно или почти невозможно. Случаи везения типа «получил зачёт автоматом» были нечасты, и рассказы о них передавались из уст в уста. Поэтому НИ ОДИН студент не чувствовал себя уверенно, переступая порог аудитории, где шла сдача «барминизма». Прагматичные студенты и особенно почему-то студентки делились, возможно, единственным «ключом» к сердцу строгого преподавателя вспомогательных дисциплин. Оказывается, Бармина ценила в студентах «изюминку» и «блеск глаз» при рассказе об одном из этих предметов, довольно схоластичных (по сравнению, например, с Древним миром в цветастом и образном герменевтическом изложении Е. А. Круглова) для ребёнка, выросшего на исторической беллетристике (были на истфаке дети, читавшие Энгельса в восьмом классе или загонявшиеся по рыцарям и половцам, но большинство составляли исторические пофигисты вроде меня).
Курс «Количественные методы» (или «мат. методы»), в котором излагались основы математической статистики, не без оснований считался вершиной «барминизма», постичь который гуманитарию, забившему болт на алгебру ещё в девятом классе, реальным не представлялось: «коэффициент корреляции», «двоичная матрица» — этими понятиями можно загнать в глубокий религиозный транс любого без исключения обитателя второго этажа главного корпуса БашГУ. Тем более что в применении колметодов в своей научной практике можно уличить ну о-о-очень редкого башкирского историка.
Сама Зинаида Владимировна обладала, без сомнения, блестящим образованием, полученным за пределами БАССР (кажется, она и С. Ш. Овруцкая учились вместе в каком-то историко-архивном вузе, а детство её прошло в г. Дзауджикау, так назывался в 1944–54 годы г. Орджоникидзе — ныне Владикавказ), развитым системным и абстрактным мышлением, что несколько вредило её коммуникациям и доступности изложения. Например, фраза: «Вы должны найти ответ на этот вопрос через Что-то, а потом через То-то в финале прийти к Такому-то выводу, чтобы понять То-то», — вгоняла аудиторию в летаргию. Не каждый уроженец Южного Урала мог проследовать за таким полётом абстрактной мысли.
Тем не менее, перманентно «плавая» в зыбком материале, который излагался З. В. Барминой, и под её влиянием студенты были вынуждены подключать незадействованные до сих пор мыслительные области мозга и имели шанс приобрести системное (более характерное для математика или философа-методолога) мышление, чётко различать, где объект, где субъект, а где предмет очередной науки.
Навыки «непочивания на лаврах», осознание своих крошечных масштабов над островами знания и пропастями незнания и понимание необходимости личного инструментария для просеивания терабайтов информации, полученных при встречах с этим звёздным преподавателем, безусловно, оказались полезны в XXI веке и составили основу для академического образования, которым, в принципе, может гордиться любой выпускник истфака БашГУ.
P.S. Список вспомогательных исторических дисциплин
2 семестр (зачёт): БИБЛИОГРАФИЯ [про то, как правильно оформляются биб. карточки в каталогах (надо писать «С. 178», а не «стр. 178»), что газеты и журналы — это периодически продолжающиеся издания, а название статьи от наименования издания надо отделять // двумя слэшами].
4 семестр (зачёт): ПАЛЕОГРАФИЯ [чем, всё-таки, устав отличается от полуустава, почему гады-летописцы писали одну букву над другой, а некоторые — вообще не писали, и куда девалась ижица, и в каком веке была в моде какая буквица].
5 семестр (зачёт): ХРОНОЛОГИЯ [она же «ХРЕНОЛОГИЯ» — про загадочное «вруцелето», пересчёт дат допетровского и юлианского календаря в наш григорианский, причём даты тогда писали буквами с титлом выше строки — или это палеография? в общем, там надо отнять тыщ пять лет от указанной в летописи цифры, и считать по костяшкам пальцев своей руцы лета и месяцы. Короче, раньше считали от сотворения мира, теперь — от Рождества Христова. И попробуй, чёрт, не сломай ногу обо всё это!].
7 семестр (зачёт): КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ [они же матметоды, про коэффициент корреляции, двоичную матрицу сочетаний, про медиану и частность (это типа контент-анализа), рассеяние статистических показателей].
7 семестр (экзамен): ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ [«верификация» и «кодификация» — это оттуда? Память блокирует всё, что связано с этим предметом; как говаривал Р. К. Хабибуллин, «не знал, да ещё и забыл»].
8 семестр (зачёт): МЕТОДОЛОГИЯ [объект, предмет, что изучает любая наука; в принципе, это раздел философской науки такой].
8 семестр (экзамен): ИСТОРИОГРАФИЯ [это три странички, которые должны быть в каждом труде, называются «история изучения вопроса», типа, кто чего уже успел по этой теме написать. «Кто не может делать историю, тот её пишет, а кто не может писать историю, тот пишет историографию, хи-хи-хи» (© доц. Лукиянов)].
Москва — Уфа, 2008–2013
УРОК №3
Мои некарьеры: препод, военный, лесничий, гроссмейстер, посол
Прочитал сообщение башкирского топблогера nehludoff про монолог Жванецкого, вспомнил, что тоже не стану каперангом и не выведу свою подлодку на «курс океан», «по местам стоять», «с якоря сниматься, рули на погружение, дифферент один, малый вперёд!» и зря учил азбуку Морзе, такелаж — как шкотовый от беседочного отличать, — потому что хриплым шкипером или даже шустрым юнгой уже не стать.
И впервые с детства-юности задумался, стал вспоминать, кем хотел быть и не стал. И надо ли было становиться. И был бы я счастливее или хотя бы полезнее, если бы стал, кем хотел стать в разные периоды времени. Я думаю, многие из тех, кто читает эти строки, не стали теми, кем хотели, и забыли даже думать. И я забыл. Сейчас вспомнил.
Офигенное занятие для очередного затяжного кризиса среднего возраста, которого не существует, но благодаря которому я впервые с детства начал считать себя человеком, достойным любви, внимания и признания моего права на существование. Хотя бы со стороны самого главного человека для человека — самого себя, как утверждает lj-user и психолог Марк re3 Сандомирский.
А я хотел быть…
Микробиологом, чтобы смотреть в окуляры, делать разные пометки и открытия. В одиннадцать-двенадцать лет получил в распоряжение на время настоящий микроскоп. Готовил препараты, знаю многие окружающие любознательного и быстрорастущего юношу, кхм… субстанции не понаслышке. Где сейчас наука России? За рубежом, правильно. Или в жопе. Удивите меня обратным утверждением.
Лесничим. Десять лет подготовки в школьном лесничестве. Думаю, курса тричетыре «Урмана» (не того, другого) мне можно засчитать. Рубка ухода, расчётная лесосека, непарный шелкопряд, буссоль Стефана, меч Колесова. Жил бы бобылём сейчас на кордоне. Сожительствовал бы с медведицей. Пил бы в лучшем случае отвары и настои, торговал бы лесом в Китай. Хорошо, что не пошёл. Хотя лес и зверушек люблю и жалею. И много посадил всяких кустов, деревьев в уфимских лесочках и на бульварах. Сотни.


Офицером сухопутных войск. Военным. Был очень правильный НВПшник, гвардии подполковник Григорий Мартьяныч Солдатов. По «гражданско-октябрятско-пионерско-комсомольской» линии меня из-за тихого голоса и склонности сомневаться в незыблемых вещах не особо продвигали, дальше политинформатора (собственно, чем-то похожим и занимаюсь) не растили. Мартьяныч чётко высмотрел во мне командирские замашки, которые я тщательно скрывал лет до тридцати семи (в том числе и от себя), и начал заряжать меня вместе с парторгом школы в какое-то общевойсковое командное. И чем больше мне лет, тем лучше понимаю, что пойдя по военной линии, я был бы какое-то время счастлив и, возможно, дослужился бы до лампасов.
Уф-ф! Неужели я это написал? Да ещё и публично. Хотя сам от себя скрывал стремление служить Родине в Вооружённых силах и желание принадлежать к офицерскому корпусу. Воевать. Ходить строем. Слушать и отдавать приказы. Заботиться о личном составе, чтобы все были сыты, одеты-обуты и веселы. Слуга Ельцину, отец Иванову, Петрову, Сидорову. Быть частью большой машины, которая всегда идёт в правильном направлении. И даже тогда, когда её гусеницы хрустят твоими костями.
Это было так далеко от семейных установок абсолютного пацифизма, либерализма и антитоталитаризма, привычного образа послушного и робкого малая-книгочея с плохой (по сравнению с одношкольниками, рядом ещё была СДЮШОР №10) физподготовкой, что даже в голове не укладывалось. Карточка огня, взаимодействие подразделений, количество пуль на погонный метр линии фронта. А мне нравилось. Но останавливало то, что в Вооружённых силах чем только в девяностые ни занимались, — но только не огневой, тактической, технической и прочей подготовкой! Ждать конца военной реформы не хотелось. Возможно, сорвался бы из профессии в девяностые, когда наступил бардак. Мне хотелось служить в Советской армии. В итоге — уже даже и не позорный «пиджак лейтенанта», запись в военнике «не служил», тяга к оружию, милитари и военные сны. Зато — жив, без особых пока разочарований, инвалидностей (тьфу-тьфу). У меня были в более зрелом возрасте варианты «служивой» карьеры, но я тогда заглянул в будущее и увидел раннюю персональную смерть. Физическую. Ощутил холод. Не пошел на службу. Живой, с тех пор прошло тринадцать лет — значит, всё правильно выбрано было на той развилке.
Дипработником. Изучил в детстве протокольную практику по книгам. Прочитал лет в десять-одиннадцать несколько раз учебник международного права про двухсотмильные зоны, правила объявления войны и конвенции против пыток и химоружия. Сломал языковой барьер, три школьных года занимаясь с вузовским преподавателем английским «по Бонку». Бегло говорил, нужно было примерно два-три дня погружения, чтобы выйти на хороший темп речи и бегло переводить с русского. Сейчас половина слов уже вылетела из ячеек памяти, а язык стал деревянным. Мне самому перестал нравиться собственный выговор, оттого зажат. Тогда бывали моменты, когда «думал на английском».
В одиннадцатом классе начал собирать документы, характеристики, но зассал (или честно оценил возможности?) ехать в Москву поступать в МГИМО без блата. Потому что второго шанса не будет, в армию заберут, а там дедовщина, и вообще, мама будет переживать. В плюсе — наличие в семейной биографии первого посла СССР в КСА и Йемене Карима «Красного паши» Хакимова. Я считал, да и сейчас считаю на его примере, что советский и российский патриот по воспитанию и убеждениям, мусульманин и татарин по происхождению очень бы пригодился державе для коммуникаций с арабскими и другими похожими странами.
Сейчас понятно, что широкая престижность кастовой профессии дипработника в СССР была основана на выездах за границу, подержанных иномарках и шмотье. Работа очень специфическая и нудная. Не для всех, если по-серьёзному, а не из-за чеков Внешпосылторга. Нормальных стран на всех не хватает. Годами держать позвоночник в тонусе… На Смоленке (накрайняк, Лубянке) редко вспоминают о твоей стране, а к тому моменту, когда вспомнят, она уже тебе опостылела. Забыл уже, где читал про тоскующих алкашей с синими паспортами. Но если хочешь сидеть в песках и жрать жареную верблюжатину, — есть более лёгкие способы. От пятисот долларов. Прямой вылет из МАП «Уфа».
Отработал карму дипломата, будучи два года собкором «Российской газеты» по Башкирии. Я так понял, что это примерно одно и то же. Свой среди чужих, чужой среди своих. Только отчётов побольше, да ещё все их читают в газете и визжат по утрам по телефону.
Кроме того, за кровную родственную связь с отцом, популярным и уважаемым в Татарстане и татарском мире журналистом, меня изредка тюкали в прежние времена в Башкирии. В основном — обижали недоверием. Иногда хватали за локоток и шипели в ухо, чтобы я «передал своему Шаймиеву» то или иное. Я удивлялся, поскольку не был с ним знаком и не имел связи, но отпираться было бесполезно.
Иногда даже щипали, чтобы досадить Шаймиеву, но в целом относились хорошо. Я почти не обижался, терпел. Ничего личного — только политика. Чем лучше, мудрее себя проявлю на службе, тем больше будут любить и уважать мой народ, говорил себе я. Тем более, что М. Ш. дела никакого до меня не было, о моём существовании он не знал и был от этого не менее счастлив. А я набирал опыт народного дипломата на своей нежной шкурке. Пережито. Навыки пригождаются. Метаться между молотом и наковальней, бегать между струйками — только за большие деньги, сам процесс не очень интересен.
Журналистом. Мне нравилась в этой профессии универсальность, доступ в разные интересные места типа заводов и фабрик. Отец меня везде с собой таскал, включая обкомы КПСС и режимные объекты. Я помню, как впервые содрогнулся в сладком ужасе, когда, шатаясь по Белому дому, мы натолкнулись на табличку «М. З. Шакиров». Тот самый, которого я видел только раз на День пионерии на стадионе «Нефтяник». Издалека.
На заводах мы общались с разными инженерами и передовиками, комсомольско-молодёжными бригадами про почин, рацухи и бригадный подряд. Я видел ряды девушек, которые срезали ножами наплывы с пластмассовой штамповки, темноватые цеха и токарные станки с ЧПУ, конвейер автосборочного КамАЗа, цех ложек БХО «Агидель» и табло позора «Они упрощают рисунки!». Здорово помогло в профориентации. Чтобы не идти на завод.
В общем, стал пишущим. И даже собкором органа ЦК КПСС, вернее, Совета министров. Ручкой чиркать в блокнотике лучше, чем лопатой в траншее, а по клаве клацать — легче, чем шпиндель раскручивать. Не правда ли?
Шахматистом. Шесть лет еженедельной пытки в школе. Чтобы сдержать слово, данное директору Герману Миняеву мамой. То ли мозг у меня по-другому устроен, то ли преподы попадались мизантропические, но играть толком так и не научился. Зато понял структуру «договорняков». Во время турниров за юношеские разряды можно было набрать на свой третий или четвёртый, а ненужные партии сливать за чики от импортного пива или за подыгрыш другу. Меня интересовало в этой игре всё: я знал партии гроссмейстеров, следил за игрой Карпов — Каспаров по газетам, но, видимо, не нашлось моего наставника, который бы сказал два самых важных слова об игре. Я счёл себя слишком тупым для шахмат и с тех пор доски чураюсь. Хотя страсть к просчитыванию многоходовок осталась. Чужих и своих. Может, из-за моей неудавшейся шахматной карьеры. Что это за профессия — «шахматист», сейчас знаю весьма относительно, сужу по нашим шашистам.
Думаю, если бы даже выковыряли меня из зажима, заставили поверить в себя, поставили на правильную дорогу, вернее, доску, я бы не знал, куда деваться с такой подготовкой. У кого-нибудь есть знакомые шахматисты-профи? Существует ли эта профессия?
Археологом. Из всех истфаковских кафедр мне глянулась археология, поскольку там люди были весёлые, свойские, заняты делом, выезжали в разведку на ГАЗ-66, обладали массой имущества, транспорта и куража. Знакомый миллионер девяностых уговаривал меня не тратить время на ерунду, заработать сначала, а потом копать что хочешь. Я только усмехался.
Мы катались по Башкирии и Челябе, пили портвейн, заедали бараниной и презирали матрасников и прочее турьё за то, что они бродят по природе безо всякой цели, для потехи. Без нормы, квадратов и лопаты штыковой. Намылся котелков и вёдер от горелых кашесупов, навалялся до одурения на сыром матрасе, пережидая дождь (по двадцать — тридцать дней были экспедиции!), приобрёл друзей на много лет. Но так и не понял связи между маханием лопатой (не зубной щёткой, уверяю вас, фанаты Индианы Джонса и прочей беллетристики) и научными достижениями. Видимо, потому, что был лишь частью чьего-то замысла, исполнителем чьего-то открытого листа. И потому, что мои интересы были всегда очень далеки от бронзового и железного века и даже — о Боже! — степей Евразии эпохи Средневековья.
Процедура увлекательная, но её результаты меня не интересовали вообще. Один раз «выстрелила» археологическая подготовочка, когда удалось в середине нулевых с коллегами поднять кипеж вокруг городища Уфа-2, которое начали срывать под кабминовский гараж. Памятник спасли. Ну, ещё тема Башстоунхенджа была.
Писателем. Это никогда не поздно, говорю себе я, — И не пишу очередную книжку, чтобы не выпадать из контекста так, чтобы не захотеть в него вернуться. Сейчас придумал, что нужен стол двухтумбовый зелёного сукна и кабинет домашний с лампой. Отговорки, понимаю. Но слишком много макулатуры вокруг издано — страшно заходить в книжные магазины.
Не хочу работать на полку. Или рано. Само напишется. Материала — полно. Считайте этот текст — тренировочным. Только ещё хочется дачу в Переделкино, пруд, как в фильме «Реальная любовь», или бассейн, как в фильме «Удачный год». Ну, ещё что-то из антуража. Пишмашинка уже есть.
Профессором. Культ учительства в семье царил. Иногда казалось, что преподаватели вузов — лучшие люди мира. А буковки к. ф. н. (философских, разумеется, не филологических) на визитной карточке виделись мне чем-то вроде Esq. на визитке британского повесы, отпрыска знатного рода. Д.и.н., соответственно, никак не меньше, чем Sir впереди имени. Хорошие буквы для соблазнения кадровых служб, говорили мне. («И девушек!», — отзывалось шкодливое жеребячье эхо внутри меня.)
Уверен, что это — из-за моих родителей, первые городские впечатления которых были связаны с образом профессоров. Тогда те ходили в галстуках и пиджаках, а не в свитерах с катышками. Читали лекции громогласным басом и даже представить не могли, что можно впаривать студням свои монографии по адским ценам, бухáть на кафедре и потом показываться на люди, плющить и сегрегировать своих питомцев по национальному признаку, брать мёд и мясо, лезть к студенткам. Кстати, у них (у студенток, не у профессоров!) и вправду есть стабильная привычка чётче обозначать глубину декольте, цветность макияжа и подчёркивать особенности организации конечностей по мере приближения сессии — проверено социологической наукой за два сезона в авиааспирантуре 96– 97 годов. Думаю, что из меня получился бы довольно неплохой типаж препода-душки. Иногда ловлю в себе тягу к наставничеству, и если вижу толкового парня или девушку, хочется их растить и растить, как растили иногда меня. Это, видимо, функция такая организма. Но тогда я довольно быстро понял, что занимаюсь не своей темой.
Мне хотелось быть ближе к результату, чем деятель науки и пестователь. Все тебя уважают и благодарят, ты совершаешь открытия со всклокоченными волосами и переворачиваешь мир с немного сумасшедшей улыбкой и светящимися глазами, тебе ставят огромные памятники, на которых рыдают и читают стихи олигархи и президенты — твои ученики. Но — лет через двадцать после внезапной смерти в чистенькой комнате общежития, хорошо, если в чужой, а не в своей.
Я сам не понял, как совершил первый в жизни поступок и, проводя соцопрос Алика Фаизовича Шакирова, попросился на работу в «Башинформ», был протестирован одной заметочкой и принят. А текст получился настолько в тему, что его Озеров в «Советскую Башкирию» поставил, да ещё ко Дню республики. А я даже не знал тогда, когда у нас День суверенитета, и никого, кроме Рахимова, по фамилии не помнил из местных властителей. В общем, жил как нормальный человек. А когда с осмотром в нашу комнатушку аналитиков агентства заглянул вице-премьер Кульмухаметов, я даже подскочил от торжественности момента. То был второй день работы.
Мне нравилось в вузовской системе многое, интеллектуальные и симпатичные люди, каждая беседа с которыми была мне как игра в теннис разрядника с мастером спорта, то есть — на повышение класса. Особенно нравились пережитки средневековой немецкой университетской демократии, чёрные шары, выборы декана и ректора, независимость и братство, взаимное уважение коллег и обращение к студням на вы, без хамства и ругани.
Но там было слишком комфортно для того, чтобы развиваться, и слишком далеко от реального воплощения научных задумок. Ушёл, и правильно сделал. Ближе к результатам, не хочу Коперником и Галилео. Но перед кандидатами и докторами наук немного комплексую. Вернее, радуюсь, когда вижу, что какой-нибудь чиновник ещё и диссер умудрился защитить, желательно самостоятельно и в юности. Но научная, преподавательская деятельность — только факультативно. Науки-то нет сейчас. Или я не там смотрю? в любом случае, пусть ею занимаются те, кто без этого не может жить, не стоило мне занимать чужое место.
Музыкантом. В 1980 году, в августе, мы с мамой ехали в пыльном «икарусе-гармошке» (или жёлтом ЛиАЗе одиннадцатого маршрута?) с автовокзала на Лесопарковую отдавать меня в школу, в первый класс. Давка, жара, я сидел на ступенях и теребил ремень от сумки. Какая-то тётя схватила меня за руки, начала перебирать и разглядывать пальцы и сказала маме, чтобы та обязательно отвела меня к ней на уроки пианино. Я был сильно против и торпедировал путём саботажа попытку сделать из меня ван Клиберна.
На прослушивании-отборе талантов по вокалу в школе нас выстроили рекрутеры в полутёмном актовом зале и сказали мне тогда исполнить фразу «маленькой ёлочке холодно зимой». Я старался, но голос был психологически зажат, вышло примерно так, как выходит в «Ералаше». Больше слушать не стали. А я смирился с тем, что искусству я неинтересен. Обнаружил голос (драматический баритончик) только на втором курсе, когда под влиянием бутылки коньяка я разжался и исполнил целый песенник «Наши песни», которых тогда издавали море. До эпохи караоке мой певческий талант не дожил, пятнадцать лет курения, не поставленное дыхание и респираторные заболевания помогли зарыть вокальный талант в землю. Один раз в десятилетие прорывается — видимо, когда нет других способов выпустить напряжение. Так было на корпоративе углеводородном, когда перед коллегами тогдашними и нынешними был повторён подвиг Сьюзан Бойл. Лет май пипл гоу!
Не знаю, как приводить себя в певческое состояние. Кроме одного способа, которым не хочу злоупотреблять. Являюсь меломаном. Хочу играть в ансамбле на ритм-гитаре, а лучше бас-гитаре, которыми обязательно овладею ближе к пенсии. Могу подпевать на иностранных языках и писать рецензии и тексты для обложек грампластинок. Монтировать клипы.
Социальным инженером. Году в 1986 моя мама, социолог, начала рассказывать про всяких фукуям и ещё про профессию такую, ненашенскую. Называется социальный инженер. Типа социолог, но практик. Может модифицировать поведение людей. Например, без напряга для них заставить говорить своими словами. Или прийти на избирательный участок и опустить бюллетень в урну. Или, как зомби, нажать на кнопку по команде «прошу перепоста!». В общем, я до сих пор толком не знаю, что термин «социальная инженерия» означал тогда и существует ли эта профессия сейчас и в каком виде. Но в душу мне она запала. Думаю о том, как отучить людей мочиться в лифте и срать в подъезде и получить за это никак не меньше Нобеля. В белый цвет, что ли, углы покрасить?.. Зеркала поставить?..
Перечислив несколько профессий, думаю, зачем же человека заставляют определяться с выбором судьбоносной деятельности именно в тот момент, когда он (за редким исключением) ни черта не понимает в том, чего он хочет, в семнадцать-двадцать лет. Да ещё в таком тупом возрасте.
Видимо, заложена какая-то схема, обыденному сознанию неподвластная. Есть же рабочие пчёлы и муравьи-солдаты и прочие генетические распределения ролей. Как люди находят призвание — не пойму. Это же как надо разбираться в психологии, рынке труда, чтобы найти правильное применение своим талантам!
А вы работаете по специальности?
А по мечте? и вообще, помните ли, кем хотели стать?
Счастливы в нынешней
профессии? Не пробовали ту профессию, о которой мечтали?
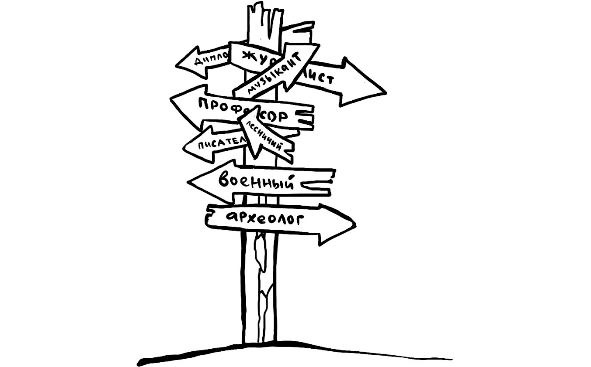
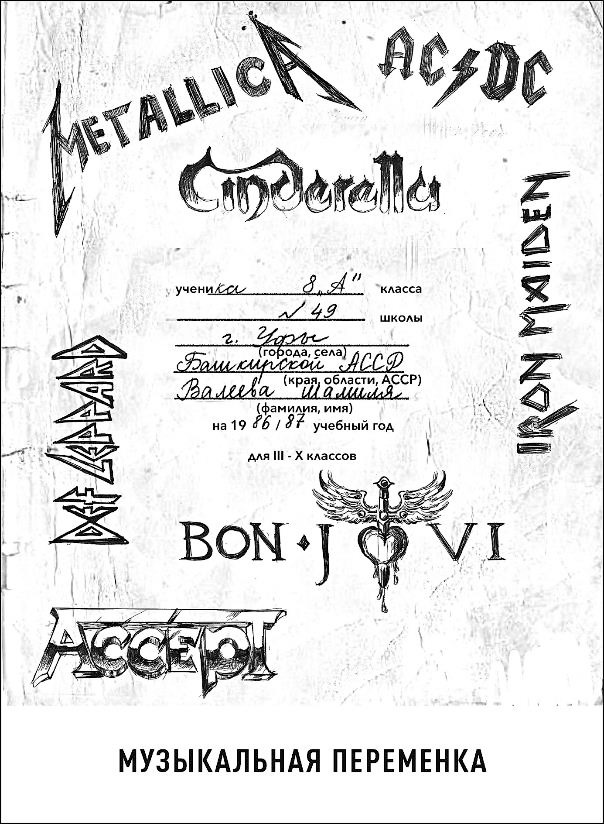
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
Урок пения в советской школе (76–82.ru)
«Пение» — один из «лёгких» предметов, который преподавался с первого по шестой или седьмой класс. В начальной школе он назывался «Пение», затем «взрослел» и в дневниках начинали писать «Музыка».
И действительно, в начальной школе дети большей частью разучивали песни, а в средних классах преподавались азы музыкального образования, которые, правда, не включали в себя нотную грамоту или игру на каком-либо инструменте. Исключением были учителя-энтузиасты (в основном, сельские), которые собирали школьные хоры, оркестры и ансамбли. Но это — В свободное от учёбы время. Часов на уроки музыкального воспитания отводилось мало — всего один урок в неделю.
Часто на занятиях приходилось заниматься далёкими от музыки вещами — например, записыванием под диктовку учителя текстов малоизвестных, но санкционированных песен. В зависимости от возраста репертуар менялся: от детсадовского «Мишка с куклой громко топает, громко топает…» до подросткового хита «Крылатые качели…», который, впрочем, разучивать не приходилось, поскольку его и так все знали из-за повального увлечения приключениями Электроника.
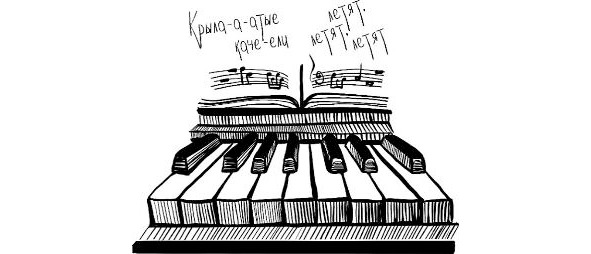
Отдельно стояли песни военных лет («Ночь коротка») и особенно Гражданской войны — «Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца…» или «Щорс идёт под знаменем, красный командир…», во время которой разрешалось постукивать костяшками пальцев по крышке парты, изображая ритм движения конницы — «тыгдым-тыгдым». Кроме того, в обязательную программу входили строевые песни, которые разучивались к общешкольным смотрам строя и песни.
В восьмидесятые годы была антивоенная патетика («Солнечному миру — да, да, да! Ядерному взрыву — нет, нет, нет!»), и, разумеется, гимн СССР разучивался во все годы и во всех классах.
В качестве уроков самой музыки как таковой школьникам, путём прослушивания пластинок в сопровождении рассказа учителя, класса с четвёртого преподавался классический оперный и балетный репертуар советских театров — «Риголетто» (игривое «Сеердцеее красаавицы склонно к измееене»), «Щелкунчик» (мультфильм на кинопроекторе) и, разумеется, «Лебединое озеро». На примере классического в педагогическом смысле, хотя и довольно сюрреалистического по звучанию произведения Сергея Прокофьева «Петя и волк», малопопулярного за пределами учебных классов, рассказывалось о выразительных средствах разных инструментов: «толстый, грубый, хищный голос у валторн (волк) и весёлый у струнных (Петя)».
Главный инструмент учителя пения — гармошка, как называли аккордеон по незнанию ученики младших классов, хотя в кабинете обязательно было пианино или даже гитара, на которой педагог мог играть только в личное время.
В старших классах ученикам рассказывали про «музыку рабов» — джаз, который появился после Гражданской войны в США из-за того, что освобождённые негры могли по дешёвке купить на распродажах инструменты ставших ненужными военных духовых оркестров.
Музыка — один из немногих предметов, оценка за который выставлялась задолго до окончания курса средней школы, после седьмого класса. А учитель пения — обязательный участник всех внеклассных мероприятий общешкольного масштаба. Его неизменно богатая мимика, кивки головой и движения бровей в качестве дирижёрской палочки всегда вызывали непреодолимый соблазн вслед за Электроником повторить: «Не надо «и…”!»
Впервые опубликовано в проекте www.76–82.ru
SIDE ONE
Гормональная несознанка
Недавно поймал на телеканале «Культура» первую в моей жизни чётко датированную передачу, которую я посмотрел, — «Песня-77».
Точно помню надпись «Песня-77» в овале в правом верхнем углу, это был декабрь, значит, мне четыре года и девять месяцев. Наверняка я смотрел ещё что-то, но этого не осталось в памяти. А в тот вечер собирали посылку дяде Рифкату на Байконур, куда он в ноябре ушёл служить срочную, и мы начали его ждать долгих два года. Точно помню, как тётя Айсылу обратила внимание на радиомикрофоны у певцов: из пластмассовых коробочек болтались какие-то шнурки-антенны. Получается, по крайней мере, читать я умел, раз прочитал слово «песня» и две семёрки.
Эту передачу я смотрел — страшно подумать! — сорок два года назад, в деревне Старокалмашево Чекмагушевского района, сидя на рыже-жёлтом полу в избушке о четырёх стенах 1952 года постройки (ей всего было двадцать пять лет), по чёрно-белому телевизору «Рекорд», который чинился хлопком по крышке и переключался плоскогубцами. И это было моё долгое-долгое, особенно зимними вечерами, детство.
А я уже понимал почему-то, что первая часть концерта будет скучной, официальной, «такой, как положено». А весёлую песню про клоуна Аллы или Софии Аратар (так называла эту вечную женщину бабушка), возможно, покажут в конце.
Уже были Shine On You Crazy Diamond, Kashmir, God Save The Queen, Rebel Rebel, Wish You Were Here. Но это было на другой планете.

Когда мне было двенадцать лет, летом 1985 года я впервые услышал запрещённую рок-музыку. Это была песня «Ё ма харт, Ё ма сол» на английском языке, которую исполнял на магнитофоне моих троюродных братьев Марса, Винера и Азата дуэт гитариста и композитора Дитера Болена и певца Берндта Вайтунга, более известного как Томас Андерс. Дуэт этот, как я легко перевёл, назывался «Современное разговаривание» и пел женским голосом о том же, о чём пела «Утренняя почта».
«Не так уж и страшен этот ваш хард-рок!» — подумал я, вспомнив профилактические беседы шефствующих комсомольцев, а также разные страшные рассказы о девочке, которая написáла на красном галстуке название эсэсовского ансамбля KISS с молниями вместо букв СС. А также в голову лезли рассказы о поедании кур и летучих мышей, разрываемых на части безудержными рок-музыкантами.

А ещё один третьеклассник рассказывал, что один рок-музыкант, чтобы прославить свою группу и сделать выступление как-то ярче, просто взял в экстазе своего рок-буйства немецкий автомат и дал очередь в толпу.
Ещё я слышал о старших братьях моего друга Руслана, которые где-то хиппуют со своими друзьями из двенадцатого дома и поют запрещённую песню на полупонятном языке: «А в поле, на квадрате, где все мои френды, торчит хиповый пипол…» (на самом деле — Uriah Heep — Lady in Black, там два аккорда, ля минор и соль мажор).
Но сам никогда не слушал запрещённую музыку по двум причинам:
— я был по-настоящему «сознательный», то есть такой, кто ведёт себя примерно, даже когда классная руководительница вышла из класса намочить тряпку;
— у нас дома не было даже радиолы, а просить маму купить «маг» за двести десять рублей при зарплате сто десять после партвзносов я не мог.
Я слушал в детской библиотеке «Аппассионату» и мог насвистеть всего Георгия Свиридова и Моцарта. Причём я умел, в отличие от всех, свистеть почти всю «Метель» с закрытым ртом, одним горлом, мелодия вырывалась из ноздрей, я сидел с невинным видом, а учитель-предметник дёргался весь урок, не понимая, откуда раздаётся вальс. В общем, всё шло к тому, чтобы я был ботаном, осознанным, в первую очередь, для того, чтобы прикрыть от вещистов-сверстников отсутствие музыкального оборудования. Это сейчас у меня стоит полный стэк Marshall JCM800 на 50 ватт немного выше, чем я.

Увлечение сладкоголосыми немцами было недолгим. В школе, после каникул, мне быстро растолковали, что надо слушать Паганини и Accept, который, кстати, базируется на классике и даже использует её в песне «Метал хеарт» (не забудьте послушать). Ещё есть группа «Ирон Майден», и ещё группа «Вертлявая, или Развращённая, Сестра».
Некоторые из записей и вправду были «фашистскими»: тогда перед песнями тяжёлого металла всё время были какие-то вступления, типа немецкого милитаристского марша «дойче зольдатен», «тра-ля-ляаа, тра-ля-ляаааа» и ещё мальчик, явно перед казнью, приговаривал «ай-ми-хайло-хайда». По рукам ходили страшные фотокартинки со скелетами, черепами крупного рогатого скота и мертвецами, переснятые с альбомов. Поскольку «мага» у меня так и не появилось, я не особо втыкался в то, что слушали ребята, но сеансы коллективного прослушивания «металла» не пропускал, когда во дворе двести третьего дома кто-то на теннисный стол вытаскивал кассетник.
Слышно было плоховато, но я уже различал завывание соляги, любимые и посейчас риффы ритм-гитары, уханье баса с бочкой и «кастрюльный перезвон тарелок» [© Ди Снайдер, «Курс выживания для подростков». — Авт.]. Мелодий в этом реальном грохоте и жужжании мне не очень хватало, слова через затёртую запись я еле различал. Но чувствовал себя сопричастным и кривился, если слышал какую-то попсу на публике. Хотя дома прыгал от радости, когда по телевизору в семь утра в ходе «музыкальной получасовки» включали какой-нибудь «Джой». Доживём и до настоящего рока, думал я.
В основном моя меломанская практика ограничивалась просмотром фотографий с патлатыми бестиями в лосинах и созданием на обложке дневника изображений логотипов разных групп, выполненных преимущественно в готическом стиле.
В один момент, на детской дискотеке в классе, кто-то из пацанов поставил под видом антивоенной советской песни (которой она, собственно и являлась) «Волю и Разум» группы «Ария» из альбома 1984 года. И начал под «в глубокой шахте который год таится чудище-змей» мочить металл. Эта музыка и хореография немного контрастировала с Боярским, которого только что слушали.
Костярин, ещё кто-то и Зондер вышли на середину круга и, припадая на колено, начали извиваться, как соло-гитаристы, держа воздушную гитару вертикально. Время от времени они делали синхронные наклонывыпады грифом к публике. И трясли пока ещё не очень длинными чубами. Это было захватывающее зрелище. Такие танцы были по мне, и я начал изображать воздушного ударника.
Феерия продолжалась недолго: тридцать подростков, скандирующих в тёмной комнате «Воляааа иииии разумм!», снаружи, наверное, показались Пражскими событиями шестьдесят восьмого года, которые силами дежурного по школе учителя были пресечены путём вырубания магнитофона и включения света. Это было мощное вторжение в разгорячённый подростковый мир! Ну как если бы кто-то вломился и включил свет во время сеанса коллективной мастурбации. Я видел удивление, досаду и разочарование на лице Музы Махмутовны, поскольку под адову музыку бесновались даже отличники, а не только колышники-троечники.
В это время я уже прочитал довольно много в журналах «Ровесник» и «Работница», которые печатали какие-то статьи и даже подкассетники с названиями групп и альбомов, а также рецензиями на некоторые из них.
Впоследствии информация была систематизирована в «Рок-энциклопедии» «Ровесника» Сергея Кастальского и книжке «Курс выживания для подростков» солиста той самой Twisted Sister Дениела Di Снайдера.
Там было много про разные Аэропланы Джефферсона, Кровь, Пот и Слёзы, Осколки Кораблекрушения и прочие Трёхсобачьи Ночи, которых я до сих пор так и не слышал почти, но это уже совсем другая история.
SIDE TWO
Мои рок-уроки
Я бы так и мыкался по чужим магнитофонам, если бы не подарок маминого коллеги, профессора Алексея Борисовича Курлова. Время от времени у меня появлялась служебная техника отца — он известен в интернете под ником rimzil, служил в то время собкором «Комсомольской правды», привозил иногда кассетники на время, и потом они исчезали. Это была шипящая «Электроника» третьего класса, которая пробыла у меня недолго, и высококлассный диктофон Marantz в кожаном чехле и с ремнём через плечо. Единственный его недостаток — он хорошо записывал, но плохо, то есть очень тихо, воспроизводил.
Иногда я ходил слушать музыку к дяде Оскару-Луису, в профессорскую «сталинку» на Революционной, который имел примерно «майбах» — двухкассетник Sony с наушниками Hi-Fi. Музыка там была попсовой, можно было приходить со своими кассетами, но только фирменными, Sony EF-90. Там я начал слышать модные тогда перекаты звука из правой колонки в левую и наоборот. И начал разбирать ушами распределённые по каналам инструменты: ненавистные клавишные и желательные гитары.
И вот в один из зимних вечеров я поехал в другую профессорскую квартиру, расположенную примерно там же, забирать предназначенный на выброс, видимо, проигрыватель грампластинок «Аккорд», судя по всему, изготовленный на заводе «Радиотехника». Он был тяжёлый и с двумя отдельными колонками. Довольно громкий.
В открывшемся ТЦ «Башкирия» в отделе грампластинок начали появляться пластинки русского рока, типа «Чёрный кофе». Я сначала купил миньон на четыре песни и заслушал его до дыр: «Чёрный кофе» и «Светки падающий глист». Группа эта, как и многое другое тогда, была весьма стрёмным коммерческим проектом Ованеса Мелик-Пашаева. Но мне очень нравилась — хотя с охотой я слушал лишь отдельные риффы и ритмические сбивки. Потом появился альбом группы «Круиз» с тремя нахохленными музыкантами. Мне они тогда казались верхом мастерства и звука, особенно многоминутные завывания в стиле Pink Floyd в начале альбома.

— Хватит слушать эти рулады, вот, возьми нормальных ребят! — сказала мне мамина подруга Светлана Михална Поздяева, профессор философии, и протянула мне несколько разноцветных конвертов. «Эмерсон, Лейк энд Палмер», The Alan Parson’s Project и прочий прогрессив вошёл в мою жизнь, оставив убеждение, что нормальная группа должна называться не меньше чем в четыре слова.
Светлана Михална в начале лета того же восемьдесят шестого, кажется, года, сводила меня в «Синтезспирт» на выступление группы «Арсенал» с Алексеем Козловым, которая тогда играла какой-то джаз-рок (не знаю, что это такое), но гитара шпарила нормально, как сейчас говорят, жирно. Я всё время искал ушами гитарный звук, который мне бы понравился. И не находил его нигде.
Появляющиеся бутлегерские переиздания знаменитых западных альбомов «Роллингов», «Цеппелинов», «Дом голубого света» «Дип Пёрпл», всякие Ингви Мальмстины звучали для меня слишком мягко, джазово или архаично.
Хорошая для меня музыка была у Шильнова, который где-то брал деньги и бывал на туче: пласты там стоили сто пятьдесятдвести рублей. Как целый маг. Как сто пластинок фирмы «Мелодия».
Видимо, их брали в качестве мастер-копий для перезаписи, которая давала обладателям кассетников доступ к любой музыке.
И когда он мне давал заслушать пласты на один-два прогона, я слушал их на полную катушку, поставив голову между колонок, водружённых на подушку.
Удивительным образом моя мама, выпускница сельской школы и отделения татарской филологии БГУ, приносила мне с зарплаты альбомы, которые и сейчас для меня непростые, развивающие. Это — So Питера Гэбриела, «Песни для Дреллы» Лу Рида и Джо Кейла, посвящённый умершему только что Энди Уорхолу, первый изданный альбом «Аквариума» с легализующим тридцатитрёхлетнего Гребня текстом Андрея Вознесенского на конверте. Я этот текст и альбом знаю почти наизусть.
Основным поставщиком информации стали для меня изящные музыковедческие эссе Д. Ухова на конвертах и передачи «Молодёжного канала» радио «Юность», особенно когда ведущим был Олег Гробовников.
До концерта Шевчука в «Юбилейном», отменённой «Арии» во Дворце спорта оставалось год-полтора, до «Назарета» в Уфе — лет десять, до a ha — лет двадцать, до Стинга, которого пригласил в Казань мой брат Денис, — лет двадцать пять, а до «Металлики» в Стамбуле — лет двадцать восемь…
SIDE THREE
Наслушивание мусора
Имея бооооольшую теоретическую подготовку, то есть зная по именам всяких исполнителей всякой музыки последних тридцати лет из журналов и передач, я наконец-то начинал с ними знакомиться лично, то есть аудиально, через пластинки. За некоторыми из них в соответствующем отделе ТЦ «Башкирия» было убийство. Например, за «Героем асфальта» «Арии» — первой безупречной музыкой в моей фонотеке — была очередь, и мне пришлось сбегать с какого-то урока, чтобы взять пласт за два пятьдесят.
Несмотря на ташкентское производство винила и тонкую обложку из газетной бумаги, мне было невтерпёж дождаться конца уроков, чтобы прийти домой и засунуть голову между колонок. Риффы «Арии» были полноценными, тяжёлыми, в отличие от стрёмной какой-то группы «Август», которая пела в стиле «глэм» с использованием стрёмного же синтезатора. Прослушивание на грани болевого порога давало возможность услышать скрипы пальцев гитаристов об навитую на басовые струны канитель и прочие призвуки, разбирать в уме отдельные партии, где там бас, где там ритм.
Но на один нормальный пласт приходилось десять пластов х**ты. Самый ад — это были говённые лайв-записи польского фестиваля «Металломания», изданные в грампластинке и продаваемые у нас как настоящие пласты. Польский рок должен умереть, а не иметь ценник в три рубля.
Отовсюду начало выползать отечественное безумное подполье городских фриков, говнарей и халтурщиков. Я ходил на какие-то фестивали в «Юбилейном», от которых до сих пор противно. Какой-то заезжий говнарь под адский скрежет там орал что-то социальное вроде «…поп марксистского прихода».
Слушать ушами это было ужасно. Но подростки собирались, и с какой-то случайной компанией я даже провожал курганскую группу «Майор Сергеев» на поезд после концерта. В качестве фирменной штучки они прикрутили к микрофону майорский погон с синими просветами. Солист группы, когда уже нечем было расписываться и не на чем, надкусывал на память фанатам шариковую ручку. Думал, что феномен курганского рока на этом был исчерпан. Но всё оказалось сложнее: улыбчивый лидер группы впоследствии натянул кепарик-малокозырочку и стал шансон-исполнителем Жекой, который продал Лепсу национальный алко-хит про рюмку водки на столе.
На волне интереса к тяжёлому року пытались прокатиться и комсомольские работники. К нам в класс пришла какая-то овца с химкой — белый верх, чёрный низ — И начала прогонять телеги про то, что они, в комсомоле, круче понимают в роке. И, видимо, нахватавшись с какого-то инструктажа, рассказала про некий «белый металл», «чёрный металл» и, особенно, «ржавый металл», пытаясь завоевать наше доверие и заодно подавить морально.
Но нас к тому времени на мякине было не провести — овца не смогла нам рассказать о своей классификации рока, да и сама выглядела как фанатка Софии Ротару. В общем, ретировалась, помахав хвостом, к себе в райком.
Чуваки загонялись по каким-то сепультурам, а я из-за отсутствия нужной техники корчил из себя сноба и эстета, постепенно втыкаясь в сложные заходы музыкальных новаторов типа Гэбриела и Гребня.
Через меня проходило много фрического шлака, типа «АВИА» и каких-то безумий типа песни о маргариновом зайце говногруппы — кол ей в грудину — «Тяжёлый день».
Среди них иногда были проблески типа группы «Э. С. Т.», но всё было такое сырое, недоделанное и тупое по исполнению, что через некоторое время я поставил для себя крест на совковом роке и был прав.
По прошествии многих лет я понял, почему не ладилось у них со звуком. Вот что пишет БГ под впечатлением встречи с Лу Ридом, у которого звук был как от взлетающего самолёта:
«…я искалечен советской властью. В том смысле, что я всё детство, всю юность и всю молодость был научен петь тихо, чтобы соседи не вызвали ментов. Поэтому я привык играть на акустической гитаре, а электрическая гитара мне чужда. Я очень люблю на ней играть, но двадцать лет привычки к акустике дают о себе знать. Тихо играть я умею очень хорошо, а громко на сцене у меня до сих пор не получается, я сразу начинаю играть, как Пит Таунсенд, не имея ни техники, ни задора к этому делу».
Гребень ещё после своих первых вылазок к Лу Риду разорялся в разных местах про хреновый аппарат, плохих музыкантов и звукачей и был прав. Ему повезло — Лу Рид собаку съел на гитарном звуке, у меня есть даже предмет гордости — утробно рычащий Soldano Reverb-o-Sonic 50 Вт, 2×12›.
Послушайте ещё раз Лу Рида и прочувствуйте, в чём сила данного комбика.
Здесь я должен сказать о звуке, который мне нравится. Как я понимаю, весь рок начался после того, как кто-то догадался соединить последовательно два ламповых гитарных усилителя. И звук у него случайно получился жирный, рычащий в басовом и среднем диапазоне и агрессивно, протяжно визжащий в районе седьмого — двадцать второго лада верхних по звучанию, самых тонких трёх струн.
Это называется перегруз, звук немного похожий на жужжание трансформатора. Он достигается с помощью усилителя, который, несмотря на название, не столько усиливает, сколько искажает звук, делая его рóковым. Ну, если этого мало, то в линию втыкают ещё разные педали, которые ещё сильнее искажают звук: фузз, овердрайв, дисторшн и т. д.
Если обращали внимание, то на концертах звук гитары снимают с помощью специальных микрофонов, тот, который получился на динамике комбоусилителя или кабинете стека (ну, это такая стойка из двух-трёх ящиков, на которых написано «Роланд»,
«Пивей» или «Маршалл»). Проще было бы обойтись без лампового барахла и играть прямо в пульт. Снимать звук с динамика микрофоном — всё равно по технологичности, что цифровым фотоаппаратом или сканером переснимать цветную плёнку вместо того, чтобы сразу снимать на цифру.
В чём же его секрет, этого «перегруза»? По моим наблюдениям, хороший, жирный рык примерно соответствует ощущениям внутри организма, когда надпочечники выбрасывают адреналин в кровь. У меня субъективно это проявляется в виде быстрых холодных мурашек-пузырьков, которые бегут внутри туловища снизу в направлении диафрагмы. Так вот — рык перегруженной гитары это и есть самое близкое, чему это ощущение соответствует и с ним резонирует.
Такого звука и того, что бы меня честно устраивало, тогда не было ни у кого, кроме «Арии», которая оказалась клоном Iron Maiden, «Металлики», альбом которой Master of Puppets меня просто захватил. И ещё в этом ряду был ДДТ, на концерт которого в «Юбилейном» я попал весной восемьдесят седьмого года. Там по обыкновению было несколько кордонов милиции и по двум билетам почему-то пропустили меня одного, хотя я пригласил с собой металлиста Зондера.
Пока мы продирались сквозь толпу, концерт уже начался, и он был такой, что бил прямо в грудь так, что разрывались лёгкие. Хотя я стоял совсем рядом с дверью, Шевчук и его саунд были таким мощными, что потрясали весь организм: «Революууууцииииия, тыыыыы, научила, нааааас, веееерить в неесправедливость добрааааа», — орал он. И я впервые всё слышал, до последнего инструмента и хрипа. А рядом какой-то рисковый пацан сидел в кресле с целым двухкассетником и писал концертный звук.
Хотя ДДТ мне уже приходилось слышать в записи, его концерт сделал меня окончательным фанатом Шевчука. А потом мне мама рассказала, что он раньше выступал в УАИ и вообще уфимский парень, чему я очень обрадовался.

В 1988 году, через год, я глазам своим не поверил: весной, в мартовской грязи на местах для афиш висели, переливаясь зелёным и красным, собственно афиши с невозможным текстом — «АРИЯ», которая должна была выступить в апреле во Дворце спорта. Воображение рисовало брандспойты и конную милицию. Было близко к этому, поскольку концерт перенесли по какой-то технической причине. И мы, во всех своих заклёпках и кожаных гейских восьмиклинках, ехали обломанные, но заведённые, на семнадцатом автобусе, скандируя разные песни и грубо посылая водителя, который для нас был олицетворением ненавистной власти, отменившей концерт. Мы его раскачивали изнутри, но перевернуться до «Спортивной» не получилось, а там уже все рассосались.
Концерт, кстати, состоялся чуть позже. Мы там мочили металл, а я размахивал свитером над головой, как машут флагами. На удивление концертная толпа была неагрессивна, обтекающа и солидарна. Кто-то сажал подруг (тогда девушек так и называли — «подруга») на закорки, остальные в партере бесились, играли на воздушной гитаре и трясли несуществующими хайрами, стараясь не задевать друг друга.
SIDE FOUR
Про альбомы и концерты
Хочу рассказать людям, которые недосматривают и один клип, про альбомы, которые можно было слушать. Ну, в них вроде как принято писать и рисовать, а тут — слушать. Да ещё почти час.
Удивительным образом я оказался в информационном пузыре времени и тоннеле, где вместо музыки стал шум из обрывков полупесен. Потратить сорок пять минут на «прослушивание музыки» — ну это надо или на концерт Оззи в «Олимпийском» сходить, или в паб, где крутят лайвы с концертов AC/DC.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.