
Бесплатный фрагмент - Кшесинская и Романовы. Жизнь в изгнании
Документальная повесть-роман


Имя Матильды Феликсовны Кшесинской в СССР и России долгие годы было больше известно благодаря её особняку, в котором в дни революции 1917 года обосновались большевики. В Белом зале этого дома В. И. Ленин произнёс свои знаменитые «Апрельские тезисы».
Но что же случилось с хозяйкой особняка? В этой книге рассказывается о судьбе Матильды Феликсовны после того, как ей пришлось бежать из своего собственного дома, чтобы спасти жизнь. Она была монархисткой, судьба которой была тесно связана с Императорским домом Романовых, а в эмиграции она стала законным членом Царской фамилии — женой Великого Князя Андрея Владимировича, внука Александра II и племянника Александра III.
Прима-балерина Матильда Кшесинская двадцать семь лет своей жизни посвятила балету в Мариинском и других Императорских театрах, имея звание Заслуженной артистки.

И уже с первых дней февральской революции ей было ясно, что жизнь её и сына Владимира, который являлся потомком Романовых, находится под угрозой. Ей приходилось скрываться в Петрограде в революционное время, а затем на Юге России — в дни гражданской войны. Когда стало ясно, что победа на стороне Красной армии, она вместе с другими беженцами из Российской империи отбывает в эмиграцию.
Как сложилась её судьба во Франции? С кем из русских эмигрантов она общалась? И как складывались её отношения с иностранцами? Об этом и будет идти речь в данной книге. Но также в ней рассказывается и о судьбах других известных российских эмигрантов, пострадавших от революции 1917 года — членов Императорского дома Романовых, знаменитых артистов, всех тех, с кем общалась Кшесинская.
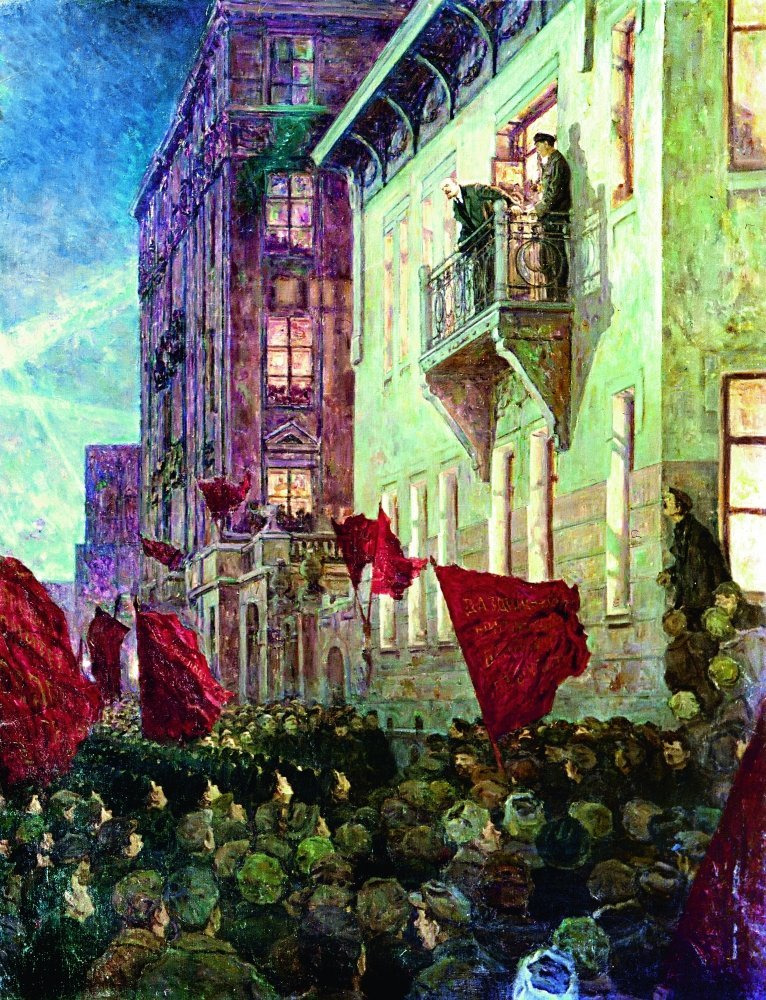
Часть первая. В революционной России

ПОСВЯЩАЮ МОИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
«Нельзя огулом хаять народ!»
А «белых», конечно, можно.
Народу, революции всё прощается, — «всё это только эксцессы».
А у белых, у которых всё отнято, поругано,
изнасиловано, убито, — родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сёстры, — «эксцессов», конечно, быть не должно.
«Революция — стихия…»
Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются.
А революцию всегда «углубляют».
«Народ, давший Пушкина, Толстого».
А белые не народ.
Русский писатель Иван Бунин.
«Окаянные дни».
Глава 1. Февральские беспорядки в Петербурге
Наступила зима. Светлейшая княгиня Романовская-Красинская, русская эмигрантка, а в прошлом Заслуженная артистка Императорских театров России — Матильда Кшесинская, старалась гулять в пасмурные дни по улицам Парижа середины двадцатого века, которые отдалённо напоминали ей февраль 1917 года в Петрограде. Какой тревожный и неспокойный выдался этот месяц! Особенно последние его дни. Матильда вспомнила, на каком месте заканчивались её мемуары. Ах, да! Она описывала свой последний приём в Петрограде в её известном особняке (французские туристы рассказывали ей, что теперь в нём расположен музей о большевиках).
22 февраля она дала обед на двадцать четыре персоны. А на следующий день, 23 февраля, экономка, как обычно бывало после больших приёмов, проверяла серебро, хрусталь и бельё. В это время один из служащих в доме прибежал взволнованный с улицы, сообщив, что по Большой Дворянской улице движется несметная толпа людей. Начались уличные выступления, чего все давно боялись и ожидали. Слава Богу, толпа прошла мимо дома Кшесинской. В первые три дня ещё все надеялись, что всё уладится и успокоится.
25 февраля в Александринском театре давался бенефис артиста Юрьева. И Матильда Феликсовна рискнула на нём побывать. Мейерхольдом был поставлен спектакль «Маскарад» Лермонтова. Как известно, режиссёр спектакля был новатором театрального дела, а артист Юрий Юрьев был её хорошим знакомым, поэтому Кшесинская несмотря ни на что решила посетить спектакль.
Юрий Михайлович Юрьев был ровесником М. Ф. Кшесинской. С 1893 по 1917 годы он был одним из ведущих актёров Александринского театра со званием Заслуженного артиста Императорских театров. Юрьев сыграл немало ролей классического репертуара. Заметный период его творческой биографии был связан с именем режиссёра Всеволода Мейерхольда. Он играл центральные роли в его постановках. И в свой бенефис играл роль Арбенина.
На улицах в этот день, на удивление, было спокойно. И Кшесинская благополучно проехала туда и обратно.

А на следующий день тревожно зазвонил телефон. Матильда сердцем почувствовала, что сообщение будет не из приятных. К ней уже который раз звонил полицмейстер генерал-майор Владислав Францевич Галле. Он предупреждал балерину, что положение в городе очень серьёзное. И ей нужно спасать имущество своего дома, пока ещё есть время. В течение всего дня Галле постоянно телефонировал Кшесинской и держал её в курсе всех событий дня. Всё-таки тогда он ещё думал, что всё успокоится, говоря:
— Матильда Феликсовна, будем всё-таки надеяться на лучшее, я думаю, что если нарыв лопнет, то наступит улучшение в политической обстановке.
«Его совет спасать, что могу из своего дома, пока не поздно, поставил меня в безвыходное положение. Когда я взглянула вокруг себя на всё, что было у меня драгоценного в доме, то не знала, что взять, куда везти и на чём, когда кругом уже бушует море. Мои крупные бриллиантовые вещи я дома не держала, они хранились у Фаберже, а дома я держала лишь мелкие вещи, которых было невероятное количество, не говоря уж о столовом серебре и обо всём другом, что было в доме», — описывала своё состояние Кшесинская, а ныне Светлейшая княгиня Романовская-Красинская.
На следующий день, 27 февраля, стало ясно, что никакого успокоения уже ожидать нельзя. С каждым часом в городе становилось всё тревожнее. Всё самое драгоценное, что попалось танцовщице под руку, она сложила в саквояж, чтобы быть готовой на всякий случай бежать из дома.
В тот вечер всем, кто был в доме Кшесинской на ужине, было не до еды: ей, сыну Вове, его воспитателю Георгию Адольфовичу Пфлюгеру и двум артистам балета — Петру Владимирову и Павлу Гончарову. Выстрелы стали раздаваться рядом с домом. Им стало ясно, что нужно срочно уходить, пока толпа не ворвалась в него…
Матильда нашла самое скромное из своих меховых вещей, чтобы не быть заметной на улице. Она надела бархатное пальто, обшитое шиншиллой, и накинула на голову платок. В это время её любимый фоксик Джиби смотрел на свою хозяйку огромными глазами, полными ужаса. Он почувствовал, что что-то случилось, все собираются уходить из дома, а его забыли! Кто-то из мужчин схватил его на руки, кто-то взял саквояж с драгоценностями. Был восьмой час вечера. Все выскочили из дома на улицу. Но куда бежать? И тут Матильда вспомнила про артиста Юрия Юрьева из их драматической труппы, у которого она на днях была на спектакле в Александринском театре. Он жил на этой же улице. Почему-то танцовщица была уверена, что он даст ей приют, хотя бы на первые дни. Так и случилось. Юрьев жил в самом начале Каменноостровского проспекта, в доме Лидваля, на пятом этаже, у самой крыши. Три дня, не раздеваясь, вся компания из дома Кшесинской, провела у него.
Фёдор Иванович или Иоганн Фридрих Лидваль был шведского происхождения, а в то время был российским архитектором. В Петербурге он строил доходные дома, банки и гостиницы (самая известная — «Астория»). В этом доме, который так и именовали «дом Лидваля», по Каменноостровскому проспекту, 1—3, построенном в стиле модерн с высокими большими окнами, архитектор проживал и сам до своей депортации в Швецию в 1919 году.


«Поминутно в квартиру врывалась толпа вооружённых солдат, которые через квартиру Юрьева вылезали на крышу дома в поисках пулемётов. Солдаты нам угрожали, что мы все головою ответим, если на крыше найдут пулемёты. С окон квартиры пришлось убрать все крупные вещи, которые с улицы толпа принимала за пулемёты и угрожала открыть огонь по окнам», — с ужасом вспоминала те дни Матильда Феликсовна.
Все люди в квартире Юрьева сидели в проходном коридоре, где окон не было, чтобы шальная пуля не попала в кого-нибудь случайно.
В эти дни люди из дома Кшесинской приносили им еду. Они почти все остались верны своей хозяйке, кроме двух женщин — экономки Рубцовой и коровницы Екатерины. Когда случился переворот, Катя стала красть вещи танцовщицы, и Матильду это не удивило, так как девушка была бедной крестьянкой.
Матильду глубоко поразило поведение Рубцовой. Её муж Николай Николаевич Рубцов был в Мариинском театре художником-декоратором, которого артисты хорошо знали и любили. Они с женой дружно жили и хорошо принимали людей в своём доме. Когда художник умер, то вдова осталась без всяких средств. Кшесинская взяла её в свой дом в качестве экономки, выделила для её семьи хорошее помещение в нём, где она расположилась с детьми. Покойный Н. Н. Рубцов любил играть в покер с артистами труппы. И в память его в этих играх за каждой игрой они стали откладывать сумму в пользу его вдовы. Ей выдавалась каждый раз после игры помощь. Таким образом, для того времени у неё накопилась громадная сумма — 20 тысяч рублей. И вот эта самая Рубцова, которой уделялось так много внимания в доме Кшесинской, первой предала её. Как рассказали люди из дома, она с распростёртыми руками встретила революционеров, сказав им:
— Входите, входите, птичка улетела.
«Это произошло на другой же день, что я покинула свой дом, и он был занят какой-то бандой, во главе которой находился студент-грузин Агабабов. Он стал устраивать обеды в моём доме, заставляя моего повара ему и его гостям готовить. И все они пили обильно моё шампанское. Оба мои автомобиля были, конечно, реквизированы», — с горечью записывала Кшесинская.
На третий день нахождения Кшесинской у Юрьева, её нашёл там брат Иосиф, а по-польски Юзеф, которого в семье все звали Юзя. Решено было перебираться в дом брата. Они взяли на руки собачку и пошли все пешком по городу. Все драгоценности пришлось оставить в доме Юрьева, так как нести по городу их было опасно. Тот день был очень холодный, дул сильный ветер. Они шли по Троицкому мосту и, казалось, что их сдует в реку, и они там замёрзнут. Матильда в своём тоненьком, лёгком пальто продрогла до костей. Наконец, они дошли до Литейного проспекта, где на углу Спасской улицы находился дом Иосифа Кшесинского по адресу: Литейный проспект, 38.
Когда Матильда вошла в квартиру, то разрыдалась! В её слезах вылилось всё, что накопилось за эти три дня. Ей столько пришлось пережить за это время! Больше всего она, конечно, боялась за сына. Боялась, что его отнимут у неё, хоть он был уже не маленьким, а подростком четырнадцати лет… К счастью, никто из революционеров не знал, где она находилась в это время. А солдаты, забегавшие в квартиру Юрьева, не догадывались, кто она такая. «А то судьба моя и моего сына была бы печальная», — думала спустя полвека Светлейшая княгиня Романовская-Красинская.








Глава 2. Тревожная весна 1917-го. Борьба за особняк
Матильда переехала к брату в канун своих именин — 1 марта. Но и здесь её не покидало тревожное чувство. Спокойствия не было. Приходилось постоянно прислушиваться к шуму на улице. Особенно страшно было тогда, когда из окна был слышен звук проезжавшего грузовика. Кшесинской казалось, что он сейчас остановится около дома, и начнутся обыски и аресты или ещё что-нибудь более страшное.
На второй день до Кшесинских дошла ужасная весть: Государь отрёкся от Престола. Ничего страшнее Матильда не могла себе представить. Эта весть казалась невероятной и не укладывалась в мыслях. Казалось, что всё это неправда, такого просто не может быть. Почему отрёкся? Что побудило его к этому? Позже пришла вторая грустная весть: младший брат Николая Второго Великий Князь Михаил Александрович тоже отказался принимать Престол. Это было страшно: все старые вековые устои рушились. А кругом начался беспредел: непонятные аресты, убийства офицеров на улице, грабежи и поджоги — кровавые ужасы революции…
В своих мемуарах «Театральная улица» о революционных днях вспоминала балерина Тамара Карсавина. В начале февраля она уехала на гастроли в Киев, где и узнала позднее о событиях в столице: «…до меня впервые дошли слухи о революции в Петербурге. В течение трёх дней не было ни поездов, ни телеграмм. Когда связь была восстановлена, мы узнали об отречении императора». Дальше она продолжала: «Я вернулась из Киева среди ночи — вокруг ни единого экипажа, ни одной живой души. Город охраняла новая милиция. По дороге домой меня несколько раз останавливали — вежливо просили предъявить документы. Это были в основном студенты, странное сочетание гражданской одежды и винтовки на плече.
Утром из окна открылся новый вид. Напротив стояло здание тюрьмы. Я всегда восхищалась красотой его пропорций и двумя фигурами коленопреклонённых ангелов над воротами, теперь оно было искорёженное огнём, практически остался только остов. Дуняша [домработница] рассказала мне, что наши оконные стёкла даже раскалились от огня.
Поджигали тюрьмы, арсеналы, суды. Разрушили и несколько частных домов; разграбили дома министра двора и Кшесинской».
Однажды дворник Матильды позвонил в квартиру брата и сообщил ей, что её дом начинают грабить. Сама она ехать туда опасалась. Поехали сестра Юлия и танцовщик Мариинского театра, её молодой партнёр, Пётр Владимиров, чтобы узнать, в чём дело.
Они приехали и позвонили у парадной двери. Это было в начале марта, когда дом Кшесинской занимал солдатский комитет мастерских запасного автобронедивизиона. Им открыл солдат с винтовкою в руках. На вид он был разнузданным, но принял их нормально: предложил пройти в дежурную комнату и пригласил сесть, а затем спросил, что они хотели узнать. Юлия сказала ему, что они получили сообщение, что имущество дома разграбляют. Он стал показывать пришедшим всё, что было в доме. В столовой на полках ещё стояли золотые чарки Матильды. Солдат рассказал им, что городская милиция вывезла какие-то ящики в дом Градоначальника. В то время им был пятидесятилетний Балк Александр Павлович. Владимиров тут же позвонил ему. Градоначальник попросил сестру Кшесинской заехать к нему.


Владимиров поехал в другое место — в театр-варьете «Аквариум», который располагался вблизи дома Кшесинской — на Каменноостровском проспекте.
Сначала здесь был только ресторан «Аквариум», открывшийся в 1886 году. В нём был настоящий уникальный аквариум с рыбами. Живность для него приобретало Общество естествоиспытателей и рыболовства. Затем, в 1891 году, к ресторану пристроили театр на две с половиной тысячи мест. В нём звучали и оперетта, и настоящая опера. Среди посетителей театра «Аквариум» был когда-то и Пётр Ильич Чайковский. Здесь выступал в былые времена симфонический оркестр из пятидесяти пяти музыкантов. Гастролировала красавица Наталина Кавальери, певица, которая заезжала оттуда в гости к Матильде Кшесинской. Наряду с серьёзной музыкой в театре-варьете «Аквариум» давались и развлекательные программы. Здесь можно было увидеть выступления иллюзионистов, дрессированных собачек, акробатов, французских шансонеток. Иногда проводились и конкурсы красоты… А в мае 1896 года именно здесь прошёл первый в России киносеанс: публике продемонстрировали «движущуюся фотографию» братьев Люмьеров.
Солдат, который дежурил в доме Кшесинской, обмолвился, что кое-что из вещей балерины забрали в этот театр, с чем и поехал разбираться Владимиров.
А Юлия села на проезжавшие мимо дровни и, стоя, доехала до дома Градоначальника. Он любезно принял её в своём кабинете и внимательно выслушал. Открыв ящик своего письменного стола, Балк вынул венок — подарок балетоманов танцовщице — и спросил:
— Вы знаете эту вещь?
Юлия, конечно, узнала венок. Затем он повёл её в другую комнату, где стояла груда ящиков. Они были вывезены из дома Кшесинской. Александр Павлович обещал Юлии Феликсовне, что он примет меры к тому, чтобы вещи в доме Кшесинской никто не разграблял. Но, в конце концов, исполнить своё обещание не смог, так как совсем скоро эту должность заменили другой, и прежний градоначальник оказался не у дел. (Руководить городом с марта по сентябрь 1917-го года стал председатель исполкома Петросовета меньшевик Чхеидзе Николай Семёнович). Правда, золотой венок и ящики с серебром балерине позже вернули.
Некоторые вещи Кшесинской удалось спасти Арнольду — дворецкому из её дома. Их вместе с золотым венком Матильда Феликсовна сдала на хранение в Общество взаимного Кредита, которое располагалось на Невском проспекте. А одиннадцать ящиков — в Азово-Донской банк на Большой Морской улице. Его директором был сосед по дачному имению в Стрельне — Каменка Борис Абрамович, которому в то время было чуть больше шестидесяти лет. Они были в дружеских отношениях, и, может быть, потому он постарался так запрятать ящики Кшесинской, что уверял её позже в эмиграции, что их никогда не найдут. Он ещё тогда надеялся, что они вернутся в Петербург, и танцовщице всё будет возвращено. У Матильды Феликсовны до конца дней хранилась расписка банка в принятии на хранение этих ящиков. (Можно добавить, что и почти через столетие после этих событий, экскурсоводы будут рассказывать гостям Санкт-Петербурга, что драгоценности Кшесинской до сих пор не найдены!).
Магазин Карла Густава Фаберже находился на Большой Морской, 24. Здесь хранились самые дорогие и крупные драгоценности Кшесинской. После переворота семидесятилетний Карл попросил её забрать их себе, так как ожидал обыска и боялся, что все драгоценности у него конфискуют. Так вскоре и произошло, а престарелому ювелиру, родившемуся в Санкт-Петербурге, пришлось осенью 1918 года тайно уехать за границу и закончить свою жизнь в Швейцарии. Он постоянно бежал от революции: сначала в Ригу, затем в Германию, где сменил несколько городов, а когда здоровье ухудшилось, то семья перевезла его в окрестности Женевского озера — город Лозанну. Здесь он жил остаток своей жизни с мая по сентябрь 1920 года. До конца своих дней Карл Фаберже не мог оправиться от потрясших его событий, он часто повторял: «Жизни больше нет».
Собрав все свои драгоценности, которые удалось взять из дома, Матильда поехала на Фонтанку. Там уложила их в особый ящик установленного размера, и сдала на хранение в Казённую Ссудную Казну. Кшесинская умышленно уменьшила стоимость драгоценностей, чтобы меньше заплатить денег за хранение: в то время у неё не было средств, чтобы платить много. Директор Ссудной Казны был этому удивлён, сказав балерине:
— Ведь здесь драгоценностей на несколько миллионов!
Была составлена бумага, по которой кроме Матильды могла вынуть ящики только её сестра баронесса Юлия Феликсовна Зедделер.
Матильда Феликсовна также вспомнила, что в те первые дни, когда покинула свой дом, её разыскал знакомый офицер Берс. Его только что назначили Комендантом Петропавловской крепости.
— Матильда Феликсовна, я предлагаю вам с Вовой переехать для спокойствия в Крепость, я выделю в ней для вас отдельные комнаты, — предложил он.
Но Матильду это предложение ужаснуло: сидеть в крепости?! Она очень выразительно посмотрела на офицера. На что он сказал:
— Зря вы боитесь. Там вам будет спокойнее. Крепость оградит вас от разнузданной толпы.
Матильда слегка задумалась. А потом ответила:
— Благодарю вас за заботу. И всё-таки я не рискну. А вдруг случится новый переворот? И поставят нового коменданта? А про нас с сыном забудут?!
Комендант пожал плечами: мол, время непредсказуемое — всё может быть. Кшесинская в этом вопросе была права. После октябрьской революции большевики назначили комендантом Петропавловской крепости взяточника, грубого и вечно пьяного солдата Павлова. Он был из тех солдат, которые были развращены агитацией большевиков, их злоба на находящихся в крепости людей была абсолютно бессмысленна. Они даже подчас не разбирались в тех словах, которые произносили, обвиняя людей в том, что было очень далеко от правды. Павлов до революции служил обыкновенным солдатом в канцелярии, и, став начальником, в нём проснулись дикие инстинкты самодура, желавшего показать людям свою власть…
«Но всё-таки нужно обратиться к кому-то в поисках защиты», — подумала Матильда. Она вспомнила про адвоката Николая Платоновича Карабчевского, который был в хороших отношениях с Керенским.
Керенский Александр Фёдорович был на девять лет младше Кшесинской. Он был юристом и русским политическим деятелем. Когда Александр Фёдорович был присяжным поверенным, то прославился защитой политических подсудимых. После Февральской революции Александр Фёдорович совмещал посты заместителя председателя Временного Комитета Думы (предшественника Временного правительства) и заместителя председателя Петроградского Совета.
Кшесинская вспомнила, что когда давали спектакль в адвокатском доме, то Карабчевский сам предлагал Кшесинской свою помощь:
— Убейте кого-нибудь, я буду вас защищать, и вас оправдают, — заявил известный в Петербурге адвокат балерине.
И Кшесинская подумала, что, хоть она никого не убивала, но, кажется, настал момент, когда ей была просто необходима его защита: Кшесинская находилась в очень трудном положении.
«Я позвонила Карабчевскому по телефону в полной уверенности, что он мне поможет и замолвит за меня слово у Керенского, чтобы меня оградить от неприятностей. Но результат получился совершенно неожиданный», — продолжала вспоминать балерина.
Николай Платонович ответил:
— Вы же понимаете, Матильда Феликсовна, что Вы — Кшесинская, а за Кшесинскую в такое время хлопотать неудобно…
Дальше он продолжал в таком же духе. Но танцовщица слушать его не стала, резко повесив трубку… «Да, верно говорит пословица: друзья познаются в беде…» — подумала она.
Но ничего, выручали другие люди — преданные ей. Вскоре, на счастье Кшесинской, к ней заехал Крымов Владимир Пименович, который издавал известный журнал «Столица и усадьба. Журнал красивой жизни», и был его редактором. Его очень ценила Матильда Феликсовна, как умного и талантливого писателя и журналиста. Журнал выходил в Петербурге в 1913—1917 годы. В нём регулярно помещались фотографии интерьеров особняка Кшесинской на Большой Дворянской улице. Крымов был, в отличие от таких, как Карабчевский, искренним человеком с непоколебимыми воззрениями, которые не изменились и после переворота. Он часто бывал раньше в доме Кшесинской и был знаком с Великим Князем Андреем Владимировичем. Андрей его тоже ценил и уважал за его ясный ум и доброе отношение к ним. Владимир Пименович, узнав от Матильды, в каком она находится положении, сказал:
— Так, Матильда Феликсовна, берите ручку и пишите сейчас же письмо Керенскому! Я буду диктовать…
Написав письмо, они тут же поехали в Министерство Юстиции (с марта по май 1917 года А. Ф. Керенский был министром юстиции, а также военным и морским министром) и отдали конверт, указав в нём адрес нахождения в данный момент Кшесинской и номер телефона. Как только они вернулись домой, тут же прозвенел звонок. Матильда Феликсовна подняла трубку телефона. Это говорил сам Керенский. Он был очень любезен с балериной и обещал оградить её от всяких неприятностей. Дал номер своего телефона, чтобы Кшесинская звонила немедленно лично ему, в любое время дня и ночи, если нужна будет его помощь. Такое отношение Керенского к ней глубоко тронуло Матильду Феликсовну: ведь она его лично не знала и никогда в глаза не видела, он её — тоже. После разговора с Карабчевским это особенно обрадовало танцовщицу. И она почувствовала, что у неё есть поддержка, и всё не так страшно. Появилась какая-то почва под ногами.

Михаила Александровича Стаховича, большого друга и поклонника балерины, который в былые времена не пропускал ни одного её спектакля в Мариинском театре, назначили от Временного Правительства Финляндским генерал-губернатором. В годы Первой мировой войны, с 1914 до самого её окончания в 1918 году, он был также уполномоченным от Красного Креста на Юго-Западном фронте. В 1915 году Михаил Александрович был избран от Государственного Совета членом особого совещания по обороне и входил в состав Прогрессивного блока. Стахович заехал к Матильде Феликсовне и спросил, чем он может помочь, чтобы облегчить её положение. Его забота, конечно, была приятна Кшесинской.
Ещё одним верным другом оказался Александр Дмитриевич Викторов из Красного Креста, с которым они ездили на фронт раздавать подарки солдатам. Его Кшесинская попросила привезти свой саквояж с драгоценностями из квартиры артиста Юрьева. Ей очень хотелось дать ему ещё одно поручение: принести спрятанную там последнюю фотографию Ники (Николая Второго) с его подписью. Когда Матильда покидала свой дом, то взяла её с собой, но, уходя от Юрьева, положила фото в какой-то иллюстрированный журнал, который лежал в его квартире на столе. Она думала, что во время обыска там её не станут искать. Сама же она боялась брать карточку с собой, так как это было очень опасно: ведь подпись Царя была предназначена именно ей. Викторова она тоже боялась подвести, и поэтому ничего ему не сказала про фото. Кшесинская с волнением ждала возвращения Александра. Он вернулся с каким-то солдатом, который нёс её саквояж. Солдат ничего не знал о том, что находится в нём. А Викторов счёл, что так будет безопаснее, если нести его будет простой солдат, на которого никто не обратит внимания, к тому же, ему тяжело стало нести саквояж. Солдат был совсем незнакомый — встречный, а Викторов Александр тоже носил военную форму, похожую на солдатскую, и он принял его за своего. Так благополучно был доставлен саквояж с драгоценностями балерине.
Но всё-таки Кшесинская ещё надеялась на то, что у брата она живёт временно, а в скором времени дом ей вернут. Однажды она решилась одна поехать в Таврический Дворец, чтобы хлопотать о нём. Ей хотелось освободить свой особняк от захватчиков, и лучше передать его какому-нибудь посольству, чем оставить им. В Таврическом Дворце с 1906 по 1917 годы проходили заседания Государственной Думы. Но уже с 28 февраля 1917-го там начал работу Петроградский Совет РСДРП (б) — партии большевиков.
Во Дворце она бегала по комнатам и огромным залам и искала лицо, от которого зависел этот вопрос. Её куда-то водили люди, находившиеся во Дворце. Кругом было грязно и накурено, на полу валялись какие-то бумаги и окурки. Балерину окружали ужасные напыщенные типы с деловым видом. В одном из кабинетов на высоком табурете, закинув нога на ногу, сидела соратница Ленина Александра Коллонтай с папиросой в зубах. На столе перед ней стояла чашка с чаем или кофе.
Наконец, человек, которого она искала, нашёлся. Он был приличного вида. Сказали, что это — меньшевик. Фамилия его была какой-то «белой»: не то Белявин, не то Беляевский. Он выслушал Кшесинскую, и тут же поехал с ней в её дом, чтобы помочь ей.
Когда Матильда Феликсовна вошла в свой дом, то её обуял ужас! Во что же его успели превратить за такое короткое время! Чудная мраморная лестница, которая вела к вестибюлю и была покрыта красным ковром, была завалена какими-то книгами, которые разбирали незнакомые женщины. Оказывается, в середине марта, в дом Кшесинской из Таврического дворца переехали Петроградский комитет РСДРП (б) и его Военная организация. И они только располагались в доме танцовщицы. Когда Матильда Феликсовна стала подниматься по своей лестнице, то эти женщины накинулись на неё, говоря, что она задевает их книги. Кшесинская не выдержала и возмущённо сказала:
— Между прочим, это мой собственный дом! И я могу здесь ходить так, как хочу!
Они удивлённо посмотрели на балерину. Человек из Таврического Дворца провёл Матильду Феликсовну в нижний кабинет и любезно предложил сесть в её любимое кресло, где она раньше часто сидела. Сопровождающий спросил у какого-то приличного солдата, почему они так задерживаются в этом особняке. Он, молча, показал на угловое окно, из которого был виден Троицкий мост и набережная. И дал понять, что для них это очень важно: удобное место для наблюдения за мостом и возможного его обстрела. Матильда Феликсовна поняла позже, что в её доме находились большевики, которые готовились к новому перевороту.
Её проводник предложил Кшесинской позвонить в тот дом, где сейчас жила, по телефону, и предупредить родственников, где она в данный момент находится. Она вызвала квартиру брата Юзефа и поговорила с сыном Вовой. Говорила уверенно, успокаивая сына, что вокруг неё хорошие люди, и что с ней ничего не случится.
Потом ей позволили подняться в её спальню. Здесь картина была ещё ужаснее: дорогой красивый ковёр, который Матильда заказывала в Париже, весь был залит чернилами! Всю мебель из спальни вынесли вниз. Остался один хороший шкаф, из которого вырвали с петлями дверь и вынули полки. Теперь там стояли ружья… Кшесинская поспешно вышла: слишком тяжело было ей смотреть на всё это варварство. Рядом, в уборной Матильды, была ванна-бассейн, которая теперь стояла, вся наполненная окурками!
Она стояла удручённая увиденным. И в это время к ней подошёл студент Агабабов, который первым занял её дом. И предложил обратно переехать в него, как ни в чём ни бывало: как будто теперь он был хозяином её дома! И жить вместе с ними. По доброте душевной он обещал уступить хозяйке две комнаты сына. «Боже! Какое нахальство! Верх нахальства!», — подумала Матильда и промолчала.
Не менее отвратительной была картина и в нижнем зале: рояль знаменитой берлинской фабрики Карла Бехштейна зачем-то втиснули в зимний сад между двумя колоннами. Этим они были сильно повреждены.
В доме ещё находились некоторые люди Кшесинской. К ней подошёл старший дворник. Он рассказал ей о судьбе её белого голубя:
— В тот день, когда Вы, Матильда Феликсовна, покинули дом, Ваш белый голубь выпорхнул в окно и больше не вернулся…
— Как? Ведь он прежде каждый день вылетал и сам вечером возвращался ночевать в зимний сад! Он же привык там жить…
Дворник пожал плечами, а Кшесинская подумала: «Наверное, какой-то инстинкт заставил его покинуть дом вместе со мной…»
«С тяжёлым сердцем вышла я снова из своего дома; с такой любовью построенный, вот во что он превратился…» — с горечью записала она в мемуарах.
Матильда Феликсовна сидела за письменным столом и грустила. Как она любила свой особняк в Петербурге! Говорят, что он стоит до сих пор и внешне очень хорошо выглядит. Ещё бы! Он был так добротно построен! А внутри всё перестроили. А тогда, в 1917 году, в Вовиных двух комнатах — детской и игровой с балконом, куда так любезно приглашал её «новый хозяин» Агабабов, обосновался позже, в апреле, сам вождь пролетарской революции — Ульянов-Ленин. Именно с этого балкона он и выступал перед людьми. А потом, кто-то из туристов из Франции рассказывал Матильде Феликсовне, что сделали в них его мемориальный кабинет…
Матильда Феликсовна взяла в руки книгу своей «Таточки» — Тамары Карсавиной, и стала читать в ней о том времени, о котором писала: «Я помню вечер благотворительного спектакля — небольшая группа седовласых изнуренных людей сидела в царской ложе. Это были старые политзаключённые, пару месяцев назад возвратившиеся из Сибири. Теперь отдавали дань их мученичеству. Но наступила вторая фаза революции, и они оказались смыты новой волной и превратились в посмешище. Эта фаза покончила с оптимизмом. Фронт был прорван, дезертиры хлынули домой; дезорганизованные солдаты заполнили поезда — они ехали на крышах вагонов, цеплялись за буферы. Из голодных городов ежедневно толпы устремлялись в поисках пропитания. Правительство предпринимало отчаянные попытки продолжать войну. На каждом углу устраивались импровизированные митинги. Приехал Ленин; он произнёс речь с балкона особняка Кшесинской, где устроил свой штаб».
Ульянов-Ленин был создателем Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). Он был в то время довольно-таки известным в России. Владимир Ильич Ульянов был на два года старше Матильды Феликсовны Кшесинской. Родился 22 апреля 1970 года.
Летом 1914 года, когда началась Первая мировая война, Ленин в жил в Австро-Венгрии в местечке Поронин. На международных конференциях в Циммервальде в 1915 году и в Кинтале в 1916 году отстаивал свой тезис превращения империалистической войны в гражданскую. По сути по отношению к своей стране это было государственной изменой.
В феврале 1916 года состоялся переезд из Берна в Цюрих. Здесь через год Ленин неожиданно узнал из газет о Февральской революции в России.
Ленин совсем даже не ожидал революции 1917 года. В то время он писал в большевистских газетах в своих статьях, что ему, видимо, уже не придётся дожить до социалистической революции — это удел молодых революционеров. Он считал, что своей деятельностью только готовил почву для будущих революционных свершений. И, узнав о Февральской революции, расценил её как результат деятельности «заговора англо-французских империалистов». Но позднее его мысли уже работали в другом направлении. Он решил использовать ситуацию в России в пользу своей партии.
В первые дни апреля 1917 года германские власти при содействии Фрица Платтена (швейцарского социалиста, который позднее станет коммунистом) позволили Ленину с тридцатью пятью соратниками выехать на поезде из Швейцарии через Германию в Россию.
3 апреля Ленин приезжает в Петроград. Петроградский Совет организовал ему торжественную встречу. Семь тысяч солдат вышло на площадь «по наряду». Ленина лично встречал председатель исполкома Петросовета меньшевик Чхеидзе Николай Семёнович.
Первое же выступление Ленина на Финляндском вокзале вызвало смущение даже у его соратников. Он призывал перейти от буржуазной революции к пролетарской. Его речью были очень возмущены революционные матросы, которые в последующие дни стали сбрасывать прямо в море со своих кораблей большевистских агитаторов. После выступления Ленина солдаты Московского полка приняли решение о разгроме большевистской газеты «Правда».
В это самое время вождя большевиков и поселили в особняке балерины М. Ф. Кшесинской, откуда он выступал с балкона перед людьми со своими новыми идеями. Внутри дворца он проводил конференции. В первую же ночь с 3 на 4 апреля Ленин выступил с известными «Апрельскими тезисами». Новые идеи вождя казались слишком радикальными даже для его соратников. Он выдвигал лозунги: «Никакой поддержки Временному правительству!», «Вся власть — Советам!». Предлагал курс на перерастание буржуазной революции в пролетарскую. Цель — свержение буржуазии и переход власти Советам и пролетариату. Согласно его мнению, Первая мировая война со стороны Временного правительства продолжала носить империалистический «грабительский» характер.
8 апреля один из руководителей немецкой разведки в Стокгольме телеграфировал в МИД в Берлин: «Приезд Ленина в Россию успешен. Он работает совершенно так, как мы хотели бы». Получалось, что все действия Ленина в это время были на руку врагам России. В марте 1917 года, до его приезда, в стране господствовали умеренные настроения.
«Апрельские тезисы» в первые дни не хотели печатать в «Правде», а когда напечатали, то Каменев высказал в этой же газете свой взгляд, считая, схему Ленина «неприемлемой». Плеханов называл их «полным бредом». Но Ленину за три недели всё-таки удаётся добиться от своей партии принятия «Тезисов». Одним из первых, 11 апреля, его поддерживает И. В. Сталин. Троцкий Л. Д. по этому поводу выражался так: «Партия оказалась застигнута врасплох Лениным не менее, чем Февральским переворотом… прений не было, все были ошеломлены, никому не хотелось подставлять себя под удары этого неистового вождя».
На партконференции 22—29 апреля тезисы были окончательно приняты. На этой же конференции Ленин впервые предложил переименовать партию РСДРП в «коммунистическую», но это предложение было отклонено.
Вот как описывал Суханов Н. Н. (русский революционер, экономист и публицист, который придерживался взглядов меньшевиков) в «Записках о революции» своё личное впечатление от заседания и «Апрельских тезисов», произнесённых Лениным на конференции большевиков: «Это было, в общем, довольно однообразно и тягуче. Но по временам проскальзывали очень любопытные для меня характерные штрихи большевистского «быта», специфических приёмов большевистской партийной работы. И обнаруживалось с полной наглядностью, что вся большевистская работа держалась железными рамками заграничного духовного центра, без которого партийные работники чувствовали бы себя вполне беспомощными, которыми они вместе с тем гордились, которому лучше из них чувствовали себя преданными слугами, как рыцари — Святому Граалю… И поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчётов, носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников…
После Ленина, кажется, уже никто не выступал. Во всяком случае, никто не возражал, не оспаривал, и никаких прений по докладу не возникло… Я вышел на улицу. Ощущение было такое, будто бы в эту ночь меня колотили по голове цепами…»
С апреля по июль 1917 года, пока В. И. Ленин находился в особняке Матильды Кшесинской, он написал более ста семидесяти (!) статей, брошюр, проектов резолюций большевистских конференций и ЦК партии, воззваний. Деятельность его была кипучей.
Парижским вечером за ужином, когда сидели всей семьёй за столом, Светлейшая княгиня Романовская-Красинская делилась своими воспоминаниями с мужем и сыном. Они погрустили вместе о своём доме в России, который любили и где они все были счастливы.
— Андрей, а помнишь, ведь я тогда ещё подала в суд на Петроградский комитет большевиков. Я обвиняла их в захвате частной собственности.
— Да. Я помню, ты рассказывала, что судебное заседание состоялось 5 мая 1917 года, — ответил муж.
— От моего имени выступал присяжный поверенный Хесин Владимир Савельевич… — вспоминала Матильда Феликсовна.
— А от большевиков — Козловский.
— Да, у него было необычное имя — Мечислав Юльевич. И хорошо помню, что суд постановил выселить из дворца Кшесинской Петроградский совет большевиков и все другие организации.
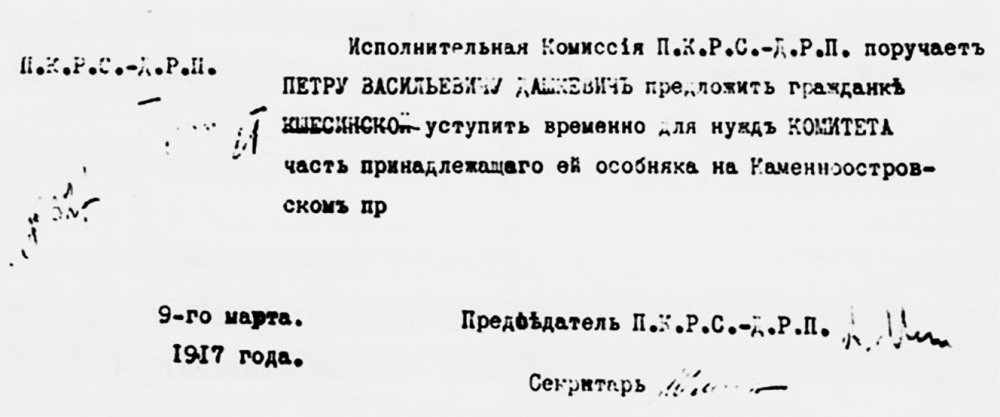
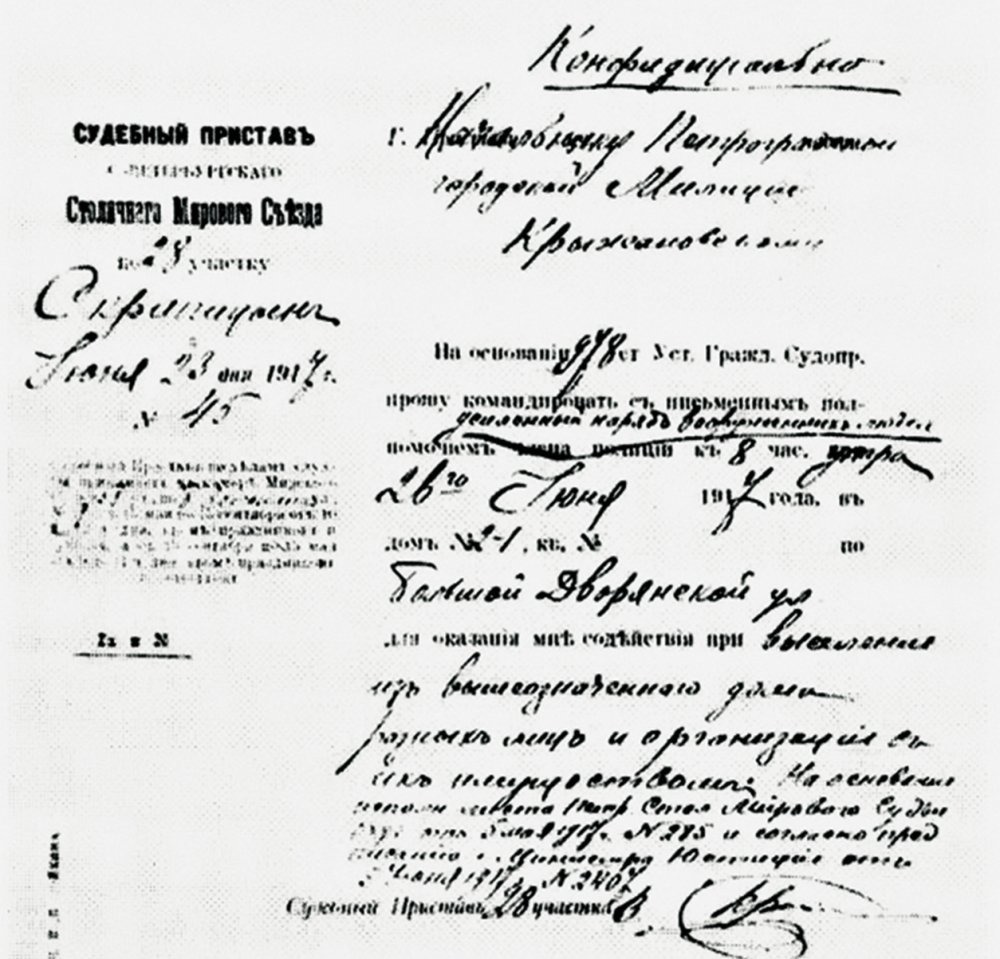
— Которых к маю 1917 года насчитывалось уже около семнадцати… — подытожил Великий Князь. — ПК РСДРП (б), ЦК РСДРП (б), их Военная организация, Солдатский клуб, Центральное бюро профсоюзов, фракция большевиков Петроградского Совета, редакция газеты «Солдатская правда»… — перечислял он, загибая пальцы. — Каких организаций только не было тогда в твоём доме!
— И что? Постановление это полностью выполнено не было… Многие организации и дальше оставались в нём, — с грустью вспомнила Матильда Феликсовна.
— Ведь их нужно было выпроваживать военной силой, а Керенский на это не пошёл. Но всё-таки Секретариат Центрального Комитета Большевиков в конце июня 1917 года дом покинул… Хоть небольшая, но твоя победа была, — успокаивал жену Андрей Владимирович.
— И мне пришлось ещё раз побывать в своём доме. Мы тогда были с моим адвокатом Хесиным, который помогал мне освобождать его. Ещё с нами были танцовщики из Мариинского театра Петя Владимиров и Павлуша Гончаров. Мы решили на законном основании решения суда сразу действовать. Нас встретил тот самый солдат, что и в первый раз. Он был снова очень вежлив со мною. И повёл нас в маленькую угловую гостиную, которую я устраивала в стиле Людовика XVI. Там на полу стояло много ящиков серебра и футляров от вещей. Указывая на них, он мне сказал: «Вы видите, всё в полной сохранности». Но он говорил неправду: как мне потом рассказали, они уже были пусты, всё из них было разграблено.
Писать о суде с большевиками Матильде Феликсовне совсем не хотелось. Она подумала: «А что если из-за этих строк запретят печатать мою книгу в России?». Ведь там до сих пор была власть в руках коммунистов — последователей В. И. Ленина, хоть прошло уже почти сорок лет после той революции, и страна теперь стала называться Советским Союзом.
Кшесинская, углубившись в воспоминания, снова переживала моменты той далёкой жизни 1917-го года. В особняке за ними ходили сзади два матроса и о чём-то шептались. Владимиров шёл рядом с ними и слышал их разговор. Он подошёл к Матильде Феликсовне и шепнул ей на ухо:
— Маля, тебе нужно срочно уходить отсюда! Не задерживайся ни на секунду.
Она поняла, что случилось что-то важное, и поскорее вышла из дома на улицу. Владимиров рассказал, что подслушал разговор этих матросов. Они говорили:
— Мы-то думали, что она рослая, а она такая маленькая и тщедушная. Вот бы её сейчас и прикончить…
Матильда и так была маленького роста, а тут ещё была в чёрном пальто с платком, который не делал её выше ростом. В общем, они все — её компания — ушли из дома, пока было не поздно.
Немного позднее Кшесинская, несмотря на то, что хлопоты по освобождению её дома ни к чему не привели, захотела использовать ещё один шанс. Она решила лично обратиться к Керенскому.
Пик популярности Керенского начался с назначением его военным министром после апрельского кризиса. Газеты именовали его такими выражениями: рыцарь революции, первая любовь революции, народный трибун, гений русской свободы, солнце свободы России, народный вождь, спаситель Отечества, пророк и герой революции, добрый гений русской революции, первый главнокомандующий.
Александр Керенский в это время старался поддерживать имидж «народного вождя», выглядел аскетическим, нося полувоенный френч и короткую стрижку. Ему удалось понравиться даже свергнутому царю. В июле, когда Керенский станет во главе Временного правительства, Николай Второй запишет в своём дневнике: «Этот человек положительно на своём месте в нынешнею минуту; чем больше у него власти, тем лучше».
Надеялась на Александра Фёдоровича Керенского и Матильда Кшесинская. «Он меня очень мило принял, усадил в кресло, но пояснил мне, что освободить мой дом нельзя, так как это повлечёт за собою кровопролитие, что ещё более осложнит дело. Потом я действительно убедилась, что он не в состоянии был этого сделать», — закончила свои воспоминания о борьбе за особняк Кшесинская.
Вспомнив Керенского, Матильда Феликсовна слегка усмехнулась: ему тоже не чуждо было желание стать «царём». Как министр Временного правительства, он переселился в Зимний дворец. И в Петрограде появились слухи, что Керенский якобы спит на бывшей кровати Императрицы Александры Фёдоровны, за что люди стали с иронией называть его Александром IV (ведь последним с этим именем был Царь Александр III).
Но об этом из этических соображений бывшая танцовщица писать не стала. Она знала, что Александр Фёдорович во время Октябрьской революции бежал из Петрограда, воспользовавшись для маскировки американским флажком на машине. Скрывался в Гатчине и пытался организовать наступление на столицу, но потерпел неудачу. Бежал на Дон, а оттуда эмигрировал в Европу. В Берлине и Париже издавал десять лет с 1922-го года революционную газету «Дни». В 1940 году, когда уже шла Вторая мировая война, он уехал в Америку. Русским находиться во Франции стало в то время опасно: могли забрать в гестапо, тем более, что Александр Фёдорович был масоном. До настоящего времени он жил в Нью-Йорке.
К своим воспоминаниям она приписала ещё: «Доброе отношение моих друзей меня сильно подбодрило, стало как-то легче на душе, я почувствовала, что и в беде есть друзья, которые меня не забыли».
Глава 3. Новые скитания в Петрограде. Последнее выступление в России
Кшесинская прожила в семье Иосифа Кшесинского три недели. А потом стала чувствовать, что стесняет брата своим пребыванием в его квартире. У него была семья — жена и дети. И они всё лучшее в квартире отдали им с Вовой: лучшую комнату и другое.
Кшесинский (по паспорту Кржезинский) Иосиф-Михаил Феликсович — таково было полное имя брата Матильды Феликсовны, был старше её на четыре года. После перерыва в девять лет с 1905 года, когда он поддерживал революционную молодёжь в театре и был уволен, он вновь с 1914 года продолжал танцевать в Мариинском театре. Его первую жену Астафьеву (в браке — Кшесинскую) Серафиму Александровну, которая сейчас жила в Лондоне, открыв в 1914 году свою балетную школу, Матильда очень любила и дружила с ней. У них с Юзей был сын Славушка — её племянник, который жил с матерью за границей. Сейчас у брата была другая семья. Он женился снова на балетной артистке — Целине Владиславовне Спрышинской. От этого брака у Юзефа было ещё двое детей — дочь Целина, которая впоследствии, как и родители, стала артисткой балета, и сын Ромуальд или Ромушка.

Сначала Матильда решила переехать жить к сестре на Английский проспект, в дом №40. Но, побыв у неё три дня, решила переехать к одной из подруг — Лиле Лихачёвой на Офицерскую улицу, 39. Там они с Вовой оставались тоже три дня. Затем Пётр Владимиров уступил им свою квартиру на Алексеевской улице, 10. Она была крошечной, но удобной для них с Вовой. Было ужасно сознавать после столь роскошной и удобной жизни в своём особняке, что у тебя больше нет своего угла и что нужно искать приют у других людей, и, главное, понимая, что их стесняешь.
Прислуга из дома Кшесинской — Людмила и Арнольд, постоянно приходили к Матильде Феликсовне и помогали им с Вовой кормиться. Её дворецкий Арнольд был просто великолепным поваром. Он был швейцарским подданным и пользовался этим, продолжая жить в доме Кшесинской. Он приносил ей каждый свой приход всё, что только мог взять из дома и незаметно вынести. Людмила уже переехала в дом своей матери. Но она тоже частенько заходила в дом Кшесинской и приносила ей её обувь — много башмаков. Их она выносила так. Заходила в гардеробную Матильды босиком, приседая, чтобы этого не было видно, там надевала пару обуви и в ней выходила.
В доме продолжали происходить разные дикости. Людмила, например, рассказывала Матильде:
— Солдаты вчера нашли в вашей уборной шкап с духами. И стали их разбивать об умывальник. А ваше чудное покрывало с постели из линон-батиста порвали в клочья…
— Боже! Да что же это за дикари?! — возмущалась Кшесинская.
Примерно в это время в Петербург из Москвы приехал известный русский писатель, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе, Иван Алексеевич Бунин, который не узнал столицы бывшей Российской Империи. Вот как он описывал обстановку тех дней:
«Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Ещё на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой ещё не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. [Иорданский Николай Иванович был земляком Бунина — из Воронежской губернии, который ещё в 1899 году вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», и с 1903 года был меньшевиком]. Но не менее страшно было и на всём прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.
Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто ещё страшнее, чем в Москве, как будто ещё больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и не знал, какую назначить цену.
— В «Европейскую» — сказал я. Он подумал и ответил наугад:
— Двадцать целковых.
Цена была по тем временам ещё совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал — и не узнал Петербурга.
В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но ещё в превосходной степени, было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только не кричал, не командовал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знамёнами и музыкой… Невский был затоплен серой толпой, солдатнёй в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лёд, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:
— Теперь народ, как скотина без пастуха, всё перегадит и самого себя погубит.
Я спросил:
— Так что же делать?
— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.
Я взглянул вокруг, на этот Петербург… «Правильно, шабаш». Но в глубине души я ещё на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства всё-таки ещё не совсем верил.
Не верить, однако, было нельзя.
Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворён, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока ещё только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли её и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и все старались внушить и себе, и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только — временные распорядители, будто бы ею же самой на то уполномоченные.
Я видел Марсово поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мёртвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.



Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли было нам тогда! Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался «весь Петербург» во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу «зари свободы, засиявшей над Финляндией». И из окон того богатого особняка, в котором происходило всё это и который стоял как раз возле Марсова поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его».
Но больше всего Бунина поразило бескультурье, которое творилось в Петроградском обществе даже среди интеллигенции в те первые революционные дни: «А затем я был еще на одном торжестве в честь всё той же Финляндии, — на банкете в честь финнов, после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось всё то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него всё те же — весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал — поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.
— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.
Я без всякого стеснения ответил, что нет, слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы ещё что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав ещё одну и столь же бесплодную попытку, развёл руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уже перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его ещё более зычным ревом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство вся зала: заражённые Маяковским, все ни с того ни с сего заорали и себе, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и — тушить электричество. И вдруг всё покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясённый до глубины души этим излишеством свинства и, желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:
— Много! Многоо! Многоо! Многоо!
И ещё одно торжество случилось тогда в Петербурге — приезд Ленина. «Добро пожаловать!» — сказал ему Горький в своей газете. И он пожаловал — в качестве ещё одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьёзны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почётным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий.
«Много»? Да как сказать? Ведь шёл тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленины и Маяковские.
Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский (которого ещё в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнёт рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Кшесинской: еще великолепнее, чем сделал это он сам, на пиру в честь готовой послать нас к чёрту Финляндии!»
Но были и другие воспоминания об этих событиях. Так, например, семилетняя девочка Нина Тихонова, которая в будущем станет эмигранткой-танцовщицей в Париже, вспоминала революционные дни в Петрограде с восторгом:
«События разворачивались со всё большей быстротой. В начале 1917 года особая нервная атмосфера делалась заметной даже для меня. Отец и мама всё время проводили у Горького или в редакции журнала «Летопись». К обеду у нас собиралось всё больше народу. Бурно обсуждались события, мелькали имена политических деятелей — князя Львова, Милюкова, Керенского, новые слова… Государственная дума, как я тогда полагала, была местом, где думают… Из окна стало видно, как по Каменноостровскому проспекту шагали люди с красными флагами. Разгоняя толпу, скакали конные полицейские, близко-близко трещал пулемёт. Одна его пуля застряла в стене нашего дома, как раз над окном столовой. Наверное, она и по сей час — там.
Наступил день, когда мне сказали, что царь сброшен и что пришла Революция. Я заволновалась: кто такая? А царь не ушибся? Никто не пытался мне ничего объяснять. Родители совершенно исчезли с нашего горизонта. В доме царило радостное возбуждение. Брат и я распевали «Марсельезу».


Навсегда сохранился в памяти чудесный день этого года, праздник 1 Мая — первый праздник Революции. Яркое солнце сушило улицы и лужи. Бесконечными рядами ходили по ним люди. Их звонкие песни славили свободу, славили мечту, ставшую действительностью, славили новую, лучшую жизнь. Из окна мы с братом азартно разбирали надписи на плакатах. Высоко развевались, трепетали красные флаги. На нашем подоконнике во всё горло чирикали воробьи.
До этого на Марсовом поле мы издали наблюдали похороны жертв Революции. Толпа немного заслоняла от нас помосты, затянутые красным кумачом с покрытыми красным гробами. Какие-то люди произносили длинные речи. Тысячи голосов подхватывали: «Вы жертвою пали…»
Но уже осенью 1917 года и для Нинки жизнь станет иной — без романтики…
В квартире Владимирова на Алексеевской улице Матильда жила с сыном сравнительно спокойно. Первая волна революции в то время прошла, и настало успокоение. По крайней мере, внешне всё выглядело так.
Однажды к Матильде с повинной пришла Катя-коровница. Она принесла Матильде Феликсовне обратно её чёрную бархатную юбку. Сначала она её украла и распорола, так как была полнее фигурой. Когда она узнала, что сам Керенский покровительствует её бывшей хозяйке, то испугалась и вернула юбку. И не зря: она потом очень пригодилась Матильде Феликсовне. Но особенно ценным было то, что Катя принесла ей фотографию Императора Александра Третьего, который был снят со своим братом Великим Князем Владимиром Александровичем (отцом Андрея и дедом её сына Вовы), когда они оба были ещё мальчиками. На этой фотографии Великий Князь Владимир Александрович был очень похож на Вову, так, что Катя-коровница думала, что это фото именно Вовы, потому и принесла его.
Наступила католическая Пасха. Французский повар Матильды Дени приготовил и прислал хозяйке разговение. Праздник с Кшесинской отмечали её товарищи по работе, которым она доверяла — молодые танцовщики Мариинского театра Леля Смирнова и Бабиш Романов, которого официально в театре звали Борисом. Они были мужем и женой. Было это 2 апреля. Через три года эти танцовщики уже будут жить в Германии и откроют там свой Русский Романтический театр, а в конце двадцатых уедут жить в Америку. Борис Георгиевич двенадцать лет будет главным балетмейстером Метрополитен-опера в Нью-Йорке, а Елена Александровна, которая обладала высокой профессиональной культурой и виртуозной техникой (она в Мариинском театре танцевала партии Китри, Медоры, Раймонды и другие) ещё в 1928 году начнёт свою педагогическую деятельность в Южной Америке — Буэнос-Айресе, где в то время они гастролировали, а после будет всю жизнь помогать мужу в США. Русских танцовщиков судьба раскидает по всему свету…
Вскоре наступила и русская православная Пасха. По воспоминаниям Бунина стояли в Петербурге дни с прекрасной погодой, но настроение было у него очень грустное: «В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна, даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Всё было настежь — и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплёвывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование…»
Петроградской весной 1917 года однажды произошло неожиданное для Кшесинской событие. Матильде пришлось выступить на сцене! Чего уж она совсем не ожидала. А было это так.
К ней зашёл Семён Николаевич Рогов. Балетоман и журналист. Во время первой мировой войны он был мобилизован. Числился в запасном батальоне Лейб-Гвардии Кексгольмского полка. И поэтому Семён носил военную форму. В последнее время он постоянно находился в солдатской среде, и хорошо знал, какое там царит настроение, и всё, что там происходит.
Он пришёл к Матильде с неожиданным и даже странным для неё предложением:
— Матильда Феликсовна, я очень прошу Вас выступить в театре Консерватории на спектакле, который устраивается солдатами моего полка.
Кшесинская вспоминала: «Я, конечно, пришла в ужас от такой дикой, на мой взгляд, мысли. Выступить в такое время перед солдатами, с моим именем, мне казалось просто безумием. Но Рогов, несмотря на мои возражения, старался меня убедить, что это не безумие и не дикая идея, а серьёзное и обдуманное с его стороны предложение. Он стал доказывать, что гораздо лучше, если я добровольно соглашусь, так как теперь такие вечера устраиваются повсюду и артистов почти принуждают на них выступать. Не следует ждать того момента, когда мне придётся выступить против воли, что будет для меня невыгодно. В конце концов, Рогов убедил меня согласиться, уверяя, что никакой опасности нет, и моё появление на сцене будет встречено с восторгом, а после этого я смогу свободно и открыто появляться на улице, а не прятаться, как я до сих пор делала».
Дав согласие, Матильда Феликсовна, думала, как ей взять теперь из дома костюм. К счастью, её гардероб с костюмами ещё разграбить не успели. Он был цел. Все они висели у неё под номерами в шкапу. И она, назвав, номер костюма к русской пляске, ждала, когда привезут его. Всё было, как в старые добрые времена, когда она служила на Императорской сцене. Костюм по номеру был найден и привезён танцовщице.
В тот вечер, когда был назначен спектакль, Заслуженная артистка Императорских театров сидела одетая и загримированная и ждала сообщений с места выступления. Не очень доверяя Рогову, в театр Консерватории выехали её поверенный Хессин и танцовщики Пётр Владимиров и Павел Гончаров, чтобы узнать обстановку, какое настроение там царит и можно ли Кшесинской приехать. Её друзья хотели в этом лично убедиться. Они ходили среди солдат и слушали их разговоры относительно балерины. Сначала им показалось, что солдаты враждебно относятся к танцовщице. И они дали ей знать, что ехать пока не стоит. Но, когда они стали рассказывать солдатам, какая замечательная артистка Кшесинская, что они придут в восторг, когда увидят её, то настроение солдат стало меняться. Когда друзья Матильды в этом убедились, то отправили Рогова за ней домой.
Она была испугана и очень плохо соображала, что творится вокруг неё. Многие знакомые ей артисты из театра стояли за кулисами и очень волновались. Так же волновались и сами устроители вечера. Даже Рогов, уверявший Кшесинскую, что всё будет хорошо, позже сознался, что волновался до последней минуты. Матильда даже под гримом была очень бледна. Она страшно тревожилась за своё выступление, а в особенности за сына, так как оставила его одного дома, не зная, что её ожидает в этот вечер.
Кшесинская со страхом стоя за кулисами, всё-таки решилась выйти на сцену. «Что тут произошло трудно описать. Вся публика в зале встала со своих мест и приветствовала меня громом аплодисментов и такими овациями, что оркестр должен был прервать начатую музыку, так как всё равно ничего не было слышно. Довольно долго всё это продолжалось, Рогов говорит, что, по крайней мере, с четверть часа, пока я, наконец, могла исполнить свой номер».
После того, как Кшесинская станцевала свою «Русскую», овации казались бесконечными. Ей пришлось повторить номер ещё раз. Но её вызывали станцевать и в третий… Но сил у неё больше не было никаких.

«Солдаты бросали фуражки на сцену от восторга. За кулисами многие плакали, до того был резок переход от волнений и опасений к полному восторгу всей залы. Вернулась я домой усталой, но с облегчённым сердцем, что я выполнила своё обещание, но чего мне это стоило, мало кто знал. Это было моё последнее выступление в России, моя лебединая песнь…» — вновь записывала Матильда Феликсовна свои воспоминания.
В последний раз на Родине Кшесинская танцевала на сцене Консерватории, на том же месте, где пришлось в детстве выступить впервые на сцене Большого театра Петербурга. Так символично началась и закончилась деятельность танцовщицы Матильды Кшесинской в родном Петербурге.
Глава 4. Майские и июньские события 1917-го года
Шли последние дни апреля. Первого мая в городе ожидались новые беспорядки. Говорили, что готовилось выступление большевиков. Одной с сыном оставаться на квартире Владимирова Матильде было страшно. И в это время её пригласил к себе в гости Сиамский посланник Визан — старый друг Матильды. Он предлагал ей отдохнуть вместе с сыном в первые майские дни у него. Посольство находилось на Адмиралтейской набережной. Кшесинская приняла это приглашение с большой радостью. Туда же приехали её родственники — сестра с мужем. Юлия очень опасалась за своего супруга: он уже был однажды арестован — в начале переворота, но вскоре его освободили. Теперь сестра Матильды боялась, что его могут вновь арестовать. Визан раньше часто бывал в доме Кшесинской. И теперь в смутные дни не боялся её навещать. Тайцам вообще было свойственны такие черты как доброта, широкое гостеприимство, пламенная любовь к своей стране и народу, также они были друзьями России и самих россиян.
Вместе с Визаном Кшесинская любила вспоминать то время, когда Матильда в молодости (ей было лет двадцать пять) выступала в спектакле «Коппелия» перед «Великим и Возлюбленным» Королём тайцев Рамой V (народ его считал своим «Петром Первым», который вводил европейские новшества в своей восточной стране). Он считал себя истинным другом России, так как между ним и Императором Николаем Вторым была взаимная личная симпатия, а также Российская Империя помогла остаться Сиаму независимой страной, когда в 1897 году Сиамское Королевство было на краю гибели: Великобритания и Франция объявили страну «зоной своего влияния». И если бы не поддержка России, с которой считались эти страны Европы, то Сиам мог стать колонией. И с того самого времени Россия и Сиам (позже страну назовут Таиландом) до этих революционных дней будут иметь дипломатические отношения, обмениваясь послами. К тому же и средний сын Короля Сиама принц Чакрапонг (Чакрабон), который был влюблён в русский балет и Матильду Кшесинскую в нём, женится на русской девушке Екатерине Десницкой, которая в будущем станет принцессой Сиама.
Было приятно вспомнить, как в 1900 году в Россию приехал экзотический сиамский балет. В Санкт-Петербурге он появился осенью — в конце октября, и произвёл фурор. Труппа дала два представления на сцене Императорских Михайловского и Александринского театров. «Сиамский балет впервые появился в этом году на сценах главнейших европейских театров и везде имел выдающийся успех своей оригинальной музыкой, живописными костюмами, экзотическими танцами и своеобразным содержанием представленных ими сцен», — отмечал Николай Светлов в «Ежегоднике императорских театров». Русские аристократы и артисты увидели «новую область экзотической хореографии». «Основные мотивы некоторых танцев, например, танцы с веерами, фонарями и серебряными пиками, оригинальные по хореографическому замыслу и красивые по внешней форме, по замысловатому рисунку и комбинациям, могли бы войти в качестве новых элементов в нашу европейскую хореографию в соответственной обработке, применённой к требованиям нашего искусства. Опытный балетмейстер, конечно, мог бы извлечь из них некоторую пользу, как опытный композитор, на темах сиамской национальной музыки, непривычной для нашего слуха, мог бы построить несколько мелодий, облачив их музыкальной формой, воспринимаемой европейским ухом», — писал Николай Светлов в «Ежегоднике Императорских театров. Сезон 1900—1901».
Высоко оценил танцы сиамцев философ Василий Васильевич Розанов, написав в «Мире искусства»: «Ничего нельзя представить более удивительного, нового, неожиданного (для европейца), — писал он о своем впечатлении, — … в труппе танцовщиц Сиамского короля меня, прежде всего, поразила высокая и очевидная цивилизация, но не наша».
Увлечение восточными сюжетами было характерно для художественной жизни России на рубеже XIX и XX веков. Представление сиамского балета произвело незабываемое впечатление на художественные круги Петербурга. Появились произведения на сиамские темы. Например, художник Л. С. Бакст оформил серию балетов, окрашенных восточной экзотикой. В 1901 году Л. С. Бакст написал картину «Сиамский священный танец». А в 1917 г., много лет спустя, в эскизах художник нарисовал великого танцовщика В. Нижинского в «сиамской позе».
И политика, и искусство, и приятные воспоминания о былой жизни в Петербурге объединяли Визана и Кшесинскую, сиамского посла и русскую балерину. В его квартире Матильда чувствовала себя в безопасности в эти дни, когда посланник пригласил балерину в гости. Но через несколько дней вновь пришлось Матильде Феликсовне вернуться с сыном в квартиру танцовщика Владимирова.
Вскоре случилась приятная неожиданность: танцовщице вернули один из её автомобилей, который был реквизирован ещё в начале переворота. Но теперь держать его, а тем более — ездить на нём, было опасно. Балерина боялась, что его могут вновь отобрать. Поэтому решила как можно быстрее его продать, чтобы выручить хоть какие-то деньги…
В начале июня из Ставки в Петроград вернулся Великий Князь Сергей Михайлович Романов. Матильде захотелось подробнее поведать о своём близком и самом преданном друге.
Он был пятым из шести сыновей Великого Князя Михаила Николаевича и Великой Княгини Ольги Фёдоровны, внук Николая I. Родился Сергей Михайлович Романов в середине осени 1869 года в Грузии, в Тифлисской губернии, в имении Боржом. Российский военачальник, генерал-инспектор артиллерии. С 1905 по 1908 годы являлся членом Совета государственной обороны. Сергей был близким другом Императора Николая Второго в течение многих лет и находился в Ставке до последних дней существования Российской империи.

Сразу же после революции Великие Князья должны были покинуть военную службу. Но его просили, в качестве исключения, в частном порядке, продолжать руководить Артиллерийским управлением при Ставке Верховного Главнокомандующего. Поэтому он три месяца был в Могилёве. Артиллерия была его любимым делом, и расставаться с ней для него было страшным ударом. Поэтому он был очень рад продолжать служить в армии.
Высокого мнения о Великом Князе Сергее Михайловиче были даже генералы, которые перешли впоследствии на сторону Советской власти — Е. В. Барсуков, А. А. Поливанов, а также Кузьмин-Караваев. Е. В. Барсуков, написавший книгу о русской артиллерии 1900—1917 годов, утверждал, что «во многих случаях благодаря руководящим указаниям генинспарта, хорошо понимающего артиллерийское дело, те или иные вопросы получали правильное разрешение». Вот как отзывался о Сергее Михайловиче Романове генерал А. Ф. Редигер, не принадлежавший к когорте льстивых царедворцев и считавший вредным привлечение Великих Князей к вопросам военного управления: «Великий Князь Сергей Михайлович — вероятно, самый выдающийся артиллерист в нашей армии. Он отлично, до тонкостей, знает службу полевой артиллерии, сам отлично руководит огнём артиллерии; будучи батарейным командиром, сам стрелял очень много и достиг виртуозности в этом отношении. Он не академик, а потому технические вопросы ему менее известны, так же как и служба крепостной и осадной артиллерии, но он чрезвычайно интересуется всем, что касается артиллерии, а при его отличных способностях, ясном уме и удивительной памяти он быстро схватывает и усваивает всякий вопрос; у него большая наблюдательность и замечательное зрение. При таких дарованиях Сергей Михайлович отлично владел всеми отраслями артиллерии, даже теми, которых специально не изучал; разъезжая много по России, он отлично знал большинство генералов и значительную часть штабс-офицеров артиллерии, знал их прохождение службы, способности, достоинства и недостатки. Он был чужд артиллерийской косности и обособленности и охотно пошёл на подчинение артиллерийских частей начальниками дивизий; держался он очень просто, вежливо, но с большим достоинством, всегда носил мундир конной артиллерии и лишь в царские дни — свитский сюртук. Моё отношение к нему всегда было самое лучшее. Сергей Михайлович на меня производил впечатление человека чуждого всякой интриги, замкнувшегося в круг своих служебных обязанностей и по природе очень доброго. Ежегодно весной он уезжал на несколько недель в Канны навестить отца, к которому был очень привязан. Но по пути туда и обратно осматривал артиллерийские заводы в Германии (Крупп, Эдгард), Австрии (Шкода), Франции (Шнейдер, Крезо) и Англии (Виккерс) и привозил оттуда интересные сведения, так как заводы охотно показывали ему всё новое. И он брал с собою или вызывал для этого нужных специалистов. Он также в личные свои адъютанты брал видных специалистов для работ по его поручению. Он был фактическим начальником Главного артиллерийского управления, так что знал всё, что там делалось, и приезжая на доклад с Кузьминым-Караваевым, знал всё дело не хуже его. Наша артиллерия едва ли когда-нибудь имела лучшего начальника… Сергей Михайлович был человек очень умный, серьёзный, много занимался своим делом, но для командования, например, округом, едва ли подходил по своей доброте».
В своих воспоминаниях писал в эмиграции о Великом Князе и Антон Иванович Деникин, который был в те времена генерал-лейтенантом, начальником штаба Верховного главнокомандующего: «Два доклада Сергея Михайловича нарисовали мне такую отчётливую картину состояния русской артиллерии, подчеркнули такое изумительное знание им личного состава, что я искренне пожалел об уходе такого сотрудника».
Несмотря на такое уважение к Великому Князю Сергею Михайловичу и его знанию своего дела со стороны военачальников и его подчинённых, злые языки в ту пору повторяли неизвестно кем произнесённую фразу: «мы имеем прекрасный балет, но плохую артиллерию». Видимо, кто-то произнёс это в пику отношений Кшесинской и Великого Князя Сергея Михайловича. Но ничто не смогло до конца жизни изменить его отношения к Матильде Феликсовне. Да и она всегда к нему хорошо относилась и заботилась о своём друге в благодарность за его преданность ей.
В Петрограде Сергею Михайловичу Романову вернули его маленький автомобиль, на котором раньше ездили его служащие. Теперь же они с Кшесинской и её сыном могли совершать на нём прогулки. Однажды они катались на Стрелке. Матильда увидела свой второй автомобиль. В нём сидели какие-то люди. И ей показалось, что они узнали её. Они с Великим Князем поспешили уехать, чтобы не произошёл какой-нибудь инцидент.
За всё это время скитаний по городу, когда Матильда старалась никому не попадаться на глаза, почти всю жизнь проводя в чужих квартирах и очень редко бывая на улицах, она читала о себе всякие нелепицы в газетах. Её сегодняшнюю жизнь газетчики описывали как похождения авантюристки… Тот самый «Петроградский листок», который не так давно «пел» ей дифирамбы как могущественной балерине, теперь печатал «сенсации» под заголовками: «Шпионаж и балерина», «16 пудов серебра из палаццо Кшесинской» и тому подобные…
В это время в обществе появились новые сплетни о Кшесинской и Великом Князе Сергее Михайловиче: якобы они брали большие взятки и работали на иностранную разведку! Это было и смешно, и грустно: Сергей был по жизни самым близким другом Императора Николая II, Матильда всю жизнь с любовью вспоминала его и была предана Императорскому Дому. Как могли они продаться иностранной разведке против близкого им человека?! Но дальше — больше. В шпионаже в пользу немцев стали обвинять и жену Царя — Императрицу Александру Фёдоровну!
Сергей Михайлович получил ещё в феврале письмо от родного брата Великого Князя Николая Михайловича. Он требовал, чтобы Сергей прекратил общаться с Кшесинской из-за «скандальных разоблачений» в газетах. Писали, что по этому поводу Временное правительство организовало следствие. На это Сергей Михайлович отвечал: «Ты пишешь, что если я приеду, чтобы не смел с ними видеться. Что же — я подлец, я брошу свою жену (гражданскую) и своего мальчика? Нет, я всю жизнь был честным и благородным. Таким и останусь… Горячо тебя любящий брат Сергей».
В этом же письме Великий Князь объяснял брату суть скандальных слухов, которые ходили вокруг них с Кшесинской: «То, что ты пишешь о Малечке — прямо ужасно, я не знаю, кто против нас озлоблен. И причины этого озлобления кроются либо в личных счётах по сцене, либо во вздорных слухах. Я клянусь перед образом, что за ней нет ни одного преступления. Если её обвиняют во взятках — это сплошная ложь. Все её дела вёл я, и я могу представить кому нужно все самые точные данные, какие деньги у неё есть и были и откуда они поступили». Все обвинения были голословны, никаких доказательств этому никогда не было. Вскоре даже комиссия Временного правительства пришла к выводу, что никто из Императорской семьи не шпионил в пользу Германии. Тоже самое можно сказать и о Матильде Феликсовне. Никаких рассекреченных документов на этот счёт никогда не было обнаружено.
Матильда сидела, задумавшись. Ну, ладно, она была «скандальной» личностью для Петербурга, так как вся её жизнь была на виду, Матильда была богата и была связана с Царским Двором. Но взять её любимую балерину Таточку — скромнейшего человека, можно сказать Ангела во плоти. И ведь её тоже вдруг объявили «шпионкой»… «С каждым днём слухи всё множились, — писала Карсавина в своей книге, — словно микробы в теле больного, рождённые за ночь газеты распространяли информацию, полную паники, и фабриковали клевету. Ума не приложу, как огромные плакаты, развешанные на главной улице, не привлекли моего внимания. Я шла домой пешком, но не заметила своего имени на них. Вечером зазвонил телефон, и один из старых друзей взволнованно спросил: „С тобой всё в порядке?“ Я не могла поверить собственным ушам, когда он сказал, что на плакатах в тот день стояло полностью моё имя и под ним подпись: „немецкая шпионка“. В тот вечер я собиралась идти продавать программы благотворительного бала в Мариинском театре; он умолял меня не идти и даже считал, что мне небезопасно оставаться ночевать в своей квартире. Но я решила пойти, понадеявшись на то, что здравый смысл восторжествует. В тот вечер всё было как обычно — ни тени подозрительности. А через несколько дней было опубликовано извинение»… Всё это было очень странно: кому и зачем эта клевета была нужна?
Сидеть в душной маленькой квартирке в городе летом было невыносимо. Поэтому Матильда была очень рада, когда её дворецкий Арнольд пригласил их с Вовой поехать в Царское Село. Там его друг содержал маленький пансион, и Арнольд уговорил свою хозяйку там позавтракать. После трапезы они стали осматривать тамошнее хозяйство: курятник, огороды. Фоксик Джиби, которого взяли с собой, бегал от радости по всяким закоулкам и, видимо, съел что-то ядовитое. Когда вернулись домой, пёсик вёл себя как обычно, только ночью стал ворочаться. Матильда думала, что он нацеплял блох и вычёсывает их, старалась его успокоить. Но к утру он околел у неё на кровати. Это было большим горем, так как собачка была ею очень любима и девять лет была ей верным другом. Ей казалось, что она прекрасно понимала свою хозяйку. Матильда хорошо помнила, как однажды ночью плакала и даже закричала от отчаяния, а Джиби, вскочил ей на грудь и с сочувствием смотрел на неё своими глазами. На автомобиле Матильда с Вовой отвезли фоксика в Стрельну, чтобы похоронить его там. В этом саду Джиби любил бегать на воле и был всегда радостным.
На даче Кшесинской уже жили какие-то солдаты. Они отнеслись очень трогательно к хозяевам и помогли им вырыть ямку и засыпать пёсика. Матильда горько плакала в этот момент.
— Видно, хорошая была собачка, коль барыня так заливается… — сказал кто-то из них.
Матильде и раньше приходилось быть на своей даче. Её уже трудно было узнать: всё в доме было перевёрнуто. Почти вся мебель была куда-то вывезена. Но солдаты всегда были корректны и вежливы с хозяйкой. Оберегали Вову во время его прогулок по саду. А старший из солдат даже предлагал сыну Кшесинской пожить в Вовином маленьком доме, обещая, что мальчик будет в полной безопасности. Но Матильда, конечно, отказала ему в этом предложении: в такие тревожные дни она никуда не отпускала от себя сына.
Матильда, гуляя по даче, рассматривала свои уцелевшие вещи. Ей захотелось перевезти в город пианино из шведской берёзы и кое-что ещё. На даче у неё была телега, на которой перевозили раньше растения с дачи в город — в её зимний сад. На ней солдаты согласились перевезти то, что их попросила хозяйка, в город. А потом попросили у неё на память фотокарточки. «В это время ещё солдатская масса не была тронута глубоко революцией, и среди них, как видно, были хорошие и сердечные люди», — делала вывод Матильда Феликсовна.
18 июня у сына Владимира был день рождения, ему исполнилось пятнадцать лет. И их компания: Матильда, сам Вова, Петя Владимиров и Великий Князь Сергей Михайлович, решила поехать в Финляндию — имение Николая Александровича Облакова. Это был большой друг артиста Петра Владимирова. Он работал воспитателем в Императорском театральном училище при мальчиках. Николай Облаков частенько гостил у Владимирова. Его имение находилось недалеко — на станции «Белоостров». Они пробыли там несколько дней, которые стали для Матильды Феликсовны моральным и физическим отдыхом после всего пережитого за последнее время. Временное правительство в марте 1917 года восстановило автономию Финляндии, и на неё нынешние революционные российские порядки не распространялись, несмотря на то, что полной самостоятельности у страны ещё не было. (Лишь 6 декабря 1917 года будет принята декларация о полной независимости Финляндии).
В Петербурге Кшесинская прожила ещё около месяца. В городе становилось спокойнее. Но на душе раны не заживали: всё мучительнее становилось от дум, что у неё больше ничего не было своего: ни дома, ни вещей. Матильду успокаивало только то, что некоторым людям было ещё хуже. Надо было держаться и не впадать в отчаяние.
Но иногда так хотелось взглянуть на свой родной дом! И она проезжала мимо него на автомобиле. Однажды она увидела в своём саду революционерку Александру Коллонтай. Она гуляла по саду в её горностаевом пальто… Матильде говорили люди, что эта дама пользовалась и другими её вещами. Так что революционеры захватывали не только дома, но и одежду прежних жильцов. И как могла Кшесинская после этого сочувствовать им? И понимать их «благое дело»?
Жизнь вынуждала танцовщицу уехать из родного ей Петербурга. Правда, ей тогда казалось, что не навсегда: Кшесинская мечтала вернуться в него в более спокойные времена.
Глава 5. Вторая половина 17-го года. Отъезд на Северный Кавказ и жизнь в Кисловодске
Кшесинская получала письма из Кисловодска от Великого Князя Андрея. С ним они расстались почти полгода назад, и Матильду тянуло к нему всё сильнее и сильнее.
Андрей Владимирович Романов, как и все мужчины Императорской семьи, был военным. Родился он 2 мая 1879 года в Царском Селе, близ Петербурга. Его Императорское Высочество Андрей Владимирович был Великим Князем, четвёртым сыном Великого Князя Владимира Александровича и Великой Княгини Марии Павловны. Внук Александра II и племянник Александра III. Он окончил Михайловское артиллерийское училище, а позже — Александровскую военно-юридическую академию. С 1910 года имел звание полковник, через год стал сенатором. С этого же времени командовал лейб-гвардией 6-й Донской казачьей артиллерийской батареей. Весной 1915 года стал командующим лейб-гвардии Конной Артиллерией, а с 15 мая того же года стал генерал-майором Свиты Его Императорского Величества и шефом 130-го Херсонского пехотного полка. Он имел множество орденов и медалей, как российских, так и иностранных. (Впрочем, почти все члены Императорской фамилии также имели немало наград).

Из писем Андрея Владимировича Кшесинская узнала, что революционный переворот пока ещё мало коснулся Кисловодска. Первые дни пребывания там были тревожные (в марте была некоторое время под домашним арестом его мать Великая Княгиня Мария Павловна из-за перехваченного у одного генерала её письма к сыну Борису), Андрею удалось добиться её освобождения, а затем всё успокоилось. Жизнь в городе протекала сравнительно тихо и мирно.
Многие семьи в это время начали покидать Петербург и уезжать на Кавказ. Ехали в Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск. Здесь был прекрасный климат и целебные воды. Но кроме этого можно было хорошо устроиться, чтобы спокойно жить. На юг уехали графские семьи Коковцовых, Карловых, Шереметевых, Воронцовых… Съехались на Кавказ и представители финансового мира. Все считали, что оставаться в столице, значит, подвергать себя риску. Там ожидали новых беспорядков, а то и переворотов, вследствие чего могли начаться новые аресты.
Матильде хотелось быть рядом с Андреем и, конечно, увезти подальше от столицы своего сына, чтобы поселиться с ним в безопасном месте. Танцовщицу измучила постоянная тревога за своего ребёнка. В Петербурге Кшесинская всё равно не находила себе места, скитаясь по чужим квартирам и стесняя всех своим присутствием. И надежды на скорое освобождение своего особняка у неё уже не было. Но она всё-таки рассчитывала осенью вернуться в Петербург, когда её дом освободят. Матильда понимала, что нужно начинать новую жизнь, но вот — какую — пока не знала.
Когда Великий Князь Сергей Михайлович после переворота вернулся из Ставки, он предложил Кшесинской выйти за него замуж. Это произошло через двадцать два года их совместного проживания в гражданском браке, в котором, как признавался сам Сергей в письме к брату, у них давно уже были платонические отношения: больше деловые и дружеские, нежели любовные. Конечно, положение Матильды было сложным, за Андрея Владимировича она вообще могла никогда не выйти замуж, но и дать согласие Сергею не смогла: всё-таки Вова был сыном Андрея, которого она продолжала любить. И она надеялась, что семья их всё-таки когда-нибудь станет официальной.
«Великого Князя Сергея Михайловича я бесконечно уважала за его беспредельную преданность мне и была ему благодарна за всё, что он сделал для меня в течение годов, но того чувства любви, которое я испытывал к Андрею, я к нему никогда не питала. Он хорошо это знал и потому простил мне то, что случилось, когда я так безумно любила Андрея. В этом была моя душевная драма. Как женщина и мать Вовы я всею душою и телом принадлежала Андрею, и в моей душе боролись чувство радости снова увидеть Андрея и чувство угрызения совести, что оставляю Сергея одного в столице, где он был в постоянной опасности», — писала Матильда Феликсовна.
Сергей Михайлович, зная, что Вова его внучатый племянник, а не сын, как ему того хотелось бы, очень был привязан к мальчику, в котором не чаял души, он обожал его и с самого рождения постоянно занимался его воспитанием, отдавая ему всё своё свободное время. Он относился к нему действительно, как отец. Поэтому увозить от него Вову было тяжело. Матильда, как артистка, была всегда слишком занята и не имела времени заниматься сыном так, как ей хотелось бы. Ведь люди мало знают, какой огромный труд выполняют первые артисты и какого напряжения требует их жизнь. Вова часто упрекал Матильду Феликсовну, что редко видит мать зимой. Сергей старался сделать так, чтобы мальчик не чувствовал себя одиноким. И Володя тоже был привязан к Сергею Михайловичу.
Все эти размышления мучили Матильду. Но безопасность сына и желание быстрее увидеть любимого Андрея всё-таки заставили Кшесинскую принять решение уехать в Кисловодск. Она хотела пожить там и выждать освобождения своего особняка. А потом можно было вернуться обратно. По привычке она строила свои планы по-старому. Ведь ещё никому не верилось, что революционеры возьмут власть надолго.
Кшесинская стала хлопотать о получении разрешения на поездку в Кисловодск. Без такого разрешения путешествовать по России в то время было рискованно. Оно служило доказательством того, что люди не привлечены к ответственности за совершённые при старом режиме деяния и что они не подлежат аресту. Матильда Феликсовна обратилась с просьбой о выдаче ей разрешения на поездку к А. Ф. Керенскому. Он уже исполнял обязанности Главы правительства России. И вскоре она его получила от Министра Юстиции Переверзева Павла Николаевича — с правом свободного проезда по всей России и повсеместного беспрепятственного проживания.
«Когда настал момент отъезда и разлуки на Николаевском вокзале, и Великий Князь Сергей Михайлович стоял в своём длинном, уже штатском пальто, я видела, с какой тяжёлой и безграничной грустью в глазах он смотрел нам вслед за медленно удалявшимся поездом — это была последняя с ним разлука…», — тяжело вздохнув, вспоминала преданно любящего её человека Матильда Феликсовна.
Кшесинская с сыном выехала из Петербурга 13 июля 1917 года. Это был четверг. Последний раз она видела свой родной город. С ней вместе поехали люди из дома: её преданная горничная Людмила Румянцева и старый слуга Иван Курносов. Иван как раз в это время был демобилизован из армии и вернулся к своей хозяйке. Матильда его взяла для Вовы, так как его личный человек Кулаков куда-то исчез в первые же дни революции. Кшесинской удалось получить двухместное спальное отделение в международном вагоне, где они поместились втроём — она, сын и Людмила. Иван нашёл себе место в этом же вагоне.
До Москвы ехали вполне благополучно. А потом в вагон стали врываться беглые с фронта солдаты. Они ни с чем не считались, говоря, что настала свобода, и каждый теперь может делать всё, что угодно. От них не было житья пассажирам. Они не только заняли все коридоры, но и врывались в отделения поезда.
Через три дня — 16 июля, в 10 часов вечера, наконец-то, поезд пришёл в Кисловодск. Это было на следующий день после именин сына Вовы. Андрей к их приезду нанял комнаты на даче у Щербинина на Эмировской улице. Это было одноэтажное здание летнего типа. Все комнаты сообщались между собой и имели выход на крытые галереи, выходившие на улицу и на двор. У каждого из них была своя комната.
Оставив вещи на даче, все сразу пошли в ресторан Чтаева, который находился в саду, в беседке. Андрей был со своим адъютантом Фёдором Кубе. Великий Князь заказал всем вкусные грузинские блюда. После утомительного и долгого путешествия этот ужин в саду казался таким роскошным и вкусным! Где-то недалеко играла музыка. Светила луна. И вся их семья (хоть пока и неофициальная) соединилась после тяжёлых испытаний судьбы. Для Матильды радость вновь видеть Андрея была так велика, что она даже временно забыла все свои горести.
Потом они очень хорошо устроились в своих комнатах на даче. И хоть в них не было никакой роскоши, но чувствовали они себя замечательно. Матильда с сыном питалась в ресторане. На даче у них не было никакого хозяйства, только по утрам Иван готовил всем кофе.
Понемногу знакомились с городом. Его название «Кисловодск» было связано с изобилием источников минеральных вод в этом месте. Самая ценная была «нарзан». И этот город был одним из самых известных в России курортов, второй после Сочи. Уже тогда он был хорошо озеленённым, со скверами и цветниками, а от поворота дороги прямо к Нарзанной галерее шла аллея пирамидальных тополей, за ними был обширный и густой парк. Он был украшением и гордостью города и назывался Курортный парк. Налево от галереи стояли дома частных владельцев. В конце парка, на правой стороне речки, находилась купальня над холодным источником, который имел название Семиградусный. В городе и окрестностях росли многочисленные плодовые сады. Город стоял в окружении Кавказских гор, на склонах которых были субальпийские луга. В его окрестностях была горностепная растительность. Населяли Кисловодск русские, армяне и карачаевцы, по вере — христиане и мусульмане.


К концу XVIII века Кисловодская долина ещё не была заселена. Территория, где находился источник нарзана, никому не принадлежала, она была пограничной между землями Большой Кабарды на востоке и землями Мало-Абазинского племени на западе.
В 1793 году Кисловодскую долину посетил учёный Пётр-Симон Палас. Он впервые исследовал эту местность и источник нарзана, описав их.
Командующий войсками на кавказской линии граф И. И. Морков считается первооткрывателем курортных сезонов в Кисловодске. Вместе с женой и молодым секретарём Алексеем Ребровым он расположился лагерем над источником на Крестовой горе и стал принимать ванны из подогретого нарзана, чтобы вылечиться от астмы.
7 марта 1803 года вышел рескрипт Александра I о строительстве укрепления в том месте, «где находятся у Кавказских гор кислые воды». Так появилась крепость Кислые воды между двух речек, которые позже назвали Ольховка и Берёзовка. В строительстве участвовало шесть рот 16-го егерского полка из Константиногорской крепости с июня по октябрь 1803 года. Крепость была окружена рвом и была построена в форме звезды. Три горы вокруг назвали Казачья, Пикетная и Батарейная. Основателями и первыми жителями слободы вокруг крепости стали русские солдаты, которые оставались здесь жить после службы на склонах горки, которую так и назвали «Солдатская».

В 1812 году крепость была перестроена. В ней появились первые улицы: 1-ая и 2-ая Солдатские и Кабардинская (в честь Кабардинского полка, который перестраивал крепость). В этом же году появилась первая купальня на три ванны.
В это время генерал А. П. Ермолов сыграл основную роль в становлении и развитии Кисловодска. При нём передний край Кавказской линии был перенесён значительно южнее и набеги горцев прекратились. В 1822 году были выделены значительные средства на обустройство слободы.
По проекту двух братьев — Иоганна и Иосифа Бернардацци — над источником была построена двухэтажная роскошная ресторация (казённая гостиница) с колоннадой и лестницей, спускавшейся в парк и к источнику. И под лестницей был устроен грот. Позднее он будет называться Лермонтовским. В ресторации был обширный зал для танцев и балов, а также находились помещения для приезжающих на курорт.
В 1820-е годы в Кисловодске дважды побывал Александр Сергеевич Пушкин. В 1820 году во время своей первой поездки на Кавказ он приехал с семьёй генерала Н. Н. Раевского. Второй раз Пушкин приехал в Кисловодск в 1829 году, где проживал сначала в ресторации, а потом в доме А. Ф. Реброва.
В 1823 году по приказу генерала Ермолова начались работы по устройству кисловодского парка.
В середине XIX века по проекту архитектора Уптона была перестроена вновь Кисловодская крепость. Также им было построено здание Нарзанной галереи в средневековом английском стиле, которое строилось десять лет — с 1848 по 1858 годы.
Благоприятный климат Кисловодской слободы и её минеральные воды стали привлекать богатых людей. Здесь стали обосновываться известные купеческие и дворянские фамилии, представители столичной интеллигенции. Так, в знаменитом доме помещика Алексея Реброва гостили Михаил Юрьевич Лермонтов и Лев Николаевич Толстой.

25 июня 1903 года Кисловодская слобода по Указу Николая II была преобразована в город Кисловодск. И рядом с Курзалом в Верхнем парке построили прекрасную музыкальную раковину, которую назвали хрустальной за её высокие акустические свойства.
21 июля 1917 года Матильда с Андреем пили кофе у балетмейстера Михаила Михайловича Фокина с его женой Верой Петровной — танцовщицей. И всё говорили об одном и том же: оставаться или ехать обратно? Что будет дальше? На что решиться? (Фокины всё-таки вернутся в Петроград, в Мариинский театр, но уже с 1918 года будут жить за границей до конца своей жизни, сначала в Стокгольме, а затем в США).
Прошла ещё неделя, и 29 августа в Кисловодск приехала сестра Матильды Юлия Феликсовна со своим мужем Али. Они поселились на той же даче в соседнем флигеле. 21 сентября приехал из Петербурга Великий Князь Борис Владимирович, брат Андрея.
Вскоре выяснилось, что возвращаться в Петербург ещё нельзя. Лучше пережить зиму в Кисловодске. Дом Кшесинской и не думали возвращать, и было неизвестно, отдадут ли его. Нужно было искать зимнее помещение с отоплением. Матильда Феликсовна нашла другую дачу на Вокзальном переулке. Она принадлежала инженеру Беляевскому. Дача была с садиком, уютно обставленная. Хозяева жили на другой части дачи, совершенно независимо. И Матильда нашла себе кухарку и обзавелась небольшим хозяйством. Роскоши, к которой привыкла Кшесинская, конечно, не было, но она была рада и тому, что ни от кого не зависит, а живёт у себя. После скитаний по чужим квартирам в Петрограде в течение четырёх месяцев стало легче на душе. Переехали они на новую дачу в первых числах октября. С ними переехали и Юлия Феликсовна со своим мужем.
Пётр Владимиров (настоящая его фамилия была Николаев) — друг и молодой партнёр Матильды Кшесинской по Мариинскому театру — приехал из Сочи, где он лечился. Он тоже поселился на этой даче. Однажды он вздумал покататься верхом на лошади. Это закончилось плачевно: он упал с лошади и сломал себе нос. Довольно долго он после этого лежал в перевязке. А нос так и остался приплюснутым. На этот счёт кто-то сочинил историю об их дуэли с Великим Князем Андреем Владимировичем, который якобы стрелял в него из ревности к Матильде, и попал в нос… Кшесинскую сначала такие сплетни возмущали, она старалась оправдываться, что всё было не так, но со временем она и её окружение стали воспринимать такие слухи с юмором: на каждый роток не накинешь платок.

Петр Николаевич Владимиров в 1917 году был двадцатичетырёхлетним молодым человеком. Шесть лет назад, в 1911 году, он окончил Петербургское хореографическое училище, после чего стал партнёром Матильды Кшесинской. Он стал близким другом её семьи. Но после революции Матильда Феликсовна перестала танцевать, и их пути разошлись. Пётр Владимиров сначала возвратился в Мариинский театр, но позже тоже эмигрировал в Европу. Сначала он выступал в антрепризе Дягилева. Позже стал танцевать в труппе Анны Павловой, и последние три года жизни балерины был её партнёром. После сорока лет, в 1934 году, Пётр Николаевич уехал в США, где он до конца жизни преподавал в школе Американского балета и работал репетитором в Нью-Йорк Сити балле.
Когда жизнь потихоньку наладилась, то Кшесинская стала ходить в гости, посещая своих петербургских знакомых, которых в Кисловодске оказалось немало. Матильду угнетала мысль, что Великий Князь Сергей Михайлович остался в Петербурге и подвергает совершенно напрасно себя опасности. Она написала ему, чтобы он приезжал к ним в Кисловодск. Но Сергей продолжал откладывать свой приезд. Он всё надеялся освободить дом балерины. Также Великий Князь хотел переправить свои драгоценности, оставшиеся от матери, за границу, и положить их на имя Кшесинской. Он обратился к английскому послу, чтобы он помог это сделать, но тот отказался ему помочь. Сергей Михайлович хотел также спасти мебель из дома Кшесинской и перевезти её на склад к Мельцеру. Но даже, если он и успел это сделать, то это тоже в будущем оказалось бесполезным.
В октябре 1917 года Пётр Владимиров, оправившись от своего падения, решил вернуться в Петербург на службу в театр. Он обещал помогать Великому Князю Сергею Михайловичу насколько это будет в его силах. И своё обещание он выполнил. Не желая оставлять Сергея Михайловича Романова одного в Петрограде, он не стал возвращаться в Кисловодск, когда появилась такая возможность, а стал добиваться его переезда в Финляндию. Но из этого ничего не вышло. Бумаги были сделаны только на имя Великого Князя. Но он был в то время болен и не мог ехать без своего человека, который ухаживал за ним. Кроме того Сергей Михайлович боялся покидать Россию, как и другие члены Императорской фамилии, боясь навредить этим Николаю Александровичу Романову — недавнему Царю Николаю Второму. Когда он закончил все дела Матильды и всё-таки собрался ехать в Кисловодск, то было уже слишком поздно. Большевики взяли власть в свои руки. И путешествовать по России тогда было невозможно: бегущие с фронта солдаты могли выбросить пассажиров из вагонов, чтобы быстрее доехать домой.
В Кисловодск дошли известия о том, что произошёл в Петрограде большевистский переворот. Были конфискованы банки, сейфы и всё имущество «буржуев». Все богатые люди в один день стали нищими. У Кшесинской исчезла последняя надежда когда-либо вернуть свой дом. Она также поняла, что больше не имеет возможности вернуться в Петербург. Но больше всего ей было жаль писем Ники (Николая Второго), которые она столько лет хранила со времён их романтической юности, и последней его карточки, которую она оставила на квартире у Юрьева.
Письма Николая Матильда уложила в шкатулку, которые отдала своему большому и преданному другу Инкиной — вдове артиллериста. Кшесинская была уверена, что её подруге не грозят обыски и преследования. Её дочь была подругой детства сына Вовы. Матильда Феликсовна всё-таки надеялась, что когда-нибудь ей всё-таки вернут её самые дорогие воспоминания…
Матильда с Юлией в то время очень тревожились за своего брата Юзю и его семью, которые остались в большевистском Петрограде. Юзеф писал им невесёлые письма. В столице был голод, достать продукты было невозможно. С утра все шли в очереди, которые выстраивались у продовольственных распределителей. Однажды ему довелось увидеть жуткую картину: люди на улице дрались с голодными собаками возле трупа умершей лошади… «В квартире у нас стужа, — писал сёстрам Юзеф Феликсович, — водопровод замёрз, топим печку дровами от разобранных домов, мебелью, книгами, спать ложимся не раздеваясь. Гоняемся сутки напролёт за „пайками“, ибо за деньги купить ничего нельзя. Отменили плату за городской транспорт и электричество, но трамваи почти не ходят, а электричество то и дело отключают…» Матильда просила в письмах Юзю узнать, что там теперь с её особняком. Но достоверно узнать, что там в настоящее время внутри было невозможно: «Ездил по твоей просьбе на Каменноостровский. Попасть в дом невозможно, здесь теперь — главный большевистский штаб, толпы народа у подъезда и вокруг, в основном солдаты, у парадного входа дежурит броневик. Слышал, что, на втором этаже, где была спальня Вовы с балконом, живёт их предводитель Ленин с женой. Ожидают переезда новых властей в Москву, но пока всё остаётся по-прежнему».
О послереволюционном Петрограде Матильда позже читала в эмиграции и у Тамары Карсавиной в книге «Театральная улица»: «Население Петербурга заметно уменьшилось. Он обрёл новую трагическую красоту запустения. Между плитами тротуара выросла трава, его длинные улицы казались безжизненными, а арки напоминали мавзолеи. Трогательное величие осквернённого великолепия. Свечи стали дефицитом. В три часа уже темнело, и было особенно трудно продержаться до шести, когда давали электричество. Неестественная тишина города, зловещее молчание пустынных улиц ещё больше увеличивали опасения, делая напряжение почти невыносимым. Слух обострился до такой степени, что различал издалека чуть слышный звук шагов по плотному снегу. Винтовочный выстрел, пулемётная очередь — и снова тишина».
Эту картину можно дополнить и воспоминаниями Анны Ахматовой: «Все старые петербургские вывески были ещё на своих местах. Но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином Дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон „Крафта“ ещё пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены».
Детские воспоминания Нины Тихоновой об осени 1917 года в Петрограде были такими: «С едой становилось всё труднее, и даже мы, дети, которым отдавалось всё, не всегда были сыты. Я с любопытством рассматривала продовольственные карточки, новые денежные знаки достоинством в двадцать и сорок рублей — «керенки» — и огорчалась, что меня не берут с собой стоять в очереди за продовольствием.
Осенью положение совсем испортилось. По карточкам выдавались крохотные порции хлеба, смешанного с горохом и опилками, и иногда — протухшие селёдки. В комнатах стало холодно».
В своей брошюре «Расстрел Московского Кремля» епископ Нестор Камчатский описывал революционные события, которые происходили во второй столице России — городе Москве: «С 27 октября по 3 ноября сего 1917 года первопрестольная Москва пережила свою страстную седмицу и в течение семи суток расстреливалась артиллерийским, бомбомётным, пулемётным, ружейным огнём». И вот какая картина виделась священнику после этих событий: «Спасские ворота доныне были освящены святым обычаем, где всякий проходящий через эти св. ворота, даже иноверцы, с чувством благоговения обнажали свои головы. Теперь там стоит вооруженная стража с папиросами, ругается с прохожими и между собой площадной бранью. Спасская башня пробита и расстреляна. Знаменитые часы с музыкальным боем разбиты и остановились. Остановилась и стрелка часов в ту роковую минуту, когда ворвался тяжёлый снаряд в стены Кремля и наложил несмываемое пятно крови и позора на это священное сердце Москвы». Епископ скорбит о содеянном: «И хотелось бы сейчас открыть все Кремлёвские ворота и хочется, чтобы все, не только москвичи, но и люди всей России, могли перебывать на развалинах своих святынь. Но какие нужны слёзы покаяния, чтобы смыть всю ту нечистоту, которой осквернили Священный Кремль наши русские братья солдаты, руководимые врагами!» И у него возникает вопрос: «Глядя на разрушенный Кремль, невольно ставишь себе вопрос: «Кому и для чего понадобились все эти ужасы? Ведь нельзя же не понимать того, что в Кремле вся история могущества, величия славы, силы и святости Земли Русской. Если древняя Москва есть сердце всей России, то Алтарём этого сердца искони является Священный Кремль». И дальше священник пишет о своих чувствах: «Я видел Кремль ещё когда горячие раны сочились кровью, когда стены храмов, пробитые снарядами, рассыпались и без боли в сердце нельзя было смотреть на эти поруганные святыни. Сейчас же эти раны чьей-то сердобольной, заботливой рукой по мере возможности как бы забинтованы, зашиты досками, покрыты железом, чтобы зимнее ненастье не влияло на эти разрушения ещё более. Но пусть они — эти раны будут прикрыты, пусть их прячут, скрывают от Нашего взора, но они остаются неизлечимыми. Позор этот может загладиться лишь тогда, когда вся Россия опомнится от своего безумия и заживет снова верой своих дедов и отцов, созидателей этого Священного Кремля, собирателей Святой Руси. Пусть этот ужас злодеяния над Кремлём заставит опомниться весь русский народ и понять, что такими способами не создается счастье народное, а вконец разрушается сама, когда-то великая и Святая Русь».





Свои чувства описывал и Иван Алексеевич Бунин, живя в первые послереволюционные дни в Москве после погрома большевиков: «А потом было третье ноября. Каин России, с радостно-безумным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.
Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась.
Всё стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали — победители свободно овладели ею, каждой её улицей, каждым её жилищем, и уже водружали свой стяг над её оплотом и святыней, над Кремлём. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, — видит Бог, воистину так!…
Я постоял, поглядел — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма не склонен к слезам, наконец, заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.
А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в тёмные вечера, среди тёмной Москвы, с её наглухо запертым Кремлём, по тёмным старым церквам, скудно озарённым красными огоньками свечей, и плакавшими под горькое страстное пение: «Волною морскою… гонителя, мучителя под водою скрыша…»
Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало никогда не плакавших!»
В Петрограде всю зиму 1917—1918 года было холодно и голодно. Вот что об этом написала позже Нина Александровна Тихонова: «В феврале отец впервые подарил мне цветы — как взрослой… С тех пор бледно-розовые тюльпаны — навсегда для меня самые прекрасные цветы в мире.
Эффект, однако, был испорчен ошеломляющей новостью. Через несколько дней меня в сопровождении бабушки, брата, фрейлейн и Ивана Александровича отправили далеко за Урал. В Петрограде жить становилось слишком трудно, и решено было нас послать до весны в Екатеринбург, где проживал дед Тихонов».
Иван Александрович Луи был студентом и домашним учителем Нины. Фрейлейн — прибалтийская гувернантка обучала брата и сестру немецкому языку.
На Урале, в Екатеринбурге, последнем пристанище Царской семьи, тоже власть была уже в руках большевиков. Но там у населения ещё шла прежняя размеренна жизнь по старинным обычаям, как в прежней Руси.
«В Екатеринбург мы приехали к вечеру и почему-то были принуждены высадиться поодаль от станции и среди сугробов и рельс добираться до тускло освещённого перрона. Было почти темно, снег глушил шаги и голоса. Лилово-красной полосой догорал закат. В полумраке я разглядела медвежью шубу до полу. Из-под шапки-ушанки клином торчала длинная с проседью борода. «Ну, поцелуй дедушку!» — прохрипела шуба. От ужаса я оцепенела. — Вспоминала Нина Тихонова. — Так произошло моё знакомство с дедом Тихоновым. Он проводил нас в заранее приготовленное жилище и обиженно ретировался.
Поместились мы в доме Симоновых, богатых купцов, которых, как говорили, вывел в одном из своих романов Мамин-Сибиряк.
Революция резко изменила жизнь семьи Симоновых и принудила их сдать по знакомству для нас часть нижнего этажа, дабы избежать реквизиции излишней жилплощади. Их каменный дом в центре города был расположен внутри обширного двора и одной стороной выходил на улицу, носившую их имя. Улица была мощёная, обсаженная молодыми тополями. По ней всю зиму свозили снег за город. Когда весной он таял, вода потоком лилась обратно под гору и превращала на несколько дней Симоновскую улицу в нечто вроде Венеции. К этому все привыкли, и ежегодные наводнения были в порядке вещей.
По истечении недели всё высыхало. Между булыжниками пробивались первые иголочки травы. На тополях липкие от смолы почки восхитительно пахли никогда мне больше не встречавшимся ароматом северной весны.
Ещё несколько недель — и тополя, и улица под палящим солнцем покрывались толстым слоем пыли, клубами вздымавшейся из-под колёс проезжавших телег. Зимой сугробы засыпали окна. Температура падала до сорока ниже нуля, а когда градусник показывал «только» минус восемнадцать, детей выводили гулять.
В доме мы с бабушкой занимали кабинет хозяина, загромождённый конторкой и дорогой кожаной мебелью. В угловых витринах, называемых «горками», красовались пирамидки из уральских кристаллов и полудрагоценных камней. Куски белого кварца со славно цепляющимися за них самородками долота служили пресс-папье. К кабинету примыкала просторная комната, единственная с паркетным полом, оклеенная белыми с белыми же атласными полосками обоями. Она называлась «зало». В промежутках между окнами тянулись к потолку трюмо из красного дерева с пыльными зеркалами. Перед каждым окном зелёные фикусы старались забыть южное солнце. Дорогая мебель в чехлах, на подоконниках зелёные шёлковые ширмочки, драпированные занавеси говорили о бывшем финансовом благополучии хозяев. Посреди всей этой тяжеловесной роскоши на раскладной железной кровати спал Андрюша.
Дальше шли апартаменты хозяев, столовая и так называемая «угольная». Восточные ковры покрывали в ней стены, диваны и окна, не пропуская дневного света. От мерцания лампад поблёскивали золотые ризы множества икон, усыпанных драгоценными камнями и жемчугом.
В первом этаже были комнаты сыновей и маленькой Наденьки. Выше, по крутой лесенке, доступ в мезонин, жилище сестры хозяйки — Неонилы Егоровны, старой девы…
Два остальных крыла дома вели к кухне, где кухарка, встав посреди ночи, месила тесто, которое утром пекла в большой русской печи. В Екатеринбурге тогда ещё была мука, но все пекарни были закрыты, и каждая семья сама заботилась о своих надобностях. Также ежедневно пеклись пироги с морковью, капустой и изредка с солониной. Свежее мясо давно исчезло из обихода. По праздникам из сдобного теста пеклись «шанежки» — булочки, в середину которых вливалась сметана, а в Великий пост — жаворонки с изюмчатыми глазами.
За кухней и кладовыми, охраняемыми огромными ржавыми замками, шли конюшни, под навесом которых смущённо ютились несколько теперь неуместных экипажей. Баню топили каждую субботу, и весь дом тогда в ней парился, хлеща себя берёзовыми вениками. После бани на всех этажах пили чай. Пили долго и много. Даже мой брат выпивал по пятнадцать стаканов, уютно ютящихся в подстаканниках.
В доме хозяином и грозой был «сам» — крупный, тучный деспот. От его жены, приятной наружности женщины, исходили доброта и смирение. Симоновы были старообрядцами. И с религиозным уставом у них не шутили. Несмотря на присутствие трёх сыновей, ещё подростков, в доме всегда царила мёртвая тишина.
Главное зло в нём, однако, называлось Неонилой Егоровной, обитательницей мезонина, из которого она, как сова из дупла, следила за всем происходящим. Возможно, что положение старой девы, по тем временам нелестное, сделало её ядовитой и озлобленной. Даже «сам» перед ней слегка пасовал, и только Наденькина старая нянька постоянно позволяла себе с ней воевать.
Было трудно определить возраст няньки. У неё была крупная фигура русской крестьянки и, всё в морщинах иконописное лицо. На голове она носила повойник — нечто вроде туго завязанного чёрного платка, без которого никогда не показывалась. Верила нянька просто и искренне, что не мешало ей (на всякий случай) обвязывать Наденькину ручку красной шерстинкой от дурного глаза, подаренной… шаманом. Подолгу простаивала она на коленях перед образами, глубоко вдыхала и настойчиво учила меня креститься по-старообрядчески. Она периодически страдала мигренями, которые никому в голову не приходило ни лечить, ни облегчать, и всегда была беззаветно предана своей питомице.
Наденька была на год младше меня и очень избалована. Я часто приходила к ней играть. В общем, мы с ней ладили, а в случае конфликта я великодушно уступала «маленькой».
По праздникам нянька, отбив должное количество земных поклонов, одевала Наденьку в тёмные бархатные платья, отделанные соболями или горностаем, приводившие меня, воспитанную на английской строгости, в полное изумление. Три комнаты у Наденьки были уставлены игрушками, которые до революции отец выписывал для неё из всех стран Европы. От папы скрывали, что играла Наденька только со своим мягеньким свитером.
Мне помнится первая ночь в Екатеринбурге. На простыни, постланные на кожаном диване, падает лунный свет. За окном снежные сугробы сверкают холодным блеском, и неподвижный воздух словно звенит от тишины. Время от времени в нём расплываются удары деревянных колотушек ночных сторожей и их протяжная перекличка «слу-у-шай…» Я не сплю. Слышный издалека паровозный гудок тоской обжигает сердце.
Наутро снег весело блестит на солнце. Мы пьём чай и готовимся к визиту к деду Тихонову. Про него я впоследствии узнала, что он был надсмотрщиком на золотых приисках в Сибири, затем неудачливым купцом в Екатеринбурге. Такая биография не располагает к весёлому характеру; он был угрюм и скуп. Суровый взгляд его не внушал симпатии.
Мой отец был его старшим сыном. По окончании реального училища, где он получил все тогда существовавшие отличия, ему пришлось на собственные средства приобретать в Петербурге высшее образование и испытать там всю тяжесть жизни нищего студента. Поступив в Технологический институт, он примкнул к левым политическим организациям, был за это через пять месяцев исключён и отправлен обратно на Урал. Там он снова был арестован и после тюремного заключения всё же кончил Горный институт. В 1903 году он попал в окружение Максима Горького, сначала репетитором детей Марины Фёдоровны Андреевой — Кати и Жени Желябужских, а вскоре сделался литератором и его ближайшим сотрудником по издательским делам. Его дружба с Горьким длилась всю жизнь, несмотря ни на какие личные перипетии.
Постепенно мы освоились с бытом провинциального города, где развлечения для взрослых тогда сводились к игре в стуколку или преферанс и хождению на базар. У крестьян ещё можно было купить капусту и живых гусей, которых продавали парами, прямо на санях. Несли их домой вниз головой за связанные лапы.
Как-то раз меня повели в городской театр — старинное здание с белыми колоннами, где давали пьесу для детей «Стёпка-Растрёпка». Она мне не понравилась, но зал с его бархатными креслами и ложами, со складками красного с потемневшим золотом занавеса словно поглотил моё существо. С тех пор нет мне места милее, чем старый театральный зал и сцена, пахнущая закулисной пылью, где между верёвок, колосников и подлинялых полотен ощутима магия искусства, подчас рождающая неуловимое чудо, также мгновенно угасающее. В театре побеждено всё обыкновенное. В театре нет ничего невозможного…
Как восхитительна весна в Екатеринбурге! Не успели почернеть сугробы, как солнце заиграло зайчиками в лужах, бойко закапала с крыш вода и, падая со стеклянным звоном, разбиваются ледяные сосульки. Озорной ветерок гонит облака и тучи. Грачи летят!


На Страстной неделе я впервые присутствовала на службах в скромной гимназической церкви, где мой отец ребёнком был служкой. Торжественный обряд, трепет свечей, запах ладана вызывали новое для меня душевное волнение. О значении обрядов я имела смутное понятие, но оно мне и не было нужно. Пение, громовые возгласы дьякона рождали чувство, что происходит что-то очень важное.
После Двенадцати Евангелий толпа ручейками растекалась в разных направлениях. Люди прижимали к груди веточки вербы с пушистыми зайчиками, бережно охраняя ладонью огонёк своей свечи. Его обязательно нужно было донести до дому, чтобы снова на весь год зажечь погашенные лампады. Дышалось удивительно легко, и благость несли в душе люди, на какой-то миг ставшие чистыми.
В доме Симоновых пасхальные приготовления принимали грандиозные размеры. На Страстной неделе выставлялись двойные рамы в окнах. В душные комнаты врывался весенний ветерок. Весь, с головы до ног, вымытый дом сразу помолодел. Прислуга и хозяйка сбивались с ног.
На Заутреню все шли приодевшись и с волнением. У входа в церковь на вышитых полотенцах расставлялись куличи для освещения. Внутри иконостас, украшенный бесхитростными розами, сиял множеством свечей.
В полночь, подпевая певчим, все шли вокруг церкви Крестным ходом и трижды целовались после торжественного «Христос Воскресе!» Дома у Симоновых стол ломился от давно забытых яств, каким-то чудом приобретённых в городе, где почти все лавки из-за отсутствия продуктов были закрыты.
На следующее утро на линейке — экипаже, мною до того невиданном, — приезжало духовенство: священник, дьякон и певчие. После краткого молебна перед иконами они усердно выпивали и закусывали. Таким образом, они объезжали всех своих богатых прихожан. Вечером языки у них порядочно заплетались, и мало кто мог влезть на линейку самостоятельно.
Днём появлялись визитёры, в сюртуках и мундирах, выразить своё почтение. Обычай требовал, чтобы глава семейства делал визиты своему начальнику и знакомым поважнее. Тонкие светские нюансы обязывали в каждом доме к более или менее длительному присутствию, в некоторых случаях заменяемому занесённой визитной карточкой. Всё это потом обсуждалось хозяевами.
На второй день Пасхи разъезжали таким же образом разряженные дамы. Дети во дворе катали покрашенные луковой шелухой яйца или, стараясь не угодить в лужи, играли в городки. Молодёжь толпилась возле церквей и трезвонила в колокола. Со всех концов города переливчато и на разные голоса славили они радостную весть — Христос воскрес!
Вероятно, в ту Пасху 1918 года был так, по незапамятным законам, в последний раз отпразднован обычай, с тех пор канувший на Руси в небытие».
Большевизм шёл по России семимильными шагами и захватывал всё новые и новые области. Но до Кисловодска он докатился только в феврале 1918 года. До этого времени там жили все мирно и тихо, лишь иногда нарушался покой людей какими-нибудь обысками и грабежами под разными предлогами.
Вова в этом году учился в местной гимназии. Там был превосходный состав преподавателей. И сын Кшесинской с успехом овладевал знаниями и окончил весной это учебное заведение с отличием. У него появилось немало друзей среди его сверстников. Он с ними играл в парке. Но иногда они шалили, и Володя приходил домой в разорванном пальто или костюме. Иван, который находился при нём, негодовал в такие дни.
В Кисловодске у Матильды Феликсовны оказалось много знакомых и друзей. И они постоянно собирались то у одного, то у другого или к обеду, или просто попить чай и поиграть в карты, чтобы хоть немного отвести душу. Сидеть по одному дома было тревожно и мучительно. Местные власти время от времени объявляли, что запрещается выходить на улицу после девяти часов вечера до утра. Но слишком рано никто не хотел расходиться, поэтому частенько все вместе сидели у кого-нибудь до утра.
Так прожили до конца 1917-го года. Встречая новый 1918 год, надеялись, что что-то изменится в стране. И все смогут вернуться по своим домам. Но надежды оказались несбыточными.
Глава 6. Начало 1918–го года. Приход большевиков в Кисловодск
В начале года и в Кисловодске начал ощущаться большевизм. До этого времени до беженцев лишь доходили слухи о том, что творится в столицах и больших городах России. Все надеялись, что до юга революционная волна дойдёт нескоро. И всё-таки всем уже становилось ясно, что и здесь скоро начнутся испытания, избегнуть этого им не удастся.
Первым городом, захваченным в Кавказских Минеральных водах, был Пятигорск. Он был местным административным уездным (или окружным) центром, находившимся у пятиглавой горы Бештау (название горы было тюркского происхождения и означало «пять гор»). Губернским городом был в то время Ставрополь.
По Кючук-Кайнарджийскому мирному трактату с Турцией в 1774 году часть Кабарды вместе с большей частью Пятигорья отошла к России. Через семь лет по Ясскому миру Россия приобрела Большую Кабарду и правый берег Кубани. В 1787 году старшины, князья и правители Балкарии обратились к графу Потёмкину с прошением о принятии в подданство. Так эти земли стали российскими.
По инициативе генерала А. П. Ермолова в 1825 году поблизости горы Машук (Бештау) по обеим берегам реки Подкумок была образована казачья станица Горячеводская (Горячие Воды), а через пять лет — 14 мая 1830 года указом Сената разросшееся поселение Горячеводск было возведено в степень уездного (окружного) города под названием Пятигорск.
Это был город-курорт, который стал в начале двадцатого века промышленным, торговым, научным, культурным и туристическим центром Кавказских Минеральных Вод. Он славился лермонтовскими местами. Восемнадцать лет жители города собирали средства на памятник русскому поэту, и в 1889 году состоялось открытие в Пятигорске памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову, который в этих местах погиб на дуэли.
Здесь, в Пятигорске началось всё то, что проделывалось в занятых прежде советской властью городах: аресты офицеров, закрытие банков….
Без тревожных известий обходился редкий день в Кисловодске. Всех потрясла свежая новость: в Пятигорске был зарублен генерал от инфантерии Николай Владимирович Рузский. Он находился на положении заложника. И красногвардейская охрана лишила его жизни. В его штабе в минувшую войну служил Великий Князь Андрей Владимирович…
Вскоре большевики неожиданно появились и в Кисловодске. Правда, для жителей это было почти незаметно
В последние дни января, числа 27-го, Кшесинская собрала у себя на обед близких друзей. И в десятом часу вечера вдруг нагрянул отряд красноармейцев с обыском. Держали они себя, в общем-то, корректно, и обыск был поверхностным. Зачем они пришли было совсем непонятно. Видимо, им было интересно посмотреть на то, как живут в Кисловодске «буржуи». Они хотели отобрать у них оружие. Но никакого оружия в доме Кшесинской никогда не было. Но Андрей, как и многие в то время, носил черкеску с кинжалом. Услыхав, что ищут оружие, он быстро снял кинжал и бросил его в передней. Но один из солдат заметил исчезновение у него кинжала. Матильда поторопилась ответить за Андрея, что кинжал в передней, так как посчитала, что будет хуже, если его найдут там сами производящие обыск. По примеру Андрея Вова тоже носил при себе свой детский кинжал. Солдаты хотели отобрать его тоже, но Иван пристыдил их:
— Как вам не стыдно обижать мальчишку? И отбирать его детский кинжал? Какое это оружие?!
И дяди оставили игрушку гимназисту. Вскоре красноармейцы ушли, но минут через пятнадцать один из них вернулся и потихоньку посоветовал:
— Люди добрые, расходитесь-ка быстрее все по домам. А то вам может прийтись плохо, если отряд придет сюда ещё раз…
И люди тотчас же стали собираться. И все в душе благодарили этого солдата за заботу о них. Что его побудило вернуться? Это осталось неизвестным. Его больше никто из этой компании не встречал.
«До марта месяца, покуда он оставался в Петрограде, я переписывалась с Сергеем Михайловичем довольно-таки регулярно, и из его письма я узнала, что около двадцатого марта он и Великие Князья, проживавшие в Петрограде, должны будут по приказу властей покинуть столицу. После его отъезда письма стали приходить реже и нерегулярно, но всё же по ним мы всегда знали, где он находится. Сначала он был в Вятке, затем переехал в Екатеринбург, откуда я получила несколько открыток и одно письмо. Многие наши письма доходили и до него. После довольно долгого перерыва мы получили от него в конце июня телеграмму, посланную 14-го ко дню рождения Вовы. Мы получили её за несколько дней до его трагической смерти. Из неё мы узнали, что он в Алапаевске. Это была последняя от него весточка. Вскоре по радио сообщили, что Сергей и члены семьи, находившиеся вместе с ним в заключении в Алапаевске, похищены белогвардейцами. Это сообщение, увы, было заведомо ложное. Но кто тогда мог допустить такое вероломство. А как мы были счастливы, что они спасены. Год почти что спустя, когда Сергея уже не было в живых, мы получили несколько открыток и даже одну телеграмму, застрявшие в пути», — с грустью вспоминала в Париже Светлейшая княгиня Романовская-Красинская о своём благодетеле и сидела, задумавшись. Но надо было продолжать писать мемуары. Кшесинская остановилась на весне 1918-го…
Время шло к маю. 30 апреля в Кисловодск прибыла финансовая комиссия, которую возглавлял комиссар Булле. Кажется, он был латышом по происхождению. Его прислали из Москвы, чтобы собрать со «скопившихся в Кисловодске „буржуев“ 30 миллионов рублей контрибуции». Их всех собрали в «Гранд Отеле». Там заседала эта комиссия. Кшесинская в этот день была очень больна, еле держалась на ногах. Увидев это, Ревека Марковна Вайнштейн, еврейка, с которой они подружились в Кисловодске, по собственной инициативе обратилась к комиссару Булле:
— Товарищ комиссар, здесь в зале находится балерина Кшесинская. Она очень больна. В Петербурге Матильда Феликсовна одна из первых пострадала от революции. Она потеряла свой дом и всё своё имущество, и с неё уже нечего взыскивать в виде контрибуции.
После этого Булле подошёл к Кшесинской и спросил:
— Матильда Феликсовна, как Вы себя чувствуете?
Она ответила, что неважно.
— Тогда возвращайтесь домой. Я прикажу дать для Вашего отъезда экипаж и проводить Вас.
Кшесинскую отвезли домой и более не требовали с неё контрибуцию.
Но общение с большевиками продолжалось. Вскоре к Матильде Феликсовне на дачу пришли два красноармейца — Озоль и Марцинкевич. Озоль был хвастливым, хотел произвести на Кшесинскую впечатление. Тут же вынул из кармана свои ордена и наградные значки и стал показывать. Рассказал, что был ранен на войне и лежал в лазарете имени Великой Княжны Ольги Николаевны (дочери Николая Второго). Марцинкевич был совсем молодым и держался скромно. Он был красивым и стройным, в черкеске. Они оба пришли, чтобы пригласить Кшесинскую выступить на благотворительном спектакле в пользу местных раненых.
Матильда Феликсовна была очень удивлена и возмущена тем, что они посмели обратиться к ней с такой просьбой. Это было выражено на её лице. Увидев это, они поспешили её заверить, что среди тех, для кого этот благотворительный концерт делается, немало с прежними воззрениями. Тогда Кшесинская стала им говорить:
— Если бы я и захотела выступить, то всё равно не смогла.
— Почему? — спросил Озоль.
— Все мои костюмы остались в Петербурге.
— Мы можем их Вам привезти.
— Спасибо, не нужно. Это слишком хлопотно. Но я подумаю, чем я смогу быть вам полезна…
— А что вы ещё можете делать?
— Ну, например, продавать программы и шампанское.
— Ну, хорошо. Мы рассмотрим ваше предложение.
Озоль ушёл первым. Марцинкевич под каким-то предлогом остался, желая наедине поговорить с балериной.
— Матильда Феликсовна, если у Вас будут какие-либо неприятности, то обращайтесь лично ко мне немедленно.
— Спасибо, — ответила она. — Это очень трогательно с Вашей стороны.
Когда большевики ушли, то Матильда облегчённо вздохнула: ещё не хватало ей таких выступлений! За Советскую власть! И всё-таки она решила, что полный отказ от участия в их вечере мог бы повлечь на неё неприятности, так как её пришли просить об этом лично. А это по возможности нужно было избегать с власть имущими.
«Вскоре после этого визита в Курзале был какой-то спектакль или концерт, и я сидела в креслах. Марцинкевич, увидав меня, сразу подошёл ко мне и на виду у всех почтительно поцеловал мне руку», — вспоминала Светлейшая княгиня Романовская-Красинская.
Строительство Курзала в Кисловодске было закончено в 1895 году. Так что он существовал уже четверть века. Курзал находился недалеко от железнодорожного вокзала. Так называлось помещение на курорте, которое было предназначено для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, таких как концерты или собрания. В нём размещались киноконцертный зал, лекторий, библиотека и различные игровые помещения (например, бильярд). В Курзале организовывали в былые времена различные выставки, вечера отдыха, театральные представления, музыкальные вечера.
Матильда Феликсовна дальше продолжала: «Благотворительный вечер, на который меня приглашали Озоль и Марцинкевич, прошёл совершенно благополучно и даже произвёл на меня самое лучшее впечатление своим порядком и отличной организацией. Устроители вечера меня встретили как в былое время и на каждом шагу старались оказать мне внимание». По окончании вечера организаторы предлагали проводить танцовщицу домой, но её проводил один из старых друзей — Константин Молостов, бывший офицер Конного полка.
Позднее Матильда Феликсовна не раз встречала Марцинкевича. И он всегда был очень грустным. Ей казалось, что он не вполне сочувствует новой власти, которой служил. Последний раз она его видела в «Гранд Отеле». Он сказал балерине:
— Меня посылают из Кисловодска с отрядом. Возможно, я сюда больше не вернусь…
И после этого Кшесинская его больше никогда не видела и ничего не слышала о нём.
Матильда вспоминала и других людей, с которыми была знакома в Кисловодске: «Лидия Алексеевна Давыдова играла довольно видную роль в Кисловодске. Она сама была чрезвычайно красива и была матерью четырёх очаровательных дочерей». Её девичьей фамилией была Мещеринова. Она была замужем за человеком из финансового мира — Евгением Фёдоровичем Давыдовым. Два его брата тоже были финансистами. Старший его брат, Виктор Фёдорович, был директором Русско-Азиатского банка, второй брат, Леонид Фёдорович, был директором Кредитной Канцелярии Министерства Финансов. Конечно же, эта семья имела средства, и жили они довольно-таки широко.
Весной 1918 года Лидия Алексеевна Давыдова задумала устроить спектакль для детей. Ей хотелось хоть немного их развлечь и отвлечь внимание детей от грозных политических событий, происходящих в стране. Ставили фантастическую пьесу «Калиф-Аист». И Лидия Алексеевна пригласила в число актёров сына Матильды Феликсовны. Но ей эта мысль не очень понравилась, так как танцовщица особых артистических способностей за Вовой не замечала. Матильда Феликсовна боялась, что он с треском провалится на спектакле. Но у мальчика было горячее желание играть на сцене. Кшесинская, уступив настойчивости сына, дала не без страха своё согласие. На первых репетициях она не присутствовала, но однажды пришла посмотреть, как её сын справляется с ролью. Она удивилась и обрадовалась, так как он отлично справлялся с ней. Всё-таки какие-то природные способности от талантливых предков Кшесинских передались и ему. Дома она стала отрабатывать с Вовой кое-какие моменты и проходить с ним роль ещё и ещё раз. Учила его правильно выражаться и держаться на сцене, обучала некоторым жестам. Затем они с горничной Людмилой стали шить ему костюм, который очень удался. По роли Вова менял головной убор: то был калифом, то аистом. Перед спектаклем Матильда Феликсовна слегка загримировала своего юного артиста. В общем, волнений было много. Но спектакль прошёл на славу. Актёры хорошо справились со своими ролями, и зрители им шумно аплодировали. Зал театра был полон — спектакль привлёк много народа.
Люди, видимо, уже очень соскучились по искусству. Среди зрителей были представители не только юной смены, но и много взрослых, причём, довольно представительных. Курьёз этого вечера был в том, что дети объединили своим искусством представителей разных лагерей: в одной ложе был представитель династии Романовых — Великий Князь Борис Владимирович, а в другой — представители новой власти — Булле, Лещинский, Марцинкевич…
Глава 7. Власть большевиков усиливается. Бесконечные обыски
Большевизм входил в Кисловодск не внезапно, а постепенно. Как вспоминала Матильда Феликсовна: «Придут, налетят с блиндированным поездом, уйдут, и снова период сравнительного затишья, до следующего налёта». Блиндированным поездом она называла бронепоезд.
И в эти спокойные периоды беженцы продолжали собираться вместе пообедать или поиграть в карты. Никто не любил в это время сидеть дома по одному. В те дни, когда разрешали возвращаться домой ночью, засиживались допоздна. Но это с каждым днём становилось опаснее. С Кшесинской случилось два неприятных случая, хоть она одна не ходила, а всегда возвращалась с провожатыми.
Первый раз они шли домой с Костей Молостовым. Было уже абсолютно темно. Вдруг из тьмы раздался голос:
— Кто идёт?!
И появилась фигура солдата с ружьём.
— Мы идём домой… — стали объяснять ему.
Он грубо прервал, крикнув им вслед:
— Поторапливайтесь, а не то я вам выстрелю в зад!
Они оба затаили дыхание и прибавили шагу, стараясь быстрее скрыться.
В другой раз Матильда шла с одним из партнёров по карточной игре — Мариновым. Он слыл за богатого человека, так как имел писчебумажный магазин. Шли ранним утром, когда солнце только-только начинало вставать. Они прошли с ним вокзал и железнодорожный мостик, который вёл к Вокзальному переулку. Здесь находилась дача, где жила Кшесинская. Направо от дорожки, на скамейке, в кожаных куртках сидели два подозрительных типа. Матильда несла в руках коробку с игральными жетонами. Они при ходьбе побрякивали. И она боялась оглянуться, хотя ей показалось, что эти довольно подозрительные люди пошли за ними сзади. У калитки дома балерина попрощалась с провожатым, а он пошёл дальше. Не успела Матильда раздеться, как раздался звонок в дверь. Горничная Людмила открыла. Перед ними стоял весь оборванный и истерзанный Маринов. Как только Матильда зашла в калитку, те два типа набросились на него, взяли бумажник и портсигар, а также сорвали кольца с пальцев. Маринов оказал сопротивление, они избили его и разорвали на нём одежду. И вид у него был весьма плачевный.
После этих двух случаев Матильда боялась возвращаться домой ночью даже с провожатыми.
По ночам несколько раз на даче Кшесинской были обыски. Однажды красноармейцы пришли и днём, потребовав у хозяев паспорта. Матильда показала им свой и резко сказала:
— Можете не сомневаться: у меня настоящий паспорт! Я — артистка Императорских театров!
Один из солдат взял паспорт из рук Кшесинской и стал рассматривать. Она увидела, что он держит его вверх ногами. Матильда вырвала паспорт из рук проверяющего и с гневом сказала:
— Нечего разглядывать мой документ, коль вы — неграмотный! Я буду жаловаться на вас вашему начальству!
Иван встретил вошедших крайне недружелюбно и тут же выпроводил вон:
— Давайте, шагайте отсюда! Устроили тут самоуправство!
Обыкновенно обыски сопровождались тем, что отбирали всё ценное, что попадалось солдатам под руки. Все стали прятать драгоценности и деньги, проявляя свою находчивость. Приходилось менять места, так как всё равно прятали примерно в одинаковые места. Если солдаты находили такое место в одной квартире, то начинали сразу смотреть там же в других. Некоторые прикалывали деньги под ящик, его открывали, и там денег не было. Потом эту хитрость открыли и стали сразу переворачивать ящики. Кшесинская прятала деньги между рамами в окнах, а драгоценности в полых ножках кровати. Женщины прятали свои кольца в банках с помадой. Некоторые дамы любили хвастаться своей находчивостью — куда они прячут свои вещи, кто-нибудь это подслушивал и тайна раскрывалась. Многие так попадались на своём хвастовстве.
В начале лета, 7 или 8 июня, рано утром, опять пришли с обыском. Хотя Матильда Феликсовна и испугалась, но как это обычно бывает в минуты опасности, встретила она красноармейцев очень энергично. Вова ещё крепко спал, и Кшесинская боялась, что они его напугают. Она попросила солдат:
— Я прошу вас, не входите в комнату к сыну! Он ещё спит! У меня уже нечего отбирать — всё, что можно — отобрано.
Красноармейцы ничего не трогали, обсмотрели все комнаты и ушли. Матильде показалось, что они кого-то искали. Потом она узнала, что по всему Кисловодску в тот день искали Великого Князя Михаила Александровича Романова — брата бывшего Царя. По их сведениям он бежал из Перми на Северный Кавказ. И предполагали, что он укрылся в Кисловодске.
Великий Князь Михаил Александрович — младший брат Николая II был военачальником. Именно ему старший брат и хотел передать власть, когда отрёкся от престола. Формально он правил Россией 16 часов, поэтому является последним законным правителем — Императором России от дома Романовых. (Это оказалось символичным: с Михаила Романова династия началась и Михаилом закончилась через 304 года!)

Михаил Александрович был блестящим гвардейским офицером. Его очень любили в русской армии. Увлекался охотой, спортом и автомобилями. Был заядлым театралом. Выступал меценатом и покровителем многих научных и общественных организаций, а также являлся шефом нескольких элитных частей как царской, так и зарубежных армий. Назначался членом Государственного совета и Комитета министров. В годы Первой мировой войны был командующим Кавказской Туземной конной дивизией (её называли «Дикой дивизией») на Юго-Западном фронте.
После февральской революции Михаил Александрович был главным претендентом на российский престол.
3 марта 1917 года в своём ответе на манифест об отречении Николая II он писал, что примет верховную власть только в том случае, если народ выразит на то свою волю, посредством всенародного голосования на Учредительном собрании. Но сначала он был обманут Керенским, провозгласившим республику, а затем большевики разогнали Учредительное собрание.
После мартовских событий Великий Князь поселился в Гатчине, где вёл жизнь обычного гражданина. А когда случилось корниловское выступление, в ноябре 1917 года, он был взят под домашний арест. По постановлению Гатчинского Совета, в связи с тревожной обстановкой и возможным наступлением немцев на Петроград, Великий Князь Михаил Александрович был арестован вместе со своим окружением.
Все они были доставлены в Петроградскую ЧК. Моисей Соломонович Урицкий — 1-й председатель Петроградской Чрезвычайной Комиссии — предложил выслать арестованных в Пермскую губернию. Было вынесено решение, подписанное В. И. Лениным — руководителем правительства большевиков — о высылке. Михаилу Александровичу было разрешено взять с собой обширный багаж и даже автомобиль Роллс-Ройс. При нём оставили и его личного водителя и секретаря.
В ночь с 12 на 13 июня 1918 года Михаил Александрович был похищен из гостиницы «Королёвские номера» в городе Перми и убит в лесу Г. Мясниковым и четырьмя его пособниками в районе Малая Язовая. Его убили вместе с секретарём, гражданином Великобритании Брайаном Джонсоном. Убийство было совершено без официальных санкций от властных структур, причём лица, совершившие убийство, сознавали незаконность своих действий. Вещи убитых были разделены между исполнителями и организаторами похищения и убийства. В частности, В. А. Иванченко получил «золотые шестиугольные часы червонного золота» с надписью на одной из крышек «Михаил Романов», а начальнику отделения милиции А. И. Плешкову, разрабатывавшему план убийства, были отданы золотое именное кольцо, пальто и штиблеты Великого Князя….
Материалы расследования убийства были сфальсифицированы. И было объявлено «бегство» Великого Князя. Это послужило основанием для репрессий к другим членам Российского Императорского Дома и лиц из их окружения на Урале. Из Екатеринбурга на имя Ф. Э. Дзержинского, В. Д. Бонч-Бруевича и Я. М. Свердлова пришла телеграмма: «После побега Михаила Романова в Алапаевске нашим распоряжением в отношении всех содержащихся лиц романовского дома введён тюремный режим. Председатель областного Совета Белобородов». И, якобы за «участие в организации побега» Великого Князя Михаила Александровича, 9 октября 1918 года было расстреляно семь человек…
Это было первое в череде убийств представителей династии Романовых.
14 июня в курортный город ворвались казаки. С раннего утра послышались сначала дальние выстрелы, которые приближались к городу со стороны вокзала. Перестрелка стала сильнее, начался бой. И по городу стали ползти слухи, что казаки наступают на Кисловодск. Казаки, действительно, проскакали через город. Жители смотрели на них с великой радостью. Но стрельба вскоре прекратилась, и в городе установилась мёртвая тишина. Не было видно ни казаков, ни большевиков. И всем стало ясно, что казаки снова куда-то ушли, а люди остались во власти большевиков. По городу вновь стали бродить банды большевиков и арестовывать всех, кого они заподозрили в сочувствии к казакам.
Позже жители Кисловодска узнали, что это был налёт партизанского отряда Андрея Шкуро. Его целью было ограбить казначейство большевиков и отобрать у них оружие для своих партизан, что они успешно и осуществили. Но после ухода партизанского отряда в городе начались жестокие репрессии.
Андрей Григорьевич Шкуро — известный военачальник и белогвардейский атаман. Родился он в 1887 году на Кубани в семье местного казака-подъесаула. Отец его не мыслил судьбу сына вне военной карьеры. Во время Первой мировой войны Андрей Шкуро был офицером 3-го Хоперского полка и командиром казачьей сотни. Он первым успешно применил в бою легендарную тачанку. Будущий атаман становится есаулом (капитаном) казачьих войск. Его награждают орденом Святой Анны IV степени и почётным Георгиевским оружием. В это время Шкуро вынашивает идею создания кавалерийских отрядов, которые осуществляли бы рейды в тылу врага. Идею офицера одобряют, и Андрей Шкуро становится командиром Кубанского конного отряда особого назначения. Весь 1916 год проходит в рейдах по вражеским тылам. Партизаны Шкуро вскоре осознали своё исключительное положение в царской армии и вместе с командиром придумали свои собственные атрибуты. Одним из них было чёрное знамя с изображением волчьей головы. Товарищи по оружию вскоре окрестили их волчьей сотней, волками.
Февральская революция застала Андрея Шкуро и подвластных ему казаков в Кишинёве. Здесь он служил под командованием знаменитого русского военачальника графа Келлера. Из Молдавии Шкуро направляется на Северный Кавказ, а позднее — в Персию. Его «волки» успешно держали фронт против турецких войск. Но русский фронт начинает раскалываться на белых и красных. Тогда Шкуро отправляется в Кисловодск, где у него находилась семья. В это время в городе уже хозяйничали большевики. За Шкуро следили агенты новой власти. Ему грозил расстрел. Но начальство большевиков, учитывая его огромный военный опыт, предлагает казачьему полковнику отречься от «контрреволюционного прошлого» и приступить к формированию красного отряда, который должен был начать борьбу с немцами. Шкуро согласился для вида, но вскоре со своими соратниками ушёл в горы. Там его встретила «Южная кубанская армия» в составе десяти человек. Но вскоре под командованием Шкуро было уже не менее пяти тысяч человек. Большевики двинули на подавление белых партизан крупные силы, но им так и не удалось уничтожить «батьку» Шкуро и его крупный отряд.

Через день после налёта Шкуро большевики произвели под вечер обыск на даче Семёнова. Там проживала Великая Княгиня Мария Павловна со своим двумя сыновьями — Борисом и Андреем Владимировичами. Они искали и отбирали, главным образом, оружие — шашки и кинжалы. Когда закончился обыск, то главарь большевистской банды приказал Великому Князю Борису Владимировичу и адъютанту Великого Князя Андрея Владимировича полковнику Фёдору Фёдоровичу Кубе, следовать за ними. Один из солдат спросил у старшего, почему не взяли второго Великого Князя — Андрея Владимировича. На что тот ответил:
— Его арестовывать не надо: он умный и хороший, и очень образованный.
Это было так и на самом деле. Но и Борис был тоже подстать своему брату. Они оба никогда никому зла не делали.
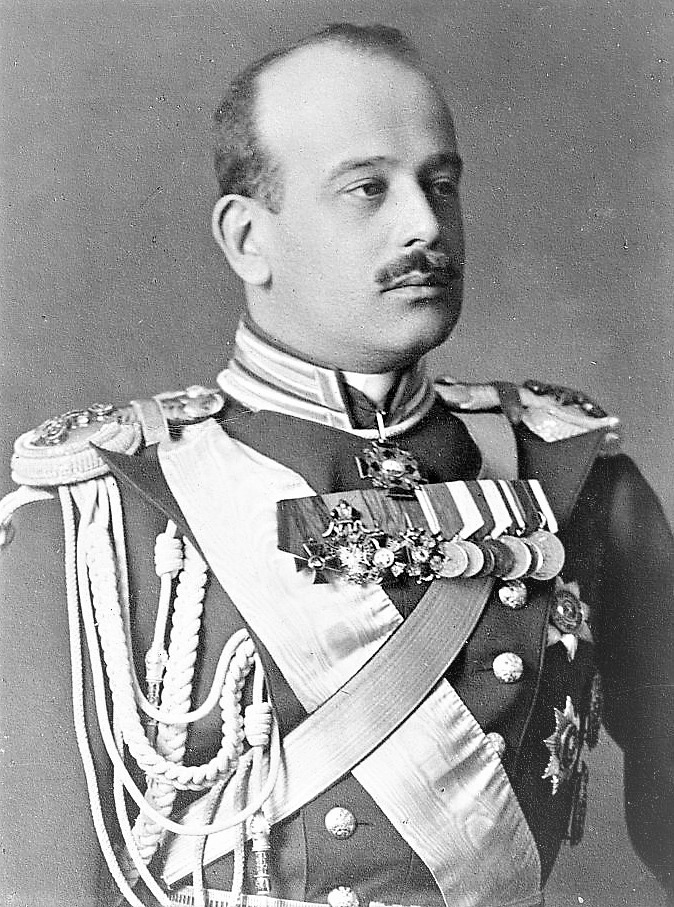
Борис Владимирович Романов был родным братом Андрея Владимировича и двоюродным братом Николая Второго. Родился в 1877 году. Он был внуком Александра II и племянником Александра III. В семье был третьим сыном. Его родителями были Великий Князь Владимир Александрович (родной брат Александра III) и Великая Княгиня Мария Павловна Мекленбург-Шверинская. В 1896 году Борис окончил Николаевское кавалерийское училище. Великий Князь участвовал в русско-японской войне и был награждён золотым оружием с надписью «За храбрость» за дело при Хаояне. В 1914 году, во время Первой мировой войны, был назначен командиром лейб-гвардии Атаманского Наследника Цесаревича полка и вскоре стал генерал-майором Свиты. Затем являлся походным Атаманом всех казачьих войск при Императоре Николае II. В марте 1917 года находился под домашним арестом в Английском дворце в Царском Селе. С 7 августа был официально уволен от службы «по прошению» с мундиром. В сентябре Борис Владимирович уехал к матери и брату в Кисловодск.
К этому можно добавить, что Борис Владимирович славился своим весёлым характером и гостеприимством, вёл бурную публичную жизнь, но личную жизнь старался спрятать от посторонних глаз. Как и отец, он был любителем изысканной кухни и почитателем искусств. Во время революции эта любовь к искусству спасла ему и брату Андрею жизнь. Вот как об этом рассказал его молодой дядя — Великий Князь Александр Михайлович в своей книге воспоминаний: «Командир большевистского отряда, которому было приказано расстрелять этих двух Великих Князей, оказался художником, который провёл несколько лет жизни в Париже в тяжкой борьбе за существование, тщетно надеясь найти покупателя для своих картин. За год до войны великий князь Борис Владимирович, прогуливаясь по латинскому кварталу, наткнулся на выставку художественно нарисованных подушек. Они понравились ему своей оригинальностью, и он приобрёл их значительное количество. Вот и всё. Комиссар не мог убить человека, который оценил его искусство. Он посадил обоих Великих Князей в автомобиль и повёз их в район белых армий…»

Бедная Великая Княгиня села на балкон, к ней подошёл сын Андрей, и они печально смотрели на дорожку, по которой уводили арестованных. Мария Павловна боялась, что больше уже никогда не увидит своего сына Бориса. Часа четыре они просидели так в напрасном ожидании. Это утомило их обоих.
После налёта казаков все ожидали расправ. Но в первом часу ночи Борис и Кубе вернулись на дачу.
По их рассказам, их положение спас студент, который изображал из себя следователя или прокурора. Сначала их посадили на скамью, и никто не обращал на них внимания. Потом их ввели в комнату, где сидел этот студент. Он спросил их, за что они арестованы. Они ответили, что не имеют понятия. Тогда студент вызвал старшего, который производил обыск. Но тот ничего вразумительного сказать не смог. И студент их освободил, дал пропуск и сказал, чтобы они быстрее возвращались домой, так как ночью теперь снова запрещалось ходить по городу.
Летом повадился ходить на дачу Кшесинской какой-то странный человек. Он спрашивал её и хотел во что бы то ни стало видеть Матильду. Но как она выглядит — не знал. Матильда, завидев этого человека, пряталась, а горничная Людмила говорила ему, что Кшесинской нет дома. Тогда он стал спрашивать её, как она выглядит. Людмила сообразила, что ему опасно давать приметы балерины. И радостным тоном описала наружность их кухарки. Она была дородная, крупная и рыжая. Однажды он её застал на даче и очень обрадовался. Но, заговорив с ней, понял, что его обманули.
Один раз Матильда с сыном и её сестра с мужем пили чай в день именин барона Зедделера. Было это в конце лета — 30 августа. Этот странный мужчина подошёл к барону и стал с ним разговаривать, не зная, что Али — муж сестры Матильды. Кшесинская очень испугалась, что он её узнает. Она тут же прикрыла лицо шляпой, вся съёжилась и пыталась изобразить из себя девочку, наклонившись к сыну и что-то говоря ему. К её большой радости мужчина танцовщицу не узнал.
В другой раз к ней заявился один господин, заявив, что он — анархист. Одет он был в парусиновую рубашку с чёрным галстуком. При нём был солдат, который шарил по комнатам. В это время представительный мужчина стал предупреждать балерину, куда не стоит прятать вещи, так как солдаты эти места давно знают. Увидев Вову, он спросил у барона Зедделера, зятя Кшесинской, не сын ли это Государя. Видно было, что он питал к их семье симпатию, так как дал им много ценных советов. Немного погодя барон встретил этого господина сильно пьяным. Они разговорились, и он сознался, что пьёт с горя, так как разочарован в новой власти.
«В такой тяжёлой атмосфере мы жили изо дня в день, никогда не зная, что нас ожидает, даже через несколько часов. Из Пятигорска постоянно налетали блиндированные поезда с какой-нибудь очередной бандой. И это означало снова обыски, грабежи и аресты. Мы жили в постоянной тревоге за себя, за близких и знакомых», — вспоминала более тридцати лет спустя Матильда Феликсовна.
Глава 8. Кошмарные дни июля и августа 1918-го. Бегство из Кисловодска
В июле по Кисловодску прошёл слух о гибели в Екатеринбурге Государя и всей его семьи. Мальчишки-газетчики продавали листки с этим известием с криками:
— Убийство Царской семьи! Убийство Царской семьи!
Но никаких подробностей об этом нигде не было. Это известие было настолько ужасным, что казалось просто невозможным. И поэтому люди надеялись на то, что это какой-то ложный слух, к которым все уже привыкли: большевики их частенько распространяли ради своей политики. Все надеялись, что семью Романовых спасли и куда-нибудь вывезли из России. Такая надежда долго таилась в сердцах людей.
А в Екатеринбурге в это время продолжала жить восьмилетняя девочка Нинка, дочь писателя Александра Тихонова — друга Горького. Вот что вспоминала в конце своей жизни Нина Тихонова о жизни на Урале в то время: «С наступлением весны меня стали водить по городу. Мне нравился величественный собор и нечто вроде сада, окружавшее пруды. Говорят, теперь они заключены в каменную набережную. В моё время мокрая земля прямо подходила к воде, поросшей камышом. Земляные дорожки вокруг, скудно обсаженные цветами, были любимым местом прогулок городской молодёжи.
Нам случалось проходить мимо двухэтажного светло-зеленого дома, огороженного высоким забором из необтёсанных досок. Красноармеец с винтовкой дежурил на его балкончике. В этом доме, до революции принадлежавшем купцу Ипатьеву, была заточена царская семья. Мы ускоряли шаг и старались на него не глядеть.

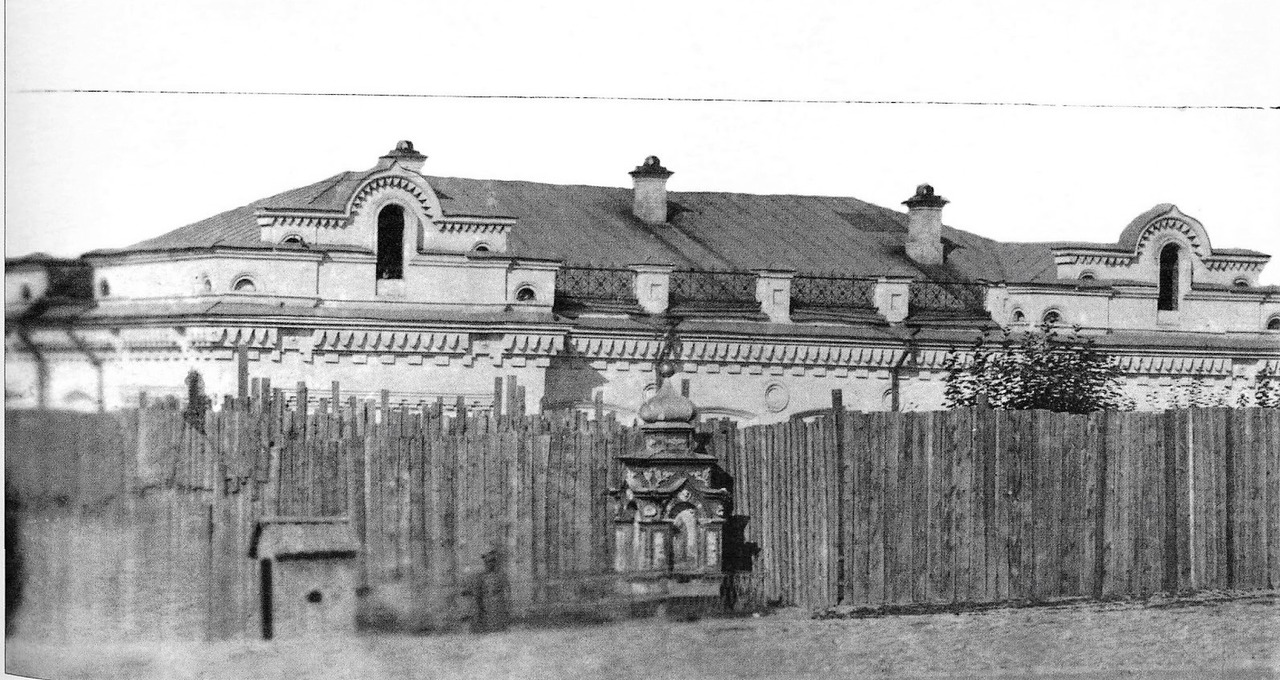


В городе становилось нестерпимо жарко и пыльно“. Вскоре „грустная кляча“ повезла их по размытой дороге на съёмную пустую дачу. „В конце июля среди дачников пронёсся слух, от которого все замерли. Случилось что-то ужасное… В доме сделалась мёртвая тишина, лица старших — бледными. К вечеру из города приехал Иван Александрович [домашний учитель]. За закрытыми дверями говорили шёпотом. Наутро мы спешно вернулись в Екатеринбург.
Там я узнала: в Ипатьевском доме была убита вся царская семья. Тела их, по слухам, были сразу же залиты известью в заброшенной шахте в лесу, на Гореловском кордоне, вблизи от нашей дачи… Весь город словно затаил дыхание. На улице люди избегали смотреть друг на друга. Теперь мы обходили как можно дальше дом купца Ипатьева».
Но вскоре в уральском городе наступили другие времена. «Под натиском армии адмирала Колчака красноармейские войска покинули Екатеринбург. Как сейчас, вижу массивную фигуру адмирала верхом на чёрной лошади, гарцующего на победном смотре перед собором. Два чеха — офицеры его армии — квартировали у Симоновых, явно воспрявших духом. Они убеждали нас, что война скоро кончится, и угощали шоколадом…
Пока что мы оказались отрезанными от Петрограда и от родителей, без средств к существованию, если не считать скупой поддержки деда Тихонова, у которого бабушка с трудом вырывала какие-то крохи».
Весь июль в городе Кисловодске прошёл сравнительно спокойно. Но к концу месяца становилось с каждым днём тревожнее. В августе 1918-го года и в Кисловодске наступили кошмарные дни.
7 августа к Матильде Феликсовне зашла Лидия Алексеевна Давыдова, чтобы предупредить, что прошедшей ночью вновь были арестованы Великие Князья Борис и Андрей Владимировичи. Их увезли в Пятигорск с группой других арестованных. Она просила Матильду Феликсовну сидеть спокойно и тихо у себя на даче и ничего не предпринимать для их освобождения, так как все необходимые меры были уже приняты, а Кшесинская сама находится в очень опасном положении. К счастью, на следующий день, к вечеру арестованные вернулись домой. Правда, они находились под домашним арестом. В доме теперь стоял караул, и Великие Князья из него не выходили.
Но позже Андрей рассказал Матильде о той ночи с 6-го на 7-е августа. Дача Семёнова была оцеплена большим отрядом красноармейцев. Часть из них вошла в сам дом. И у каждой двери стояли часовые. Никто из жильцов не мог выйти из комнаты и общаться друг с другом. Обыскав весь дом, было приказано Борису и Андрею Владимировичам следовать за красноармейцами. Никто в доме не знал, куда их повели. Оказывается — на вокзал, где Великих Князей посадили в вагон, где их охраняли часовые. В тот же вагон стали постепенно, с пяти часов утра до девяти вечера, приводить и других арестованных: генерала Бабича — бывшего Наказного (назначенного Императором) Атамана Кубанского войска, Крашенинникова — Прокурора Петербургской Судебной Палаты, князя Л. Шаховского. Андрей слышал, как солдаты говорили, что здесь, в Кисловодске, проживает сейчас балерина Кшесинская, которую тоже следовало бы забрать. Арестованных повезли в Пятигорск. Сначала они были доставлены в местный совдеп, а после допроса — в Казённую гостиницу. Там всех заперли в одной комнате: Бориса, Андрея, полковника Кубе, генерала Бабича, Крашенинникова и князя Шаховского.
Ночью всех, кроме Бориса и Андрея, вывели и перевели в местную тюрьму. Генерал Бабич был тут же растерзан толпой.
Лидия Алексеевна Давыдова была хорошо знакома с представителем большевистской власти — комиссаром Лещинским. Он иногда бывал в их доме. Она встретилась с ним после посещения Кшесинской и смогла посетить в Пятигорске Бориса и Андрея в Казённой гостинице, предупредив их о том, что все меры к их освобождению приняты, чтобы они не беспокоились. Она просила Лещинского сделать всё возможное, чтобы их освободили. Давыдова предлагала за эту услугу свои драгоценности, но комиссар отказался от награды, обещая сделать всё, что в его власти.
Около часу дня Лещинский был у Бориса и Андрея в гостинице и рассказал им, что ночью едва спас их от расстрела, которого настойчиво требовал местный совдеп. Но он был принципиально против пролития крови и убедил депутатов оставить Романовых в живых.
— Я постараюсь добиться вашего освобождения. Зайду за вами около пяти часов вечера.
Помолчав, он добавил:
— Если мне удастся вас освободить.
«А если не удастся?» — подумали арестованные. И томились четыре часа в ожидании.
Перед уходом Лещинский сказал Великим Князьям, что не доверяет местным красноармейцам, поэтому он вызвал из Кисловодска горского комиссара со своей охраной, чтобы их доставить из Пятигорска в Кисловодск. В пять часов Лещинский вновь прибыл в гостиницу с обещанной охраной. Но вывести из гостиницы Бориса и Андрея ему стоило больших трудов. И всё-таки внушительный вид горцев и их количество подействовали на красноармейцев. Во дворе были приготовлены извозчичьи экипажи для каждого, и в них Великих Князей охраняли горцы. Лещинский сам проводил Романовых на вокзал и отвёз на первом же поезде в Кисловодск. У дома он также оставил охрану из горцев. И просил Бориса и Андрея не выходить из дома, так как не ручается за то, что их не арестуют на улице. На следующий день он освободил и адъютанта Андрея — полковника Кубе.
Позже Лещинский приехал к Андрею и Борису Владимировичам и посоветовал им бежать в горы. Он даже снабдил их документами с вымышленными именами, как будто они командированы от совдепа. И 13 августа Великие Князья бежали в горы — в Кабарду. В первые дни они скитались по разным аулам. А когда поселились у Кононова, дали о себе знать через доверенное лицо. Для Матильды было только одно утешение, что Андрей и Борис находятся вне опасности. Тогда это было главным.
В городе ходили слухи, что вокруг Кисловодска вспыхивают восстания казаков против большевиков. Но в точности никто ничего не знал. И, наконец, настал желанный день: Шкуро вторично налетел на город. Он занял Кисловодск с большим отрядом казаков. Жители свободно вздохнули (особенно — беженцы), большевики куда-то исчезли. И всё-таки положение было нетвёрдым.
22 сентября Матильда Феликсовна пошла с сыном прогуляться по городу. Они прошли до «Гранд Отеля», узнали городские новости и спокойно вернулись домой. Было тихо, всё казалось мирным вокруг. Но не успели они прийти домой, как выбежал их хозяин и взволнованно заговорил:
— Что вы тут делаете? Разве вы не знаете, что казаки ушли? Все бегут из города! Идите быстрее к «Град Отелю» — там сборный пункт.
Они захватили самое необходимое и побежали. Оттуда всех отправляли на тополевую аллею, где ждали людей телеги. Погрузившись на подводу, Кшесинская с сыном поехали на Пятницкий базар. Там уже скопились беженцы. Но тревога оказалась напрасной. Сам Шкуро отправлял людей по домам: атака большевиков была отбита.
Все беженцы были счастливы снова оказаться в своих нанятых домах, но стали держать наготове всё необходимое на тот случай, если придётся бежать из города.
23 сентября, под вечер (это было на следующий день), с гор верхом вернулись Великие Князья Борис и Андрей Владимировичи с полковником Кубе. Их сопровождала кабардинская знать, которая охраняла их во время перехода из Кабарды. Пока Борис и Андрей скрывались в горах, они обросли бородами. Андрей в это время был похож на Государя, и некоторые люди принимали его за Николая Второго.
Через два дня снова была тревога, и снова нужно было бежать. На дачу Кшесинской прислали телегу, на которую сели Матильда с сыном, её сестра с мужем и будущая жена Бориса — Зина со своей компаньонкой. На Пятницком базаре они встретились с Борисом и Андреем Владимировичами. Борис забрал Зину и её компаньонку в свою телегу, а Андрей сел в телегу к Матильде с сыном. Несметная толпа беженцев двинулась по указанию Шкуро на Тамбиевский аул. Смотреть на всё это было тяжело: люди подвигались на чём придётся, некоторые шли пешком и волокли на своих плечах последнее имущество. У всех была только одна мысль: скорее подальше уйти от большевиков любым способом.
По пути вся эта колонна беженцев попала под обстрел большевистской батареи. Паника поднялась ужасная: снаряды рвались над головами людей. Одни гнали лошадей вперёд, что есть мочи, другие бросались в сторону от дороги. Все старались укрыться от опасности. Из-за возникшей паники всё перепуталось. Люди, прибыв в Тамбиевский аул, стали разыскивать друг друга. Кшесинская с сыном заночевала на телеге, Андрей им что-то принёс поесть.
В этот же аул прибыл и сам Шкуро со своим штабом. Это очень успокоило людей. Все остались здесь ночевать. А до этого некоторые хотели ехать дальше в ночь. Но это было очень опасно для жизни.
Шкуро делал вид, что у него очень многочисленный отряд казаков. Он отдавал приказания, звонил по телефону. Делал он это спокойно, с большой уверенностью. И все верили в могущество его войска. Как потом оказалось, отряд у него был маленький. А делал он это для того, чтобы ввести в заблуждение большевистских шпионов. И ему это удалось: их больше не преследовали.
На другой день беженцы двинулись дальше: в Бекешевскую станицу, которая находилась в Баталпашинском отделе Кубанской области. Недалеко от неё находилась гора Бекет, на которой в начале XIX века находился казачий бекет, отчего и пошло название поселения. Станица была расположена на берегах Верхней Кумы при выходе её из горного ущелья. В сентябре 1825 года сюда переселили около двухсот казачьих семей из станицы Александровской, где был донско-запорожский состав. Люди здесь говорили на смешанном русско-украинском диалекте.
Выехали уже после полудня, по пути были продолжительные задержки, поэтому прибыли туда ночью. Все очень волновались: боялись сбиться с пути или попасть в руки большевиков. Слава Богу, все добрались благополучно. Но оставаться в станице было опасно, так как большевики наступали. Решили ехать на Баталпашинскую станицу. Выехали прямо в ночь. Всем было жутко. Ехать ночью в степи трудно, так как там не было дорог, только еле-еле видны были следы от колёс. Все боялись ошибиться дорогой.
С восходом солнца прибыли в Баталпашинскую станицу. В это время уже было не так страшно, так как хорошо была видна дорога. Все ехали и мечтали о чём-нибудь. Кшесинская мечтала о ванне, а полковник Кубе — о рюмке коньяку. Их мечты в станице исполнились: можно было вымыться в бане, а коньяку полковнику дали даже несколько бутылок.
Всех обрадовало известие, что ещё раньше Шкуро связался с Добровольческой армией Деникина, и она шла на выручку в Баталпашинск.

Антон Иванович Деникин — лидер белого движения, генерал-лейтенант, ровесник Матильды Феликсовны Кшесинской. Он участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах. В 1917 году Деникин был начальником штаба Верховного главнокомандующего, командующий Западным и Юго-Западным фронтами. В 1918 году после гибели генерала Л. Г. Корнилова стал главнокомандующим Добровольческой армией. В 1919 году он будет возглавлять Вооружённые силы Юга России. А после разгрома белогвардейских войск весной 1920 года подаст в отставку, передав командование Врангелю, покинет Россию и будет жить сначала в Англии (Лондоне), затем в Бельгии (Брюсселе), Венгрии, Франции, США. Отойдя от политики, он займётся литературным трудом и напишет немало книг. Исследованию белого движения Антон Иванович посвятит свою книгу «Очерки русской смуты». Жизнь его закончится в августе 1947 года в Детройте, где его похоронят с воинскими почестями, а в декабре 1952 года прах перенесут на русское кладбище Святого Владимира в Джексоне (штат Нью-Джерси).
«Шкуро захватил Кисловодск с небольшим отрядом казаков, который не выдержал бы атаки большевиков. Ему приходилось всё время маневрировать и уклоняться от столкновений. Мы были окружены со всех сторон отрядами большевиков, которые шли за нами по пятам, не рискуя нас атаковать, так как не знали в точности сил Шкуро. В Кисловодске Шкуро захватил полевую беспроволочную станцию, благодаря которой он мог связаться с главными силами Добровольческой армии и получить известие, что к нам на выручку идёт в Баталпашинск сильный отряд генерала Покровского. Оба отряда, Покровского и Шкуро, представляли уже крупную силу, с которой большевикам придётся считаться. Это известие всех страшно обрадовало», — продолжала свои воспоминания Матильда Феликсовна, которые ей активно помогал писать её муж — Великий Князь Андрей Владимирович Романов.
Покровский Виктор Леонидович, рождённый в Нижегородской губернии в 1889 году, был молодым генерал-майором. Это звание ему было присвоено 1 марта 1918 года решением Кубанской Рады. Он окончил Одесский кадетский корпус, затем Павловское военное училище. Учился в классе авиации Петербургского политехнического института и окончил Севастопольскую авиашколу в 1914 году. Во время первой мировой войны был военным лётчиком — командиром эскадрильи. Он был первым русским лётчиком, взявшим в плен вражеский самолёт с пилотом. За это был награждён Георгиевским оружием и орденом Святого Георгия IV степени. С начала 1918 года Покровский находился в белом движении. По поручению Кубанской Рады сформировал Добровольческий отряд (Кубанскую армию) численностью три тысячи бойцов. В конце марта 1918 года Кубанская армия встретилась с Добровольческой армией генерала Корнилова в ауле Шенджий в районе станицы Рязанской и вошла в её состав. Общее командование этими силами было возложено на генерала Корнилова, несмотря на то, что его армия была меньше числом. Но Корнилов был убит 13 апреля 1918 года в Екатеринодаре при попытке отбить город у Красной армии. И Добровольческой армией стал командовать Деникин. Генерал Врангель позднее так характеризовал Покровского: «Незаурядного ума, выдающейся энергии, огромной силы воли и большого честолюбия, он в то же время был мало разборчив в средствах, склонен к авантюре». Генерал отличался жестокостью. Ему приписывались шутки: «Вид повешенного оживляет ландшафт» или «Вид на виселицу улучшает аппетит». Его личный конвой состоял из чеченцев и ингушей грозных на вид, вооружённых до зубов, которые обожали своего начальника. Дата смерти Покровского 8 октября 1922 года. Погиб Покровский в Болгарии, куда он эмигрировал, когда не получил должности в армии Врангеля, который принял командование Добровольческой армией после Деникина. Покровский был смертельно ранен при попытке ареста болгарскими полицейскими, которые сочувствовали большевикам, когда оказал им сопротивление.
В общем, известие о прибытии отряда Покровского всех беженцев страшно обрадовало. Все высыпали на улицу. Народ собрался на площади, которая была вокруг церкви. Приход отряда и его парад произвели на всех глубокое впечатление. Впереди ехали старые штандарты Конвоя Государя. Они блистали на солнце своими серебряными лентами. Многие старые казаки, которые служили в Конвое Государя, надели прежнюю военную форму. Была всеобщая большая радость по поводу того, что из станицы вышибли большевиков. У людей появилась надежда, что они вскоре вернутся к старому, дорогому для них времени. У многих лились слёзы от радости, люди вставали на колени и молились Богу.
По случаю прибытия в станицу генерала Покровского был организован обед. Его организовал особый комитет беженцев. На обед были приглашены Великие Князья Романовы — Борис и Андрей Владимировичи. Для всех это было крупным событием в скитальческой жизни. Обед был с музыкой, речами и массою военных. Родион Востряков, по прозвищу «мальчик Родя», постоянно прибегал в дом Кшесинской с этого обеда и рассказывал о том, что происходило там. Но двери в доме были заперты из предосторожности, и ему открывали только тогда, когда он называл себя «мальчик Родя».

В станице настали времена расправы с большевиками. Это было ужасное зрелище. На площади возле церкви стали воздвигать что-то незнакомое для людей. Оказалось, что это была виселица. Стали говорить, что скоро будут вешать большевиков. Не зря ведь ходила молва о Покровском, как любителе виселиц. В это время как раз сын Кшесинской вместе с друзьями-мальчишками пошёл на речку. Они должны были идти обратно через площадь именно в то время, когда на смерть поведут большевиков. Опасаясь, что это зрелище будет для подростков вредным для их душевного состояния, Андрей Владимирович пошёл за мальчиками и повёл их домой от речки обходными путями. Матильда Кшесинская в это время не выходила из дома, не желая видеть это дикое зрелище. Но её сестра с мужем пошли на площадь. Матильда очень укоряла их в этом.
В станице Баталпашинской люди хорошо отдохнули за две с половиной недели, так как были в полной безопасности. Прожили они там со 2-го по 19-е октября.
Название станица получила в честь блестящей победы в 1790 году на этом месте четырёхтысячного русского войска под командованием генерал-майора И. И. Германа над 25-тысячной армией турецкого военачальника Батал-паши. Это был редчайший случай, когда населённый пункт назвали не в честь победителя, а побеждённого (Батал-паша вскоре перешёл на сторону русских). Но многие люди такое название не приняли и между собой станицу называли «Пашинка».
Батал-Пашинский редут был устроен у устья реки Овечки ещё в 1804 году, но основанием Баталпашинской станицы считался 1825 год. Казачий редут находился на Кубанской пограничной линии (части Кавказской линии). Осенью 1825 года была проведена размётка земли под будущую станицу, а весной следующего года началось её заселение солдатами Хоперского полка с семьями.
Заняв станицу в октябре 1918 года, Шкуро позже организовал в Баталпашинске производство снарядов, патронов, сукна, кожаных сапог, бурок и шуб для Белой армии. Это ему удалось благодаря тому, что 5 января 1919 года армия Шкуро овладела Кисловодском, который был до этого занят Красной армией. И генерал набрал в городе специалистов и технику. Во власти деникинцев Карачай и Черкессия находились до весны 1920 года.
Армия Шкуро обосновалась в станице, но перед беженцами вскоре стал вставать вопрос: куда им переехать и где жить дальше? Нужно было переждать время, пока всё успокоится на Северном Кавказе.
Глава 9. Осень 1918-го. Отъезд в Анапу
Люди избирали для временной жизни разные города: одни решили ехать в Новороссийск, другие — в Екатеринодар (будущий Краснодар) или Туапсе.
История города Новороссийска, который находится у Цемесской бухты Чёрного моря, берёт своё начало с 1830-х годов. В 1829 году эта территория перешла от Турции к России по Андрианопольскому мирному договору. 12 сентября 1838 года корабли российской эскадры вошли в Цемесскую бухту. На развалины турецкой крепости высадилось около шести тысяч человек под командованием Раевского и Лазарева. Эта дата стала считаться основанием города. В сентябре 1866 года Новороссийск становится центром Черноморского округа, который охватывал Черноморское побережье от Тамани до Грузии. С 1896 по 1920 годы Новороссийск — центр Черноморской губернии.
Борьба с царизмом в этом городе началась ещё в дни первой русской революции. 14 декабря 1905 года Совет депутатов трудящихся обращается к новороссийцам с призывами борьбы против царской власти. Была провозглашена Новороссийская республика. Но уже через одиннадцать дней на станцию Тоннельную прибывает отряд под командованием генерала Пржевальского. Совет депутатов принимает решение не сопротивляться царским властям. В городе вводится осадное положение. Народные депутаты были осуждены и приговорены к каторжным работам, а семь из них — к смертной казни.
Борьба продолжилась через двенадцать лет, в 1917 году. 23—30 ноября в городе была ликвидирована власть комиссара Временного правительства, и был избран Центральный исполнительный комитет Советов Черноморской губернии. 1 декабря была распущена городская дума и установлена Советская власть. В марте-мае 1918 года Новороссийск был объявлен центром Черноморской Советской республики. С 30 мая по 6 июля он уже находится в составе Кубано-Черноморской Советской республики. В июне по распоряжению В. И. Ленина в Цемесской бухте был затоплен Черноморский флот. В следующем месяце — июле — Новороссийск находится в составе Северо-Кавказской Советской республики. А 26 августа 1918 года город переходит под контроль белой армии и интервентов. Такое положение продолжалось до 12 марта 1920 года. В этот день началась эвакуация белых частей в пароходы. 26 и 27 марта 1920 года были названы «новороссийской катастрофой». Генерал белой армии Деникин из порта Новороссийск на миноносце «Цесаревич Георгий» покинул Россию, передав командование Петру Врангелю по решению большинства высшего командного состава Вооружённых сил юга России.
Сорокадвухлетний Врангель Пётр Николаевич был бароном и военным деятелем, генерал-лейтенантом, участником белого движения на Юге России. Он отличался личным мужеством, был участником русско-японской и Первой мировой войн. Во главе Белой армии он продержался до 14 ноября 1920 года. В этот день он отдал приказ эвакуировать за границу остатки своих частей из Крыма, который только и находился в то время под контролем Русской армии. На более чем ста двадцати кораблях за границу было отправлено сто пятьдесят тысяч человек.
В эмиграции Врангель жил сначала в Турции, где в 1920—1921 годах на Галлипольском полуострове разместились части его армии, эвакуированные из Крыма. Русский военный лагерь в Галлиполи превратился в военный центр Белой эмиграции. 22 ноября 1921 года здесь было создано Общество Галлиполийцев. Это была одна из активных воинских антикоммунистических организаций Русского Белого Зарубежья. С 1921 года бывший главнокомандующий Русской армии жил в Югославии, которая в то время называлась Королевство сербов, хорватов и словенцев, в городе Сербски-Карловцы. В 1924 году Врангель создаёт Русский общевоинский союз, который объединил белую военную эмиграцию и намеревался продолжить борьбу с большевиками, вести диверсионные действия. В 1927 году Пётр Николаевич перебирается в Бельгию — Брюссель. И уже через год, 25 апреля 1928 года, Врангель скоропостижно скончался. Существует версия, что он был отравлен агентами НКВД.
1 мая 1920 года белогвардейцев в Новороссийске не осталось, и красноармейцы провели свой первомайский парад. Отныне в городе вновь установилась Советская власть.
Что из себя в то время представлял Екатеринодар? Он был главным городом Кубанской области. Находился на правом берегу реки Кубани. Когда-то его подарила запорожским казакам Императрица Екатерина Вторая. И они переселились на это место. Годом основания города считается 1793 год. Статус города поселение получило в 1867 году. Здесь было местонахождение Кубанского атамана.
Екатеринодар был соединён железной дорогой с Новороссийском — до него было 127 вёрст. Также железная дорога связывала город со станцией Тихорецкой Ростово-Владикавказской железной дороги.
На рубеже XIX — XX веков это уже был довольно крупный город с немалым количеством различных учебных заведений — школ, гимназий, училищ. Существовал в нём естественноисторический музей. Жители Екатеринодара, которых к 1920 году было уже свыше ста тысяч, занимались садоводством, скотоводством, рыбным промыслом и хлебопашеством. В городе было почти сто тридцать фабрик и заводов.
Во время февральской революции 1917 года власть в городе перешла к Кубанской раде. А во время гражданской войны город часто переходил из рук в руки. Долгое время столица Кубани была оплотом белого движения на Северном Кавказе.
В апреле 1918 года, был первый крупный штурм Екатеринодара, который был занят красноармейцами, белой армией под командованием Л. Г. Корнилова и А. И. Деникина. Противниками были Добровольческая армия и Юго-Восточная революционная армия, которой командовали А. И. Автономов и И. Л. Сорокин. Количество бойцов Красной армии значительно превосходило белогвардейцев, и штурм был неудачным. Погибло много солдат и белых военачальников во главе с самим Лавром Георгиевичем Корниловым. После гибели генерала осада была снята, город остался у красноармейцев.
Второй кубанский поход белой армии был 17 августа 1918 года, когда Екатеринодар был взят и находился в руках белых до 17 марта 1920 года. После штурма города 9-ой армией И. П. Уборевича столица Кубани вновь оказалась у красных, и вскоре город был переименован в Краснодар.
Великой Княгине Марии Павловне и её сыновьям Борису и Андрею генерал Покровский посоветовал ехать на зиму 1918—1919 годов в Анапу. Он уверял, что там сейчас превосходные условия жизни и совершенно спокойно. Город стоял на берегу моря, и в случае опасности можно будет сесть на пароход и уйти за границу.
Затем Виктор Леонидович сам взялся организовать отъезд Романовых. Он дал охрану из своего личного конвоя, которая должна была сопровождать их до Анапы. От станицы Баталпашинской до станции Лабинской они должны были ехать на своих телегах, затем пересесть в поезд и ехать по железной дороге до города Туапсе. Там будет приготовлен пароход, который и доставит всех в Анапу.
Целая группа беженцев решила ехать вместе с Великой Княгиней, чтобы быть под охраной. Одни ехали до Туапсе, а другие — до Новороссийска.
19 октября 1918 года двинулись в путь. Первая ночёвка была в станице Попутной. Она была расположена на левом берегу реки Уруп — притока Кубани и существовала с середины XIX века. Первыми поселенцами были казаки Кавказского линейного войска и малороссийские. Станица находилась в Лабинском отделе Кубанской области. Буквально накануне приезда беженцев на неё был налёт большевиков, и станицу только что очистили от них. Поэтому люди спали неспокойно. На другой день беженцы доехали до станции Лабинской, которая относилась к Северо-Кавказской железной дороге. Она была огромной с каменными зданиями. Они были довольно современными на вид.
Генерал из отряда Покровского всех разместил в разных домах, так как до поезда оставалось ещё пять часов. Матильде с сестрой Юлией, сыном и Зинаидой (будущей родственницей по линии Романовых) тоже указали один дом, куда они и пошли. Семья в этом доме была многочисленной, но гостей очень любезно в ней встретили. Угостили вкусной закуской и чаем.

После обеда барышня решила занять гостей, показывая Матильде журналы с иллюстрациями. В одном из них было фото статуэтки балерины работы князя Паоло Трубецкого. Барышня стала объяснять гостье:
— Это статуэтка знаменитой балерины Матильды Кшесинской…
Матильда Феликсовна улыбнулась:
— Посмотрите внимательно на моё лицо. Вам не кажется, что я и есть балерина Кшесинская?
Барышня удивлённо вгляделась в её лицо, покраснела и сказала:
— Неужели, это правда? Как же нам неожиданно повезло вот так близко встретиться с вами!
Кшесинской в этот момент было приятно, что даже здесь, на далёкой от Санкт-Петербурга станции знают о ней и её творчестве.
В это время в дом зашли Великие Князья Борис и Андрей Романовы. Хозяева были несколько смущены такими высокими гостями. Может быть, они опасались и того, что после их ухода им может достаться от большевиков, если они вновь займут станцию…
Поздно вечером поезд, наконец, был подан. И все снова собрались на вокзале. Вагоны поезда были в плачевном состоянии. Обивка с диванов была сорвана солдатами, которые перед этим ехали в них. Все устроились, как могли. И всё-таки были счастливы, что скоро приедут в Анапу, где их мытарствам придёт конец. Мелочи уже никого не смущали, так как люди за это время привыкли ко всему.
Ехали всю ночь по Северо-Кавказской железной дороге и 21-го октября приехали рано утром в город Туапсе. На вокзале стоял жандарм в старой форме. Этого никто не ожидал. И все бросились его целовать!

Этот южный город Кубани расположен на побережье Чёрного моря в предгорьях Главного Кавказского хребта, в устье рек Туапсе и Паук. Туапсе — крупный морской порт. Адыгейское слово «туапсэ» означало «двуречье». Статус города посад получил в 1916 году. Во время гражданской войны город несколько раз переходил из рук в руки и был сильно разрушен.
После долгого путешествия все стали приводить себя в порядок. Потом пошли завтракать. До отхода парохода было ещё много времени. Матильда с Зиной пошли на городской базар. Они шли и обе мечтали о том времени, когда они вот так вместе будут гулять по Парижу…

Когда дамы вернулись на пристань, то увидели там ужасно старый на вид маленький и грязный пароход. Название у него было «Тайфун». Оказалось, что это было старое рыболовное английское судно. Все почему-то были уверены, что Великая Княгиня Мария Павловна откажется плыть на таком ужасном пароходике, и никто не входил в него до её приезда. Притом, пароход был очень мал, и люди боялись, что он всех просто не вместит в себя. Но когда приехала Великая Княгиня, то, как ни в чём ни бывало, вежливо и любезно поклонилась капитану, который её встречал у сходней, и смело вошла на пароход. Мария Павловна поднялась на верхний мостик, невозмутимо уселась в кресло и стала наблюдать, как стали грузиться на пароход остальные беженцы, тут же последовав её примеру. На пароходе было всего три каюты, которые капитан и офицеры предоставили Великой Княгине.
Беженцев было девяносто шесть человек. И все разместились на палубе, так как другого места для пассажиров на пароходе не было. Устраиваясь, люди стали искать, что можно подстелить под себя. Слава Богу, ночь выдалась спокойной: ни ветра, ни дождя. Пароход мирно покачивался на волнах. Все могли спать спокойно, не опасаясь обысков и арестов… От усталости все крепко уснули. А ночью вдруг всех охватил истерический смех. Ничего смешного не было, нервы у всех сначала были натянуты, но чувство страха прошло и всем стало весело на душе. Началось с того, что ночью люди вставали в уборную, но пройти мимо людей, не задев их, было невозможно, и они невольно наступали на кого-нибудь. И раздавался, совсем даже не обиженный, а деловой возглас:
— Послушайте, вы мне наступили на нос!
— Извините, пожалуйста, но так темно — я ничего не вижу! — отвечали ему.
Сейчас же раздавался ещё один голос:
— Милостивый государь, будьте осторожны, вы мне наступили на пальцы!
В ответ ему звучало извинение. Человек продолжал шествовать, а по дороге раздавались новые возгласы, что он наступил на кого-то. После нескольких таких возгласов все начинали хохотать, заражая друг друга смехом. Потом наступало затишье. Вставал другой человек. И всё повторялось. И так было до самого утра.
Плыть на пароходе в те времена было очень опасно. Береговые огни маяков были потушены в связи с военным временем, поэтому было трудно ориентироваться. Входить в порты ночью было просто невозможно. Представляли опасность сорванные донные мины, которыми кишело всё Чёрное море. И ночью их невозможно было заметить. В связи с этим пароход миновал Новороссийск, не заходя в порт, так как было слишком темно. Капитан решил идти прямо на Анапу. К порту подошли в 5 часов утра, но ждали полного рассвета, и только в 7 часов утра вошли в Анапу и пристали к молу. Пассажиры вышли на берег и выгрузили багаж. С беженцами сошла с парохода и охрана генерала Покровского, предназначенная для Великой Княгини Марии Павловны. Как только все спустились на берег, пароход отчалил от мола и повернул обратно на Новороссийск, куда плыли другие беженцы.
Глава 10. Жизнь в Анапе
Ранним утром 4 ноября 1918 года пароход пристал к молу в Анапе. Город ещё спал. Людей вокруг не было. Беженцы уселись на своих сундучках в ожидании своей дальнейшей судьбы. Город в то время был освобождён от большевиков, но в тылу Добровольческой армии скрывались банды в горах и лесах. И они временами нападали на освобождённые города, которые практически никто не защищал, так как войск для этого не было.
Анапа была раньше турецкой крепостью. Находилась в тридцати верстах от устья реки Кубани. Основателем крепости считается султан Абдул Гамид. Она была построена по его приказанию в 1781 году инженерами из Франции. Непосредственно вёл строительство Ферах Али-паша. Во время войн с Турцией крепость переходила несколько раз из рук в руки, но с 1829-го года осталась за Россией по Адрианопольскому мирному договору. Тогда же крепость была упразднена. В 1846 году Указом царя Николая Первого от 15 декабря крепость получила статус города. Расположена Анапа на восточном берегу Чёрного моря, к северу от Новороссийска. Песчаный пляж в виде «золотой» подковы образует удобную и красивую Анапскую бухту. Город Анапа стал курортом, в нём был построен санаторий. В начале ХХ века его называли «санатория».
Офицер Мяч был отправлен генералом Покровским лично охранять Великую Княгиню. Он пошёл на разведку в город, чтобы найти там помещение, как для семьи Марии Павловны, так и для всех остальных беженцев.
Более часа беженцы ожидали возвращения сотника Мяча. Он вернулся и всех успокоил, сказав, что в городе полный порядок, нет никакой опасности.


Беженцам посоветовали на первое время поселиться в единственной местной гостинице. Она называлась «Метрополь». Туда все и направились в сопровождении капитана Ханыкова. Он состоял при Великом Князе Борисе Владимировиче, был очень милым и услужливым офицером.
«В нашей группе, кроме меня и моего сына, были моя сестра и её муж, барон А. Зедделер, Зина Рашевская, будущая жена Бориса, её подруга француженка Мари и капитан Ханыков, раненый и потерявший глаз в последнюю войну», — вспоминала Матильда Феликсовна.
Гостиница «Метрополь» была скромной и примитивной, к тому же она была разорена при большевиках. Особенно в ужасном состоянии находились уборные. Но комнаты имели довольно приличный вид: были не очень грязные, и в них была кое-какая мебель. Люди устроились, как могли и были довольны тем, что имеют крышу над головой. Остальное всем уже было безразлично. Город освещался электричеством до десяти часов вечера. После этого приходилось зажигать свечи, которые стали покупать в церкви. Матильда очень боялась темноты, поэтому всю ночь жгла свечу в умывальнике.
В гостинице случился неприятный случай. В соседней комнате с Кшесинской умер отец хозяина. Матильда очень боялась покойников, и такое соседство её пугало, особенно ночью. После панихиды всех по старинному обычаю обносили кутьёй. Её отведывали одной ложкой. Это было неприятно, так как было совсем неаппетитно и к тому же негигиенично. Матильде пришлось сделать вид, что она пробует, чтобы не обидеть людей. После похорон соседа, Кшесинская успокоилась.
Ко всем этим многочисленным испытаниям прибавилось самое страшное — сын Вова заболел гриппом — «испанкой». Некоторые люди умирали от этого заболевания в те годы. Матильда Феликсовна очень волновалась: смогут ли найти доктора в таком захолустном городке? На её счастье нашли хорошего доктора. В Анапе в это время жил придворный доктор из Петербурга — Купчик. Сначала он лечил Вову, а потом и всех близких людей, которые заразились от него.
Кшесинская вспоминала, что в это время они вели очень грустную жизнь, все развлечения были забыты. В свите Великой Княгини был Володя Лазарев, с которым Матильда познакомилась когда-то на бале-маскараде. Он часто заходил к ней, чтобы поговорить и вспомнить то доброе, старое время. Володя любил рисовать маленькие фантастические картинки. Одну из них Матильда хранила много лет у себя на память.
День в Анапе начинался с утреннего кофе. Его все ходили пить в маленькую греческую кофейню. По стенам её висели лубочные портреты Греческой Королевской Семьи (как известно, они были родственниками царственных Романовых). Греческий кофе готовился упрощённым способом. Кофе, сахар и молоко варились вместе, и получался вкусный напиток, но с кофейной гущей. Обычно пили по одному стакану в день, а в праздники и воскресенье позволяли выпить себе по два стакана.
Затем все шли гулять. Сначала шли на мол посмотреть, не пришёл ли новый пароход. Там все встречались и узнавали последние новости. Потом шли на базар, где продавали недорого красивые серебряные вещи.
В первые дни беженцы ходили обедать в хороший ресторан «Симон». В нём был великолепный повар. Но денег у них оставалось всё меньше и меньше, и такой ежедневный расход становился не по карману. Тогда стали питаться в одном маленьком пансионе, где ели одно и тоже блюдо — битки. Они были дешёвыми и сытными. Только Вове Матильда старалась взять еды побольше и повкуснее.
Великие Князья Борис и Андрей Владимировичи вместе с Великой Княгиней Марией Павловной поселились в доме одного зажиточного казака. Но Борис и Андрей каждый день приходили в гостиницу к своим пить чай и играть в «тётку» (карточную игру). К чаю всегда подавалась вкусная закуска, которую очень любил Борис — раковые шейки в консервах.
Кшесинская вспоминала, что в то время по Анапе ходило много голодных собак. Матильда Феликсовна из сострадания стала их прикармливать, чем могла. Вскоре все собаки бежали на её голос. Каждой из них она дала свою кличку.
Самым большим лишением для танцовщицы в послереволюционные годы было то, что Матильда не имела возможности делать массаж. Она всю жизнь любила его делать, чтобы сохранить хорошую фигуру. В свою бытность артистки Императорских театров Кшесинская всегда имела хороших массажисток. И была избалована в этом отношении. В Анапе нашлась такая опытная массажистка. Это была еврейка, очень милая, интересная женщина. Звали её Блум. Сначала она из-за своих политических убеждений эмигрировала в Америку, но после переворота вернулась в Россию. Кшесинской она делала массаж сначала за гроши, а потом и вовсе перестала брать с неё деньги. Ей нравилось с ней общаться, даже, несмотря на то, что их политические взгляды были абсолютно противоположными. Каждая из них старалась убедить другую в правоте своих убеждений. И всё-таки Матильда Феликсовна переубедила пламенную революционерку, и они ещё больше подружились.
Массажистка подарила Матильде маленький горшочек с каким-то растением. При этом она сказала:
— Пока оно будет расти, всё к тебе вернётся.
Первое время Блум ни за что не хотела встречаться с Андреем, так как он был Великим Князем — родственником Царя, и старалась избегать его. Но потом она стала одинаково хорошо относиться к обоим — и к нему, и к Матильде. Блум, видимо, поняла, что представители семьи Романовых не так страшны, как ей представлялись, даже наоборот, очень воспитаны и благородны. И расстались они самыми хорошими друзьями. Когда Андрей и Матильда вновь переехали в Кисловодск, то получали от Блум телеграммы. Она даже поздравляла Кшесинскую с успехами Добровольческой армии. И это бывшая политическая эмигрантка, ученица Плеханова и последовательница Ленина! (Плеханова она очень хорошо знала лично).
Георгий Валентинович Плеханов, живший с 1856 года по 1918 год, был философом, теоретиком и пропагандистом марксизма, видным деятелем международного социалистического движения, входил в число основателей РСДРП и газеты «Искра». Долгие годы он жил в эмиграции (в 1880 году уехал в Швейцарию). Вскоре Плеханов перевёл на русский язык «Манифест коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. В 1901 году Георгий Валентинович стал одним из организаторов «Заграничной Лиги русской социал-демократии». А через два года принял непосредственное участие в подготовке Второго съезда РСДРП. После этого съезда Плеханов разошёлся с Лениным и был долгое время одним из лидеров меньшевистской фракции РСДРП. Ещё в 1905 году Плеханов призывал в газете «Искра» к вооружённому восстанию в России и обращал внимание на необходимость агитации в армии. Февральская революция позволила Плеханову вернуться в Россию после тридцати семи лет изгнания. 31 марта 1917 года он прибыл на Финляндский вокзал Петрограда. Плеханов поддерживал Временное правительство и был против «Апрельских тезисов» Ленина. К Октябрьской революции 1917 года он также отнёсся отрицательно, так как считал, что Россия к социалистической революции не готова. Умер Плеханов на 62-ом году жизни от туберкулёза в санатории «Питка-Ярви» в Финляндии и был похоронен на «Литературных мостках» Волкова кладбища Санкт-Петербурга рядом с могилой Белинского. Несмотря на свои разногласия с Георгием Валентиновичем, Владимир Ильич Ленин в одной из своих статей призывал изучать всё написанное Плехановым по философии, так как он считал, что «это лучшее во всей международной литературе марксизма».
Вскоре по прибытии в Анапу беженцы получили известие, что Первая мировая война окончена. Это было огромной для всех радостью. Но только 23 ноября, когда союзный флот прорвал Дарданеллы и в Новороссийск пришли два крейсера — английский «Ливерпуль» и французский «Эрнест Ренан», все почувствовали, что больше не отрезаны от всего света.
В декабре 1918 года, под Рождество, в Анапу приехал начальник английской базы в России генерал Пуль в сопровождении генерала Гартмана, который состоял при нём. Он приехал, чтобы передать от английского правительства предложение Великой Княгине Марии Павловне выехать за границу. Великая Княгиня в данный момент считала, что находится в полной безопасности и потому отклонила это предложение. Она заявила о своём непреклонном решении покинуть пределы России лишь в том случае, когда другого выхода не останется. Её ответ был оценён генералом Пулем. Затем он выразил своё мнение, что Великому Князю Андрею Владимировичу Романову следовало бы поступить в Добровольческую армию, но Мария Павловна была категорически против этого, ответив ему, что ещё не было случая в России, чтобы члены Династии принимали участие в гражданской войне. Генерал Пуль и с этим согласился.
Весной 1919-го года, после долгих поисков, Матильда Феликсовна наконец нашла две комнаты у священника Темномерова, одну для себя и сына, а другую для сестры с зятем. Старшего сына священника тоже звали Вовой. Он оказался очень талантливым. Однажды для новых жильцов Владимир устроил целое цирковое представление, изображая фокусника. А на Пасху, к розговинам, вылепил бюст Государя из масла.
Жилось на новой квартире хорошо, только одолевали клопы и тараканы, с которыми приходилось каждый день вступать в борьбу.
В марте 1919 года Борис Владимирович и Зинаида заявили о том, что хотят покинуть Россию. В конце месяца они уехали за границу. Великую Княгиню решение Бориса очень огорчило. Великий Князь пытался уговорить мать ехать с ними, но она категорически отказалась.
Когда Кисловодск был занят Добровольческой армией 5 января 1919 года, Кшесинская выписала оттуда своих людей — горничную Людмилу и лакея Ивана. Они умудрились спасти почти всё, что было оставлено там на даче. И привезённые ими носильные вещи оказались очень кстати, так как за полгода была изношена вся одежда и даже бельё.
У Кшесинской с собою в Анапе было всего лишь два платья. Одно из них она считала парадным, так как надевала его редко, в особых случаях. Второе состояло из кофточки и чёрной бархатной юбки (именно той, которую когда-то у неё украла, а затем вернула Катя-коровница). От долгой носки материя на коленях стала протираться, и бархат порыжел.
Ивана Матильда Феликсовна почти сразу же уступила Великой Княгине Марии Павловне, так как у неё в то время не было мужской прислуги, и он остался при ней.
29 марта по Анапе прошёл слух, что к порту приближается какой-то военный корабль. Люди были очень напуганы, боясь, не идёт ли красное судно. И все выбежали на мол. В это время Крым как раз был занят большевиками. На горизонте были видны клубы дыма, но разглядеть какой развевается флаг и что это за корабль было невозможно. Лишь в последнюю минуту стало ясно, что это был английский крейсер. Он не очень близко подошёл к берегу и кинул якорь. От крейсера отчалила моторная лодка с офицером и матросами в полном вооружении. Из людей, стоявших на молу, им пришла на помощь мисс Кон в качестве переводчицы. Выяснилось, что один из офицеров был командиром крейсера. Это был капитан Гольдшмидт. Он был прислан адмиралом Сеймуром, командующим английской эскадрой в Чёрном море, к Великой Княгине Марии Павловне и Великому Князю Андрею Владимировичу, чтобы вывезти их в Константинополь в случае, если Анапа будет в опасности. Его провели к Великой Княгине. И он доложил ей о полученных от адмирала указаниях. Андрей Владимирович присутствовал при этом разговоре. Великая Княгиня просила передать адмиралу Сеймуру её искреннюю признательность за присылку военного корабля, но в данное время она не видит никаких причин покидать Анапу, а тем более пределы России, и повторила то же, что отвечала генералу Пулю, что она уедет из России только в том случае, если не будет другого выхода. А пока её долг, как русской Великой Княгини оставаться на территории России. Капитан, как моряк, был тронут таким пониманием своего долга, и ответил Великой княгине Марии Павловне: «Это правильно». Его английский корабль постоянно находился в Новороссийске, и они договорились, что в случае крайней необходимости она даст знак, и его найдут по беспроволочному телеграфу в любом месте. В таком случае через двое суток он будет в Анапе. Крейсер назывался «Монтроз».
Капитан Гольдшмидт хотел пригласить Великую Княгиню на крейсер, чтобы угостить её чаем. Мария Павловна отклонила его приглашение, так как у неё были слабые ноги, и ей трудно было садиться в шлюпку и взбираться на корабль. Но Великий Князь Андрей Владимирович и Свита Великой Княгини пожелали посмотреть корабль. Они пошли с капитаном на мол, чтобы оттуда добраться на моторной лодке на корабль.
По дороге капитан рассказал Андрею, что, когда он получил от адмирала Сеймура приказание отправиться в Анапу, то никто не знал, в чьих она руках. Поэтому он и бросил якорь далеко от берега и взял с собой на моторную лодку вооружённый отряд матросов. Кроме того все орудия на корабле были на всякий случай приведены в боевую готовность.
С Андреем на корабль пошли фрейлина Великой Княгини княжна Тюря Голицына и Володя Лазарев, а на молу капитан пригласил ещё подошедших к нему англичанина с сыном, который преподавал английский язык в анапском морском корпусе.
Андрей Владимирович с восхищением описывал военный английский корабль, который он хорошо помнил через много лет. И они с Матильдой Феликсовной записали о нём следующее: «Монтроз» был в 2500—3000 тонн, лёгким крейсером (так называют военное судно, среднее между эскадренным миноносцем и крейсером), спущенным в 1918 году и развивавшем 43 узла хода. «Монтроз» был снабжён аппаратами по последним условиям тогдашней техники для борьбы с подводными лодками и довольно сильной артиллерией против аэропланов. Трапов для спуска в нижние палубы у него не было. На верхней палубе были лишь большие круглые отверстия, вокруг которых было написано, куда этот ход ведёт. Внутри были совершенно отвесные железные лестницы, вделанные в стальную трубу. Мужчинам ещё ничего, но дамам спускаться по отвесным лестницам было трудновато. Гости капитана спустились в то отверстие, где было написано: «капитанская каюта». Рядом были другие с надписями: «кают-компания», «офицерские каюты», «машинное отделение» и т. д. Когда они, наконец, спустились к капитану в его каюту, то очутились в роскошной квартире, обставленной чудной мебелью. Помещение капитана состояло из обширного кабинета, служившего в то время столовой, с огромным письменным столом, мягкими кожаными креслами и шкапом для книг. На видном месте стоял сундук с секретными документами. Командир пояснил, что в случае гибели крейсера первым долгом он должен был выбросить за борт этот сундук, чтобы неприятелю не попались в руки секретные бумаги. Рядом была очень уютная спальня с настоящей кроватью, обширная ванная и уборная. Далее была буфетная, где в шкапах находилась посуда и хрусталь. Всё было шикарное и красивое. Пока готовился чай, гости разбрелись по каюте, любуясь давно не виданной ими роскошью».
Андрей Владимирович вспоминал, что капитан английского корабля отозвал его в сторону, чтобы никто не подслушал, и спросил:
— Великий Князь, меня очень интересует такой вопрос: как Вы считаете, погиб Государь в Екатеринбурге или нет?
Он ответил:
— У меня нет никаких данных, подтверждающих или отвергающих это, но я надеюсь, что Романовы могли быть спасены.
О спасении Государя в то время действительно ходило много правдоподобных слухов и невольно верилось в возможность этого, и людям думалось, что большевики нарочно распространяют слух о гибели Царской семьи.
— В таком случае, — ответил капитан, — позволите ли вы мне выпить за здоровье Государя?
Андрей ответил:
— Я ничего против этого не имею.
Капитан приказал подать шампанское. Всем раздали бокалы, и он торжественно провозгласил тост за здравие Государя Императора. В ответ на этот тост Великий Князь провозгласил тост «за Короля Англии». (Кстати, тоже двоюродного брата русского Государя, только по материнской линии).
Этот жест капитана позже толковался посетившими корабль на все лады. Даже у самого Андрея закралось сомнение: не знает ли капитан больше того, что он сказал? Возможно, он хотел ему сказать больше, но не имел на это права. Во всяком случае тост капитана доказывал то, что он в тот момент сам не верил в гибель Николая Второго и не имел официального подтверждения этому.
Позже члены Императорской фамилии узнали, что большевики боялись всеобщего негодования и старались скрыть убийство Государя, поэтому сами и распространяли слухи, будто бы Николай Второй и его семья были похищены «белобандитами».
«В мае, когда весь Северный Кавказ был окончательно освобождён от большевиков, было решено, что мы переедем обратно в Кисловодск. Обратное путешествие было опять организовано генералом Покровским, который прислал одного офицера и десяток казаков из своего конвоя, чтобы охранять Великую Княгиню и Андрея Владимировича во время следования в Кисловодск. Двадцать четвёртого мая (6 июня) мы покинули Анапу, прожив в ней семь месяцев», — описывала дальнейшие свои скитания Кшесинская.
Глава 11. Окаянные дни в Одессе
Весной 1919 года в южном российском городе на берегу Чёрного моря — Одессе, жил русский писатель Иван Алексеевич Бунин, уехав из Москвы. Он был на два года старше Матильды Кшесинской. Родом был из Воронежа. В детстве жил в деревенской усадьбе в Орловской губернии в обедневшей дворянской семье бывшего офицера. В Елецкой уездной гимназии Иван проучился пять лет, но закончить её так и не получилось. Его образованием занимался старший брат Юлий, а затем он сам занялся самообразованием. С юности много читал. И вся его жизнь в дальнейшем была связана с литературой: он работал в газетах, в библиотеке, и, в конце концов, стал поэтом и писателем, а также переводчиком. Начинал он свою трудовую деятельность в городе Орле. Так получилось в жизни, что уйдя из отчего дома, писатель никогда не имел собственного жилья: жил на частных квартирах, в отелях, в гостях или из чьей-нибудь милости. Всегда это были временные и чужие пристанища.
В 1895 году Иван Алексеевич приехал в Санкт-Петербург. И вскоре стал автором сразу нескольких книг. Бунин был лириком, глубоко чувствовал красоту родной природы, знал быт и нравы русской деревни, её язык, обычаи и традиции. Его книга «Под открытым небом» — лирический дневник времён года, где он описывает родные пейзажи, сквозь которые проступал близкий сердцу образ Родины.
Бунин считал, что с утратой красоты в жизни неизбежна и утрата её смысла. В 1900 году появился его знаменитый рассказ «Антоновские яблоки», где он показал свой взгляд «на быт и душу русских дворян» очень похожие на те, «что и у мужика». Горький был восхищён поэтичностью этого рассказа, сказав: «Тут Иван Бунин, как молодой бог, спел. Красиво, сочно, задушевно».
Иван Алексеевич дружил с Максимом Горьким и посвятил ему свою поэму «Листопад» в том же году. В повести «Деревня», которую сам Бунин считал романом, он безо всякой «розовой» приукраски, которая была модна в то время, показал реальный тип крестьянской личности. Бунинская деревня была обречена на самораспад. Автор правдиво показывал картины упадка и обнищания в предреволюционной России.
За свои произведения Иван Бунин дважды — в 1903 и 1909 году — получил Пушкинские премии.
Октябрьскую революцию в Российской Империи Бунин не принял категорически и решительно. Он отвергал это «кровавое безумие» и «повальное сумасшествие», насилие над человеческим обществом. Считал, что нельзя искусственно, ценой насилия, перестраивать жизнь огромной страны. Ещё будучи в Москве в 1918 году он писал: «Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно…» Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности всё равно никогда не будет. А главное: наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди что ли?»
Весной 1919 года Иван Алексеевич приезжает в Одессу. В этом городе он уже был, и о нём остались самые приятные воспоминания. Бывали в этом городе на гастролях и артисты Императорских театров. Здесь был прекрасный оперный театр. Город был довольно-таки своеобразным. Его история начиналась ещё во времена Екатерины Великой, благодаря ей город получил и своё название.
Во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов русские овладели крепостью в Хаджибейском заливе Чёрного моря в сентябре 1789 года. Екатерина Вторая приказала построить на этом месте порт, который был назван по древнегреческому поселению Одесос, которое находилось недалеко. Первым мэром города был француз герцог де Ришелье. Он мечтал, чтобы Одесса была лучше и красивее, чем Париж и Санкт-Петербург. Город стали строить заграничные архитекторы. И если Санкт-Петербург называли тогда Северной Пальмирой, то Одессу стали называть Южной Пальмирой. К тому же, Одесса также была «окном» в Европу, благодаря своему удобному положению, где позднее был расположен крупный порт на Чёрном море с тремя гаванями. В 1805 году Одесса стала центром Новороссийского генерал-губернаторства, которое возглавлял граф Воронцов, который жил в Одессе и много сделал для её дальнейшего процветания.
В результате революционных событий 1917—1920 годов в Одессе устанавливается Советская власть.
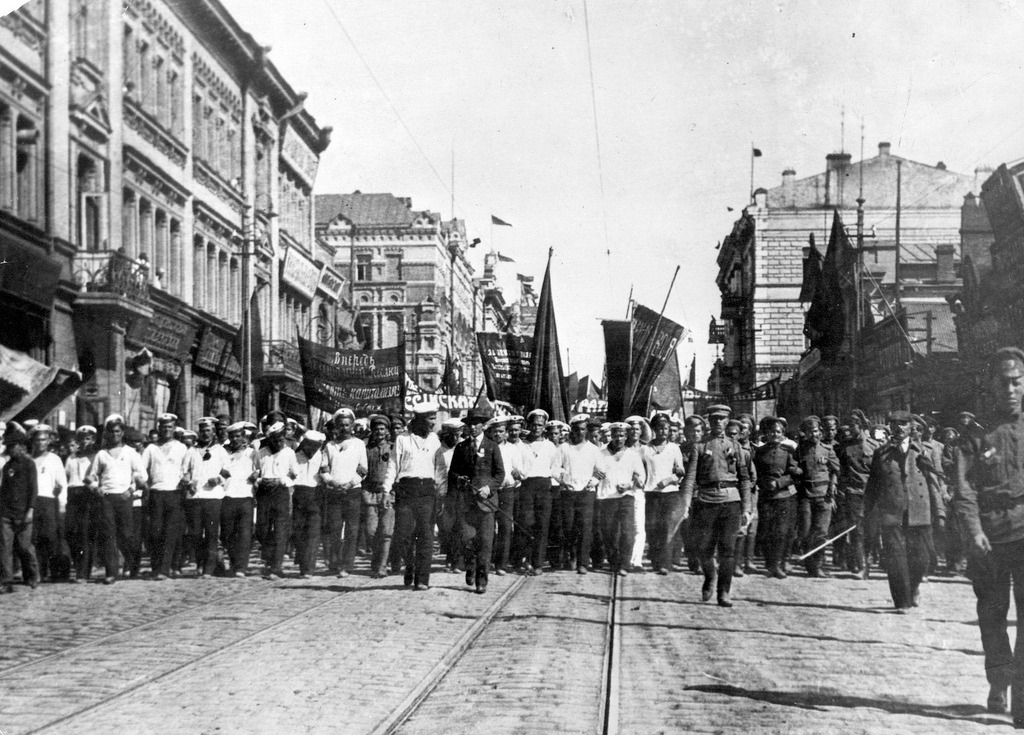
Новую революционную власть Бунин люто ненавидел. Но показывать в те времена этого было нельзя, ведь высказывание своих мыслей могло стоить жизни. Поэтому он, молча, переносил все нравственные испытания, выпавшие на его долю. Иван Алексеевич тайно, по ночам, вёл дневник, в который записывал свои мысли и впечатления. И свои записки прятал в щели под полом, чтобы при обыске их случайно не обнаружили. В будущем, в эмиграции, они будут опубликованы под заглавием «Окаянные дни». Эти записи дополняют картину революционного прошлого России, как его видел «белый» писатель.
Начинались записи в Одессе с 12 апреля по старому стилю:
«Двенадцать лет тому назад мы с В. [женой] приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мёртвый, пустой порт, мёртвый, загаженный город… Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье…»
А дальше идут выдержки из его дневника, написанного в апреле 1919 года:
«Как они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров — непременно почему-то комиссаров — и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли, как грибы, и все „пожирали друг друга“, образовался совсем новый, особый язык, „сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании…“ Всё это повторяется потому, прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна».
«Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей её истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны! Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделён, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены».
О том, какие чувства испытывал писатель в нынешней Одессе, Бунин писал:
«Но жутко и днём. Весь огромный город не живёт, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоёванным, и завоёванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюёт семечками, «кроет матом». По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за «павшего борца» (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и чёрных знамён), или чернеют кучки играющих на гармоньях, пляшущих и вскрикивающих:
Эй, яблочко,
Куда котишься!»
«Нельзя огулом хаять народ!»
А «белых», конечно, можно.
Народу, революции всё прощается, — «всё это только эксцессы».
А у белых, у которых всё отнято, поругано, изнасиловано, убито, — родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сёстры, — «эксцессов», конечно, быть не должно.
«Революция — стихия…»
Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революцию всегда «углубляют».
«Народ, давший Пушкина, Толстого».
А белые не народ».
«Салтычиха, крепостники, зубры…» Какая вековая низость — шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей. А декабристы, а знаменитый Московский университет тридцатых и сороковых годов, завоеватели и колонизаторы Кавказа, все эти западники и славянофилы, деятели «эпохи великих реформ», «кающийся дворянин», первые народовольцы, Государственная Дума? А редакторы знаменитых журналов? А весь цвет русской литературы? А её герои? Ни одна страна в мире не дала такого дворянства».
«Разложение белых…»
Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире «разложения», которое явил «красный» народ».
«Статья Троцкого „о необходимости добить Колчака“. Конечно, это первая необходимость и не только для Троцкого, но и для всех, которые ради погибели „проклятого прошлого“ готовы на погибель хоть половины русского народа».
«Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!»
«Рядом с этим есть в газетах и „предупреждение“. „В связи с полным истощением топлива, электричества скоро не будет“. Итак, в один месяц всё обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды — ничего!»
«Вчера поздно вечером, вместе с „комиссаром“ нашего дома, явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты „на предмет уплотнения пролетариатом“. Все комнаты всего города измеряют, проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан! Я не проронил ни слова, молча лежал на диване, пока мерили у меня, но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стукало с перерывами и больно пульсировала жила на лбу. Да, это даром для сердца не пройдёт. А какое оно было здоровое и насколько бы еще меня хватило, сколько бы я мог ещё сделать!»
«Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? Всё потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови, что, благодаря им, даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо вязать, тащить в полицию босяка, который схватил за горло прохожего в обычное время, от восторга захлёбываются перед этим босяком, если он делает то же самое во время, называемое революционным, хотя ведь всегда имеет босяк полнейшее право сказать, что он осуществляет «гнев низов, жертв социальной справедливости».
«Внезапная музыка во дворе — бродячая немецкая гармония, еврей в шляпе и женщина. Играют польку, — и как всё странно, некстати теперь!»
«Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году (в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, — и телесного, и духовного, — необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерибасовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие её. А потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море — маленькое, плоское, всё как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешённостью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то весёлое отчаяние, вдруг осознал уж как будто совсем до конца всё, что творится в Одессе и во всей России».
Катаев Валентин Петрович, с которым Бунин вышел пройтись по городу, в то время был молодым двадцати двух летним начинающим писателем. Он родился в Одессе в семье учителя и учился в местной гимназии. С девяти лет Валентин писал стихи, которые публиковали в одесских газетах. В 1914 году стихи Катаева были опубликованы в Петербурге в журнале «Весь мир». С начала Первой мировой войны до 1917 года Валентин был в действующей армии. Революцию встретил в одесском лазарете после ранения на румынском фронте. Здесь он впервые пытался написать прозу. (В будущем он напишет всем известную повесть «Белеет парус одинокий»). В 1919 году Катаева призвали в Красную армию, где он был командиром батареи. Из армии он был отозван для литературной работы в Окнах РОСТА. Здесь он писал тексты для агитплакатов, листовки, лозунги, частушки.
Иван Бунин продолжал в тайне записывать свои наблюдения за «новой революционной жизнью»:
«Случается, что, например, выходит из ворот бывшей Крымской гостиницы (против чрезвычайки) отряд солдат, а по мосту идут женщины: тогда весь отряд вдруг останавливается — и с хохотом мочится, оборотясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке? Нарисованы ступени, на верхней — трон, от трона текут потоки крови. Подпись:
«Мы кровью народной залитые троны
Кровью наших врагов обагрим!»
«А толпа? Какая, прежде всего, грязь! Сколько старых, донельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали, на вшивых головах! И какой ужас берёт, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!»
«А в красноармейцах главное — распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает «шевелюр». Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда, ни с того ни с сего, красные рейтузы и при этом пехотная шинель и громадная старозаветная сабля.
Часовые сидят у входов реквизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал».
«Чтобы топить водопровод, эти „строители новой жизни“ распорядились ломать знаменитую одесскую эстакаду, тот многовёрстный деревянный канал в порту, по которому шла ссыпка хлеба. И сами же жалуются в „Известиях“: „Эстакаду растаскивает кто попало!“ Рубят, обрубают на топку и деревья — уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады».
«Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шёл по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизированного дома, играют затворами винтовок, и один говорит другому:
— А Петербург весь под стеклянным потолком будет… Так что ни снег, ни дождь, ни что…»
«В три часа вошла с испуганным лицом Анюта:
— Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожить, и за это на 15 лет отдают им нас. Вот бы хорошо!
Что такое? Вероятно, дикий вздор, но всё-таки взволновался до дрожи и холода рук».
«В Киеве «приступлено к уничтожению памятника Александра Второго». Знакомое занятие. Ведь еще с марта 17 года начали сдирать орлы, гербы…
Опять слух, что Петербург взят, Будапешт тоже. Для слухов выработались уже трафаретные приемы: «Приехал один знакомый моего знакомого…»
«Фома сообщил, что послезавтра будет „чистое светопредставление“: „день мирного восстания“, грабёж всех буржуев поголовно».
И в последний день месяца — 30 апреля Бунин писал:
«Ужасное утро! Пошел к Д., он в двух штанах, в двух рубашках, говорит, что «день мирного восстания» уже начался, грабёж уже идёт; боится, что отнимут вторую пару штанов.
Вышли вместе. По Дерибасовской несётся отряд всадников, среди них автомобиль, с воем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили Овсянико-Куликовского. Говорит «душу раздирающие слухи, всю ночь шли расстрелы, сейчас грабят».
Начался май. Писатель описывал события дальше:
«Приходил «комиссар» дома проверять, сколько мне лет, всех буржуев хотят гнать в «тыловое ополчение».
Весь день холодный дождь. Вечером зашел к С. Юшкевичу: устраивается при каком-то «военном отделе» театр для товарищей, и он, боясь входить единолично в совет этого театра, втягивает в него и меня. Сумасшедший! Возвращался под дождём, по тёмному и мрачному городу. Кое-где девки, мальчишки красноармейцы, хохот, щелканье орехов…»
Одессит Семён Соломонович Юшкевич, к которому заходил Иван Алексеевич, был на два года старше Бунина, он был русским еврейским писателем — прозаиком и драматургом. По его произведениям ставились спектакли в театрах.
«Еврейский погром на Большом Фонтане, учиненный одесскими красноармейцами.
Были Овсянико-Куликовский и писатель Кипен. Рассказывали подробности. На Б. Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли, — шла настоящая охота. Кипен спасся случайно, — ночевал, по счастью, не дома, а в санатории «Белый цветок». На рассвете туда нагрянул отряд красноармейцев, — «Есть тут жиды?» — спрашивают у сторожа. — «Нет, нету». — «Побожись!» — Сторож побожился, и красноармейцы поехали дальше.
Убит Моисей Гутман, биндюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи, очень милый человек».
О гостях Бунина было известно следующее. Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич родился в Каховке Таврической губернии в 1853 году. Учился в Петербурге, Одессе, Праге и Париже. Затем преподавал в нескольких университетах Российской Империи. Был членом Петербургской академии наук, а затем Российской академии наук. Был русским литературоведом и лингвистом. Главные его труды: «История русской интеллигенции», «Теория поэзии и прозы», «Синтаксис русского языка».
Кипен Александр Абрамович был ровесником Ивана Бунина. Занимался научной деятельностью в сельскохозяйственной сфере, особенно ценными были его работы по виноградарству. С 1903 года занимался параллельно литературой. Хорошо знал жизнь евреев, описывал погромы в революцию 1905 года. В своих произведениях мастерски передавал колорит южной народной речи, которую в будущем будут называть «одесской».
«Шёл и думал, вернее, чувствовал: если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно, — опротивел человек! Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза, — как мало они видели, даже мои».
«Борешься с этим, стараешься выйти из этого напряжения, нетерпеливого ожидания хоть какой-нибудь развязки — и никак не можешь. Особенно ужасна жажда, чтобы как можно скорее летели дни».
«Арестован одесский комитет «Русского народно-государственного союза» (16 человек, среди них какой-то профессор) и вчера ночью весь расстрелян, «ввиду явной активной деятельности, угрожающей мирному спокойствию населения».
О спокойствии населения, видите ли, заботятся!»
«Евгений играет в столовой на пианино. Боже мой, как больно!
Были у В. А. Розенберга. Служит в кооперативе, живёт в одной комнате вместе с женой; пили жидкий чай с мелким сорным изюмом, при жалкой лампочке… Вот тебе и редактор, хозяин «Русских Ведомостей»! Со страстью говорил «об ужасах царской цензуры».
Владимир Александрович Розенберг родился в 1860 году в Николаеве. Он был публицистом, экономистом, литературоведом и историком издательской деятельности. В газете «Русские ведомости» работал с 1886 года, а с 1912 года стал её официальным редактором. Писал статьи по крестьянскому вопросу. Спустя три года, в 1922 году, был выслан из Советской России за границу.
«Только тем и живём, что тайком собираем и передаём друг другу вести. Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице, у Щ. Туда приносят сообщения, получаемые Бупом (бюро украинской печати)».
«Ходил бриться, стоял от дождя под навесом на Екатерининской. Рядом со мной стоял и ел редьку один из тех, кто „крепко держит в мозолистых руках красное знамя всемирной коммунистической революции“, мужик из-под Одессы, и жаловался, что хлеба хороши, да сеяли мало, боялись большевиков: придут, сволочь, и заберут! Это „придут, сволочь, и заберут“ он повторил раз двадцать».
«После обеда гуляли. Одесса надоела невыразимо, тоска просто пожирает меня. И никакими силами и никуда не выскочишь отсюда! По горизонтам стояли мрачные синие тучи. Из окон прекрасного дома возле чрезвычайки, против Екатерины, неслась какая-то дикая музыка, пляска, раздавался отчаянный крик пляшущего, которого точно резали: а-а! — крик пьяного дикаря. И все дома вокруг горят электричеством, все заняты.
Вечер. И свету не смей зажигать и выходить не смей! Ах, как ужасны эти вечера!»
Власть в Одессе в то время была в руках атамана Григорьева, который был на стороне «красных». «В газетах опять: «Смерть пьянице Григорьеву!» — и дальше гораздо серьёзнее: «Не время словам! Речь теперь идёт уже не о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уж о самых элементарных завоеваниях Октября… Крестьяне заявляют, что до последней капли будут биться за мировую революцию, но, с другой стороны, стало известно об их нападениях на советские поезда и об убийствах топорами и вилами лучших наших товарищей…»
«Колчак с Михаилом Романовым несут водку и погромы…». А вот в Николаеве Колчака нет, в Елизаветграде тоже, а меж тем: «В Николаеве зверский еврейский погром… Елизаветград от тёмных масс пострадал страшно. Убытки исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавчонки и даже буфетики снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться!»
Бунин здесь пишет о событиях в уездном городе Елизаветграде (в будущем — Зиновьеве и Кировограде) Херсонской губернии, который являлся станцией на Юго-Западных железных дорогах. Раньше он принадлежал Новороссийской губернии, а свою жизнь начал в 1754 году с крепости Святой Елизаветы (в честь святой покровительницы русской императрицы Елизаветы Петровны). В 1775 году стал называться Елизаветградом.
И дальше:
«Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из неё, громит Ананьев, — убитых свыше ста, магазины разграблены…»
«В Жмеринке идёт еврейский погром, как и был погром в Знаменке…» Это называется, по Блокам, «народ объят музыкой революции — слушайте, слушайте музыку революции!»
Город Ананьев находился недалеко от Одессы и подчинялся ей. Жмеринка недалеко от Винницы, а Знаменка близ Елизаветграда. Они были городами с железнодорожными станциями. В Жмеринке жили, в основном, казаки и евреи. А в Знаменке — переселенцы-старообрядцы, которые почитали икону Божьей Матери «Знамение».
«Пересматривал свой «портфель», изорвал порядочно стихов, несколько начатых рассказов и теперь жалею. Всё от горя, безнадёжности (хотя и раньше случалось со мной это не раз). Прятал разные заметки о 17 и 18 годах.
Ах, эти ночные воровские прятания и перепрятывания бумаг, денег! Миллионы русских людей прошли через это растление, унижение за эти годы. И сколько потом будут находить кладов. И всё наше время станет сказкою, легендой…»
«Вернулись домой в три. Новости: «Уходят! Английский ультиматум — очистить город!»
Был Н. П. Кондаков. Говорил о той злобе, которой полон к нам народ и которую «сами же мы внедряли в него сто лет». Потом Овсянико-Куликовский. Потом А. Б. Азарт слухов: «Реквизируют сундуки, чемоданы и корзины, — бегут… Сообщение с Киевом совсем прервано… Взят Проскуров, Жмеринка, Славянск…» Но кем взят? Этого никто не знает.
Выкурил чуть не сто папирос, голова горит, руки ледяные».
Гость Бунина Никодим Павлович Кондаков (1844 года рождения) был историком искусства и археологом. Он изучал византийское и древнерусское искусство. Был членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, членом Императорской Академии художеств. После революции жил в Одессе и Ялте. В 1920 году эмигрировал сначала в Константинополь, а затем в Болгарию. Стал профессором Софийского университета. С 1922 года жил в Праге (последние три года жизни).
Уездный город Проскуров Подольской губернии был станцией на Юго-Западной железной дороге. Существовал уже в XV веке, но был присоединён к России во времена Екатерины II — в 1795 году. Это еврейское местечко утопало в грязи. Но к приезду Императоров улицы старались засыпать шлаком, чтобы не было больших луж. Здесь бывали проездом Александр II, Александр III и Николай II. Последний в начале Первой мировой войны в 1914 году. Его родная сестра Великая Княгиня Ольга Александровна служила здесь сестрой милосердия.
Город Славянск Харьковской губернии был основан ещё по приказу царя Алексея Михайловича, как пограничный острог против крымских набегов татар на южные окраины Российского государства в 1645 году. Первоначальное название — крепость Тор. Славянском его стали звать с екатерининских времён — 1794 года. Это был и крупный транспортный узел, и старинный грязелечебный курорт.
Бунин продолжал свои записи: «Да, образовано уже давным-давно некое всемирное бюро по устроению человеческого счастия, „новой, прекрасной жизни“. Оно работает вовсю, принимает заказы на всё, буквально на все самые подлые и самые бесчеловечные низости. Вам нужны шпионы, предатели, растлители враждебной вам армии? Пожалуйте, — мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно „провоцировать“ что-нибудь? Сделайте милость, — более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдёте… И так далее, и так далее».
Писателя постоянно мучили мысли о судьбе России: «Какая чепуха! Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шестой частью земного шара, и какой частью? — поистине сказочно-богатой и со сказочной быстротой процветавшей! — и вот этому народу сто лет долбили, что единственное его спасение — это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках!»
Дальше идут записи июня 1919 года.
«Колчак признан Антантой Верховным Правителем России. В „Известиях“ похабная статья: „Ты скажи нам, гадина, сколько тебе дадено?“ Чёрт с ними. Перекрестился с радостными слезами».
«Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И, правда, матросов стало в городе больше и вида они нового, раструбы их штанов чудовищные. Вообще очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками, — того гляди, застрелит. Поминутно видишь — два хулигана стоят на панели и разбирают браунинг.
После обеда были у пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация — всё на тему о зверствах белогвардейцев, а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе; всё одно: как начальники «всё себе в карман клали» — дальше кармана у этих скотов фантазия не идёт.
— А Перемышль генералы за десять тысяч продали, — говорит один, — я это дело хорошо знаю, сам там был».
Лето 1919 года ещё теплилось надеждами: «Сумасшедшие слухи о Деникине, об его успехах. Решается судьба России».
Народ жил в страхе, повсюду в населённых пунктах шли расстрелы. «В Харькове «приняты чрезвычайные меры» — против чего? — и все эти меры сводятся к одному — к расстрелу «на месте». В Одессе расстреляно еще 15 человек (опубликован список). Из Одессы отправлено «два поезда с подарками защитникам Петербурга», то есть с продовольствием (а Одесса сама дохнет с голоду). Нынче ночью арестовано много поляков, — как заложников, из боязни, что «после заключения мира в Версале на Одессу двинутся поляки и немцы».
Харьков был одним из древнейших русских городов. В документах впервые о нём упоминалось в 1654 году. Он был расположен на реке Харьков и начал строиться в царствование царя Алексея Михайловича. Через три года царь подписал указ об учреждении Харьковского воеводства. Через столетие город стал центром учреждённой Харьковской губернии. С 1917 по 1919 годы в Харькове несколько раз менялась власть. Советскую власть здесь пришлось устанавливать трижды.
«В меньшевистской газете «Южный Рабочий», издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов рассказывал о том, как образовался знаменитый совет рабочих и солдатских депутатов:
— Пришли Суханов-Гиммер и Стеклов, никем не выбранные, никем не уполномоченные, и объявили себя во главе этого ещё несуществующего совета!»
На Юге страны продолжалось уничтожение ни в чём не повинной интеллигенции. «В Киеве „проведение в жизнь красного террора“ продолжается; убито, между прочим, ещё несколько профессоров, среди них знаменитый диагност Яновский».
Бунин констатировал в своих записках и такие факты: «Теперь в деревне матери так пугают детей:
— Цыц! А то виддам в Одессу в коммунию!»
Власть во время гражданской войны переходила из рук в руки, иногда народ терялся: кто сегодня у власти, кому подчиняться, на чью сторону встать? «Да и как не сбиться? В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить деникинцев, когда они придут, — втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже царя храни», то «бей жидов».
Люди в Одессе надеялись на то, что город от «красных» очистят «белые». «Впрочем, может быть, и правда готовятся бежать. Грабеж идёт страшный. Наиболее верным „коммунистам“ раздают без счёта что попало: чай, кофе, табак, вино. Вина, однако, осталось, по слухам, мало, почти всё выпили матросы (которым особенно нравится, как говорят, коньяк Мартель). А ведь и до сих пор приходилось доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за Мартель».
Бунина возмущали разбойничьи нападения, которые оправдывались революцией. «Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало.
Но что за беда! Вот Павел Юшкевич уверяет, что «к революции нельзя подходить с уголовной меркой», что содрогаться от этих павлинов — «обывательщина».
Павел Соломонович Юшкевич был на год младше Кшесинской. Родился в Одессе в 1873 году. Он был известен в столицах как философ и переводчик, имел меньшевистские взгляды. Брат Семёна Соломоновича Юшкевича.
«Революционные» матросы вели себя не лучше простых мужиков в деревнях: «Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные, врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребёнком. Она молила, чтобы её пощадили ради ребёнка, но матросы крикнули: „Не беспокойся, дадим и ему маслинку!“ — и застрелили и его. Для потехи выгоняют заключённых во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи».
Бунин отмечал, что очень странно вели себя красноармейцы и в то время, когда уже теряли власть. «Рассказывали: когда в прошлом году пришли в Одессу немцы, «товарищи» вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец комендант с презрением пожал плечами: «Удивительная страна Россия! Чего ей так весело?»
В Одессе люди страдали от голода, хотя вокруг в сёлах был отменный урожай. Крестьяне не хотели отдавать его новым властям, отчего страдали обычные горожане. «А насчет „горшка с обедом“ дело плохо. У нас по крайней мере от недоедания всё время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе, и только кое-где кучки гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят везти, свиньям в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят…»
Такая жизнь для Бунина, как и многих русских людей, была невыносима. И однажды он принял решение уехать в эмиграцию. «А потом я плакал слезами и лютого горя и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию, и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу в Орше, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши…»
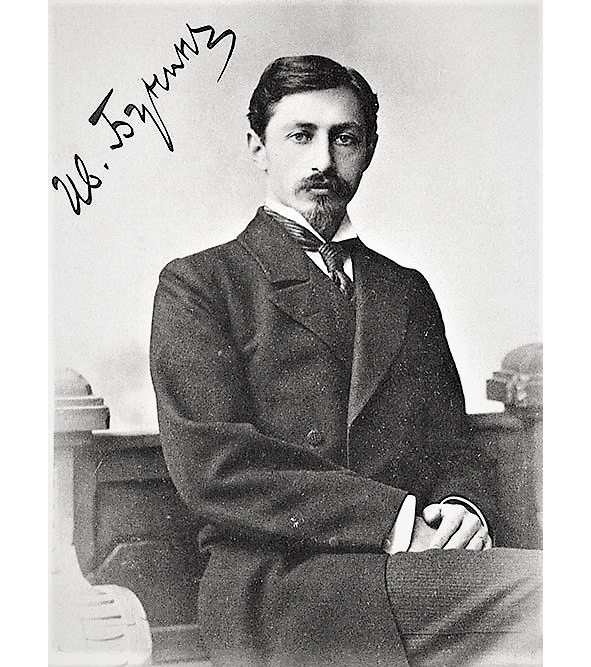
В 1920 году Бунин выехал за границу. Там он в полной мере познал участь русского писателя-эмигранта. Стихов за тридцать с лишним лет жизни на чужбине им было написано мало, но среди них были и признанные шедевры лирики: «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…», «Петух на церковном кресте», «Михаил».
В 1929 году в Париже вышла книга Ивана Бунина «Избранные стихи», которая выдвинула автора на одно из первых мест в русской поэзии.
В эмиграции Буниным было написано и десять новых книг прозы. Среди них «Роза Иерихона» (1924), «Солнечный удар» (1927), «Божье дерево» (1930). В 1925 году им была написана известная повесть «Митина любовь».
С 1927 года шесть лет писатель работал над произведением «Жизнь Арсеньева», повесть была написана по его автобиографии. В ней чувствуется ностальгический тон о бывшей России.
«За правдивый артистичный талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер» в 1933 году писателю была присуждена Нобелевская премия.
В конце 30-х годов у Бунина всё сильнее чувствуется тоска по Родине. С болью он переживал события Великой Отечественной войны и очень был рад победе советских войск. В 40-е годы он пишет рассказы, которые позднее вошли в сборник «Тёмные аллеи». Сам писатель этот сборник считал самым совершенным по художественному мастерству.
В послевоенные годы он изменил своё отношение к Советскому Союзу и относился к стране доброжелательно. И всё-таки вернуться на Родину так и не смог: Бунин не представлял своей жизни в России с новыми порядками, с непонятным ему общественным строем, несмотря на то, что был ровесником Владимира Ильича Ленина.
Умер писатель в 1953 году в Париже, когда ему было восемьдесят три года.
Глава 12. Романовы в Крыму. 1917—1919
Революция застала вдовствующую Императрицу Марию Фёдоровну, её дочь Великую Княгиню Ольгу с мужем Куликовским и зятя Великого Князя Александра Михайловича в Киеве. У Ольги Александровны здесь находился госпиталь, в котором она работала сестрой милосердия, её муж-офицер и Александр Михайлович находились по долгу военной службы, а у Марии Фёдоровны был в Киеве свой дворец, в котором она жила и бывала в своих госпиталях, помогая им морально и материально. Сначала население города относилось к ним дружелюбно. Александра Михайловича останавливали на улице, пожимали ему руки, говорили, что знают о его либеральных взглядах и даже отдавали честь (хоть отдание чести уже было отменено пресловутым «приказом №1» по армии).
«Первые две недели всё шло благополучно. Мы ходили по улицам, смешавшись с толпой, и наблюдали грандиозные демонстрации, которые устраивались по случаю полученной свободы!» — писал в своих воспоминаниях Великий Князь. А дальше продолжал: «Всё шло как будто прекрасно. В провинции и на окраинах революция проходила бескровно, но нужно было остерегаться планов немецкого командования. Немецкие стратеги не оправдали бы своей репутации, если бы упустили те возможности, которые открывались для них из-за наших внутренних проблем. У немецкого командования был последний шанс, чтобы предотвратить весною общее наступление. Никакое божественное вмешательство не могло бы создать им более благоприятной обстановки, чем наша революция».
Вскоре на Украине началось активное движение за её отделение от России. «Лидеры украинского сепаратистского движения были приглашены в немецкий генеральный штаб, где им обещали полную независимость Украины, если им удастся разложить тыл русской армии. И вот миллионы прокламаций наводнили Киев и другие населённые пункты Малороссии. Их лейтмотивом было полное отделение Украины от России. Русские должны оставить территорию Украины. Если они хотят продолжать войну, то пусть воюют на собственной земле», — вновь сообщал Александр Михайлович.
Всё это стало подкрепляться призывами борьбы с врагами революции. Стали разрушаться царские памятники. И, буквально, в одну ночь печать в Киеве коренным образом изменила своё отношение ко всей Царской семье. Все Романовы вдруг превратились во врагов революции и русского народа.
О своей тёще, вдовствующей Императрице Марии Фёдоровне, Великий Князь писал: «Семидесятилетняя женщина не могла постичь и не хотела верить, что династия, давшая России Петра Великого, Александра I, Александра II и, наконец, её собственного мужа Александра III, которого она обожала, могла быть обвинена теперь во враждебности к русскому народу.
— Мой бедный Ники, может быть, и делал ошибки, но говорить, что он враг народа!.. Никогда, никогда!..
Она вся дрожала от негодования».
Мария Фёдоровна никак не могла поверить, что сын её перестал быть Императором. И не могла понять, почему тогда не стал Императором её младший сын Михаил или внук Алексей.
Бывшие подчинённые Александра Михайловича каждое утро навещали его и убеждали, что их семье нужно срочно уезжать из Киева в крымские имения. Появились слухи, что бывшего царя Николая Второго с семьёй собираются отправить в ссылку в Сибирь. И убедить бывшую мать-Императрицу ехать в Крым было непросто. Она говорила, что лучше пусть её отправят со старшим сыном отбывать ссылку, считая, что их семье нужна её поддержка. Её материнские чувства её окружение восхищали.
Добрым друзьям Романовых удалось повлиять на Временное правительство. К ним однажды явился комиссар и объявил приказ немедленно отправиться в Крым. «Местный совет всецело одобрил этот план, так как считал, что „пребывание врагов народа так близко от Германского фронта представляет собою большую опасность для революционной России“. Нам пришлось почти нести Императрицу на вокзал. Она боролась до последней минуты, желая остаться и заявляя, что предпочитает, чтобы её арестовали и бросили в тюрьму», — вспоминал её зять.
Но нужно было ещё решить вопрос, как добираться в Крым? Обычное железнодорожное сообщение было в то время очень ненадёжным. Но благодаря усилиям и связям Великого Князя Александра, ему удалось найти специальный поезд, который был уже готов к отправлению.
Последнее «путешествие» в Крым семьи Романовых совершалось под конвоем революционных солдат и матросов. Великая Княгиня Ольга Александровна вспоминала: «И вот мы сбежали. Отбыли поздно вечером, но не с вокзала, где это вызвало бы возмущение и где сотни беспомощных людей ожидали возможности как можно быстрее уехать, а из леска, недалеко от Киева. Мы выехали на автомобиле в темноте, отыскали состав, ждавший нас в условленном месте, сели в вагон, и поезд немедленно с пыхтением тронулся… К счастью, наше путешествие прошло по плану, несмотря на многочисленные трудности. Железные дороги находились в состоянии полного хаоса, и у нас было ощущение, что рано или поздно мы врежемся в другой состав, застрявший на путях, потому что железнодорожники никак не могли решить, кто из них возьмёт на себя роль машиниста и отгонит его. Мы до сих пор не понимаем, как наш поезд избежал тогда катастрофы и благополучно добрался до места назначения».
Через два дня они приехали в Севастополь, а вернее — на станцию Инкерман, а затем — на автомобиле — в имение «Ай-Тодор», где раньше всегда отдыхала большая семья Александра Михайловича и Ксении Александровны (родной сестры Николая Второго).
Жена Великого Князя со старшими детьми ещё находилась в Петрограде, и Александр Михайлович по телефону давал ей советы, как им оттуда приехать в Крым. Он считал, что это нужно было делать немедленно. Их зять князь Феликс Юсупов вспоминал в эмиграции: «Весной 1917-го многие петербуржцы бежали в свои поместья в Крым. Великая княгиня Ксения с тремя старшими сыновьями, мои отец с матерью и мы с Ириной тоже стали беглецами. В ту пору ещё революция не докатилась до юга России, и в Крыму было относительно безопасно».
Тем не менее, до их приезда были такие события: «Младшие Иринины братья, жившие в Ай-Тодоре, рассказывали, что, узнав о революции, жители соседних деревень пришли к ним с красными флагами, «Марсельезой» и… поздравлениями. Гувернёр братьев, швейцарец мсье Никиль, вывел детей с боннами на балкон и с балкона поздравил толпу ответно. Моя Швейцария, сказал он, — триста лет уже республика, её граждане счастливы, и такого же счастья, мол, желаю и русским. Толпа радостно взвыла. Бедные дети были ни живы, ни мертвы. Слава Богу, всё обошлось. Шествие как пришло, так и ушло с пением «Марсельезы».
О том, что было в Петербурге в то время, князь Юсупов писал: «Жизнь в Петербурге становилась всё невыносимей. Революцией бредили все, даже люди обеспеченные, те даже, кто считали себя консерваторами. В очерке «Революция и интеллигенция» Розанов, не поддавшийся заразе, так описал их конфуз: «С удовольствием посидев на спектакле Революции, интеллигенция собралась было в гардероб за шубами да по домам, но шубы их раскрали, а дома сожгли».
В первый же день приезда Романовых из Киева в Крым, они получили длинный список запрещений от «Особого комиссара Временного правительства». Им объявили, что они будут здесь находиться под домашним арестом и передвигаться им можно только в пределах своего Ай-Тодорского имения, «на полутора десятинах между горами и берегом моря». И это первое условие ещё было приятным, что не скажешь о других…
Охраняющие семью вооружённые моряки с радикальными взглядами имели право входить в комнаты в любое время дня и ночи. Письма и телеграммы проверял лично комиссар, и без его разрешения их нельзя было отправить. Он же присутствовал при всех домашних трапезах и слушал их разговоры. А если вдруг они переходили на иностранные языки, то рядом с ним сидел переводчик и пересказывал их. Всех, кто приходил к Романовым в имение, обыскивали при входе и выходе. Раз в сутки подсчитывалось количество израсходованных свечей и керосина. Комиссар объяснил позже, что это делалась для того, чтобы успокоить местный Совет, что семья не посылает сигналы турецкому флоту. Хоть корабли эти стояли в Босфоре, в четырёхстах милях от Крыма!
«Спустя некоторое время наше нервное напряжение стало постепенно спадать, — вспоминала Великая Княгиня Ольга Александровна, — в марте зацвели каштаны, а из-под камней стали пробиваться дикие жёлтые крокусы. Единственное, что нас беспокоило, — это мысль о моём старшем брате и его семье. Мы постоянно мечтали о том, чтобы он был рядом с нами. Дом был не особенно большим, но мы бы все в нём вполне могли разместиться. Мы с мужем занимали нижнюю комнату, рядом с комнатой моих племянников. Мама, её горничная и мой старший племянник жили наверху. Остальная часть семьи перебралась в старый дом по соседству. И всё же смута добралась и до нашего маленького убежища».
Комиссар был представителем Временного правительства, а матросы действовали от местного Совета. И эти две революционные власти постоянно враждовали, не доверяя друг другу. Матросы презирали комиссара и не слушали его приказаний.
Недалеко от Ай-Тодора находились ещё два имения «Чаир» и «Дюльбер» (по-другому его называли «Джульбер»). В них находились ещё два Великих Князя со своими семьями (сыновья Николая Николаевича Старшего, внуки Николая I) — Николай Николаевич, бывший Главнокомандующий российской армией в Первой мировой войне, и Пётр Николаевич, который раньше служил под командованием своего брата. Комиссар обосновался в «Чаире», так как считал Николая Николаевича самым опасным из всех Романовых. И он должен был сам лично его контролировать.



Но именно комиссара большевики обвиняли в том, что он пытается организовать их бегство, хотя он вёл себя грубо по отношению ко всем Романовым и их семьям. На лице его всегда было испуганно-озабоченное выражение. «В апреле он титуловал меня „бывшим великим князем Александром“, в мае я превратился в „адмирала Романова“, к июню я уже стал „гражданином Романовым“. Всякий намёк на протест с моей стороны сделал бы его счастливым. Но моё безразличие сводило его замыслы к нулю. Он приходил буквально в отчаяние», — не без юмора вспоминал Александр Михайлович. К этому он добавлял: «Он с ненавистью смотрел на вдовствующую императрицу, надеясь, что хоть она будет протестовать против его бестактностей. Сомневаюсь, замечала ли она его вообще».
Мария Фёдоровна с утра до вечера находилась на веранде и читала свою старую семейную Библию. Она привезла её из Дании ещё в 60-е годы XIX века, когда приехала в Россию невестой. И эта книга сопровождала её и в домашней жизни в России, и во всех её путешествиях.
Комиссар однажды попытался войти в доверие к младшему поколению великокняжеской семьи. Он обратился к самому младшему сыну Василию на французском языке. Мальчик исправил в его произношении ошибку, и больше начальник не посмел к нему обратиться. Ксения смеялась. Но Александру Михайловичу было не до смеха. Он постоянно чувствовал опасность и очень беспокоился за свою семью. Вести из Петрограда были тревожными, он предчувствовал, что власть скоро перейдёт в руки большевиков. «Чтобы выслужиться перед совдепом, комиссар был, конечно, способен на всё», — считал он.
«До мая в Крыму жили благополучно, — писал Феликс Юсупов. — Крымская жизнь, однако, грозила затянуться. Я решил съездить проверить дом на Мойке и лазарет у себя на Литейной». И они с шурином Фёдором — сыном Александра Михайловича, поехали в Питер. Там Феликсу удалось взять из дома две картины — шедевры Рембранта, сняв рамы и скатав их в рулоны.


«Обратно в Крым добирались мы с мученьями. Толпа солдат-дезертиров осадила поезд. Заполонили коридоры, залезли на крыши. Вагон 3-го класса от тяжести рухнул. Все были пьяны, многие свалились с поезда по дороге. Чем дальше на юг, в Крым, тем больше набивалось по вагонам беженцев. Мы с Фёдором ехали в разрушенном спальном вагоне, в купе ввосьмером, в том числе старуха и двое детей. Были как сельди в бочке».
Наконец-то поезд прибыл в Симферополь. На перроне собралась толпа, которая приветствовала «бабушку русской революции» Брешко-Брешковскую с криками: «Да здравствует Наполеон!» Об этой старухе в народе ходило множество разных невероятных слухов, кто-то считал её родной дочерью Наполеона Бонапарта и московской купчихи. Она явилась для отдыха в Крым после её приезда из Сибири. «Керенский предоставил ей императорский поезд и дворец в Ливадии», — сообщал Феликс Феликсович. А дальше писал: «Пока были мы с Фёдором в Петербурге, первая ласточка беды прилетела в Ай-Тодор».
В имении однажды произошёл обыск. Случилось это в самый разгар крымской весны — 26 апреля. Начался он неожиданно: «Я внезапно проснулся, почувствовав прикосновение чего-то холодного ко лбу, и поднял руку, чтобы понять, что это такое, но грубый голос произнёс надо мною угрожающе:
— Не двигаться, а то пристрелю на месте!
Я открыл глаза и увидел двух человек, которые стояли над моей кроватью. Судя по серому свету, пробивавшемуся через окна, было, вероятно, около четырёх часов утра», — вспоминал Великий Князь Александр Михайлович.
Ксения спросила, что угодно этим людям. Если им нужны её драгоценности, то они находятся на столике. Но тот же грубый голос ответил ей, что они и не думали о её драгоценностях, им нужны они — «аристократы».
— Потрудитесь слушаться моих приказаний, — сказал он.
Это были представители Севастопольского совета. Великий Князь старался сохранить самообладание. Он попросил включить свет, чтобы «убедиться в законности его «мандата».
«Эй, вы там? — закричал он кому-то в темноту. — Дайте огня! Гражданин Романов хочет видеть подпись победоносного пролетариата».
В ответ послышался хохот, и в комнату вошло несколько человек. Это были вооружённые матросы. Они зажгли свет и предъявили приказ, где предписывалось произвести тщательный обыск имения «Ай-Тодор».
Великий Князь попросил разрешить им с женой одеться. Матрос иронически улыбнулся, сказав, что их пока никто не собирается увозить в тюрьму. «Потрудитесь просто встать и показать нам весь дом», — добавил он. Ещё сказал, что мебель они ломать не собираются, чтобы им всё открывали своими ключами. И объявил, что теперь это всё — «народное добро».
Сначала они соизволили осмотреть большой стол в библиотеке. Пока шли по коридору, Александр Михайлович насчитал в доме не менее пятидесяти вооружённых матросов. Это его удивило: неужели они так боятся невооружённых людей? Они стояли у каждой двери. И про себя отметил: даже на тёщу и маленьких детей — на каждого приходилось не менее шести человек… Посмотрел в окно: на лужайке стояло три огромных грузовика, которые были наполнены солдатами с пулемётами…
Великий Князь открыл письменный стол. Матрос выбрал сразу пачку писем с иностранными марками, сказав, что это — переписка с противником. Но Александр Михайлович ему возразил, сказав, что эта корреспонденция от его английских родственников. Одно письмо было из Франции. Матрос сказал, что для них всё равно, что Франция, что Германия: «Всё это капиталистические враги рабочего класса».
Затем матрос нашёл письма на русском языке и стал их читать, сказав, что переписка с бывшим царём — это заговор против революции». Хотя даты на письмах стояли ещё довоенные. Всю личную переписку Александра Михайловича революционеры изъяли, чтобы «товарищи в Севастопольском совете разобрались». И стали требовать оружие — пулемёты. И до шести часов вечера по всему имению их искали, но так ничего и не нашли, уехав разочарованными.
Имение было оставлено в большом беспорядке. Производящие обыск забрали не только личную корреспонденцию Великого Князя, но и самое дорогое сокровище вдовствующей Императрицы — Библию. Она умоляла их оставить книгу, давая взамен все свои драгоценности. Но ей «объяснили», что это — контрреволюционная книга, и такая старая женщина, как она, «не должна отравлять себя подобной чепухой».
У Императрицы Марии Фёдоровны также отобрали её личные дневники. И она записала в тот день: «26 апреля. Среда. Поскольку мне так и не вернули три моих дневника, я вынуждена продолжать мои записи в новой тетради с 26 апреля. В этот день в 5 1/2 часа утра, когда я ещё крепко спала, меня неожиданно разбудил стук в дверь. Дверь была не заперта, и я с ужасом в полумраке разглядела мужчину, который громким голосом объявил, что он послан от имени правительства для проведения в доме обыска на предмет выявления сокрытых документов, которые ему в случае обнаружения приказано конфисковать». Императрица не могла поверить своим ушам. Мужчина назвался морским офицером и поставил караул у её постели. Откинули полог, и лейтенант сказал, что теперь она может встать с постели. Но при мужчинах Мария Фёдоровна отказалась это делать. И тут вдруг появилась «молодая отвратительная особа в шляпке на шнурке и в коротком платье». Она встала у постели пожилой женщины, самым наглым образом уставившись на неё, а мужчины вышли из комнаты. Императрица была вне себя от такого неслыханного обращения, вскочив с постели. Она успела только накинуть на себя халат и домашние туфли. Лейтенант с караульным вновь вернулись. Мария Фёдоровна в лёгком одеянии с ночной причёской, не успев расчесаться, спряталась за ширму. С её постели начали срывать всё бельё. Простыни с подушками и матрацем полетели на пол. Искали, не спрятаны ли там какие документы. Далее она писала: «Лейтенант, правда, оказался всё-таки достаточно любезен и принёс мне стул, а сам занялся моим письменным столом и, вынув ящики, вытряс всё в них находившееся в большой мешок, который держал перед ним матрос. Было невыносимо видеть, как он и ещё двое рабочих роются в моих вещах. Все фотографии, все бумажки, на которых было что-то написано, эти негодяи забрали с собой».
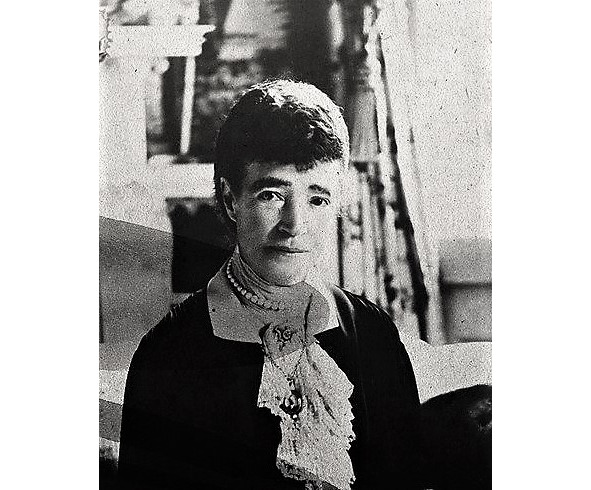
Мария Фёдоровна с трудом сдерживала свой гнев, выразив своё неудовольствие таким обращением. Позже она даже не помнила, что говорила в тот момент. Офицер обиженным тоном сказал ей: «Вы меня оскорбляете». На что она резко ответила: «Не я вас оскорбляю, а вы — меня».
В спальной комнате открывали все ящики, и те, где хранились драгоценности. «Всё-всё перерыл он и двое мерзких рабочих, которые шныряли по моим шкафам, прощупывая каждую юбку, каждое платье, пытаясь найти что-то скрытое в них. Даже икону, подаренную мне моими родными 28 октября, они взяли с собой, считая, что между окладом и образом могли быть спрятаны документы».
«Проведя таким образом примерно два часа, лейтенант перешёл в мою гостиную, где, усевшись за мой письменный стол, опустошил все его ящики, в которых я хранила связки писем, среди прочих от моего любимого Саши [Императора Александра III], моего ангелочка Джорджи [умершего от туберкулёза сына Георгия] и, кроме того, датское Евангелие, которое подарила мне мой ангел Мама!.. Таким образом, мои самые дорогие, самые святые реликвии исчезли. Поистине что-то невообразимое!»
Пока лейтенант находился в соседней комнате, спальня Марии Фёдоровны наполнилась многочисленными матросами, которые даже не снимали головных уборов в помещении. Они расхаживали по дому, как хозяева, с красными бантами и цветками в петлицах, заглядывая за ширму, где сидела Императрица. Её бросало, то в жар, то в холод от такого обращения — как с последней преступницей. Только в 10 с половиной часов офицер закончил свою работу, поставив у двери спальни караульного. К ней впустили служанку. И тогда Мария Фёдоровна смогла одеться. Но матросы и после этого неоднократно открывали дверь, заглядывая внутрь. Она пыталась их выдворять. Ничего более постыдного ей не приходилось испытывать раньше в своей жизни.
Мария Фёдоровна самым вежливым образом просила караульного выйти из комнаты и закрыть дверь. Он сердитым голосом ответил, что с ним нужно обращаться на «вы». Все эти новые «хозяева жизни» делали вид, что Императрица очень груба с ними. Все слуги были арестованы. И невозможно было принять ванну или выпить кофе.
Великая Княгиня Ольга Александровна тоже рассказывала о своих впечатлениях в то утро, когда они с мужем неожиданно были разбужены: «Однажды ночью нас разбудил бешеный стук в дверь. Когда её открыли, мы услышали звуки бряцающего оружия, и чей-то голос сказал:
— Спокойно, пожалуйста, положите руки на одеяло.
И в комнату вошёл матрос, вооружённый до зубов, захлопнул за собой дверь и произнёс:
— Именем Временного правительства вам запрещено покидать эту комнату!
Поначалу мы были настолько потрясены, что были не в состоянии произнести ни слова, а просто лежали, рассматривая этого тяжело вооружённого стражника».
Матрос молча сел на диван напротив. А чуть позже шёпотом предложил им встать и одеться, а он закроет глаза. Сказав, что в доме производится обыск, с которым вскоре пожалуют и в эту комнату. И так, в тишине, им пришлось просидеть целых пять часов! Поначалу все молчали, но постепенно разговорились, стражник был вполне дружелюбным. «Так мы узнали, что из Севастополя пришло судно с экспедиционным отрядом для того, чтобы найти „секретную радиостанцию“, которая, по мнению правительства была установлена в Ай-Тодоре. Помимо этого они намеревались искать колоссальный склад оружия, который мы якобы прятали у себя».
Матрос сказал, что командиры отправляли их на чрезвычайно опасное задание. Но если бы он знал — на какое — то ни за что бы не согласился. Выглядел он очень измождённым и смертельно уставшим после ночного похода из Ялты до Ай-Тодора и часто засыпал сидя.
В 10 часов утра в комнате появилась целая толпа вооружённых матросов и нескольких рабочих. Но матросов удалось охраннику выдворить из комнаты. «Только тогда рабочие приступили к своей работе и делали её очень тщательно. Они вытаскивали каждый ящик и разбрасывали его содержимое по полу. Они перевернули все кровати, поднимали и опускали оконные жалюзи, свёртывали ковры, чтобы убедиться, что под ними ничего не спрятано, разрезали ножом диван, так что пух летал по всей комнате, и устроили полный кавардак. Всё это было сделано совершенно напрасно, поскольку мы для них не представляли никакого интереса. Затем они вновь исчезли, оставив комнату в полном беспорядке».

Всё это продолжалось до второй половины дня. И за всё это время никто из Романовых ничего не ел и не пил, все были страшно голодны. Их «стражники» также ничего не ели и были голодны. А, сделав своё дело, они все вышли из дома, повалились на траву и уснули. Многие громко храпели…
Ольга с Куликовским поспешили наверх, чтобы узнать, как остальные родственники пережили такое бурное утро.
Описывая этот обыск, Феликс Юсупов подвёл итог: «Обыскивали всё утро. Всего оружия нашли дюжину старых винчестеров, хранившихся раньше на яхте, о которых тесть мой и думать забыл. В полдень главный их, офицер, явился объявить великому князю, что арестует Марию Фёдоровну, дескать, оскорбила Временное правительство. Еле угомонил его тесть, объяснив, что, если матросы ломятся к пожилой даме в пять утра, она, понятное дело, недовольна. Сей моряк при большевиках возвысился и в конце концов ими же был расстрелян».
После 12 часов дня Романовы стали собираться вместе. К Императрице сначала поднялась дочь Ольга со своим мужем Куликовским. Немного позднее появилась Ксения, она была также вне себя от случившегося. Выпили кофе и стали делиться ужасными впечатлениями. Ксения Александровна подробно рассказала, как их с Сандро разбудили и рассадили сразу по разным комнатам, потом всё обшарили и забрали. Матросы, когда оставались наедине, то старались помочь чем-то, но всё делали так, чтобы не видели другие, так как боялись друг друга и не доверяли. По всему Ай-Тодору была выставлена охрана, везде произведены обыски.
«Мне было видно с моего балкона, как эти неряшливо одетые матросы валялись на траве, ели, курили; некоторые дремали, выполнив свою „образцовую работу“. Они выглядели очень неопрятно, без военной выправки, обращались друг к другу не так, как было принято раньше в армии, — ведь старые правила уже отменены. Офицеры говорили низшим чинам „вы“ и называли их „товарищами“. Невозможно было представить, что это те самые наши доблестные моряки, которых мы так хорошо знали и которыми так привыкли гордиться», — продолжала описывать тот день Императрица.
Они прибыли из Севастополя вооружёнными до зубов: не только с револьверами и ножами, но даже с топорами и секачами. Так как им было сказано, что их встретят с оружием и пулемётами. Их даже оскорбило то, что они не встретили ни малейшего сопротивления, и очень удивило.
В два часа пополудни Императрица позавтракала с Куликовскими — дочерью Ольгой и её мужем, было три внука — сыновья Ксении и придворный князь Долгоруков. Всем остальным не разрешили покинуть свои дома. Только после 5-ти часов вечера «банда грабителей» (как называла их Императрица) удалилась из имения. И все смогли собраться на чай. За столом только и обсуждали прошедший день, что произошло с каждым из людей в имении, и каким гнусным образом негодяи обращались с ними. «Никогда в жизни не забыть мне этот жуткий день, покрывший нас позором, но также — и прежде всего — их самих. Вот так и закончился этот страшный памятный день», — закончила свою запись вдовствующая Императрица.
Но Ольга к этому добавляла: «Поделившись друг с другом рассказами о перенесённых злоключениях, дав выход гневу и обнаружив, что нам не причинили серьёзного ущерба, мы отнеслись ко всему с юмором и даже попытались посмеяться. Аппетит вернулся к нам вместе с хорошим настроением. Мы все испытывали ужасный голод, но его было трудно утолить, так как наши гости забрали и съели всё, оставив нам пустую кладовку. После столь насыщенного дня мы все мечтали хотя бы о кусочке хлеба, и какая брала досада от того, что наши „гости“ ни на минуту не подумали о хозяевах».
Далее Юсупов продолжал: «С этого дня обитатели Ай-Тодора постоянно подвергались оскорблениям. Двадцать пять солдат и матросов, скоты и хамы, расположились в усадьбе. Их комиссар объявил тестю с тёщей, что они под арестом. Видеть им позволялось только Ирину, меня, детских гувернёров, врача и поставщиков. А иной раз и вовсе никого, даже Ирину. Потом вдруг снова — пожалуйста».
И на другой день после обыска все ещё были в большом волнении. «27 апреля. Четверг. Спала, разумеется, очень плохо, поскольку спальня, постель, всё здесь, в этой комнате, представляются мне пронизанными каким-то отвратительным запахом. Я чувствую себя совершенно раздавленной и обесчещенной, даже хуже, чем вчера, если это вообще возможно, как будто проснулась после жуткого кошмара. Бедняжка Ксения в полном отчаянии, всё время плачет, я же, напротив, слёз не показываю, поскольку возмущена и оскорблена до глубины души».
В Свитском доме тоже был произведён обыск, правда, менее основательный. Всех господ и слуг выводили в коридор, пока в комнатах рылись в их вещах. Среди них был и австрийский военнопленный. И Мария Фёдоровна писала: «Как стыдно перед этим австрийцем, ведь он был всему свидетелем, какое же впечатление произвело на него то, как эти варвары обращаются со своими же соотечественниками!»
К чаю из соседнего имения приходила Зинаида Юсупова — родственница Романовых. (Мать зятя Феликса). Она тоже была потрясена до глубины души всем произошедшим. И Юсуповы на семейном совете решили, что Ирине, как дочери и внучке Романовых, следует лично обратиться к Керенскому. Они с Феликсом поехали в Петербург. Ждать приёма с главой Временного правительства пришлось целый месяц. Наконец-то, он соизволил Ирину Александровну принять.
Вот как Феликс описал этот приём: «Войдя в Зимний, увидела она старых служителей, трогательно выразивших ей свою радость. Её провели в бывший рабочий кабинет императора Александра II. Вскоре вошёл Керенский — сама любезность, смущение даже. Он пригласил её сесть, и она села, по-хозяйски устроившись в прадедовском кресле, так что пришлось ему сесть, как гостю, на гостевой стул. Услыхав о чём речь, Керенский хотел было в кусты, но Ирина не отступала. В конце концов он обещал сделать что сможет. И она ушла, навсегда покинула дворец своих предков, и последний раз почтительно поклонились ей старики служители».

В Петербурге молодые Юсуповы, вопреки всей тревожной обстановке в городе принимали много гостей, встречались часто с друзьями. Однажды ездили в Царское Село в гости к Великому Князю Павлу Александровичу. Его дочери Ирина и Наталья Палей «блистательно спели французскую пиесу, сочинённую для них братом Владимиром», — вновь писал князь Юсупов. И добавлял: «Часами сиживал у нас на Мойке великий князь Николай Михайлович, ругая всех и вся на чём свет стоит». (Родной брат Александра Михайловича, который был историком).
К концу их пребывания в столице случился Июльский кризис 1917-го года. Большевики впервые попытались силой захватить власть в Петрограде. «Грузовики с вооружёнными людьми колесили по городу. С грузовиков веером разлетались пулемётные очереди. Солдаты, лёжа на тротуаре, нацеливали винтовки на прохожих. Трупы и раненые на каждом шагу. На сей раз, правда, переворот не удался. На время всё снова затихло».
Раньше Романовы на прогулки по Крыму ездили на автомобилях, а при обыске отобрали весь бензин, и теперь приходилось ходить пешком. Но от волнения Мария Фёдоровна чувствовала себя так плохо, что едва передвигала ноги…
Не было её душе успокоения и на третий день после обыска: «28 апреля. Пятница. Кажется, с каждым днём всё становится хуже и хуже. Я чувствую себя отвратительно, ничего не хочется, страшная меланхолия и хандра. Побродила немножко по саду, где всё ещё валяются цветы, сорванные этими выродками и разбросанные повсюду». Перед обыском она начинала письмо Вальдемару — своему родному брату, написала уже на четырёх страницах, и его мерзавцы украли, а также небольшую почтовую книжечку — памятную книжечку с датами дней рождения. «Стыд и срам. Зачем им всё это?» — возмущалась Мария Фёдоровна.
30 апреля, в воскресенье, бывшая Императрица с грустью писала: «Дни идут, похожие один на другой, не внося никакого разнообразия или каких-либо изменений в мою жизнь. Всё так печально и ужасно. Но какое отчаяние охватило меня в церкви. Даже там сердце моё не нашло мира и утешения, оно было полно воспоминаний об огромных несчастьях и страшных переменах, предвещающих только беды и горести. Фамилию нашу даже в храме уже более не поминают за ектеньей».
И через день — 2 мая: «Уже год, как я покинула Петербург и перебралась в Киев. Кто мог подумать, что всё обернётся таким образом! А теперь вот ходят слухи, что Аничков заняли под министерские службы и все помещения на 2-м этаже ими используются. Эта мысль не даёт мне покоя и выводит из себя. Стало быть мне его [Аничков дворец] уже, по-видимому, не вернут, а ведь там остались самые мои драгоценные воспоминания и вещи! Чувствую себя прескверно, оставалась весь день дома, из-за простуды и кашля, отчего и пребывала в таком чрезвычайно угрюмом настроении, какого никогда раньше за собой не замечала… Какой это жестокий удар для меня — остаться без вестей от моих дорогих — всех тех, чьи письма до сих пор служили мне единственным утешением в разлуке и ободряли в моём однообразном и замкнутом существовании! И всё же хвала Господу за то, что я имею возможность жить здесь вместе с моими любимыми Ксенией и Ольгой, в окружении моих дорогих внуков».
Ей вторила и Ксения в одном из писем в Питер брату мужа Николаю Михайловичу: «Я благодарю Бога, что мы все в сборе и живём у себя, — и нам лично жаловаться на судьбу совершенно не приходится. Мы имеем свой „home“ [дом], который мы ужасно любим и ничего лучше нельзя ни желать, ни ожидать». И всё-таки душа у всех Романовых болела за Россию: «Несчастная Россия, за что её губят? Кошмарно присутствовать при гибели родины и не иметь малейшей возможности чем-либо помочь!»
6 мая был день рождения любимого сына Императрицы — Ники (Императора Николая Второго). Но она даже не могла послать ему телеграмму… В этот день до 1917 года в России был всенародный праздник. Во всех церквах России шли праздничные службы в честь рождения сначала Наследника, а затем — Императора. Теперь же она с горечью писала: «Никакой службы не было!»

Николай Александрович тоже очень переживал о том, что отсутствует связь с матерью. В этот день он записал в свой дневник: «Мне минуло 49, недалеко и до полсотни. Мысли особенно стремились к дорогой Мама. Тяжело не быть в состоянии даже переписываться. Ничего не знаю о ней, кроме глупых и противных статей в газетах».
В это время её дочь Ольга с мужем Куликовским собрались переезжать на новую квартиру, так как Ольга Александровна ждала ребёнка. «7 мая. Воскресенье. Была в церкви, затем — завтрак, после чего мы с Ксенией пошли посмотреть новую Ольгину квартиру, где и застали её с мужем за обустройством их будущего жилья. К сожалению, вечером они покидают меня и переезжают туда». Квартира была уютной с замечательным балконом с видом на море в доме шурина Ольги Александровны: «Это было чудное место. Дом располагался прямо над виноградниками, сквозь которые открывался чудный вид на море. Вечером, когда становилось прохладнее, мы часто сидели на балконе и любовались закатом».
Однажды Императрица с Ксенией ездила на прогулку в авто в Эриклик. Обратно ехали в объезд дорогой сердцу Ливадии, где находился Дворец, который некогда принадлежал Марии Фёдоровне с мужем. Но там уже стоял новый — построенный в 1911 году при сыне-Императоре. Остался только небольшой их домик, который они очень любили с Александром. И ей показалось, что Ливадия «изменилась до неузнаваемости». Это имение вызывало теперь в её душе одну скорбь, так как именно там умер её муж, и она больше здесь старалась не бывать.
Своему датскому брату Вальдемару Императрица написала в мае в письме: «Как только не разорвётся сердце от такого количества горя и отчаяния. Только Господь Бог помогает вынести эти неописуемые несчастья, которые поразили нас с быстротой молнии». Анализируя прошедшие события 1917 года, вдовствующая Императрица писала брату: «Я, конечно, давно предчувствовала, что это случится, но именно такую ужасную катастрофу предвидеть было нельзя!» И она писала ему об ошибках своего сына-Императора в последнее время правления. Назначение Протопопова министром внутренних дел Российской империи она считала ужасным, и он оказался подлецом и предателем. А Императрице Александре этот министр лгал, что она умнее, чем Екатерина Вторая!.. «Что, должно быть, она думает и чувствует сейчас, несчастная!» — добавляла Мария Фёдоровна о своей невестке.
А 1 июня ещё устроили для всех Романовых допрос! Как раз был 35-й день рождения дочери Ольги. «Признаться, я была настолько возмущена этой новой неожиданной гнусной выходкой, что меня затрясло от негодования и ярости, когда я вошла в помещение и увидела, как они сидели за длинным столом в роли судей, готовые допрашивать меня, точно какого-то вора и убийцу», — возмущалась почти семидесятилетняя Императрица. «Эта отвратительная комедия продолжалась примерно полчаса», — продолжала она. Ксении пришлось побывать на этом допросе дважды, так как у неё 26 апреля ко всему прочему украли кольцо и брошь.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.