
Бесплатный фрагмент - Мать моя женщина
Психологическая повесть
Эту книгу я не посвящаю своей маме, поскольку бесконечно ее люблю. История является исключительно плодом фантазии и художественного вымысла. Прошу не считать ее личной или каким-либо образом связанной с личностными переживаниями автора.
Мать, матерь, матушка, маманя, мамочка, маманя, мамаша, кровь, пуповина, матка, матонька, родительница, матка, кукушка, мамашка, маманюшка, мамушка, старуха, мамуся, мамусечка, мамуля, мамулёк, маман, мамонька, маменька, маманька, мамашенька, родимая, мамуша, маточка, матуля, мамысь, матенка, матуха, матуничка, матуся, матуличка, мачка, мамка, реченька, мамусенька, мамушка, мамашечка, мамуня, матушь, тётка.
Ма-ть
Моя мать
Ма-ма
Моя ма-ма
Глава 1

Рейс SU212 «Нью-Йорк – Санкт-Петербург» завершён. На удивление, получение багажа и прохождение паспортного контроля не заняли много времени, впрочем, возможно, мне просто так показалось. Мысли крутились вихрем, словно подгоняя минутную стрелку. Правда, это стремительное движение происходило только в моей голове и снаружи оставалось незаметным. Я никуда не торопился. У меня была уйма времени. Может, от того, что жить дальше было некуда. Когда твоё бытие не определено никакой целью, то и будущее кажется безграничным. Так что времени было предостаточно, а в зоне встречи пассажиров меня никто не ждал. Для города я был чужой. Уже чужой. Стал им некогда. Так что рассчитывать на радушный приём не приходилось. К кому-то бежали с улыбкой, кого-то сжимали в объятиях, цветы дарили дамам внимательные подвыпившие мужики, другие обошлись одной табличкой с фамилией. Мой выход выглядел не так парадно, я бы сказал, остался совсем незамеченным. Лишь мальчик с приторно-слащавой бабочкой на воротничке уставился своими любопытными глазками и долго провожал взглядом. Мне даже показалось, что у него сейчас открутится башка. Но от перелома шейного позвонка ребёнка спас шарик мороженого, который выскользнул из его рук и плюхнулся на белую рубашку, после чего мамаша начала на весь аэропорт орать на малыша как ненормальная.
Ещё в самолете, глядя в окно, я принялся размышлять о том, как сойду с трапа и что в этот момент почувствую? Покажется ли мне знакомым этот воздух, эти здания, люди, эта атмосфера? Абсолютно другая страна… Такая далёкая и такая родная. Я отвык от неё уже, наверное, отвык… Когда лайнер снизился на предпосадочную высоту, и далеко внизу стали видны жилые кварталы, вот тогда я и провалился в свои думы и об этом городе, и о том прошлом, что связывало с ним, и о той жизни, какая могла бы быть, останься я здесь. Вот из облачной пелены появились петергофские узоры, где-то там Самсон до сих пор разрывает пасть льву — порадовал я себя знаниями… А в остальном — те же дома, те же земляные квадраты, та же топография, как при посадке в любом другом городе. Ну, почти в любом. А вот — трап, аэропорт и другой воздух…
Таксист привёз по назначению довольно быстро. Аккуратно обходился с моими вещами, не проронил ни слова за время поездки. Да, это не тот энергичный грузин на жёлтой «Волге», который когда-то увозил меня из этого города в аэропорт. Того я хорошо запомнил. Он рассказывал мне о своей семье и о стране, в которой мы все живем, а вернее, тогда жили, и о том, почему я обязательно вернусь. «Здесь твоя Родина. Здесь твой дом. Здесь твоя кров (именно кров)», — говорил он. Досадно увозить эмигранта, особенно если он уже не первый. В те годы подобные заказы для таксистов были явленьем чуть ли не каждодневным. Об этом водитель сожалел вдвойне. Я же к себе не чувствовал никакой жалости. Вернее, не чувствовал вообще ничего. Похоже, как и этот сегодняшний таксист. Для него — обычный заказ. Прилетел человек, его вещи нужно аккуратно сложить в багажник и доставить по назначению. Что он и сделал. Может, если бы он был грузином на жёлтой «Волге» и знал, что везёт человека, который спустя много лет вернулся, то вёл бы себя иначе… Да на что мне сдался этот таксист? Он не задержится в памяти, и к чёрту его!
— Ну, давай-давай, накатим по одной сразу. Картошки я уже нажарил. Можешь в душ пока сходить, полотенце для тебя на стиралке лежит, и потом засядем.
— А Ленка?
— Спят они уже. Рано вставать. Она извинялась, конечно, но поздно уже, сам понимаешь. Ей с утра детей на тренировку везти и в школу.
— А ты?
— А я на больничном. Ладно, давай уже… холодненькая.
Товарищ мой — Вовка. Хотя кто он — друг или товарищ? Пока я жил здесь в стране, наверное, был другом. А за столько времени стёрлась дружба. Товарищ скорее. Хотя язык не поворачивается назвать его товарищем. Да и другом называть никогда не хотелось. Говно он, а не человек. Но друг. Или как друг тоже всегда был говном? Хер его знает… Встретил радостно, но длилась она недолго. Двадцать лет не виделись, а радость его сменилась на маску безразличия ровно в тот момент, как я снял пальто. И он уже не спешил расспросить, как я да что я в своей Америке, а торопился опрокинуть со мной рюмку… Странно, раньше он особо не пил. Но балагурить любил. Пока я был в душе, приходил в себя от перелёта, он, наверное, рюмку-другую в одиночестве оприходовал. Точно выпил! Не сидел же он, не смотрел на бутылку и сковородку с жареной своей картошечкой в ожидании меня. Ага, сидит такой, прям, и поправляет приборы, убеждаясь в законченности гастрономического букета: полные рюмки, картошка, селёдка в масле, корнишоны (куда без них), мяса какого-то нарезал. Красота!!! Подпёр кулаком подбородок и сидит, терпеливо ждёт, пока я обмоюсь тут? Полотенце… Где оно, это полотенце? Никакого полотенца на стиралке нет. Выбрал я какое-то, может и детское, поди разбери тут, и вытерся. Пусть сами потом выясняют. Наверняка Ленка сказала, что положит полотенце для меня на стиральную машинку, да и забыла. А ему — что в одно ухо влетело, что из другого вылетело. Гость есть, рюмки на столе, вода в кране. Что ещё нужно? Вон уже стучит, не терпится, шепчет.
— Ну, чё ты там, не уснул?
— Иду.
Прям проводил меня до стола, вернее, до рюмок. Прям чуть ли не ко рту мне поднёс мою. Ему не я нужен был, ему весь этот колорит требовался. А я, как гость заморский, всего лишь повод. Жена, трое сопляков, небольшая квартирка в две комнаты, доставшаяся в заботливые советские времена его отцу, который жил тут с ними, да и помер в один прекрасный для всей семьи день. А потом оказалось, что не помер. И все поймали семейное разочарование, но никто виду не подал. Думали, комната одна освободилась, а фиг вам от деда! Жил и жить буду. Просто заплохело чего-то, да и скорая успела. Откачали. Продолжилась жизнь-жестянка, в которой вся семья, как шпроты в банке, теснится. И слишком часто таких праздников, как сегодня, Ленка явно не позволяет. Но тут повод железобетонный!
— Кто тебя так ещё встретит, а? Соскучился по родимой русской рыбке-то?
— Я не ем рыбу.
— Это не рыба. Это селёдка. В маслице. А это не картошка-фри. Это жареная картошечка на старой чугунной сковородочке. А это — оленина! Попробуй, друг из Норильска подогнал.
— Это не оленина, — попробовал я.
— А что же?
— Не знаю, но не оленина.
— Больно ты разбираешься? Чё там, на Аляске, оленину, что ли, едят?
— Я не знаю, я не был на Аляске.
— Ну, вот, тогда и не трынди. Хочешь — жри оленину. Хочешь — жри не оленину, — заржал он как смесь бегемота с конём. Но заткнулся, как только раздался стук в стенку. — Ты давай рассказывай. Надолго, как думаешь сам?
— Честно говоря…
— Погоди, давай писанём ещё по одной, чтоб не отвлекаться… Хо!.. «Русская душа»! Я всегда только её беру. Кореш у меня работает на фабрике. Они с финнами по их технологии производят, так что лично знаю, из чего делают, доверять можно. Ну, а вы там часто хлещете водку?
— Там водка не пьётся. Не идёт. Как-то коньяк да виски больше.
— Что ж, можем потом и на вискаридзе перейти. Правда, магазы уже закрыты. Режим. До 22.00.
— Я же тебе презент… совсем забыл, — это были последние мои слова, которые высветились искренней радостью в глазах Вовки. Больше за вечер взглядами мы не встречались.
Вручил я ему бутылку дорогого виски, купленного в Duty Free, и трёп понёсся дальше.
— О, спасибо. Из дьютика?
— Нет. Из фирменного магазина.
— С лучших стриит ЛондОна.
— Точно. Только с Нью-Йорка.
— Коньяк?
— Виски. Хорошее. Крепкий алкогольный напиток, приготовляемый из зерна. В общем, это та же водка.
— Ой, да знаем мы. Та же да не та. Извини, ею продолжать мы всяко не будем. Подарочек мы уберём подальше. Будет повод… Новый год — праздник дорогих открытий, знаешь ли!
— Да не доживёт она до Нового года! — пронеслось у меня над ухом.
В проёме кухонной двери появился пожилой, но всё ещё крепкого телосложения мужчина. Татуированное солнышко с морскими волнами на руке свидетельствовало о его причастности к морским походам в прошлом. Этот отличительный знак я сразу приметил и не спутал бы его ни с каким другим. Первое, что пришло бы мне на ум, будь я на месте Вовки, — это то, что ты, дед, скорее сам не доживёшь, нежели вискарь. Так напугать! И как он только тут оказался? Партизанил не иначе в 41-ом, да и сейчас, собственно. Подкрался так тихо и незаметно, что я реально дёрнулся, сердце рухнуло в пятки. Появился как чёрт из табакерки. И тут же я задумался — как это он мог и на флоте служить, и партизанить одновременно? Грёбаные мысли…
— Тять, ну чё ты не спишь? — скривил рожу Вовка.
— Хочу и не сплю. Где мои очки тут были?
— Нету тут очков твоих.
— Да здеся оставлял я, на холодильнике. Погляди за книгами.
— Да на кой тебе очки-то сейчас? Читать, что ли, собрался? Два ночи. Ложись спать.
— А может, кроссворд хочу погадать. Имею право?
— Да делай, что хочешь, только дай ты нам посидеть, — чувствовалось, как Вовкино нутро дребезжит от страха, что праздник души на грани срыва.
— Прямо я не даю. Кошке давал чаго?
— Тять, кошка спит давно, и все спят. Иди уже и ты.
— Сковороду мою зачем взял? Чаго в тефлоне своём не жарите?
— Тебе же изжарили, на утро, есть не будешь, что ли?
— Ладно, сидите. Оставите мне. Только кошке оленину свою не давай, просраться не может потом.
— Это не оленина, — буркнул Вовка.
— А я тебе сразу сказал: найти этого хрена лысого, который у гастронома таким олухам, как ты, за 170 рублей оленину втюхивает. Где ты видел оленину за 170 рублей?
Дед удалился. Видно было, как Вовка замешкался с этой олениной: то ли убрать её к чертям собачьим в холодильник, то ли уж пусть стоит себе, как напоминание о несбывшейся прекрасной жизни. А ведь учился он в авиационном. Толковый инженер был. Не пил. Подавал большие надежды. Где же его так подкосило? Да просто говнюк он. Взять бы и сказать сейчас ему об этом прямо в глаза, так ведь не сыщешь их, эти глазки, рыскают по столу, как крыски. Ох, вдарило в голову что-то… Откуда мы с ним знакомы, кстати… чёрт вспомнишь. Да и хрен с ним! Знаем и знаем друг друга. Дружим вот уже сколько лет. Правда, из них большую часть и не общались. Да и что можно вписать сюда в эту дружбу? Что он для меня сделал-то? А я что для него? Водку вместе пили да бабу вместе трахали. Вот точно… так ведь и познакомились. Как же её звали? Да и хрен с ней. Вовка и сам-то её, наверное, не помнит.
— Как её звали?
— Кого? — удивился Вовка.
— Ну, ту, с физмата, которая нас познакомила, так сказать, помнишь?
— Ленка, что ли?
— …Ленка! — громом раздалось у меня в голове.
— Тебя накрыло, что ли? Ленка — жена моя. Ты про неё, что ли?
Я смотрел на эту оленину и завидовал ей. Мне хотелось спрятаться в холодильник вместо неё. Эта Ленка — она ведь жена его! Оставалось незамедлительно сменить тему, тем более что и изначально желание было одно — рассказать о своей проблеме. Собственно, я и прибыл сюда, чтобы не водку жрать и Ленку обсуждать, а решать свои дела. Дела были конкретные.
— Мне нужно найти одного человека, помнишь, я звонил, рассказывал, — начал я.
— Ну.
— Это всё очень странно. Я бы даже сказал, в голове не укладывается. Но придётся уложить. Короче, это касается матери. Сначала мне приходили письма с описанием её проживания: как себя чувствует, что ест, что не ест, какие ведёт беседы, какую надела юбку, сходила на горшок — не сходила, короче, о всякой чепухе. Я поначалу решил, что это такая обычная процедура с родственниками. Мол, обязаны держать в курсе. Или, думал, специально пишут, чтобы надавить на жалость, пробудить совесть и тому подобная ерунда. Только в их ли интересах, чтоб я забрал её оттуда? Я плачу 50 тысяч в месяц, чтобы не вспоминать о ней. Мало того, что это дорого, блин, и это их зарплата, так они же за мои 50 косарей мне ещё и напоминают о ней. Спрашивается — за что я плачу?
Вовка молчал.
— Погоди… Речь совсем не об этом. Не в деньгах дело. Я не об этом хотел сказать… Так вот, я все эти письма сначала просматривал, так, наискосок, а потом и вовсе перестал открывать. Приходят себе и приходят раз в месяц, и лежат стопкой… 50 косарей в месяц, чтобы не видеть её. Полтинник, чтобы содержать эту сучку. Нет, ну, надо так, а?
Вовка смачно закинул ломтик селёдки себе в пасть, и прочмокал лишь одно:
— Ужас.
Если бы не эта рыба, то я встал бы и ушёл прочь — так мне стало противно от того, что, казалось, он совсем меня не слушает. Но я свалил всю вину именно на рыбу и моё отвращение к ней.
— Как ты можешь есть её?.. Ты бы мог 50 косарей отдавать за то, чтобы ваш дед не выходил из комнаты и не искал тут свои очки?
— Какой дед?
— Ну, отец твой.
— А, ты про тятьку, что ли?
— Про тятьку?
— Ну, ты за батю моего спрашиваешь или про какого деда?
— Господи… да.
— 50 штук за тятю и ещё десятку за его кошку придётся выложить, хотя десятки многовато, дешевле её кормить всё-таки… да и тятю тоже.
— Господи, неважно… не в этом дело.
— Погоди…
Этот несносный селёдкоед, этот сын какого-то тятьки, безалаберный отец семейства, ненавистник кошек, этот недоделанный оленевод решил налить себе компотику. Он сбивал меня с мысли каждый раз. Я не мог ни сосредоточиться, ни пожрать нормально. Он то предлагал выпить, то закусить, то вертелся на стуле в поисках салфеток, то ронял вилку. Кто-то заходил на кухню, стучали в стенку и доносились Ленкины угрозы, потом происходило что-то ещё. Меня раздражал тот факт, что мы треплемся ни о чём вот уже который час. Всё, что мне нужно было от него — это душ, еда, ночлег, и выяснить, что с моей матерью и как с ней дальше поступить. Всё остальное не представляло для меня никакого интереса. Его маслянисто-рыбные пальцы хлопнули меня по локтю:
— Ага-ага!
— Короче! Недавно я решил прочесть одно из писем, просто случайно оказалось в руках. В нём говорится, что у матери плохое психическое состояние. Ей требуется медицинская помощь. Уведомляют, что в случае неявки за ней она будет помещена в психиатрическую больницу.
— В Кащенко?
— Я не знаю. Кто это? Зачем ты меня об этом спрашиваешь?
— Ну, дальше что?
— Ничего. Необходимо подписать какие-то документы. Решить наследственный вопрос. Вот я и прилетел.
— Ты же говорил, что тебе начхать на неё.
— Там речь идёт о наследстве. Хоть что-то я должен поиметь с матери? В конце концов, можно оплачивать её жизнь хотя бы из её же денег, потому что больше расплачиваться за её жалкое существование своими денежными средствами я не намерен.
Если бы я только мог вспомнить, чем закончился вчерашний разговор, то не испытывал бы такого волнения, заходя в приют для престарелых. В тот самый, в который двадцать лет назад я определил свою мать. Мог ли я испытывать угрызения совести сейчас? Нет. Ни капли. Мог ли я переживать о том, как мы встретимся с ней? Нет. Ни один мускул не дрогнет при встрече — я это прекрасно знал. Причина волнения заключалась в другом. Как сейчас будет решаться так называемый «мой вопрос», а именно дальнейшее моё существование. Оно напрямую зависело от местопребывания матери. Моя работа, мой быт, моё законное свободное время — всё висело на волоске. Как же я от этого устал! Я чувствовал — меня вновь ждет дилемма: «Что делать с матерью?». Этим вопросом время от времени я задаюсь всю жизнь. И вот опять! Если дальнейшее содержание в приюте невозможно, значит, я буду вынужден забрать мать к себе. А если не прикладывать никаких усилий и позволить им перевести её в сумасшедший дом, то вместе с ней уйдёт и всё наследство, доставшееся от деда, а оно немалое. Главное сейчас — убедиться в степени вменяемости матери. Насколько у неё вообще поехала крыша и поехала ли?! Только что говорить в таких случаях? В каком виде я предстану перед персоналом приюта? Как бы не стало стыдно. Хорошо, что Вовка рядом. О чём мы вообще вчера вели с ним беседу? Голова была забита всяким хламом, начиная от дедовых… тятькиных, блин, очков и заканчивая «псом Горбатым», которого мой друг проклинал за развал страны каждый раз, когда обращался к воспоминаниям о своём нереализованном прошлом. Поспали мы часа четыре от силы.
— Ты вчера заикнулся про какого-то человека, которого нужно найти, — утром спросил Вовка.
«Продолжаем!», — обречённо подумал я. Но тут же осознал, что, оказывается, он слушал меня вчера. Этот бобровообразный мужичок, по имени Вовка, с редкими усиками под картофельным носом, проявлял необоснованный интерес к моему делу о матери. Может, раздул свои пухлые щёчки в надежде, что перепадёт и ему зернышко от предполагаемого наследства? Я молчал. Из-под его воротника выглядывала замызганная тельняшка, в которой он просидел сегодняшнюю ночь, и в которой, видимо, так и спал. В таких тельняшках ходят все моряки, подводники или авиация. Различия только в густоте цвета полосок. Для меня они были все на один цвет. Подобную тельняшку я хорошо помню с детства. Она всегда сохла на батарее рядом с моей кроваткой. Это была отцовская тельняшка, оставшаяся у него от службы на флоте.
— Твой отец на флоте, что ли, служил? — поинтересовался я у Вовки.
— С чего ты взял?
— У него солнышко с волнами на руке. Такое только у моряков.
— Какое солнышко? Нет у него никакого солнышка…
Волны бушевали на прекрасной картине Айвазовского «Девятый вал», а вернее, на её копии, от которой я не мог оторвать глаз, пока Вовка интересовался у дежурной о возможности встречи с Анной Генриховной Штольц — такое имя досталось моей матери от её родителей. Генрих Штольц и Елизавета Андреевна Рыбина… Мои дед и бабка. Почему-то именно сейчас, глядя на беспокойное море картины, я вспомнил их.
В то время, как выяснялось, где в данный момент находится моя мать, в какой она комнате, и кто из сиделок может проводить нас к ней, одна из местных старушек назойливо заглядывала мне в лицо и словно за что-то осуждала. Я старался не обращать внимания ни на неё, ни на то, что происходило у стойки дежурного. Там повторялись одни и те же вопросы. Голоса становились громче. Интонации повышались. Эмоции накалялись. В основном напирал мужской голос. Вовка не на шутку разнервничался. Чего он так печётся, не его же мать?
— Я ничего не понимаю, — наконец вернулся мой «помощник» и он же друг Вовка. — Это какой-то бред. Твоей матери здесь нет.
— Как нет?
— Вот так. Я спросил, может, она в саду, может, её перевели куда-либо. Нет, говорят, что она вообще больше не числится в списке проживающих.
— А где же она?
— У них, видимо, какой-то бардак в документации, сказать толком ничего не могут. Может, ты попробуешь?
Я подошёл к стойке, за которой стояла молоденькая девушка. Такая хрупкая и маленькая с детскими глазками, что захотелось за ней самой назначить каждодневное пристальное наблюдение. И как только у неё хватает сил работать в этом месте? Не иначе как умалишённая или бывшая монашка. Хотя, может, просто какая-нибудь студентка на подработке.
— Здравствуйте, — начал я осторожно. — Моё имя Дэниель Грант… простите… моё имя… моё имя Герман Штольц. Моя мать находится у вас. Я бы хотел забрать её.
— Я уже объяснила вашему товарищу, что сведениями об Анне Генриховне мы не располагаем. Я здесь недавно работаю, архив у нас временно переехал.
— Господи, 21 век… какой архив, всё в компьютере должно быть.
— К сожалению, вот так. Договор об оказании услуг был расторгнут, я так понимаю. А по какой причине, не могу подсказать. Мы можем сделать запрос, но придётся подождать…
— Моя мать неизвестно где болтается, а я буду ждать?! Сколько вы здесь работаете?
— С марта этого года.
— Это получается… полгода. Прекрасно.
— Что прекрасно? — удивился Вовка.
— Значит, её здесь нет минимум полгода, — правильно ответил я на его вопрос.
— И где она?
— Тебе же сказали — они не знают.
— Она не могла просто так взять и испариться! — не успокаивался он.
— Если ваша мать, уважаемый Герман, изъявила собственное желание покинуть данное заведение, то она, как и любой другой находящийся здесь человек, волен изъявлять свои предпочтения. Если кто-либо считает, что здесь ему не место, он легко может…
— Меня не интересуют другие ваши больные…
— У нас здесь не больные. Тут не больница. Проявить заботу и помочь избавиться от чувства одиночества…
— Ладно-ладно, вашу пропаганду я знаю… Если вы рассчитываете, что я запланирую поместить к вам другого своего родственника и выложить очередную сумму денег, то вы ошибаетесь — у меня нет больше денег, и родственников, кстати, тоже.
Уходя, я ещё раз взглянул на девятый вал. Весь мой род лежал на дне этого «Айвазовского моря». Их кости и черепа. Именно так я читал эту картину. Я увидел, как море ожило, и волна пошла на меня. Брызги! Я отдёрнулся.
— Ты в порядке?
— Картина…
Мой друг и товарищ спешно следовал за мной, то и дело пытаясь выяснить, почему я так безразличен и проявляю эмоции к пустякам, не имеющим отношения к главному.
— Я вообще не понимаю, что я здесь делаю и зачем повёлся на эти письма.
— Письма!!! — выкрикнул Вовка. — У тебя они с собой? Дай-ка сюда.
Я передал ему одно из писем, погребённых в желтоватых конвертах.
— Так! Кто-то же их писал?!
— Их пишет одна из сиделок, — уверил я.
— Но вот это написано позже — в апреле, вот май, июньское… Как это понимать?
— Я не знаю.
— А я знаю. Получается, твоя мать у этой сиделки. И искать её нужно вот по этому адресу, — Володя ткнул пальцем на конверт и стал похож на какого-то сыщика.
Неожиданно из главных дверей выбежала дежурная:
— Простите! Вы говорили про родственников. По правилам, человеку, выписывающемуся у нас, положено указывать, кто является ближним родственником или опекуном, если такой имеется. Одна из старушек сказала, что помнит Анну Генриховну, и говорит, что та хвасталась, как её заберёт внучка. Её забирала внучка, наверное.
— Ну да, разумеется. Кто же ещё?! Значит, у вас люди всё-таки выписываются, прям как в больнице.
Мне было всё ясно. Я вернулся в машину. Вовка замешкался с дежурной ещё на несколько минут и сел за руль.
— Что за внучка? Твоя племянница?
— У меня нет ни сестёр, ни братьев.
— Получается, что твоя дочь?
— Да.
— Ты не говорил, что у тебя есть дочь.
— Я и сам не знал.
— Охренеть!!! Это какое-то недоразумение, явно. Едем по адресу.
Я прекрасно знал, чей это адрес. И Вовка, который уже порядком надоел своим рвением, удивился по прибытию, что и ему хорошо знаком этот дом, этот подъезд, эта квартира. Он не раз бывал здесь у меня в гостях.
Глава 2
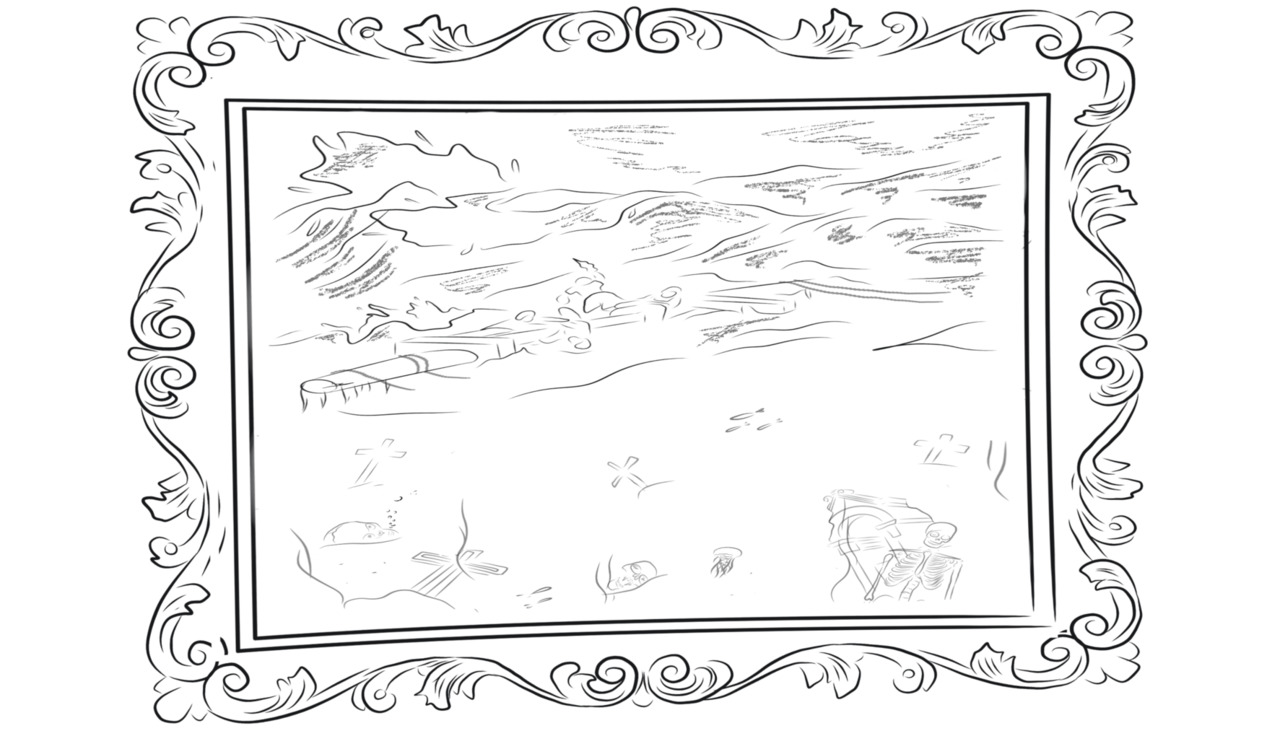
Мой род исчисляется пятью людьми, включая меня. Дед — чистокровный немец Генрих Штольц, бабка — его жена Елизавета Андреевна, русского происхождения. Их дочь Анна — она же моя мать. Мой отец также русских кровей и, собственно, я. Да, была ещё одна девочка. Габриэлла. Но она умерла от роду двух месяцев. После неё, собственно, родилась моя мать, как вторая попытка обрести счастье в доме немецкого дипломата, отдающего и в быту предпочтение строгому режиму. Разумеется, родословная Штольц прорастает корнями генеалогического древа куда глубже. Старый ариец знал и почитал сей знатный род, однако до меня донести эти сведения через дочь Анну, полную глупости и безалаберности в своём безответственном отношении к жизни, ему не удалось. Только благодаря дневникам деда мне удалось узнать о прошлом своих предков. Что касается моего отца, то линия его рода, можно сказать, оборвалась на нём же, поскольку кто его предки — неизвестно. Сирота с малых лет. Вырос в детдоме. Что с него взять — и в прямом, и в переносном смысле?! Всё, что было у Грымова-старшего — это татуировка на руке. Солнышко на волнах под номером 346. Цифра означала номер детского дома, в который одна старая женщина когда-то принесла его. Как было известно из журнальных записей, она являлась соседкой молодой семьи. Годы войны… Снаряд попадает в жилой дом… Родители без вести пропадают… Младенец кричит… В развалинах старуха находит мальчика. А спустя несколько лет её саму найти уже не представлялось возможным. Да и кому это нужно было? Подросшему мальчику? Его привычка к одиночеству уже сформировались к тому времени, а жёсткие нравы детдома заставляли думать не о прошлом, а о том, как выжить в настоящем. «Сегодня — здесь, а завтра — сейчас» станет девизом его жизни. И он не раз будет повторять эти слова сначала себе, одержимый алчными желаниями в полной безответственности к будущему своему и других, а потом и мне, единственному сыну — плоду той самой безответственности и случайности.
Дочь… что было бы, родись я у такого отца и у такой матери дочерью? Досталось бы мне в полной мере то воспитание, которым наградили дед и бабка мою мать? Кстати, прабабка моя воспитывала Елизавету одна. Андрей — муж её был расстрелян красными. Прабабка схоронила четырёх дочек, а пятую, Елизавету, берегла как самый ценный предмет из своего дворянского имущества. Вложила в неё всю доброту и заботу. А потом, собственно, объявился немецкий «подданный» Генрих, который решительно забрал у матери её последнюю дочь.
Дочь… моя дочь? Вполне себе возможно. Я со многими был женщинами. Где-то мог и наследить. Но раз есть ребенок, значит, должна существовать и мать. Она есть у всех, даже если это только формальность, как у меня, например. И кто же тогда её мать? Кто мать моей дочери? Да какая разница, кто… Главное — дочка! Моя дочь…
Какая она? Толстая, худая? Весёлая, угрюмая? На меня похожа или нет? Вон та могла бы быть моим творением. Хотя она страшная, как война! Или вон та подошла бы, если б не зубоскалила, как крокодил. Или лучше вот эта, которая так же, как я, носит шапку в руке вместо того, чтобы надеть на голову, бестолочь. Нет-нет, вон девчонка красивая с жизнерадостной улыбкой, но, конечно, не с такими свиными ножками и телячьими нежностями по отношению к своему парню. Мясной отдел, одним словом. Господи, что ж они все такие страшные! Нет ни одной подходящей кандидатуры. Помолиться и сгореть в аду! Не божьи твари, а божья утварь. Ау, люди, из какого места вы родились?.. Ростом она точно должна быть в меня — 176 см, обычного телосложения, глаза зелёные. И веснушки. На её лице точно есть веснушки, как у меня в детстве. Странно, что дразнили тогда, а согласиться с обидчиками можно только теперь. Раньше веснушки были сочными, весенними. Но вот куда пропали задор и игривость — «как мухи нагадили» выглядят именно сейчас? Какие-то они тусклые и редкие стали. Не веснушки, а пятна. Лучше вообще не смотреться в зеркало… Так можно с ума сойти, видя в каждой прохожей свою дочь. Хотя большим безумием кажется сама новость о её существовании. Лучше никогда не слышать, чем никогда не видеть. Но теперь я знаю и просто обязан её увидеть.
Мы встали у двери, как два истукана. Я не решался нажать на звонок. Если бы за этой дверью не находилась моя дочь, то я бы пнул этот входной потёртый кусок дерева, резво вошёл и обратился к матери: «Какого хрена ты здесь делаешь?». Затем начал собирать её раскиданные вещи. Но чемодан оказался бы дырявым или выявилась ещё какая-нибудь причина, по которой я не могу срочно увезти мать обратно в дом престарелых. Я бы спросил её: «Как ты умудрилась разорвать чемодан?». Хотя нужно было бы просто выяснить, есть ли другой. Потом бы она начала нести привычную околесицу про меня, каков я сын, про себя, каково ей живется в этом мире, а после — про то, что ей мало одного чемодана вещей, и нужно купить ещё другие платья. Я бы стал возражать, на кой чёрт ей в доме престарелых столько платьев. Она бы перешла на рассказы о том, как они живут, затем бы мы стали спорить, ругаться, я бы психанул, и всё грозило затянуться на неопределённое время. В итоге я сгрузил бы её нестиранные вещи, как есть, в чемодан и затащил его в такси. Но, поднявшись в квартиру, чтоб забрать мать, обнаружил, что она повернула ключ в замке и теперь нужно кричать через дверь. Суть её претензий была бы малопонятна. Но минут через десять она всё-таки выставила бы свои более-менее внятные условия. Мать требовала бы, чтобы я принёс её вещи. После моих тщетных попыток выставить ультиматум: «Я приношу снизу вещи — она отпирает» ситуация бы не изменилась, и на мой вопрос: «Собираешься ли ты вообще возвращаться в дом престарелых?» — она бы зарядила свою пластинку, как и двадцать лет назад. После мне всё-таки удалось бы её убедить вернуться в учреждение, но она всё равно потребовала бы вернуть вещи, так как ей нужны новые платья. Я бы согласился, лишь бы она открыла дверь, убеждая при этом, что нет необходимости в старых вещах, но она настаивала бы их вернуть, поскольку они — это единственное ценное в этом мире, что у неё осталось и, вообще, она не хочет, чтобы жена таксиста ходила в её платьях. В этот момент я бы пожалел, что у меня нет с собой кувалды, которой бы я смог раздолбить дверь в щепки, потом её голову в пыль, а следом и свою. Далее… А далее мы бы поехали выбирать ей новые платья. И я бы мучил себя вопросом: почему я это делаю? Так вот, если бы в этой квартире никого, кроме матери, не было, всё бы так и случилось. Но там находилась моя дочь. Я рассчитывал на это. Я был уже готов встретиться с ней и выяснить, где она всё это время пропадала. Её присутствие там сдерживало меня от излишних эмоций. Я становился отцом. А такое звание обязывает к определённым правилам поведения и не только.
Свои переживания мне были ясны и очевидны, но почему мой друг Вовка бездействует? Видимо, он всё-таки хотел, чтобы я сам позвонил. Вот же говнюк! Я же говорил себе не раз, что он такой.
Глава 3

— Какого хрена ты здесь делаешь? — наполнилась квартира моим звенящим от возмущения голосом, как только я увидел сидящую в углу пожилую женщину.
В квартире никого больше не было. Дверь оказалась незапертой. А она сидела такая тихая и беззащитная. Колени были укрыты замызганным фартуком, в руках она держала мочёную грушу. Мелко жуя, женщина смотрела вперёд. Просто смотрела вперёд. Насквозь! Просто смотрела.
— Какого хрена, — хотел было повторить я, но, вздохнув, переформулировал. — Ну что ты здесь делаешь, мам?
Она ещё раз откусила фрукт, не реагируя на капающий сок, и стала также быстро давить сладкую субстанцию своей беззубой челюстью. Вовка оглядел комнату, и по выражению его лица стало понятно, что он испытал облегчение за свою жизнь. «Не так уж всё у меня и плохо», — явно подумал он.
Повсюду в квартире валялись какие-то грязные тряпки, была разбросана одежда. Эта женщина не поддерживала здесь ни чистоту, ни порядок. Не умела этого делать. Кусок заплесневевшего сыра, раскрошенное печенье, рыбьи кости и другие остатки пищи валялись на полу, на кровати, на маленьком столике, который был просто завален всяким хламом. Там же на газете лежала челюсть. Рядом с большой кружкой, в которой плесневела какая-то компотно-чайная бурда с ошмётками то ли сухофруктов, то ли хлеба, то ли всего вместе, гнила уже не первый день кожура от груш и яблок. Из-под кружки торчал журнал «Мама» за 1972 год с рубрикой «Как воспитать девочку». Повсюду летали мелкие мошки.
Видимо, что-то изменилось за столько лет, раз на мой вопрос она ничего не ответила. Не состоялось ни брани, ни перепалки. Но в голове всё равно звенело от каждой мысли, да так, будто любой звук или слово, произнесённые в этой комнате, отражаясь в немногочисленной мебели и посуде, буквально сотрясают стены.
— Где она? — обратился я сначала к Вовке, а потом, наклонившись к матери, повторил. — Где она?
Стеклянные глаза женщины выражали только одно чувство: какая вкусная груша. В остальном они наивно глядели в прострацию, как будто и не было этих двадцати лет, и вообще ничего не было, как будто они видели меня буквально вчера.
Ответа вновь не последовало, и я, бросив чемодан, ринулся осматривать квартиру в надежде найти доказательства присутствия другого человека. Фотографию, личные вещи, косметику, одежду — хоть что-нибудь, что приблизило бы меня к знакомству с той, которая является моей дочерью. Вовка заглянул в ванную, потом в туалет. Там было не смыто. В однокомнатной квартире и без того стоял неприятный запах — кислый, старческий, тухловато-душный. Я открыл окно. Никаких следов присутствия другого человека в квартире не наблюдалось.
Спустя некоторое время, не снимая верхней одежды, на кухне, я подвёл итог:
— Мою же мать…
Моя мать сидела в комнате, совершенно одна. Неизвестно, чем она там занималась, но было тихо-тихо.
— Слушай, я пойду, мне ещё своим надо как-то объяснить, почему это я на больничном пропадаю неизвестно где.
— Иди, Вова, иди!
Всё встало на свои места. Как только понял, что ловить с моей матери нечего, тут же мой дорогой Володенька решил слинять. Да мне он, собственно, больше был и не нужен. Дверь хлопнула. Из комнаты раздался голос:
— Грымов, это ты?
«Проснулась», «я думал, у тебя язык отрезан», «жива», «кто-то решил, что ещё дышит», «ну вот можешь ведь, когда хочешь», «хер ли тебе надо»… В голове крутилось множество вариантов ответа для матери, голос которой я не слышал вот уже двадцать пресловутых лет. Но ни один из них не отражал весь комплекс моих чувств. В ступор впал теперь я. Я смотрел в окно и не замечал ничего, кроме одинокой сухой берёзы. Некогда это дерево зародилось здесь, росло, начало крепнуть, его ожидало долгое высокое будущее, но в какой-то момент берёза остановилась в своем развитии. Молодость прервалась, не раскрыв всю свою прелесть. А дальше — тяжкое существование в вечной попытке прорасти, чтоб не усохнуть. Все старания дать ростки, пустить корни оказывались тщетными. Молодому неокрепшему стволу требовалось много сил в борьбе с разными стихиями, паразитами и человеческим соседством. Но берёза не бросала вызов природе, хоть и стояла наперекор всему, она продолжала своё участие в эволюции, приняв все условия, и готова была бесполезно торчать здесь столько, сколько ей отведено. Точно такое же творенье божье находилось там, в комнате.
— Я-я!
Убив какое-то ползущее по полу насекомое, я двинулся к матери.
— Это я, мама!
— Акватория! Ты приехал за мной.
Груша была доедена. Руки вытерты о фартук. Женщина приготовилась к отъезду. К какому, к чёрту, отъезду? Куда она собралась? — подумал я. И тут же поймал себя на мысли, что некоторое время назад сам собирался её отвезти обратно. Но ведь она явно рассчитывала не на дом престарелых…
Наступил поздний вечер. Всё это время, не снимая пальто, я пролежал на кровати. Глядел в потолок и всем нутром чувствовал сопение сидящей рядом на стуле женщины. Жалкой, такой навязчивой своим молчанием, такой чужой. А ведь эта женщина — моя мать. Это моя мать. И знал я её, как облупленную! Сто один, сто два, сто три… — считал я её выдохи. Она словно специально так молчалива. У неё не было никаких эмоций, человек уже просто существовал. Просто сидел, просто дышал. Двести тридцать три, двести тридцать четыре…. Если раньше она пробуждала злость, гнев, безграничное раздражение, обиду за прожитые годы, за несчастливое детство, то теперь в пространстве полного безразличия я мог лишь притвориться в проявлении жалости. Хотя жалость — это первый шаг к прощению! Нет, прощение она получала уже сотни раз. Триста тридцать три, триста тридцать четыре… раз. Так что на прощение она уже могла не рассчитывать. Да и зачем ей оно? А мне зачем? Что от этого изменится? Ровным счётом ничего. Шестьсот девяносто восемь, шестьсот девяносто девять, семьсот… всё!
Всё! Каким спасительным кажется это слово. Спасительным для неё, для меня. Для всех. «Вот и всё», — сказал бы я себе. А потом бы и ей: «Вот и всё, мама»! Вот и всё. А на её гранитной плите так бы и было написано «Семьсот раз!». Каждый сын или дочь на планете ужасается от одной только мысли, что наступит тот день, та минута, то мгновенье, когда их мать вздохнёт и выдохнет в последний раз. Тут же гонят прочь подобную мысль, потому что страшно становится, отвратительно и жутко. А я, вот так, просто могу взять и сказать: всё! Вот и всё, мама! Но не в этот раз. Всё — в смысле круглое число получилось, а дальше…
А дальше нужно было подняться и чем-то себя занять. Ведь как бы ни пытался, я так и не смог придумать, что же мне делать с матерью, как поступить. Увезти её обратно в дом престарелых и сдать, как испорченный товар, со словами «делайте с ней, что хотите». Только я уже так сделал однажды. И её, как товар, который ещё больше может испортиться, вернули обратно. Или, может, сразу в психиатричку отвезти? Давно пора. Да, наверное, нужно так и поступить. Вот только дождаться дочери следует. Мать — это сейчас единственное связующее звено с моей неизвестной дочерью. Уеду — не увижу её.
В животе со вчерашней ночи ничего не лежало. Так быстро в магазин я ещё не ходил. Боялся покинуть эту конуру под названием квартира. Хоть имя есть у неё какое-нибудь?! Не терпится узнать, как же зовут мою дочь. Взял пельменей. Стою, варю, а сам прислушиваюсь к звукам на лестничной площадке. Раздались шаги. Не дожидаясь, ринулся к двери. Замер в тишине. Ну, давай. Давай! Не последовало ни звонка, ни щёлканий в замочной скважине. Шаги удалились куда-то наверх. Хотел, было, и я вернуться к своим пельменям, но задержался. Ещё раз прислушался. Всё так же. Тишина. Тогда я открыл дверь. Решил оставить её приоткрытой. Пусть будет так. Если дочь придёт, то я её не упущу. Должна ведь она когда-то появиться.
Два часа ночи. Я закрыл входную дверь, поскольку ощутимо дуло. И этот сквозняк как будто усиливал пустоту, гуляющую по квартире. Я заглянул в комнату. Мать лежала на кровати. В какой-то момент она улеглась, а я даже не услышал, как она это сделала. Всем своим видом она вызывала жалость. Только совсем не сочувствие, а презрительную жалость. Ни о каком прощении речи и быть не могло. Вот она поджала свои жалкие ножки и серой мышкой сопела себе в подушку. Я подошёл и укрыл её худощавые коленки пледом. В его дырках проглядывала какая-то демонстративная бессмысленность. Зачем я это сделал, я и сам не знаю, но сделал — накрыл.
Сухая и безветренная с утра погода располагала к дневной прогулке. Что я и сделал. Я вывел мать на улицу. Решил, что будет лучше прогуляться по свежему воздуху, нежели дальше вот так сидеть в душном клоповнике.
Проходящие мимо прохожие, наверное, восхищались нашей парой. Сын ведёт под руку маму. Та покорно передвигает ножками. Они гуляют по парку. Люди представляют, что это наши ежедневные прогулки. Какой заботливый сын, какая любящая мать. Посмотрите, вот пример настоящих отношений между матерью и её ребенком, — будто говорили они глазами друг другу. Кстати, мимо прошла подобная пара. Только ребёнку было от силы лет девять, и мать помоложе моей. Мальчик сильно капризничал, женщина сердилась и пугала, что его сейчас заберёт полицейский. И в глазах тех же прохожих можно было разобрать осуждение, что мать и ребёнок не могут наладить связь между собой. Ну, вот же, посмотрите, какая идиллия в той паре матери и сына, — указывали они на нас. Они не ругаются, они спокойно гуляют, наслаждаясь обществом друг друга. Пример для подражания! Только враньё всё это. Всё это полная неправда.
Когда мы расположились на скамейке, к нам подсела девушка. Светловолосая, с круглыми доверчивыми глазами. Её стрижка «каре» казалась старомодной, но это лишь подчеркивало её некую отличительность. У девушки было необычное лицо, я бы сказал, что это лицо человека другой расы или представителя той цивилизации, которая эволюционирует и будет жить через сто-двести лет после нас. Жёлтыми шарами выглядывали серёжки, сливающиеся со светлым тоном кожи. Эти украшения были единственным атрибутом женственности, но придавали девушке особое изящество. На ней было пальто болотного цвета, словно нарочно скрывающее своим воротником нежную девичью шею. Из-под пальто выглядывали желтовато-клетчатые рукава и укороченные к низу брюки, тоже в клетку, на тон светлее самого пальто. Заканчивалось всё бордовыми носками и бордовыми же ботинками-оксфордами. Сложно было понять, обладает ли человек чувством стиля или, наоборот, страдает безвкусицей. Она просто выглядела странно. Девушка, как и другие, мило посмотрела на нас и обратилась:
— Давно гуляете?
— Всю жизнь, — не задумываясь, ответил я.
— Я так и подумала.
— Это моя мать.
— Я знаю.
— Ну, мало ли…
— Что мало ли?
— Ну, мужчина и женщина вместе…
— Вы думаете, не видна разница в возрасте?
— Сегодня такие времена. Всякое бывает… вернее, всякое могут подумать. В общем, неважно. Полчаса.
— Что полчаса?
— Мы гуляем полчаса. Может, чуть больше.
Девушка улыбнулась. Она протянула влажную салфетку и указала на грязные руки матери. Мне стало стыдно. Причем за себя. Я не нянька ей. Она вполне может вымыть руки сама. Но стоит ли это объяснять незнакомому человеку? Что она подумает?! В её понимании, это явно должен был сделать я, причём ещё с утра. Ответственность за чистоту рук матери лежит на мне. Я так понял. Я решил, что лучше будет, если я протру собственные ладони.
— Хорошая погода! — продолжила девушка.
— Да это так. Я подумал, что будет лучше прогуляться, нежели сидеть в этом клоповни… в квартире.
— И правильно. Свежий воздух очищает мысли.
— Точно. Иногда в своих мыслях можно задохнуться. Иногда там помойка. У меня даже голова начинает болеть, когда переусердствую.
— Значит, вам нужно меньше думать и чаще гулять.
— Вы говорите, как врач, — улыбнулся теперь ей я.
— Имею некое отношение. Я учусь.
— В медицинском? Здорово! Она вот тоже имеет отношение к медицине, но самое отдалённое. Не окончила институт, бросила, потому что связалась с моим отцом. Научилась лишь ставить уколы. В прямом и в переносном смысле. И эти уколы ставила всю жизнь. Такие уколы, знаете — болючие, от которых жить не хочется, не то, что поправляться. Вот и проработала всю жизнь медсестрой. Простите, я, наверное, говорю то, чего не должен говорить.
— Время обеда. Вы голодны?
Мне показалось, что девушка крайне воспитана и тактична. Мне понравилось, что она не заострила внимание на моих словах. Я почувствовал себя глупым невеждой, и, дабы выйти из положения, предложил прогуляться с нами, а после и пообедать. И сам не заметил, как мы оказались у нас дома.
— Я помогу, — тепло произнесла она и стала помогать матери снять верхнюю одежду.
После она отвела её в комнату, а сама прошла на кухню и захлопотала возле плиты. Я и не знал, что в доме есть и картофель, и лук, и огурцы с помидорами. А она всё это и все необходимые кухонные принадлежности как-то находила, также не спрашивая.
— Как давно вы в городе? — спросила она.
— Третий день.
— И как вам?
— Как мне? А что как мне? Многое изменилось с последнего моего визита. Не та страна. Не тот город. Не те люди. Всё другое.
— Я хотела спросить не об этом, простите. Как вам ваша мама?
Меня терзал вопрос, как она поняла, что я вообще прибыл откуда-то. Мой чемодан с биркой, которую цепляют только в аэропортах, стоял в коридоре — вот в чём дело.
— Последний раз, когда мы виделись, она была более разговорчива. Это было 20 лет назад. Когда простились, был жуткий скандал. Я отвёз её в дом престарелых. Там мне обещали за ней полный уход и внимание. За такие деньги, знаете ли, ещё бы они обещали что-то другое.
— Это, конечно, не моё дело, но за 20 лет вы не смягчились?
— Значит, вы заметили, что у нас довольно натянутые отношения… Хотя, если быть честным, они вообще никакие! Нет! Не смягчился.
— Мойте руки и прошу к столу, — почти в приказном порядке объявила девушка.
Захотелось немедленно выполнить её приказ, так он был приятен.
Мы сидели втроём и ели. Только сейчас я обратил внимание, как преобразилась квартира. Обстановка, которая ещё сегодня вызывала тошноту, в одно мгновенье изменилась. Исчезли хлам, мусор и грязь. В какой момент это произошло, я не понял. Может, слишком долго мыл руки? Это была очередная заслуга нашей гостьи. Как и то, что мать оказалась с нами за одним столом. Когда она пригласила есть и попросила позвать мать, я отмахнулся и произнёс фразу, которой был накормлен с детства: «потом поест». Именно так: «потом поест» — мать всегда говорила про меня. Я никогда не сидел за одним столом с отцом и матерью. Но наша гостья покачала головой и настояла, что если я не приглашу мать, то она тоже не сядет. Разумеется, гостья была дороже. Мне пришлось уступить. И вот мы сидели, будто одна семья. Семья, которой у меня никогда не было!
— Давайте поговорим о чём-нибудь, — предложил я, потому что молчание было невыносимо. — Она так ест, что я не могу смотреть на это, а тем более слушать.
— Вы совсем не любите свою мать?
— Я? Люблю? Вы лучше спросите у неё, любит ли она меня… Мам, ты меня сильно любишь? Как собственного сына? Родного, дорогого, единственного сыночка. Любишь? А? Скажи. Не стесняйся. Ответь девочке, которая интересуется твоей материнской любовью. Расскажи ей, как ты проявляла её все эти годы… Конечно же, она любит меня. Только боится в этом признаться. Через пару недель будет вот уже 50 лет, как боится. Я даже не знаю — то ли трусость это, то ли тупость, то ли скудость души. А может, ей неизвестно это чувство вовсе?.. Что ты молчишь, мам? Такой прекрасный обед приготовила наша гостья, а ты молчишь. Ты что, не рада, что я прилетел, а, мам? Неужели тебе сложно сказать хоть слово? Мне кажется, она специально молчит. Молчит и молчит. Думаете, она не слышит? Всё она слышит и понимает. Но молчит, молчит во вред. Специально раздражает своим молчанием!
Ложка грохнула об пол. Я отошёл к окну и уставился на сухую берёзу. Надо её срубить, — подумал я.
Как короток день в этом городе. Всё время ощущение вечера. Серость и унынье.
— Акватория, наша девочка полностью проходила платьяце. Ей требуетса новий купить.
Не помню, сколько прошло времени, пока я пришёл в себя от подобного заявления, но с нашей гостьей пришлось объясниться.
— Моя мать непонятно выражается. Всегда изъяснялась неверно, с ошибками и с немецким акцентом. От русской матери язык передался ей в малой степени. Скорей всего она хотела сказать, что у нашей девочки прохудилось платьице и нужно приобрести новое… Вы простите, она не в себе. Либо молчит, либо несёт какую-то чушь. У неё никогда не было дочки. Был один сын — я. Называет меня Грымовым, по фамилии. С моим отцом у них должна была родиться девочка. Но не случилось. Выкидыш. А потом — я.
— А что означает Акватория?
В коридоре послышался шорох, подобный тому, который производит человек, собирающийся куда-то уходить. Так и оказалось. Мать напялила на себя пальто, шляпу, повязала плотно шарф. Когда она принялась открывать замок, мне пришлось остановить её. Правда, меня беспокоил не сам уход, сколько отсутствие обуви на её ногах.
— Куда ты собралась, чёрт тебя раздери?
— Не сметь ругаться, Грымов, где девочка!
«Не ругаться при девочке», — пришлось мне перевести. Наша гостья, выслушав, подала матери сапоги, что меня привело в крайнее удивление. «Что она делает, — подумал я, — неужели хочет её отпустить»? А может, оно и к лучшему — пускай уходит? Исчезнет, и нет проблем. Мать сунула ноги в сапоги и не застегивая их, покинула дом.
— Одевайтесь, — скомандовала гостья.
И буквально через мгновенье мы следовали за матерью. Это оказалось блестящей идеей — проследить, куда пойдёт эта ненормальная женщина. Сквозь потоки машин и прохожих она двигалась целенаправленно, будто точно знала, куда и зачем идёт. И ничто не отличало бы её от других людей, если бы не обвисшие расстёгнутые сапоги. Оказавшись у дороги, дождалась зелёного светофора и по пешеходному переходу перешла на другую сторону. Пройдя один квартал, потом другой, повернула во дворы, будто знала свой путь ранее. Выйдя снова на людный проспект, повернула за угол и тут скрылась в толпе. Мы потеряли её из виду.
— Куда она делась? Куда пропала? — заметался я.
Увидев ближайшую дверь с вывеской «Быстрое фото», ринулся туда, но там её не оказалось. Следующая булочная тоже не принесла успеха, как и все ближайшие заведения и магазины. След матери окончательно простыл.
— И что теперь? — взволнованно вопрошал я.
Мы ещё раз огляделись по сторонам, прошлись по близлежащим переулкам и дворам, после чего девушка предложила вернуться домой:
— Она сознательно куда-то шла, знала, куда движется. Следовательно, она вернётся домой. По крайней мере, есть большой шанс.
— Да, так поступают собаки. Если конечно, не уходят умирать.
Дверь осталась незапертой. Теперь я ждал возвращения своей матери. Парадоксально. Зачем мне было это нужно, я не понимал. Возможно, мне было любопытно, куда её чёрт понес. Но пока моё сознание гораздо сильнее увлекала гостья. Я делился воспоминаниями, в которые погружался всё больше и больше.
— …Жили мы небогато. Скорее бедно. Если бы не глупый проступок матери, когда она сбежала с отцом из дому, то всё бы у нас было. И было хорошо. Положения и статуса деда хватило бы на многие годы. Мать, конечно, получила состояние своего отца в наследство, но это случилось потом, когда я уже встал на ноги и работал сам. Хотя, с другой стороны, как бы тогда появился на свет я, если бы мать не связалась с отцом? А сделать это она смогла только благодаря тому, что ей пришлось покинуть отцовский дом. А случилось это так.
Генрих Штольц как-то после семейного ужина, на котором рассматривалась кандидатура зятя, пригласил к себе в кабинет дочь и заявил:
— Мне не нравится твой выбор, Анна. Мужчина, которого ты нарекла своим возлюбленным — не ровня тебе. Этот человек не сможет тебе дать то будущее, которого ты заслуживаешь и которым ты уже обеспечена, благодаря моему положению. Ты дочь высокопоставленного дипломата. Тебе следует приглядеться к кому-то более подходящему для нашего рода, уровня и воспитания.
Анна, проявив свой твёрдый характер, продолжила встречаться с молодым моряком. Только теперь уже втайне от родителей. Когда дед Генрих однажды раскрыл их прятки, то в гневе запер дочь в доме под жёстким контролем со стороны сиделки, объявив, что их помолвка возможна только через его труп. Ну, а дальше, как в романтической сказке — ночь, окно, верёвка. Правда, направление было иное. Да и сказка совсем не романтической оказалась. По верёвке моряк залез в окно к девушке. Заманив сиделку в комнату, заговорщики связали её, а после вынесли из отцовского сейфа довольно приличную сумму. Этих денег и хватило молодым беглецам, чтобы найти себе жильё и обустроиться на первое время. Ни интеллект, ни биография, ни манеры, ни родословная, которая просто отсутствовала, ни положение, как финансовое, так и должностное, молодого псевдоморяка не вызвали доверия у умудрённого жизнью немецкого подданного Генриха Штольца, однако убедили его в одном:
— Не реви, — сказал он своей жене Елизавете — матери Анны. — В одном можно быть уверенным: если эти паразиты пошли на такое, значит, они действительно любят друг друга и будут друг за друга горой! Если это просто вшивая страсть — наша дочь вернётся, никуда не денется. Если любовь, значит, это их выбор — жить в нищете и трудностях. Время покажет…
Время и показало, что мать души не чаяла в отце, растворена была в нём полностью. Считала его пределом всех своих желаний и вершиной возможностей, что даёт судьба. Даже после того, как он попросту исчез. Когда они сбежали, кажется, в то время у них и случилось первое зачатие. Безуспешное. А потом уже успехом обернулось зачатие меня. И вот на свет появился я… Я — Герман Громов! Ужасное имя…
Помню, было мне лет пять. Я попросился в гости к соседской девочке. Мать отпустила. Через три дня меня привели родители этой девочки сами. И на вопрос: «Не потеряла ли мать своего сына?» она ответила: «Негоже мальчику полностью разгуливать по гостям у девочек, а где его дом, он сам прекрасно знает. Собака и то знает. Он же не умирать ушёл!». Мне было пять лет. А потом произошёл с этой же девочкой другой случай, хотя дело не в самой девочке. Мама отругала меня за ногти, которые я сам не стригу, и ей приходится заниматься этим. Я разобиделся и убежал. Вслед она кричала мне: «Беги-беги и больше не возвращайся, паразит». Родители той девочки, у которой я скрывался, опять меня привели также через три дня. Мать даже не искала меня.
Дверь заскрипела. В коридоре послышался шорох. Это вернулась моя мать. Мы внимательно проследили, как она разделась, прошла в комнату и устроилась в своем кресле. Я подошёл и присел на корточки.
— Где ты была, мама? — тихо спросил я.
Она молчала. Тогда я схватил её за плечи и, начав трясти, заорал:
— Где ты была, чёрт тебя раздери? Ты ответишь мне на вопрос, где ты была? Куда ты ходила, старая ты кляча?
Мать смотрела мне в глаза, но взгляд её был такой пустой и неосознанный, будто она смотрит сквозь меня. А потом она всё же произнесла, как старая скрипучая дверь:
— Акватория! — о чём-то подумав, продолжила. — Наша девочка скоро может быть замуж. Пора бы и тебе побеспокоитса о её положении полностью. Разве тебе ровно всё равно на её будущее?
— Какой девочки, что ты несёшь?
— Грымов, ты пугаешь меня. Загляни на неё. Она полностью как взрослая.
Я взглянул на нашу гостью и выпалил:
— Это никакая не девочка! Это наша гостья. Её зовут…
Кстати, задумался я, ведь я до сих пор не знаю, как её звать.
— Кстати, а как вас зовут?
— Габриелла, — ответила девушка.
— Габриелла, — заворожённо повторил я. — Ты слышишь, её зовут Га-бри-елла. Она… она…
Тут я осознал, что ничего о ней не знаю. И вообще, кто она такая? Откуда она взялась! Как-то странно, что она здесь с нами вот уже какой день пребывает. Как это произошло?!
— Она… она студентка. Будущий врач. Слышишь, ты? Эта девушка добрая незнакомка, которая любезно помогает нам.
Обращённый на меня взгляд старой женщины по-прежнему был отрешённым. Я отступился. Мне захотелось освежить лицо. Вода так приятно охладила наморщенный лоб, набухшие мешки под глазами, сжатые скулы.
— Что она сказала? — пробубнил я, увидев Габриеллу в зеркале ванной комнаты.
— Молчит.
— Я же слышал, что она вам что-то сказала в моё отсутствие.
— И что вы слышали?
— Что-то про платье… Так ведь? Она ходила в свадебный магазин, подбирала платье?
— Да.
— Сумасшедшая!
— Она упоминает о какой-то несуществующей девочке.
— Постоянно. Мне кажется, она решила, что вы её дочь. Точно, так и есть. Это началось с вашего появления здесь.
— Она опять сказала — Акватория?
Я помолчал несколько секунд, а потом тяжело вздохнул:
— Так она называла моего отца. Прозвище у него такое было.
— Всё ясно. Она считает меня не просто своей дочерью, а вашей с ней дочерью. Той, которая не родилась. А вас — вашим отцом.
— Что? Как это?
— Правильней будет сказать, что видит в вас своего мужа.
— Этого ещё только не хватало! Чеканутая совсем!
— Вы не знаете, как они собирались назвать девочку, если бы она родилась?
— Нет, не знаю.
Я взглянул в глаза Габриелле, лет которой было не больше двадцати трех и сменил тему:
— Габриелла, я понимаю, что это незаурядная просьба, но без вас мне теперь никак не справиться. Прошу, не оставляйте нас. По крайней мере, какое-то время.
И хотя в её зелёных, как малахит, глазах я увидел согласие, всё же продолжил:
— Понимаю, предложение неординарное. Я буду вам платить. Мне нужна сиделка. Вернее, не мне, а ей. А вы студентка. Думаю, пусть небольшие, но всё же дополнительные средства вам не помешают. Вы сможете заниматься учёбой, когда вам потребуется. Времени на раздумье я вам дать не могу, поэтому прошу вас, соглашайтесь.
Выходные закончились, и на следующий день я с нетерпением ждал возвращения Габриеллы из института. Но, как мне показалось, не только я один. Мать часто поглядывала в окно. Я это заметил. Я заходил в комнату к ней и не знал, что делать. Я не знал, что ей сказать, не знал, что спросить, что предложить: хочет ли она есть, пить или есть какие другие потребности. Так в тишине, скрывая друг от друга томление по нашей гостье, мы и ждали Габриеллу, которая согласилась быть нянькой для матери.
— Ну, как у нас дела? — дружелюбно спросила Габриелла с порога.
— Вы спрашиваете, как настоящий врач.
— В каком смысле?
— Так говорят все врачи, когда приходят к больному, который идёт на поправку.
— Ой, я не хотела нисколько вас обидеть.
— Нет-нет, что вы, — засуетился я. — Ни о какой обиде речи быть не может. Я просто констатирую факт. И не стоит на этом зацикливать внимание.
Мне показалось, что, проходя мимо, Габриелла как-то косо посмотрела на меня.
— Здравствуйте! Как вы себя чувствуете, Анна? — спросила она, войдя в комнату к матери.
— Некрасиво, мама, отвечать молчанием.
— А мама и не молчит, она просто рада видеть меня. А я вам тут принесла вкусных трубочек. Сейчас Герман поставит чайник, и мы попьём чай с трубочками. Не давите, дайте ей время. Пойдёмте на кухню, — шёпотом обратилась Габриелла уже ко мне.
Я внимательно следил за тем, как девушка хлопочет на кухне. Мне так не хотелось мешать ей. Её присутствие меня вдохновляло. Мне нравилась её хозяйственность.
— Вы такая домашняя. Такая умелая. Ведь вы ещё совсем молоды. Откуда вы знаете всё это?
— Что именно?
— Ну вот, и готовить умеете, и к пожилой нездоровой женщине находите подход. По своим делам и поступкам вы гораздо старше и мудрее девушек такого возраста.
— Спасибо. Я живу одна. Пришлось научиться.
— А жених?
— Какой жених?
— Давеча я слышал, как вы разговаривали по телефону с молодым человеком. Простите, я случайно подслушал.
— Это всего лишь был мой однокурсник.
— Вы говорили, как…
— Мы обсуждали конспекты, друзей,.. не помню, что-то ещё.
— Вы с ним очень дружны. Постойте-ка, теперь я понял, почему она отправилась выбирать вам свадебное платье. То, что он ваш жених, показалось не только мне.
— О, как нелепо!
Закипел чайник. Габриелла вновь пригласила мать за общий стол. Та с большим аппетитом стала хрустеть трубочками и запивать горячим чаем. А после наш диалог с Габриеллой продолжился.
— Что вы почувствовали, когда она пропала вчера?
Я задумался.
— Только честно.
— Страх. Как боятся за потерянного ребёнка, хотя мне это чувство неизвестно. Испугался, что больше её не увижу. Что с ней может что-то случиться… Но это рефлекторное чувство. Любой бы на моём месте бросился её искать. Как у вас там говорят, у медиков… рефлексия… собака Павлова… как-то так ведь?
— Да, есть такое. И как долго вы это испытывали?
— Недолго. Потом последовало раздражение. То самое, в которое она приводила меня последние годы, когда мы были вместе.
— Что именно вас привело в раздражение?
— Ну, я не знаю… то, что она исчезла. Куда-то попёрлась, мы тратим на неё время, а она взяла и исчезла. Я не знаю, как это объяснить. Мне было любопытно, куда она пошла, и вот оказалось, что мой и ваш интерес останется неудовлетворённым.
— И всё?
— Я хотел её вернуть.
— Почему?
— Да потому, что… потому что она не может просто так взять и исчезнуть. Понятно вам?!
Глава 4

Квартира, в которой совсем недавно веяло могильной пустотой, наполнилась жизнью. Мать смотрела телевизор. В ванной весело плескалась вода, доносились звуки воскресной стирки. Из окон струился мягкий свет, и комнаты купались в солнечных лучах. Запах одинокой старой женщины сменился на свежесть и уют домашнего очага. Здесь теперь жила семья! Так мне виделось и хотелось.
— А вы бы хотели семью?
— Ой, вы меня испугали!
— Извините.
Габриелла продолжила стирать и молчала, будто не услышала моих слов. Я стоял, смотрел на неё и стеснялся повторить вопрос. Зачем, думал я, зачем я её об этом спрашиваю. Какая разница, что она ответит. Я прошёлся по квартире и вновь почувствовал себя счастливым. Улыбнулся, услышав, как по телевизору вещают про какого-то парня, которого необходимо женить на одной из девушек, а он не может сделать выбор и добиться дельного совета от матери, упрекая её в нерешительности.
— Каждый человек желает иметь семью. Полноценную. Правильную. Отвечающую нуждам и потребностям как самого этого человека, так и всех членов семьи. Человеку нужна семья, где его любят, где он любит. Где его понимают и принимают таким, каков он есть. А ещё важно, чтобы эта семья вписывалась в рамки общества. И не просто вписывалась, а являлась примером соблюдения тех ценностей и традиций, которые он исповедует. И не столь важно, родительский это дом или брак, сколь значим сам смысл семьи, её сущность и содержание. Любите друг друга и будьте счастливы!
Мягко говоря, я удивился тому, что сказала Габриелла. Вернее, даже не смыслу её слов, а её желанию что-то до меня донести. Я почувствовал, как в носу защипало, и сделал всё, чтобы не расплакаться.
— Сегодня воскресенье. У вас выходной, а вы тут стираете. Пойдёмте на прогулку, — предложил я.
— Мы пойдём все вместе.
— Да. Все вместе, — поддержал я Габриеллу.
Под ногами зашуршали листья. Я шёл рядом с Габриеллой, а по другую от неё сторону своими худенькими ножками шоркала мать.
— Зачем вы мне рассказали про то, какая должна быть семья?
— Что именно?
— О том, какую вы хотите иметь семью и какую желаете мне.
— Вообще-то это были не мои слова, а ведущей, которая закончила телепередачу. Любите и будьте счастливы — так кажется, вы про это?
С немым вопросом: не сумасшедшая ли она — я внимательно посмотрел на Габриеллу. А она продолжила:
— Какая разница — кто сказал? Вы спросили — вам ответили.
— Спросил. Только думал, что вы проигнорировали. Неважно… Вы уже целую неделю с нами, Габриелла. Это так прекрасно. Я не говорил, но хочу поделиться, вернее, должен вам как-то выразить свою благодарность. В общем, вы молодец, что с нами! Мы с матерью ждём вашего возвращения каждый день. И делаем это вместе. Нас объединяет ваше присутствие, а когда вас нет — ваше отсутствие. Я сижу, работаю за своим ноутбуком; мать там, в комнате, смотрит свои идиотские ток-шоу, но мы оба ждём вашего скорейшего прихода из института — знайте это. А ещё, когда вы приносите трубочки, мы просто счастливы.
— Хорошо, я буду их покупать чаще.
— Да, только не в трубочках дело.
Я взял руку Габриеллы и ладонью приложил к своей щеке. Мне так хотелось тепла от этой девушки. Но она была совсем юна. Я не мог позволить себе даже мысли влюбиться в неё. Однако вся моя душа неудержимо тянулась к ней. Маленькая, гладкая ладошка так покорно лежала на моём лице. От её руки пахло «Белизной». Запах, знакомый с детства. Тогда, по-моему, всё и везде так пахло: поликлиники, детские сады, бассейны, школы, стадионы, квартиры, подъезды. Вот и сейчас пахнет детством, и она, Габриелла, ещё совсем ребёнок. Годится мне в дочери… Господи! Как я мог забыть! — словно гром загрохотал в голове. Ведь у меня есть дочь!!! Эта девушка заняла все мои мысли, отвлекла от самого главного.
— Что с вами?
— Нам нужно срочно домой, — заволновался я.
— Домой? Что-то случилось?
— Ничего не случилось. Просто пойдёмте. Быстрее. Вдруг кто-то придёт, а нас нет дома.
— Вы кого-то ждёте?
— Чёрт с вами, оставайтесь здесь с этой… А я побегу. Мне нужно.
Я оставил их и быстрым шагом двинулся в сторону дома. Пройдя несколько метров, опомнился и вернулся.
— Габриелла, простите мою грубость. Давайте сделаем круг по парку и отправимся домой.
Теперь было уже невозможно вырваться из абсурда происходящего. Нельзя повернуть назад к дому, поскольку мы уже шли в сторону парка, но и двигаться дальше, в том же прогулочном ритме, тоже было невыносимо. Мать торопливо перебирала ножками, чтобы поспевать за нами. А Габриелла молчала. Я чувствовал напряжение и ощущал, как она ждёт моих объяснений.
— Вы знаете, а ведь у меня есть дочь!
— Правда? И где она? Как её зовут?
Я смотрел на Габриеллу и терялся с ответом — соврать или сказать правду? Только в чём заключалась правда, я и сам не понимал. И тут, неожиданно, я увидел скамейку, на которой несколько дней назад мы познакомились.
— Помните, как вы подсели к нам на той скамейке?
— На какой?
— Вон на той. Мы там познакомились.
— Мы разве познакомились на скамейке?
— Вы что, не помните?
— Помню. Конечно, помню.
Габриелла соврала мне. Я это прочитал по её выражению лица. Она не помнила нашего случайного знакомства, хотя это произошло всего неделю назад. Но почему поспешила успокоить?
— Не запирайте дверь на ключ, а ещё лучше пусть чуть приоткрытой останется, вот так! — обратился я к своей немногочисленной семье по возвращении домой.
Я слонялся по квартире в раздумьях о том, что произошло за эти дни. Все мысли сводились к одному — к имени Габриелла. Кто она такая? Откуда она появилась в нашем доме? Она представляет явную угрозу для моей дочери! Похожее на ревность чувство начало заполонять меня. Может, мошенница какая-нибудь? Как я вообще впустил её в свою жизнь так быстро и так близко? На каком основании она хозяйничает тут, в квартире? Конечно, я сам дал ей это право, я это помню, но она так умело расположила к себе, что я сам не заметил, как открыл ей не только дверь, но и душу. Как же можно было допустить её ещё и до матери?!
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.