
Бесплатный фрагмент - Коллекционер грёз
Повесть
Часть 1. Хосров. Поющее тело мая
«Жизнь это сон, где любовь одно из сновидений.»
(Клод Лелуш «And now...ladies and gentlemen»)

1
У меня острое ощущение бреда вокруг.
Тишины и того, что это все мне снится, а шипение радио в ушах, когда на самом деле радио рядом нет, тоже своего рода слуховая галлюцинация.
Я — закончилась.
Я — истощилась.
Меня — нет.
Третья часть романа Боулза «The sheltering sky» называется «Небо» и начинается словами Кафки: «Начиная с определенной точки возвращение невозможно. Это и есть та точка, которой надо достичь»
У меня есть. Сутки, двое чтобы осознать это и начать. Вчера были льдины. Тающий след слабой бесконечности. А за стеной лежит человек, он мне близок и у него инсульт.
2
Здравствуйте.
Я лишена дара затейливого рассказа. Иногда я все-таки что-то повествую, нечто скучное и безынтересное, то есть все нескучное и интересное становится каким-то барахлом, когда я пытаюсь его пересказать и уже на середине пересказа повествуемое оказывается безвкусным, и мне быстрее хочется прекратить этот серый поток слов изо рта.
Скучно. Говорить всегда скучно. Когда я пишу, я такая, какая есть.
Подойти к той самой точке мне никак не удавалось, хоть я и трезво представляла, что это такое, и называлось это нечто странным словом свобода. От всего — условностей, книг, знания и канонов, работодателей и денег, мнения и оценки. Я была растением в палисаднике, а жизнь — за оградой. Может, там был такой же палисадник, но через стекло, с другой его стороны, а разбить это стекло я все никак не решалась. И я себя спрашивала настолько часто, насколько могла — чего ты боишься? Одиночества? Нет, ты всю жизнь одна и не тяготишься этим. Трудностей? Нет, не думаю.
Или…
Или того, что за этим стеклом все равно никого не будет.
Я хотела известности, много друзей, чтобы меня любили за то, что я сделала, летать на белых больших самолетах из края в край планеты, иметь красивые туфли и духи, писать книжки и фотографировать мир вокруг, чтобы Terry Gross взяла у меня интервью для программы Fresh Air, и были светские рауты, как те, которые время от времени устраивают в Гарварде в красивых особняках с шампанским.
Но это было ДО стекла, это был все еще палисадник и палисадниковые мечты. А по ту сторону были безлюдная пустыня, ветер, гнавший перекати-поле по пыльной дороге, скрипящие ставни домов и бесконечная вода до горизонта.
Меня там никто не ждал, но я знала, что рано или поздно я должна разбить стекло, разделявшее две жизни одного человеческого существа и обрести то состояние, с которого возвращение невозможно.
Его просто нет. Потому что сзади ничего не будет.
3
В конце ХХ века изобрели Интернет и тысячи одиноких сердец ринулись туда в поисках своих половинок. Я не была одиноким сердцем, скорее наоборот, но интуитивно чувствуя всю трагичность собственного сердечного благополучия для искусства, истины и некоего предназначения (которое хоть и не проявляло себя, но, если приложить достаточно фантазии, ощущалось) с собственным личным удобством сражалась, протаптывая узкие тропинки в Сети за руку с грустными, потерянными подружками.
…как вам объяснить состояние, когда должно прийти счастье? Именно счастье, не обида и не подарок в виде красивого, интересного и завораживающего молодого человека.
Oно подкрадывается мягко — сначала поют и щебечут травы, реки, земля в весенней суматошной эйфории, потом снятся странные сны и караваны, упрямо шагающие по песку в каменистый пыльный полдень. Всегда безлюдный. И узкие глинобитные улицы, и темные женщины с маслянистыми жгучими глазами.
Они поют протяжным голосом бесконечные песни.
Песни моря другие, но они похожи на песни песка тем, что человек в них ничтожен.
И они пели — очень часто во сне.
Я листала американский клип-арт с фотографиями и знала точно, что в эти белые запыленные камни я исчезну когда-нибудь. На пароходе из Стамбула, на верблюде из Дамаска или Александрии, но как только я смогу разбить это проклятое стекло, отделяющее меня от моей же жизни, я уеду туда. Генри Миллер путешествовал по Греции, Лоуренс Даррелл жил в Александрии, Боулс и Берроуз — в Алжире и Марокко. Мне хотелось за ними — тонкой струйкой спрятавшись в саквояже и не дыша: лишь раз увидеть восход в Сахаре и развалины храмов огнепоклонцев.
Прикоснуться к земле длинноволосых и воинственных царей.
Амазонки жили севернее — на земле Киммерии, в степях, скакали на длинноногих (или коротконогих) ретивых лошадках. Мне же хотелось все южнее и южнее, когда солнце уже печет неистерпимо даже утром, а песни становятся все более протяжными.
И на Восток. Туда, где Кавказ обрывается Иранским нагорьем, а Тигр и Ефрат разрезают иссушенную землю стрелами воды. Туда, где шел один из шелковых путей и где земля — серая и сухая, а деревья — изможденные.
— Господи, зачем оно тебе?
— Не знаю.
— И как его звали?
— Хосров.
— Как, как?
— Не знаю, не помню, да и не знала…
Замирание сердца
Тихий.
Далекий.
Беспокойные утра.
Ночи в тревоге.
Грустноглазое солнце
Светило равнины
Чьи-то чертоги
Из серебра и глины.
Здравствуй, далекий
Все прахом станет
Ложь не обманет
Измены не будет
Меж нами
Лисой проскользнувшей.
Чисты перед богом
И если желали кого-то
То только самих себя.
Просто шепнуть прощай
Дать тишине на чай
И успокоить голос.
Ветреными ночами
Свидетелей не было с нами
И сами не стали ими
Бредущими по пустыне
Синей любви
Вдвоем.
А за скалой каньон
И этой пропастью чувства
Нам не спуститься
Чувствуешь, я миллионом
Искринок
И звезд
Окружила твой сон.
Переросла любовью.
И проросла в весенний
Пахнущий чернозем
Стать его хлебом и солью
И в этом мире дольнем
Была я твоим застольем
И ты причащался мною
А вера была вином.
Прощай.
Мы прочли друг друга
В мечтах.
И пьянящая вьюга
Цветущих пыльцой садов
Покровом была нам
Хосров.
— Что такое Хосров?
— Имя какого-то из персидских царей, из Сасанидов, но все это нисколько не важно…
Это был темный человек, совпавший с чем-то выше — с неким кибер-амуром, пролетавшим по компьютерным просторам и зацепившим в ночном эфире два одиночества.
Ее и Его, даже не мое.
4
…мир то набегал волной, то отступал и ты проваливался в липкий и странный туман одиночества. И ты ненавидел все в этот момент за то, что из года в год обречен на это — на царапанье по стене, по бумаге, на шлепание клавишами от бессмысленности и неумения рассказать все, что чувствуешь миру.
От немоты, от потерянности, от подвешенности под потолком, где друзья — далеки, а люди — не те…
Все не те, не такие.
С детства, с первого осознания ты учился быть только с собой, ибо те, кто тебя знал оставались, но ненадолго. Тех, кто любил, было еще меньше. Их почти не было. И стены становились другими, и птицы ходили по пятам, неся какую-то чушь, и путь весеннего ростка из-под земли был слышим, как только смолкали звуки.
А «Ностальгия» Тарковского казалась уже не таким скучным фильмом, потому что вокруг было все такое же: пристальное поблескивание листьев, туманность капающего пространства и потрескавшиеся стены. И в этот момент мир любил тебя, благодарный вниманию к сущности вещей.
Но ты его ненавидел.
Мне кажется, все мои мольбы об успехе молчаливые боги награждают все новым и новым заточением в себе. Я, конечно, понимаю, зачем — но, бог мой, с каждым годом привыкания к этому пустота вокруг становится все более и более невыносимой.
Но это все было лирическое отступление от сути дела.

5. марина
ЕЕ звали… допустим, Марина.
Она была красива, ухожена и привлекательна, даже несмотря на недевичий возраст. И она была одной из немногих личностей в городе, кто мне был внешне и внутренне приятен, а совмещение собственного модельного агентства с учебой в духовной академии делало ее персону еще более притягательной. Стандартизированное описание: она была светловолосой, скуластой, немного тяжеловатой в чертах лица, со светло-серыми глазами, может немного жеманной, но в общем изящной и мне искренне нравилась своею непохожестью на меня. Нестандартизированное описание: она была иногда строга, ей тоже нравился стиль «ампир» и она была «воцерковлена» — странное слово, которое я до сих пор недопонимаю, и поэтому мне казалось иногда, что она выше меня неимоверно. Что иногда она — ангел, и мне высоко-высоко и не дотянуться.
Человек способен внешне и внутренне преображаться настолько, что не веришь существующему миропорядку. Но это так. Я видела ее другой — я часто вижу своих друзей другими. Так может влиять любовь, или искусство или вера. Сложные вещи и непонятные.
Зачем-то я запихала ее фотографию на некий сервер знакомств в Интернете. Зачем-то я поддерживала эту инициативу, рассыпаясь английскими трелями перед заграничными женихами. Зачем-то мне это было необходимо. Зачем?
Переживать заново с кем-то влюбленность — вот и налицо черты прирожденной свахи. Нет. Нет же. Флирт? Может быть.
Флирт за чужой счет и не имеющий никакого смысла.
Что меня гнало в качестве анонимного писца в беспросветный мрак интернетовской паутины? Да черт разберет — какое-то стремление быть во многих местах одновременное, может, либо желание быть другой.
Были: их фотографии, ее фотографии, и… мои мысли.
В чем человек искреннее — в словах или в визуальном отображении фотографии? Я бы не ответила так просто, да и не могла.
Но я колдовала.
У меня были целые пустые пространства текста, которые я заполняла черными крупинками букв — английских, русских, странных — я ворожила. Понимала, что в том, что пишу — даже о девушке Оле или Свете, будучи Олей или Светой — они, сами того не понимая, давали мне темы для моих бесконечных сочинений — я летела над вселенной недопонимания и человеческого одиночества. Приходили письма разные — со всех краев света — и это был от раза к разу повторяющийся речитатив одиноких душ. Я тоже была одинока — и писала, кричала им эти странные белые кораблики, скупые аттачменты и фотографии, они получали и жили этим. Неделю, две — они мечтали…
Я чувствовала их мечты кожей.
Каким-то мозжечком внутри мозга: как бредил о светлой русской девушке одноногий американец Эрик, мечтавший забрать ее в кругосветное путешествие на своем единственном орудии — двадцатифутовой яхте. Как мечтал рыжий швед Пеппи Эриксон — модный фотограф и любитель прыжков на доске с парашютом, как мечтал брокер из Франции и юрист из Туниса. Им писала я, несчастная и счастливая, рыжая и коротко стриженная, но мечтали они, глядя на их блондинные длинноволосые фотографии. Что-то в этом было удивительное, словно какой-то секрет любви я приоткрывала и подглядывала в самую его сущность. Нет. Это не вуальеризм — я сама была участником этой оргии интеллекта и виртуального тела, и мне это доставляло странное глупое удовольствие. От меня были СЛОВА, от нее — все остальное, но этими словами я жила, молясь на текст и на язык как на единственные носители счастья и искренности человечества. Но ведь я врала?
Да.
Чтобы продлить это нестерпимое мазахистское удовольствие графа Калиостро.
И я себя им чувствовала.
Грешно. Может глупо. Не способна выразить все, что я бы могла словами в жизни, я пользовалась этой идиотской возможностью быть тем, кем могла, хотела, мечтала в тексте. Я себе напоминала толстую собеседницу с горячей линии, жрущую гамбургер и стонущую в трубку от страсти. Или Сибиллу Вэйн из «Дориана Грея», любившую только на сцене. Но как бы не противоречивы были сравнения, это было так. У меня был голос — как у оракула, и голос этот был письмом, и на английском языке, но я чувствовала себя всесильной ведьмой и фурией, сорокозубой и огнеязыкой бестией, рассказывающей бедным шведам, французам и американцам про недостатки своего характера с такими тончайшими недомолвками, что они уже заказывали билеты на самолет и вылетали с кожаными лакированными куртками от Версаче в Россию. И лишь вой пощады моих немых, т.е. не говорящих по-английски, реципиентов-девушек все ставил на места.
Это не было моей местью за внешние недостатки и убожество, коих и коего не было. Совсем нет — это был мой плач по всему одинокому миру. Попытка дать мечту и заставить этого кого-то мечтать всю ночь, слушая какое-нибудь ужасное музыкальное радио на шведском, английском, немецком и….
…и улыбатьс я.
— Улыбайся одноногий Эрик, — сквозь слезы скулила я, когда тот прислал свою странную и режущую слух нормального человеческого восприятия историю.
— Улыбайся одну ночь и может быть один день, мечтая об Ассоль (или если есть американской вариант девушки, ждавшей красно-тряпичного парусника на берегу моря и щурившейся на солнце). — Будь хоть немножко, хоть толику счастлив, человек с того края света, — сопела я в подушку, готовая хоть завтра сорваться и убежать по волнам за Эриком-матросом, скачущем на костыле по океанской пасудине с маленькой, похожей на собачьего воробья дворнягой.
Я плакала.
Скулила и знала, что Марина никогда не согласится поехать к одноногому путешественнику и к его добродушной псине.
Я же была лишь голосом от автора в той истории, где развязка всегда остается за героями, но не за кем-то, кто…
— Мечтай, Эрик-матрос, — всхлипывала я в потолок и чувствовала, что на том краю света кто-то думал. О Ней. И этот кто-то напрягал лицо в улыбке, рассказывая своей собаке о том, как они поедут через Атлантику и Средиземное море к Черному, и будут российские портовые службы, а она будет их встречать и ждать на пристани, а потом через Дарданеллы или Персидкий залив или вообще в Японию…
И потом они спали, обнявшись с песиком под мерный ропот волн океана, и слушали радио, и может быть мой любимый Fresh Air.
У человека два цвета мира — и в одном варианте это мир с надеждой, и это особый оттенок всего. Волн, восхода, пальцев в чьей-то ладони, завтрака. Нет, не розовое, а какое-то горячее. У мира с надеждой горячий цвет.
А Она — это было ее все и моя душа. Моя душа в светловолосом нежном оперении, с тем лишь изъяном, что Эрику-матросу на следующий день говорила «нет» она, а не я.
Я бы не сказала. Я, может быть, и поехала бы, расковыряв, раздолбив вдребезги это опостылевшее стекло, прячущее меня от жизни.
Но она не сказала «да», а я не сказала «нет» — я просто осталась наблюдателем по ту сторону стекла.
Как в точности и она.
6
В густой траве пропадешь с головой, в тихий дом войдешь наклонясь, обнимет рукой, оплетет косой и, статная, скажет: «Здравствуй, Князь».
(Некто Блок)
…однажды игра перестала быть контролируемой. Однажды шахматные фигуры вышли из-под контроля и столкнулись с силой, превосходящей способности моего скучающего на юге мозга и нежного насмешливого сердца.
Я растерялась.
Моя светловолосая половина тоже.
Он был ….
Тяжело объяснить обычными словами то, что лишь чувствуется кончиками пальцев и ресницами. Но он появился всего лишь на экране монитора вдруг какой-то царской, небрежной манерой человека, впервые не пытавшегося понравится.
Перевидав тысячи людей в жизни, вдруг понимаешь, что желание нравится сидит в каком-то глубоком, недосягаемом подсознании странным атавизмом, и почти что неискоренимо.
Он был несколько страшен, может авторитарен, и с первого взгляда ставил на колени. Едва ли не ставил. Марина на его images смотрела робким кроликом и сдалась сразу и открестилась, заявив, что любит галантных мужчин. Я, скрипя, изо всех сил напрягая мышцы голени, пыталась разогнуть ноги, дабы не шлепнуться ниц, подчинившись этому далекому и далекому от галантности магнетизму. Нет, я не шлепнулась бы, дитя кока-колы и эмансипации, но впервые поймала себя на мысли, что хотелось…
Одеть халаты, чувяки и чадру и…
Простите меня, прекрасные эмансипатки, Сьюзен Зонтаг и Синди Шерман.
Но иногда интеллект бессилен.
7. (лирическая)
на синем облаке взмывая ввысь
восточная сказка с того края света
она умоляла — reply please но не было ответа
ответа не было
способность влюбиться в метеорит
в комету, пляшущую в снопах света
звук строчки, тень взгляда
вечный гранит у пристани
высохший след человека.
быть может…
молчание мой обет
к компьютеру рук прилипают кисти
почтовый кризис ошибка в Net
130 букв
пол минуты вместе
ты бредишь.
я знаю.
секунды звук
щемящий и капающий на мозоли
и нервы застывшие.
этот стук
в голове ли в сердце —
что-то Иное.
безумие мая.
метеорит в муку взрывающий
землю и море
она скулила…
ошибка в Net.
где настоящее?
где цифровое?
на снежном облаке пьяная высь
круша пространства, взмывая к небу
она умоляла себя- проснись…
но не было ответа
ответа не было.
Он писал странные письма. Интересные.
Мне ВДРУГ стал кто-то интересен.

8
…это было как сумасшествие. Я настаивала изо всех сил на продолжении этой переписки, хотя Она отказывалась даже смотреть, что я там сочиняю. Но мне это было необходимо. Она его отринула тут же, как представителя черного мира, а я его, как представителя этого другого мира впитывала.
Всасывала, сканировала, понимая, что это нечто иное в своей правоте и сухости.
Его странную, непреодолимую силу.
Во втором письме этот циклоп и минотавр уже цитировал У.Б.Йейтса, пытаясь передать свои тончайшие фантазии изощренным поэтическим образом. Этого стихотворения не было в русских сборниках и над переводом пришлось немало трудиться. Он растекался в мыслях об эстетике Чайковского и современной музыке, упоминал между прочим Державина и Сумарокова, а также не скрывал своей любви к Зальцбургу, Австрии и математике, чем он впрочем и занимался.
Честно?
Я была поражена. Он был перс. Он был из той страны, о которой я как-то смутно всегда мечтала. Он знал язык, украшавший сотни лазурных керамических сосудов и изразцов в Эрмитаже. Он был некто из той культуры, которая поразила давно. Потом восхищала на выставках и в миниатюре. И было куча совпадений.
Конечно, мне уже хотелось быть Шахеризадой.
Это был странный двойной, тройной роман одного человека с двумя, тремя, ибо мы (Я) подключили всех, кто бы мог уточнить подробности об иранской культуре и Иране. То есть больше всех это, конечно, волновало меня, даже не знаю почему.
Я представляю себе человека как струнный инструмент. У него много струн, может даже так много, как у клавесина. Но только несколькие, если их задеть, способны воспроизвести мелодию и ритм, одним словом в них — гармония. И вся жизнь вращается около этих двух-трех мелодических струн, которые тонкими звонками и знаками нашептывают тебе направление пути. Для каждого человека очень важно найти их, но едва эта тропинка внутрь человеческой сущности проясняется, события начинают все решать за тебя, и ты только поражаешься слаженности фактов и тому, насколько странно и согласованно все разворачивается.
Все ближе и ближе ты подбираешься к ранее спавшей и готовой проснуться струне. Потому что тогда же были лекции по Ирану в Эрмитаже, потом встреча с профессором из Института Востоковедения и специалисту по фарси и древним языкам, и мои эскизы к клубу Грибоедов, заказанные в персидском стиле, и фильмы, и перевод Шадаб Вайаджи, и Параджанов, и Армения, и Рудольф с Кареном, и Урарту, и Ширин Нишат. Все, на что я не натыкалась, вращалось плюс минус вокруг области на Востоке между Кавказом и Персидским заливом, и я не могла понять почему.
Если честно, не могу понять до сих пор. Струна еще не звучит.
Завтра…
Один из дней, способных соединить какие-нибудь события в этом психоделическом поиске. Почему? Завтра гастрольный спектакль театра из Еревана, того где…
Пусть даже и не встречу их — это было бы слишком большим подарком. Но — банально — одну ночь я буду мечтать об этом. Еще банальнее — мне их ужасно не хватает.
9. Рудольф и Карен
Они были частью его, а я стала частью их. Мое существо, неминуемо двигавшееся на юг, требовало пищи, и сразу же ее получало. Миллер считал, что вся Греция населена гениями, а Ницше считал Восток метафизическим центром мира. Из греческой колонии, где родилась, я плавно перемещалась к точке икс.
К пыльному центру, населенному черными глазами.
Снимали кино, и мои дороги неминуемо пересеклись с фуршетными путями разномастной и многонациональной съемочной группы, в которой московские модники были перемешаны с менее привлекательными чернявыми участниками. В России армянин это что-то устоявшееся, стереотипное, но никто эти стереотипы ломать не склонен, и ни в чьих интересах это и делать. Они существуют как темные нелицеприятные тени кругом, ни у кого не вызывая удивления. Был Параджанов, Аскарян, может какие-то средневековые мудрецы, но они были где-то нестерпимо далеко. Здесь же темные, сладкоглазые поселенцы вызывали лишь недоумение.
Но эти были Оттуда.
Со странных белых вершин верхушки мира.
Карен был седой и длинноволосый, его сразу же хотелось представить в длинном хитоне, философствующим под тенью олив. Мудрый великан, которого было ужасно жалко. Тяжесть мыслей лежала печатью на его лице морщинами и сразу понималось, что все маги и мудрецы, отшельники и видения на небесах должны быть такими как он — ни больше, ни меньше. Он был Величествен и Странен, может быть, и похож на огромную древнюю птицу, парящую над заснеженными склонами.. Несмотря на актерский эгоцентризм и шумность, он был тих. Рудольф же занимал вокруг пространство диаметром в километры, ему было мало квартиры, дома, стен, людей. Казалось, что домик в его присутствии стал игрушечным, а человек, скромно сидевший перед нами, вырос до размеров сказочного джина. Он был огромен — его огню в глазах и таланту было бесконечно тесно, его хотелось перенести на крыльях могучего ворона на одинокую скалистую вершину, где бы пространство не сжимало его со всех сторон.
Ему было мало. Было мало его присутствия, где талант угадывался мгновенно — он не успевал даже развернуться во всех красе, но мир уже поклонился. Я наблюдала это. Он был каким-то вулканом, загнанным в квартирные рамки и вынужденным вести себя пристойно. Но и в пристойности он был велик. Они были как два великана, крушителя камней и мудреца, забредшие на свет в окне.
Я их готова была носить на руках. Они светили мне странным обжигающим светом и….
…они любили меня.
Будучи незнакомыми, чужими пришельцами, сказали — мы тебя любим — и я знала, что это так. Я готова была снять свои вещи и отдать им, провожать на край света, слушать протяжные песни гор и безумные истории, ехать за ними в их заснеженности и персиковые сады, так как знала, что они за что-то меня полюбили. Просто так.
За молчание может — я не пыталась догадаться. Но так быстро и очевидно меня никто никогда не принимал. Не зная. Просто так. Я была им за это безумно, необъяснимо благодарна, так как это были первые люди, заглянувшие в меня и принявшие без подробностей процесса сканирования и снобизма.
Они пришли и сказали — любим — я готова была расплакаться. За простоту.
— Что такое Армения?
— Простор…
— А на что похож язык и культура?
— Только лишь на фарси. У нас одни корни. У Персии и Армении.
— А у Марины друг есть, перс, он живет в Канаде и очень умный, — ноль реакции.
— Тяпа… (это была я), — ты — чу-у-до…., — и я таю.
Они были огромными. Глыбами. Горными массивами.
И мне казалось, что они свободны — но я могла и ошибаться.
Может, они были просто загнаны в угол
10. (лирическая)
…я не приеду…
Ты будешь любим и ярок
Но я не приеду.
Твой несостоявшийся маленький эльф
11
Я сидела в кресле, зажатая со всех сторон тучными мужчинами, от которых пахло чем-то животным, в забитом душном зале, куда пришли накрашенные нарядные девушки и спинки у стульев мягко прогинались от напряжения тела, а свет был тусклым и все люди приятными и блаженными.
Но их не было.
Я купила какой-то билет с рук, так как в продаже больше не оставалось, дрожащими руками сдавала вещи в гардероб, уже подсознательно зная, что их здесь нет и не будет. Но я ждала. Ждала ночь и день, ходила вокруг манускриптов на выставке в Эрмитаже и мечтательно перелистывала забитые миниатюрами страницы каких-то четверичных армянских Евангелий.
Но их не было. Они просто не приехали.
А потом я бродила по Марсову полю в лужах и полнейшем затмении мозга, разговаривая вслух с Лешей Кульбиным и древними миниатюристами, украшавшими затейливыми тончайшими львами и грифами эти загадочные Евангелия….И львы были как живые и похожие на прозрачный голубой фарфор, и женщины кормили овец грудью, и молодые, безбородые лица святых с потрескавшихся фресок… И разрушенные храмы…
Спектакль был ужасным. До последнего я бороздила глазами окружающее пространство, надеясь увидеть тех, к кому пришла. В каждое человеческое существо я заглядывала с немым вопросом — где они? Но все были немы. Жалея себя я даже поплакала — но так… Для бутафории…
Больнее всего было все дальнейшее смотреть — какую-то порнографию про русскую деревеньку, где армянские актеры изображали пьяных трактористов на завалинке, скача по сцене в кепках и гармошках. Мне было гнусно, противно, бесконечно разочарованно.
Я пришла к ним… К Параджанову, к загадочному Евангелию и каменным крестам с обглоданными ветром краями, к ноющему дудуку и грусти, которые я видела. Но на сцене упрямо пытались веселиться под банальные анекдоты. Хоть и с плачущими глазами.
А потом я ползла к метро, убежав с антракта, и мне хотелось скулить от обиды.
Да, никто меня не обижал, но порой одиночество втаптывает в землю. И ты бежишь, немая, к тем, ктo любят. Но они любят что-то вне тебя, не видя.
Холодно…
Когда мне плохо я танцую.
В голове.
В какой-то капсуле мозга я танцую от отчаяния и обиды под странную, раздирающую мозг музыку из ритмов телефонных гудков в трубке, колесного тарахтения метро, речитатива висящих на поручнях подростков, своего нервного перебирания коленками и завывания города.
Я КОРЧУСЬ, скребусь по прозрачным стенкам капсулы под собственный industrial -хит, а поверхность вибрирует и влажнеет от застилающих глаза слез.
Это МОЙ танец, когда уже нет сил ни писать, ни рисовать.
Видеоклип безумства и отчаяния.
— Я одна, — и музыка рельс, и закрывания дверей, и уставившихся на тебя глаз перевертывается вместе с тобой вверх ногами и ты уже тарабанишь покрасневшими ладонями в какой-то органичный, живой, но все равно стеклянный купол, а чернота проносится мимо, иногда мигая станциями.
Людей нет.
— Я одна, никто, почему я, Я зачем, ну Боже, но сил нет больше, но почему мне снова и снова это безвременное, источающее яд одиночество, — и ты уже несешься в маршрутке, а мир вокруг серый в полумраке сумерек и необъяснимо красивый.
— У меня нет ни-че-го….
12
Я красивая, успешная, живу в замечательном городе Бостоне, у меня есть умный и любящий муж, еще у меня есть флизелиновые воротнички, сумка и перчатки, и никто не может, не имеет права и уже не хочет усомниться, что все это не так. Потому что НЕ ТАК у всех, но не у меня. У меня не может быть плохо — я с налетом, я с поволокой. Я — уверенная.
Я такой так долго становилась.
Но кому мне проскулить, провыть о той капсуле и пальцах в крови?
Боюсь, что даже не маме…
13
Честно говоря, сказки про одиночество — это типичная точка единения мыслящих людей. Банально и глупо. Я знала, что их не встречу.
Почему все это затеяла?
Для соприкосновения.
Текста и жизни.
Вернее, чтобы текст перестал быть текстом.
14
Жаждать — значит стать тем, кто ты в сущности есть.
(Генри Миллер)
15
Рассуждения той, которая в принципе ничего не может дать человечеству:
…иногда я очень хочу. Самая последняя возможность и идея — самая маниакальная, и я уже прожила жизнь с этой идеей, если она вертелась в моей голове с утра. В 11 утра, когда я садилась на маршрутку, я уже работала неким strategy designer-ом (Бог знает что это такое) в Ростове-на-Дону, летала туда на больших железных птицах, придумывала умопомрачительные рекламные кампании, в которых дети украшали венками рога быков и водили их по улицам под ритмы Dj-ев, а витрины магазинов искрились от мульти-перемульти-медиа-искусства.
Потом, найдя театральную библиотеку закрытой, я баландалась по Русскому музею и мечтала о дефиле в Агатовых комнатах Екатерининского Дворца, расписанном видами Царского Села и куртуазных статуэток. Про себя разговаривала с Кульбиным, и в итоге, опоздала и он уже ушел из своей литографской печатальни, пока я наворачивала круги по Эрмитажу. И наверняка обиделся и не позвонит, а его телефона у меня нет.
А потом я мечтала о всех тех, кого знала и с которыми никогда не пыталась сблизиться, но кто был бы мне сейчас так приятен…
Стены. Вокруг меня ледяные стены.
Я чувствую себя существом, выплеванным городом, выброшенным на переработку, на утилизацию. Мне кажется, я не успела ничего, все прошляпила, когда была возможность заводить связи убегала в филармонию или учила итальянский, который нафиг никому сейчас не нужен. Нужны кому-то эти твои излияния?
Никому.
Но жаждать… Мне казалось, я слишком труслива, чтобы жаждать…
— ты можешь стать и заорать посереди Невского?
— Ну да в принципе, а зачем?
— А раздать все оставшиеся у тебя деньги нищим?
— Нет.
— А подойти к человеку и сказать, что ты его любишь?
Нет, но когда-то могла.
Пациент мертв.
16. хосров
Он был красив. Успешен, умен, высокообразован, напорист, горд и самолюбив.
Я была красива, успешна, может быть образована, самолюбива и погружена в свои мечты настолько, что они казались мне реальнее жизни. Ему, по-ту-сторону-пишущему субьекту, нравилась беловолосая Марина. Мне нравилось летать над миром. Иногда у меня хватало смелости делать это.
Пытаться понять — это пытаться вспомнить что-то давно забытое.
Он был…
Казимир Малевич, единственный мною признаваемый вундеркинд, когда-то считал, что вдохновение, или кипение, как он это называл, это космическое пламя, живущее беспредметным и только в черепе мысли охлаждающее свое состояние…
А Вселенная — это безумие освобожденного Бога.
Человеческое одержание кем-то тоже вдохновение — когда просыпаешься и засыпаешь с чьим-то именем, а мир разветстывается как огромная благоухающая бездна, и ты в ней тонешь, не имея желания спасаться или всплывать.
И ты счастлив своему бессилию.
Он был, и я ему писала от лица Марины — ей-Богу, какую-то чушь, ерунду, бестолковость. «Тысяча и одна ночь» заканчивались выяснениями национальной принадлежности и цвета кожи, как мне ни было противно это переводить и отправлять по утрам, когда я, приходя в офис раньше всех, проверяла ее и мою почту.
Я внимательно изучала его фотографии.
Я исследовала морщины и малейшие отражения чувств и мысли на его лице.
Я была где-то рядом все время, даже будучи писцом чужих мыслей.
Я штудировала синюю рубашку на мониторе, когда никого не было дома, я пропадала с ним сутками, покрывая крестиками бумажки, потому что однажды я, не выдержав наступающего конца этого телемоста, написала.
От своего имени.
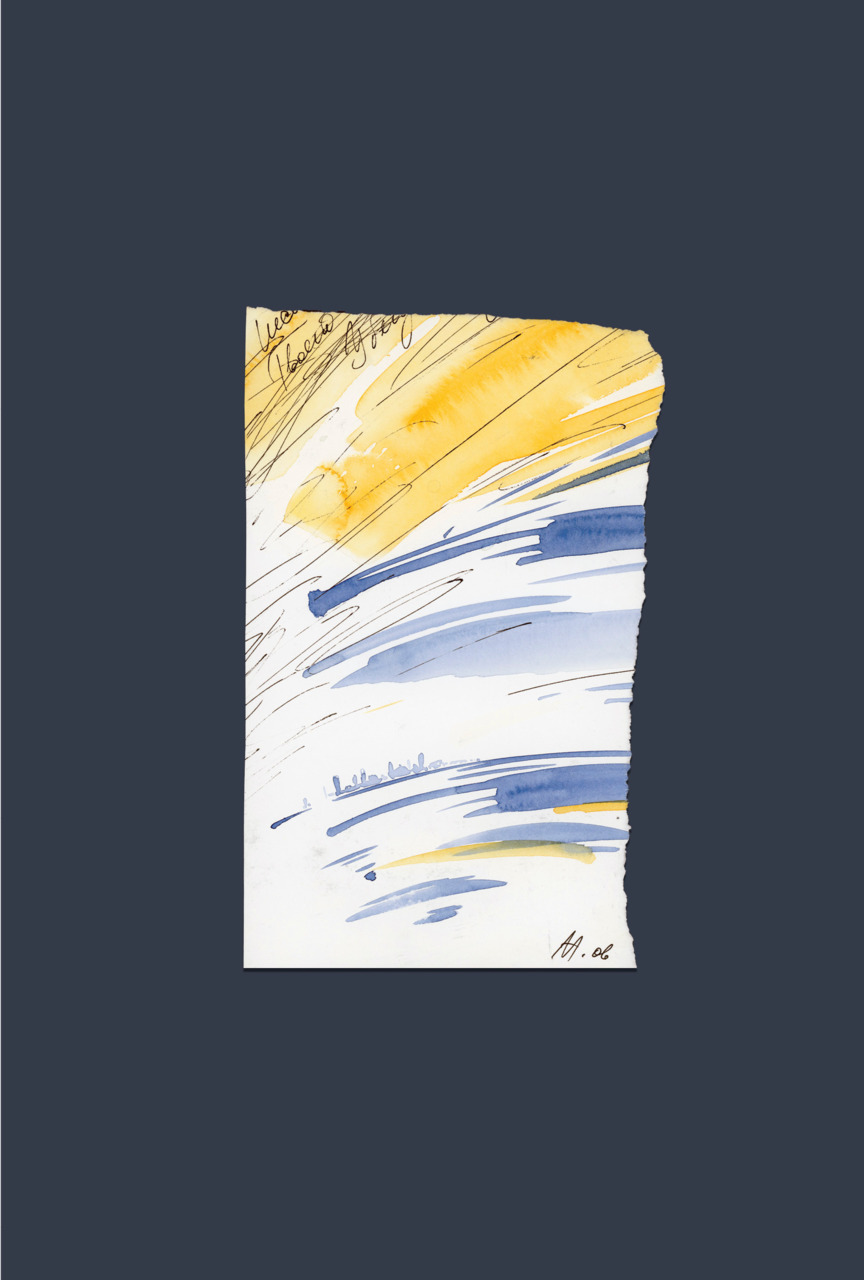
17
«…Все о том же… Тебя я звала — но ответа не слышала в жрущем вагоне. Пронеслись ветры-кони и лошади-сны… Я опять не спала всю ночь — я боялась потерять тебя и с кем-то разделить. В последнее время очень болит сердце. Господи, неужели эта боль в сердце не была настоящей? Я видела его глаза- Мои глаза. Не ненавидящие мир, как у Митяя, а настоящие, родные грустные глаза цвета меда. Эта не тяжелая северная грусть, озлобленная и эгоистичная. Это самая добрая грусть на земле — так улыбается осеннее море, так моросит теплый дождь над водой, так звучат самба и бассанова. Мне казалось, что я взлетаю. Бескрайняя, жгучая тоска…»
Запись из записной книжки 1996 года. Медовые глаза звали Давидом, его отец был французом, а мать — испанкой. Он очень стеснялся своей испанской крови. Я эту кровь боготворила. Он переспал с моей тогда лучшей подругой.
«…это такое предчувствие мужской силы. Силы, которая убережет, защитит и никому не отдаст. Силы, которая затягивает как круговорот или черная дыра и ты уже не знаешь, что ждет на том конце»
Запись из другой записной книжки. У этого московского реципиента просто не хватало сил оторваться от власти матери.
Но это все никому не нужные подробности, потому что были падающие звезды и брызжущий свет. Я хватала ртом не напиваясь. Благодать? Нежность? Безумие?
Просто желание быть Не-человеком.
Противостоять своей человеческой натуре.
Есть более важные веши, нежели женские страдания, любовь или одиночество. И вещи эти — предчувствие чувства. Почему?
Потому что это то кипение, о котором писал Малевич. Человек в эти минуты Бог — он творящий, он слеп, он летящий ангел-воин, посланник, преодолевающий пространства. Его тело превращается в костер, а пальцы — как угольки, тлеющие желтыми искрами.
Предчувствуя Бога, человек летит, а Бог есть любовь…
18
Я ему написала и назвала Хосровом. Именно тогда. Безумным каркающим апрелем, перетекшем в ослепление мая. Этим именем я назвала месяц и себя в этом месяце.
Каждый человек влюбляется миллионное количество раз и каждый раз он это делает ради первого свидания, или просто ради трех бессонных ночей или чьей-то руки в своем кармане на одно мгновение или…
Я это делала, чтобы быть пьяной хоть неделю, и я была ею — трясущейся странной алкоголичкой, влипшей в монитор компьютера и ждавшей от него чуда.
Я ему написала какой-то бред с просьбой перевести стихи с фарси на английский. Пришел вежливый ответ, и он перевел их, не догадываясь, что пишет старому другу с того края света. Что-то про свет луны на воде — нежное исключительно персидское стихотворение. Потом я спрашивала его о зароастрийцах, об Иране, еще о какой-то чепухе — наверняка он решил, что девушка не в себе. Но он так не решил, потому что я знала — я чувствовала каждой клеткой кожи, что на том конце света меня препарируют.
Каждое мое слово.
Когда обо мне думают, я это знаю. Кто-то краснеет, у других чешется нос, но когда я становлюсь в фокусе чьей-то мысли, у меня горит сердце. Люди многое потеряли за тысячелетия цивилизаций — наверняка у наших предков был телепатический беспроводной телефон и их мозг работал не на наши три процента. Но, безусловно, я горела как никогда: ярким, ровным гудящим огнем.
Я разозлила чьи-то мечты и упивалась этим — где-то человек мечтал о женщине, которую не видел даже условно, не понимал ее настырности и от которой у него имелось лишь два письма в виде подтверждения ее интеллекта и внимания к его культуре.
Но я знала, что этот человек одиночка, упырь и мечтатель. Мой человек.
Самый лучший любовник? Тот, которого ты никогда не видел.
Самая красивая женщина? Та, до которой не дотянуться.
Богоматерь цветов.
Нежность лоснящейся ночи.
И на лунной груди Лолиты от любви цветы умирают.
19
…что мне было нужно от него?
Его безумие.
20
Я выросла с «Доном Перлимплином» Фредерико Гарсия Лорки. Что является стопроцентным залогом моей сентиментальности (а я бе-зо-бра-зно сентиментальна), граничащей с чем-то выходящим за ее рамки. Лорка так отчаянно и настойчиво пел о любви, что никто сейчас его не обвиняет в сладости.
Человеку, выросшему на юге невозможно от этой сладости, так же как и от слабости, избавится. Я могла успешно выдавать себя за интеллектуалку-искусвтоведшу, я могла и пыталась вести пространные беседы об искусстве и величии прогресса, скукошиваться в подъездах с бутылкой вина в окружении местного света общества, состоящего из грустных критиков и литераторов. Но внутри сидела ночь — неискоренимая южная ночь из сладости черного вина, соленой воды вкуса крови и ночных сверчков. А еще из цыкадьего шороха и предчувствия любви, разлитого таким густым медовым слоем, что ноги вязнут в этом.
Ни оторваться, ни убежать, ни проглотить.
И ты в меду — безнадежен. Но без этой вязкости и теплоты уже никак.
Ты — заложник этого чрева.
21
Мы любим какой-то собственный идеал в другом человеке, и успех мероприятия зависит исключительно от собственной фантазии и веры в нее. Можно любить воздух…
Так мы и делали.
Я просыпалась и чувствовала горящее сердце. Я носила это сердце как старые девы, наконец, вышедшие замуж, демонстративно носят свою беременность. Свою беременность чувством я демонстрировала только бумаге, и, как мне казалось, это был преднамеренный подсознательный результат этой заваренной катавасии. Я болела — во мне ныла каждая косточка и нерв, меня качало от весеннего солнца и пробуждающейся зелени, меня мутило, но я судорожно хваталась за эту возможность быть эмоциональной аномалией.
А временами сердце сжимало раскаленными тисками чьей-то мысли так сильно, что я задыхалась физически: на том конце мыслепатического телефона некто имел сжигающий магнетизм — мне становилось страшно и одновременно спокойно, что нас разделяет все-таки много воды и восемь часов разницы во времени.
За ним были зароастрийские культы и ближневосточная ярость. За мной — тайна.
Два человека с разных концов света (умных, для кого Интернет такая же реальность, как плюшевые медведи и опухшие зеленые почки весны, и которые имеют все, включая благополучную личную жизнь) вдруг схватились за слабую возможность убежать из жизни в мир, находящийся на несколько сантиметров выше обычного, и бредили, лелея это…
Я понимала, когда он лег спать и перестал наконец мять свое воображение — мое внутреннее жужжание вдруг успокаивалось и руки переставали трястись.
Я знала, когда он проснулся.
Я понимала, как влюблялись заморские принцессы в портреты принцев — слепо и истерично…
22
Вчера А. П., директор галереи N, в обнимку с которым я и Юля чапали по Лиговскому проспекту, догоняя толпу уродцев, спросил: «Алена, но почему вы с нами идете?»
Нет, конечно, не из желания обидеть или задеть, но суть была ясна — у меня не было видимых причин — ни любовных, ни особо дружеских, ни даже профессионально-карьерных идти с ними.
Я сама не понимала зачем. Может быть, я кого-то искала и не могла найти. Или просто нуждалась в разговорном фоне тех людей, которые знакомы. Хотя у меня даже не было желания говорить и слушать кого-то, но присутствовала потребность.
В чем я не могла осознать.
«Просто иногда мне хочется к людям», — ответила я ему.
Я наврала.
Хотя одна незатейливая причина была — мне нравился некто N, но его тогда с нами все равно не было. Но это так далеко от того, чтобы быть настоящей причиной.
Иногда.
Я делаю то, что подсказывают коленки, солнечное сплетение и мозжечок. Я плетусь туда, куда плетется ритм и родничок жизни. Я лишь только следую ему. Иногда.
23
Иногда…
Раз в неделю пообщаться с лучшими представителями города и понять, что это пир. Пир во время чумы. Где все безмерно одиноки, даже в маленькой кучке умников Санкт-Петербурга, посасывающих дешевый портвейн и скрипящих от собственной беспомощности, разлитой вокруг. Жалко их.
А потом они говорили, что я никого не люблю. Не знаю. Вряд ли они правы. Но я люблю очень мало в этой жизни. Человек не может, не имеет права любить многое.
Но это немногое ИНОГДА сжигает.
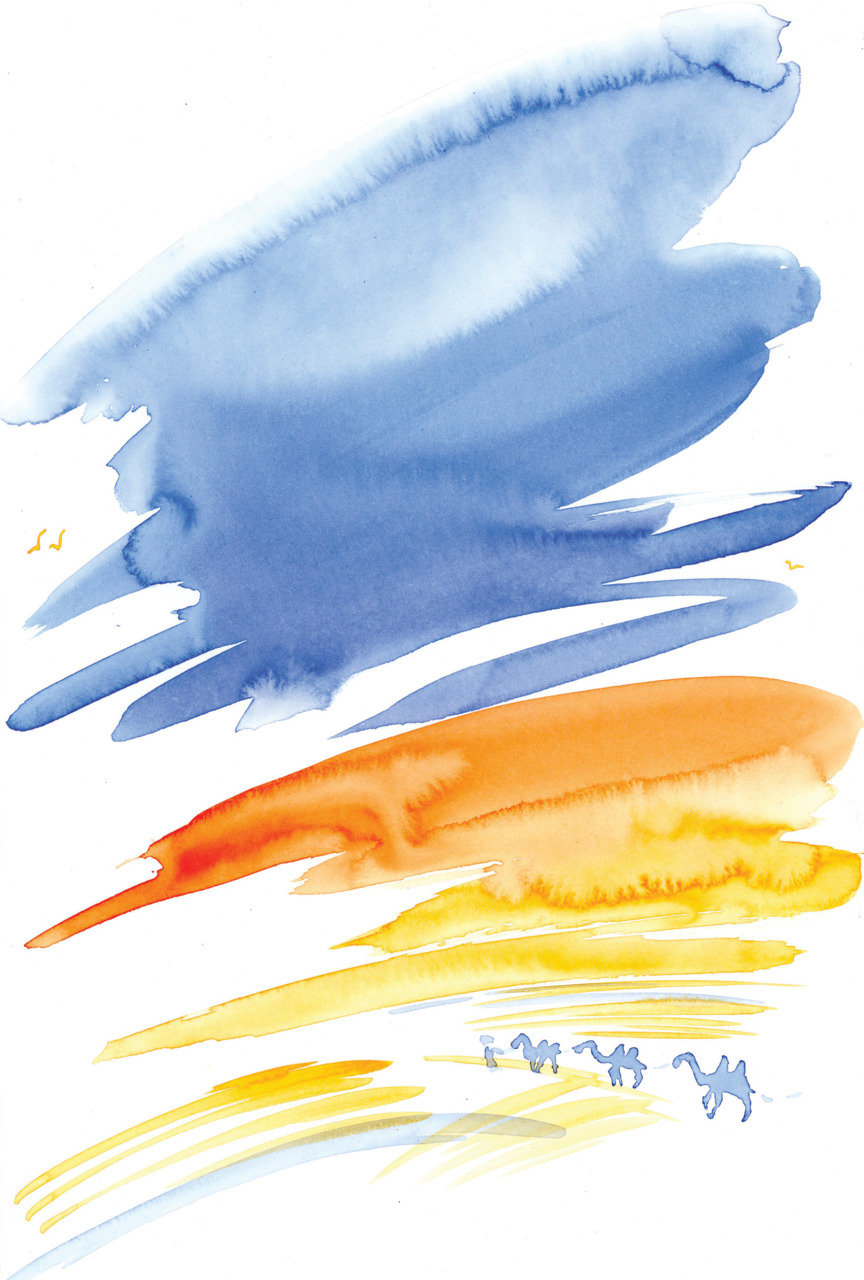
24
Утром я проснулась в шесть. Мне кажется, каждый знает это состояние — когда ты проваливаешься в сон и тебя засасывает бездна. Сегодня я эту бездну видела- ощущала совсем рядом, и она была живой и перекатывающейся огромными клубками дышащей массы. Быть может этот провал в сон, как и возвращение оттуда, только воспоминание об утробном состоянии, когда темно, а вокруг материя.
Живая.
И ты — часть этой материи.
Вот он — загробный мир и книги мертвых.
И в ней безмерно одиноко. Страшно.
В той степени, когда уже нет сил на осознание этого чувства. Давящее, скручивающее одиночество, где тебя нет, или еще нет, или вообще больше не будет. А эта утроба была похожа на огромную черную улитку, в которой двигалась каждая частица массы, и она отодвигалась, понимая, что ее заметили, засекли. С ней встретились лицом к лицу — с тем, что затягивает человека, когда его нет в мире яви. С тем, что по ту сторону жизни и снов, этих бредовых видений головного мозга, встормошенного воображением и человеческой фантазией.
А ЭТО — изнанка.
То, что на самом деле Есть.
То, куда все уходят и то, что есть бытие само по себе.
Утроба, и мы ее наполняем смыслом. Но она имеет всех нас внутри, а человек безмерно одинок, ничтожен рядом с ней.
Самое ужасное, что ТАМ его нет.
25
Вчера. Позо-позо-вчера. Полвека назад. Люди. Меня с ними нет и их со мной тоже. Возьмите меня — не хотят. Не видят. Не желают видеть. Одиночество. Мы должны любить хоть воздух — только это способно что-то изменить в жизни.
Володя-композитор. Здравствуй. Все не мое, хоть ты и напоминаешь что-то родное в под-памяти.
Где-то глубже, чем в подсознании.
Все люди, которые тебе напоминают кого-то, суть части одного существа, которое ты когда-то потерял и пытаешься составить из клеточек-человечков. Каждый в этой жизни имеет право смастерить свою Галатею.
26
Он был тоже частью того существа. Одной из самых массивных, ошеломляющих частей, когда-либо встреченных мною. И я его никогда не видела.
У меня были: обрывки писем Марине, несколько фотографий, одно стихотворение Йейтса, весь Йейтс наконец, потому что это непереведенное на русский стихотворение не отпускало меня, ходило попятам и манило ритмом символистских строф о юношах, спящих на коленях Прекрасной Дамы.
Господи, как я понимала это…
И этих юношей, и дам, грустными голубыми веками на полуприкрытых светлых глазах, и русые локоны сбившейся прически, и холодный атлас ее платья, и липкую росу утра — это обязательно должно было быть утро — и даже аромат весеннего луга где-нибудь в Ирландии.
Где на изъеденной ржавчиной скамейке сидела она, держа на коленях его голову.
И это была даже не я — мне, как ни странно, это было не нужно. Но я видела эту девушку. И его, с той стороны океана, вдруг оказавшегося среди зеленых ирландских просторов.
Эта русая девушка была его мечтой, и я, как драный вуальерист, была счастлива их истоме.
Самое страшное было в том, что мне даже не хотелось быть на месте той девушки.
27
Я ходила по парку и улыбалась кричащим грачам и ветру.
Я пила аромат мая и пожирала его.
Я носилась как сумасшедшая по этой земле, чувствуя тайну НАДЕЖДЫ. Я дала надежду, кто-то жил ею, с кем-то в сердце, я просыпалась и заговорщически растягивала губы в улыбке.
Кукловод вдруг вышел на арену, таким каким был, но тот не понимал этого. Он не осознавал, что все три месяца его собеседником была я — странное короткостриженное экзальтированное существо.
Но в его мечтах она наверняка была русоголовой пери.
Я была не против.
Мне всегда было так мало одного тела.
29
Когда хочется многое сказать, сразу приходят люди.
И начинают топать. И им не понять, что у тебя другое тело, ты весь сам другой, трансформировавшийся в воду и ветер над головой и улавливающий тонкие улыбки встречающихся людей.
Ты иной и над городом ощущаешь СВОЕ безумие. Это новое тело растет — тело мая.
— Ты уже влюбилась?
— Да, отчасти.
— Ты уже прокричала облупившемуся городу свою грусть и счастье, свою победу над собственным отчаянием и что отчаяние уже иное — одичалое и одухотворенное?
— Да, я сегодня сидела в зале Энгергарда в филармонии, слушая Генделя, и узнавала в себе ту осеняющую мир любовью девушку, которая внимала сербской музыке и грезила.
А потом, пересекая киберпространства компьютеров, пыталась найти в паутине Интернет адрес югославского композитора (вместо композитора мне ответил программист, обещавший сохранить мой гимн таланту братской Сербии потомкам)
Идиотка.
Можно я разделю мир на две части — Homo Vulgaris и Homo Грезящих.
Чем бредят вторые?
Да без разницы — они освещены своим бредом. Мальчиком Вовой ли, прочитанной книгой, музыкой захватившей фантазию и пытающей ее. А еще можно бредить снами, чьими-то мыслями, мечтать о небесном граде Китеже и о нижнем белье старшей пионервожатой.
Но они — бредят.
И они — не люди.
Вернее, они люди, которым надоело быть людьми.
Я — НЕ-ЧЕЛОВЕК, я превращаюсь в тело Мая.
Поющее тело
30
30-е апреля. Сегодня последний день апреля. Я всегда стонала в апреле, как бы сгнивая от собственной беспомощности. Для того, чтобы взлететь в мае.
Он? Он попросил прислать ему мою фотографию.
Конечно, я понимала это обыкновенное желание обыкновенного мужчины в 40 лет, который со стороны самому себе казался глупым идиотом.
О моей фотографии он попросил не сразу, уверив меня тем самым, что есть, то есть был, голос над разумом, и он его, как и я, тешил какое-то время.
Но тут — промах.
Хосров летел вниз с горящими крыльями, опаленными солнцем, и я обреченно созерцала это падение. Подобно молнии он рассекал небо и необъяснимо, невыносимо быстро становился человеком из плоти и крови.
— Нет! — я кричала.
Но человек Vulgaris требовал — Да.
Да… Да! ДА. ДА!!!
— Я должен знать, кто мне пудрит мозги и развлекается на том краю земли. Кто пишет странные, но двусмысленные письма, и не выдает никаких намерений — ни хороших, ни плохих. Кто отвлекает меня от важной работы на высокой компьютерной американской должности, кто мешает, как затаившийся комар своим тихим пожжуживанием, когда я искал себе всего лишь невесту, да и то случайно. I’m not a boy. Я взрослый, обеспеченный мужик и не хочу, чтобы меня водили за нос. One dreamy woman is kidding on the other side of the world. Что?
Что? ЧТО?
Ты хотел фотографий? ТЫ не выдержал?
Я послала какие-то фотографии. Не мои. И еще фотографию бронзового дракона. Моего любимого друга, слегка позеленевшего и оттого ставшего еще краше, стоявшего на мосту в Александровком парке в Царском Селе и знавшего все мои переживания и секреты.
Не знаю, зачем был мне нужен напоследок этот маскарад — в надежде, что он пришлет портрет пластмассовой коровы у него на компьютере?
Не знаю…
Я не читала его ответ.
Отправив фотографии, я сразу же удалила все его письма, включая последнее.
Непрочитанное…
баюкать рассвет ночь
устала
росою легла на листы
трава забываясь
дождю прошептала
придешь ко мне снова?
May be…
смущенье сниму рукою
застенчивость — в кулачок
щетиной волос
тебя молча укрою
я лунный кот-маячок.
бродить по ночным заборам
купаться в звездной пыли
я разным был
был актером
на лапы мне ноты легли
ты можешь меня не заметить
не стоит срываться с земли
сверчком притворился ветер
придет он за мной?
May be…
и в сказочном оперении
и в скупости брошенных слов
я лунный кот
мудрый пленник.
как хочешь. иди
хосров…
Иногда человеку лучше жить не ведая…
Счастье — в незнании.
В апреле 30 дней. И сегодня все еще 30-е.
Однажды я посмотрела кино, в котором мужчина влюбился в свой брелок, который представлял собой пластмассовые женские губы на цепочке, говорящие: «I love you…»
В сущности, о том же самом — о человеческой беспомощности в его потребности грезить.
Быть.
Просто быть.
*
держите
когда все к черту,
в та-ра-ры
— держите…
над миром черных две-
любовь и смерть — дыры.
держите.
меня так больно бить
так унижений сложно
держите.
я улечу
я улечу немножко.
тебе простить себя даю
все раздаю —
держите.
иди ко мне, мой месяц май.
Потом рассвет
и узнаванья холод.
Держите. Маем. Молод.
1
Все. Точка отсчета.
Май.
Здравствуйте….
01.05.2002
Санкт-Петербург, Царское Село
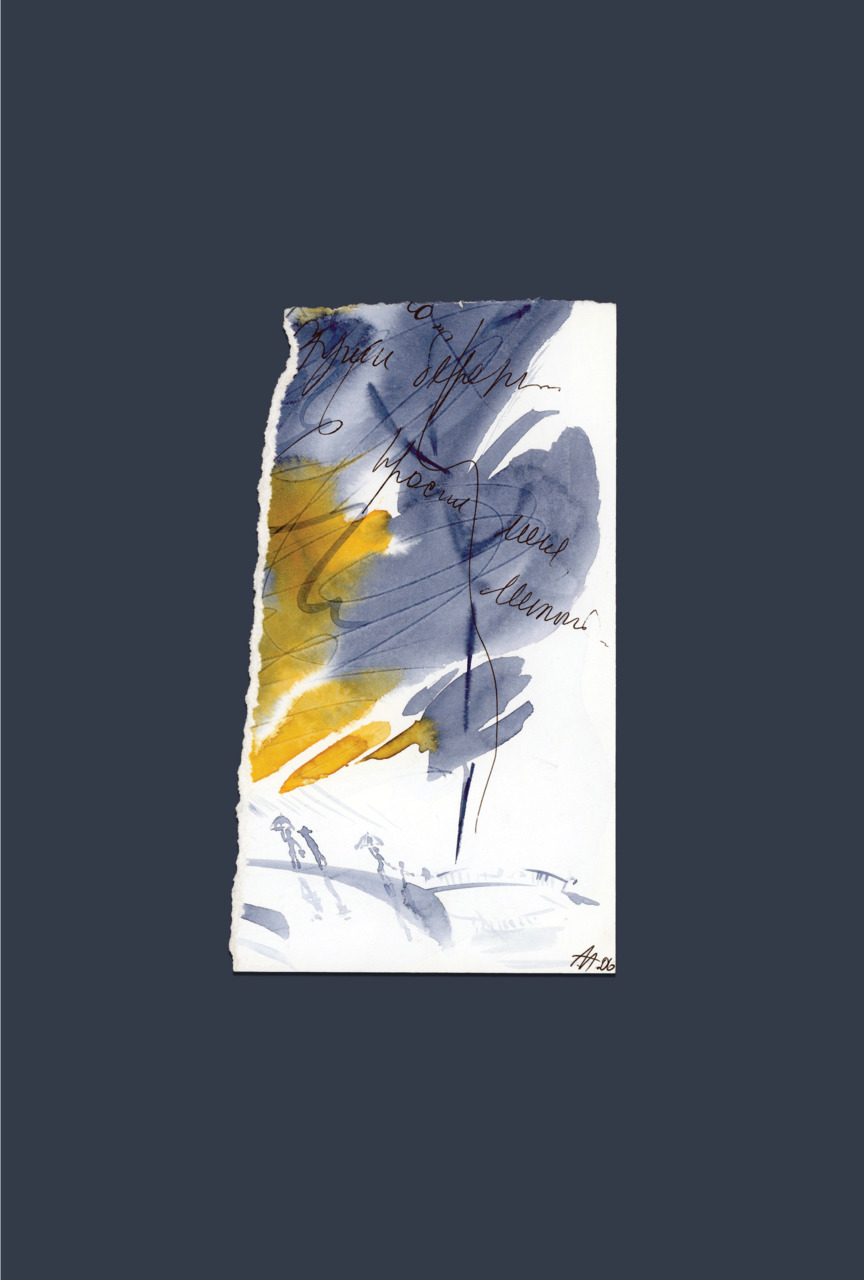
Часть 2. Запятые
«Жизнь это не спектакль и даже не праздник — это дилемма». (Сантаяна)
«В некий год, в первый час по двудесятому дню последней луны года, в час Пса оставили мы ворота. И я начинаю описывать понемногу обстоятельства нашего странствия…»
(Ки-но Цураюки. Дневник путешествия из Тоса в столицу)
1
Что у меня от него осталось?
Красная точилка для карандашей в виде английского почтового ящика — эксклюзивный столбик у меня на столе, брелок, альбом о Лондоне, открытка отеля Conrad в Стамбуле.
Я ему ничего не оставила.
Только сотню своих писем и воспоминаний.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
