
Бесплатный фрагмент - Когда часы быстрей минут
Нехронологический роман
Нашим родителям посвящается
Людмила Казакова Перевернув страницу
Перевернув последнюю страницу, обычно задумаешься — а что осталось? Осадок или светлый отзвук в душе? Что взволновало, удивило и чем запомнится именно эта книга? Роман двух авторов А. Мартусевича и А. Дунева «Когда часы быстрей минут» оставил после прочтения замечательное ощущение совершенного путешествия. Большого путешествия во времени, и, видимо, не случайно название, на первый взгляд, парадоксальное, содержит в себе временные понятия. Ощущение скорости, даже полёта. Ведь события, люди, деревни и города меняются с головокружительной быстротой — вот мы оказываемся в екатерининской эпохе, вот в партизанском лагере во время Великой Отечественной, а вот уже в будущем, где даже побеждена пандемия!
Динамичное повествование едва даёт читателю перевести дух. А ведь надо успеть уследить за всеми героями, которых в повествовании сразу три: сперва пастушонок, а потом гончарных дел мастер Данила Бирюков из ХVIII века, ленинградский мальчишка, а впоследствии известный архитектор Глеб Ливинцков и почти наш современник разгильдяй-геймер Сева Сапожников — именно его ждут самые невероятные жизненные перипетии! Авторы, точно режиссеры захватывающего сериала, удачно «угадывают» момент, когда поставить точку в очередной главе. И читающий жадно ждёт продолжения, теряясь в догадках, что там дальше, за очередным временным поворотом? Сопереживая при этом каждому из главных персонажей, потому что каждый становится близок.
Как здорово чувствуется этот молодой задор, азарт писателей! Это настроение борьбы, движения, заряд энергии! Кажется, авторы напрямую обращаются к молодому читателю, показывая ему многообразие жизненного выбора, когда направо пойдешь, налево свернёшь или будешь прокладывать дорогу вперёд. Не сказка, но быль, крутой замес жанров: тут фэнтези и историческая проза, а вот почти документальная хроника событий и даже вдруг, пунктиром, детективная линия. А какой роман без любви?! Вот и мы находим прекрасные романтические, хотя порой и трагические, истории. В наши дни, когда так трудно привлечь молодёжь к чтению, я бы посчитала это произведение находкой! Разумеется, будет интересно всем и в любом возрасте, но в данном случае такие книги выполняют особую миссию — восполнить пробел, ту пустоту, что образовалась именно в литературе для юношества.
Сюжет может идти и развиваться своим чередом, но, если нет какого-то скрепляющего момента, объединяющего все эти крутые виражи в нечто единое, он будет сродни развлекающему комиксу. Конечно, чаще всего, это — идея, именно она наполняет смыслом любое произведение. Мало того, в данном случае идея доминирует, философское обоснование событий порой ненавязчиво читается за строками, а иногда размышления авторов выходят на первый план. Несомненно, они имеют для них особую значимость — это повод и цель, заставившие их взяться за перо, чтобы не просто описать приключения… хотя, вместе с тем, книгу вполне можно назвать в хорошем смысле авантюрным (приключенческим) романом!
Севка Сапожников становится Всеволодом и обретает всё: сакральное знание, свой единственный и невероятный путь. И хотя к этому становлению, почти превращению, причастна и мистика, все же, думается, без работы души и собственного опыта это возвышение над собой прежним, да что там — над целым миром! — было бы невозможно. Не терять себя во времени, быть сопричастным истории и творить свою собственную уникальную историю… мне кажется, я уловила этот призыв.
Член Союза писателей Санкт-Петербурга
Людмила Казакова
КОГДА ЧАСЫ
БЫСТРЕЙ МИНУТ
Нехронологический роман
Существуют два времени: то, за которым мы следим, и то, которое нас преобразует.
А. Камю
ПРОЛОГ
Дворец Созидания:
чёрным по белому
Облачённый во всё чёрное, он мягко ступал по белым плитам. Шагал так, будто нёс в себе время и память.
В помещении Дворца Созидания было непривычно многолюдно. Здесь и раньше проводили массовые мероприятия, но чтобы в этом огромном столичном сооружении собралось столько народу, трудно припомнить. Встречали человека, о котором слышали все, но мало кто мог знать лично, видеться с ним или даже беседовать до сегодняшнего дня не представлялось возможным. Одно слово объясняло сенсационный факт — затворник.
И это в конце XXI века, когда на Земле не осталось места, которое можно рассмотреть до мельчайших подробностей с помощью вездесущих камер, спутников, дронов и прочей техники. Очевидно, осталось, раз сегодня яблоку негде упасть. Душа странника. Его мысли. Его знания. Его память. Вот такая загадочная личность.
А сегодня самая таинственная персона России почтила своим присутствием столицу и ставший символом соборности русского народа Дворец Созидания. Всеволод Сергеевич Сапожников, чёрный старец-затворник, стал тем человеком, который принёс в общество новую национальную идею. Из глубинки появился тот, кто способен объединить поколения, потому что чудесным образом помнит не только всю российскую историю, но и биографии всех, прежде живших на Руси. Трудно представить, что такое возможно, но никаких сомнений у тех, кто хоть несколько минут общался с мифологическим персонажем, не вызывало. Для нового поколения этот пророк стал кумиром, мессией, голосом совести, обожаемым и боготворимым всеми. Так пишут всемирные нет-СМИ, претендующие на всезнайство.
Основная версия была такой: якобы много лет назад ещё молодым человеком Сапожников мистическим образом получил таинственные знания и покинул свой дом, бросив всё, чтобы посвятить себя изучению России. Исходил матушку Русь вдоль и поперек. Всё прознал, проведал и удалился в скит, где и провёл многие годы. Журналисты, алчущие аналогии, сравнивали Всеволода Сапожникова то со святыми, то с революционерами, то с героями новомодных комиксов. Чего стоят параллели, например, с Горьким, получившим свои знания во время бродяжничества по Руси. Или с Серафимом Саровским, раздавшим имущество, отрёкшимся от мирского и ударившимся в странничество. Если бы можно было в XXI веке собрать котомку и, бросив всё, отправиться куда глаза глядят! А раньше — пожалуйста, любой странник — и Серафим Саровский, и Горький, и… — становились известными и почитаемыми. Всеволод Сапожников не искал славы, признания или нового статуса.
Его тяготили большие города, пожалуй, кроме перенесённой в 2064 году столицы — Петербурга, с которым у него была особая связь, незримый миру диалог, скорее, личного, чем философского и духовного свойства. Чего хотели от него сотни собравшихся? Почему им так важно встретиться с умудрённым годами старцем? Зачем была организована публичная встреча?
Около своих мобильных студий трещали журналисты, без стеснения перебивая друг друга. Павлинами с распущенным хвостом расхаживали политики и актеры во фраках, писатели и самозванцы, не мыслящие без своего присутствия любое сборище. Но сегодня не они были в центре внимания. Все ждали Всеволода Сапожникова.
Учёных тревожили собственные концепции, ведь одним словом странник мог подтвердить или опровергнуть результаты многолетней работы. Беспокоились политики, почуяв опасность в том, что нашелся человек, который может раскрыть тайные интриги власти. Суетились разные экстравагантные личности в потугах установить свои генеалогические связи с теми, кто до сих пор не забыт потомками. И только Всеволод Сапожников был спокоен и невозмутим.
В воображении толпы старик, большую часть жизни проведший в глуши, вдали от людей и мирской суеты, явился загадочным кудесником из утонувшего в волнах забвения прошлого. Он предстал перед публикой человеком, прошедшим сквозь века, таинственным хранителем народной памяти, четырехглазым вороном из позабытого сериала. Никто не мог даже вообразить, кем на самом деле был чёрный затворник Всеволод Сергеевич Сапожников.
Тем временем гул толпы стих, пресс-конференция началась…
XVIII век
Детство Данилы:
из омута в омут
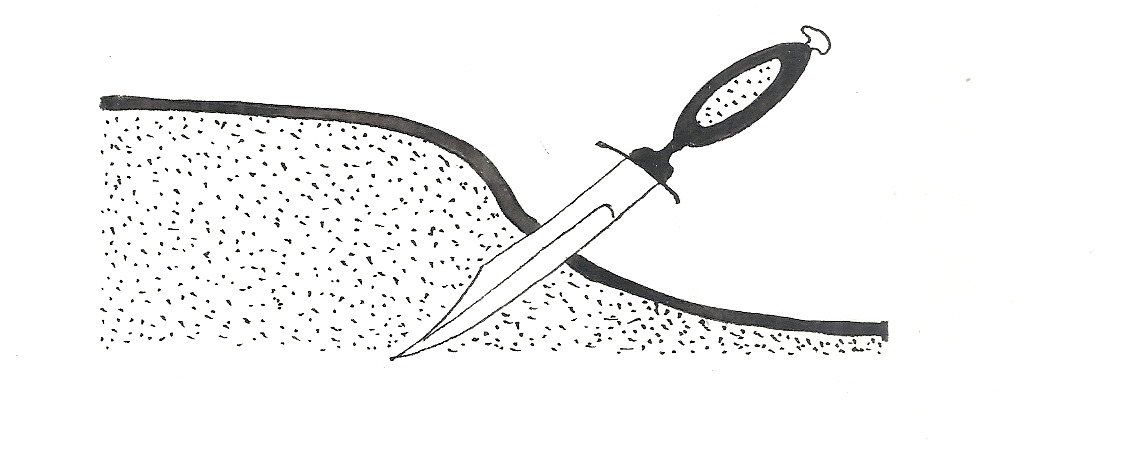
Убийцы не назвали себя. Они просто воткнули шпаги в рыхлое тело и, перекрестясь, вышли из тёмного помещения. Так Россия лишилась ещё одного правителя, Петра Третьего. Продолжился век женского царствования растущей и набирающей силу империи.
В крестьянской бане готовилось священнодейство. Иван ожидал рождения сына. Мать Ивана, бабка Лукерья, маленькая сгорбленная старушка, следила за тем, как топится баня, чтобы не перегревалась и не остывала.
Повитуха ждала в избе, её позвали заранее, и сейчас она угощалась за печью в хлебном куте. Сам хозяин держал жену за руку.
— Слыхала, Марьюшка, люди бают, императрица у нас теперича. Снова Екатерина. Была одна, так щас другая.
Жена помолчала в ответ, а затем всхлипнула:
— Вот и началось, батюшка, — Мария была сильно младше мужа, и её трогательное «батюшка» вызывало у него ком в горле.
Они с повитухой довели жену до баньки, Иван остался стоять на воздухе, тревожась за любимую женщину и родное дитя.
Мальчик родился здоровый, крепкий, большеголовый, какими должны рождаться крестьянские дети. Над именем Иван с женой думали несколько дней и сошлись на Даниле. Так звали деда Ивана — человека основательного, хозяйственного и уважаемого. Именно он и оказался бирюком, то есть мужиком, у которого умерла жена, мужиком, оставшимся с тремя детьми. Не потерял себя дед Данила, всё выдюжил, всех детей поднял. От него и пошла плодиться фамилия Бирюковых.
— Чьи вы? — спрашивали ребятишек Данилы.
— Бирюковы мы, — гордо отвечал, будучи ещё сопливым пацанёнком, отец Ивана.
А теперь и у Ивана родился продолжатель и крепитель фамилии. Так уж повелось на Руси вести род, передавая имя сыновьям по наследству.
Парень рос смышлёный и внимательный. Отец гордился Данилкой: руки у мальчишечки к месту были приставлены. За что бы ни брался: детский ножичек ли себе из ветки сосновой выстругать, куколку ли младшей сестричке смастерить — всё ладным выходило, глаз радовало. До мальчишеских ватажек рос Данила не охочим. С малолетства радовал старших основательностью, трудолюбием и недетской рассудительностью. А как исполнилось двенадцать, запросился в пастушки.
— Пусти, батя, — молил сын, — я справлюсь.
— И впрямь, Селивана-то в солдаты забреют. Это уж ясно, как божий день! А стало быть, деревенское стадо без присмотра остаётся, — ворчала тихонько из-за печи бабка Лукерья, поддерживая любимого внучонка.
— А справишьси, не опозоришь семью перед наро-одом, перед сосе-едями? — с растягом вопрошал глава семейства. Отец всегда так говорил, когда хотел подчеркнуть важность беседы.
— Тятя! — торопился оправдаться Данилка, — я уже взрослый, я с Селиваном ходил… Он меня хлыстом щёлкать научил.
— Пастуху от селян уважение, да и копеечка от обчества не лишней будет, — опять вставила своё бабка.
— Данилушка, поиграл бы в детство ещё, чай не сиротой растёшь. Есть кому прокормить, — всхлипнула мать у колыбели младшенькой.
Данила посмотрел на взрослых исподлобья и пробубнил:
— Я уж почти договорился завтрева на работу выходить.
— Договорился он! — махнул рукой отец. — Вырос помочник. «Упёртый зреет мальчишка, — думал отец. — Кого хошь переупрямит!»
Через три дня Данила уже ловко гнал деревенское стадо через жило, щёлкая кнутом и нарастяг, как делал отец в серьёзном разговоре, поругивая скотину.
Издали картинка была более чем иронична: мальчонка, росточком чуть выше вымени, гонит коров, пощёлкивая кнутом и покрикивая на самых ретивых тёлочек. День выдался солнечным. Коровки разбрелись в редком березняке, пощипывая траву.
Данила расслабился от палившего солнца и летней благодати. Нашёл сосновую ветку и стал выстругивать из неё куклу для сестрёнки. Когда пастушок оторвался от поделки, чтобы оглядеть стадо, вдруг встретился взглядом… с огромным волком.
Умные зелёные глаза с хитрым прищуром смотрели на открывшего рот паренька. Приглядывались пристально, испытующе. Побежит или не побежит? Данила почуял, как внутри появился росток, пока ещё маленький и слабенький, но явственно ощущающий свои корни, цепляющиеся за земную породу. Привычка не уступать, бороться до последнего держала подростка, не пускала дать стрекача. А ещё крепил волю долг сберечь деревенское стадо. Как же оно? Не приедят ли волки тёлок? Внутри закипало сопротивление, и Данила так метнул взглядом на волка, что тот мотнул большой лохматой головой и потрусил в сторону от стада.
Парень споро собрал коровёнок и погнал кормилиц ближе к жилу. Пережитая опасность придала сил и уверенности.
Мальчик лет четырёх, одетый в бархатный бордовый кафтанчик и такого же цвета панталоны, медленно, но верно скатывался по насыпи крутого берега.
А там глубина больше трёх аршин. Барин в прошлом годе приказал углубить, чтобы можно было на прогулочной барке к самому берегу подходить. Малыш потянулся за игрушечным кнутиком, подаренным конюхом Тимофеем, да и соскользни с обрыва. Горло сдавило. Сын владельца имения хотел закричать, но получился слабый ноющий стон. А Иван Бирюков тем временем с другими мужиками около дома плотничал. Совсем недалече. Услыхал звук, будто щенок скулит. Взглянул в сторону обрыва и обомлел. По крутому берегу сползал в мутную глубь ребёнок. Не было времени рассуждать, кто таков, чей сын, как вмиг оказался на краю. Ринулся вниз, одной рукой зацепился за врытый для крепления лодок столбик, а другой уже потянулся к мальчишке.
Предательски закачался столб, увлекаемый тяжестью Ивана, но сильная рука уже подхватила за ворот кафтанчик, нога упёрлась в подвернувшийся корень. Оттолкнувшись, мужик ловко вытащил наверх себя и испуганного ребёнка. Тут же выбежала из дома запыхавшаяся нянька и забрала дитятко. Иван лёг на траву и поднял глаза к высокому ясному небу.
Вернувшийся после трудового дня пастушок заметил стоящую перед родной избой барскую бричку, робко вошёл в сени и услышал громкий раскатистый бас:
— Благодарствую тебе, Иван Ферапонтович, по гроб жизни твой должник, — голос был густой, уверенный, хозяйский.
— А ещё решили мы с Татьяной Кирилловной за спасение нашего Димитрия даровать вольную тебе и домочадцам твоим!
— Так как же, ба-арин? Андрей Борисович! Что ж мы бу-удем де-елать-то? — протянул в ответ хозяин избы.
— А хочешь, Иван, я тебя в столицу перевезу, в Петербурх? Мы сами-то по осени туда собираемся ехать и вас можем захватить. Мы с супружницей так решили, что ты человек волевой, сильный и к работе способный, значит, не пропадёшь и без барина. В люди выйдешь, и дети твои через тебя род получат. А самостоятельность и право жить своей волей, а не барской — единственно достойная тебя награда. Жизнь за жизнь.
Женившись на Татьяне Кирилловне, отставной майор Ставрыгин стал хозяином трёх деревенек на берегу раскинувшейся в вольном порыве реки Вятки. Поселения разместились на трёх холмах, почти равноудалённых от четвертого, на котором и стоял длинный барский дом, одним концом выходивший к реке.
С высокого пригорка хорошо видны натыканные, как грибы после дождя, крестьянские домишки. Чёрными точками кажутся селяне, бредущие в усадьбу по трём наезженным и нахоженным дорогам, которые сходились в одной точке. «Все дороги ведут в…?» — с вопросительной интонацией произносил майор Ставрыгин, подкручивая ус и глядя на молодую жену. Татьяна Кирилловна каждый раз благосклонно улыбалась повторяющейся шутке.
Выйдя на крутой берег, Андрей Борисович любил всматриваться в своенравное, вихлявое русло реки и ожидать гостей, летом прибывавших по судоходной Вятке, а зимой тоже по реке, но уже замёрзшей. Жизнь в пошехонской глуши отличалась однообразием дел от посевной до сбора урожая, и молодые помещики старались выезжать зимой в столицу. Но вот уже несколько лет после рождения сына поездки с женой в Петербург стали для четы Ставрыгиных лишь разговорами. Барыня не хотела надолго разлучаться с маленьким наследником, а взять его с собой не позволяла долгая и опасная дорога из пошехонщины до города на Неве.
До поздней осени Бирюковы продолжали своё обычное житьё. Отец уходил в поле, на покос или работал с мужиками у барина. Мать с бабами дотемна жали острыми серпами золотистую рожь. Бабка водилась с младшенькой — Алёнкой, скребла пол, варила щи, следила за скотиной. Сам Данила до заморозков гонял коров на луга, что окружали деревеньку и тянулись на немалые вёрсты вширь и вглубь России. И эта неподвластная представлению мощь бескрайних просторов снилась Даниле, звала его на великие подвиги и героические деяния. Данила иногда вспоминал приезд к ним барина, его чудные слова о воле, представлял длинный барский дом с высоким крыльцом как путь к этой воле и задрёмывал на пригорке под лучами скупого осеннего солнышка.
В тот день, когда пастушок последний раз этой осенью гнал коров с пастбища к родным стойлам в тёплом хлеву, повстречался на деревенской дороге странник. Обычный с виду мужик, крепкий, широкий, твёрдым шагом шёл по просёлку. В руках дорожный посох, за плечами котомка. Когда они поравнялись, Данила отметил высокий лоб, мохнатые густые брови, поседевшую бороду, развевавшуюся на ходу, и особенный пронзительный взгляд зелёных, по-волчьи нахальных глаз. Прохожий спросил воды. Пастушок указал рукой в сторону недалёкого родника, и путник благодарно кивнул. Внимательно посмотрел на паренька, словно прощупывал взглядом, светлы ли мысли подростка, есть ли мечты и устремления, что поведут по дорогам будущего человека, который с малолетства приставлен к делу.
— Давно коровам хвосты крутишь? — как бывалому равному собеседнику задал вопрос седобородый.
— Да с ле-ета ужо, — важно протянул ответ паренёк, изо всех сил стараясь, чтобы голосок не дрожал.
Данила невольно заглянул в глаза старца. Во взоре его была такая глубокая древность, какой подросток не встречал ранее никогда. Даже взгляд самой ветхой в их селении бабки Матрёны был намного светлее, добрее, моложе в своем виде, чем то, что открылось вдруг Даниле. Странник, заведший пустяшный разговор со встречным пастушком, внешне крепкий и сильный телом, бодро отмахивавший многие вёрсты российских неизбалованных дорог, показался мальчику древним старцем прошлых столетий, жителем той заповедной языческой Руси, которая прячется в народных легендах, в дедовских протяжных песнях и в бабкиных сказках про леших да домовых и прочих созданиях, существующих с незапамятных времён.
— Храни в себе росток силы великой, правды русской и мудрости народной, — заговорил путник по-иному, словно понял: узнан правильно. — Большой путь ждёт тебя впереди, мальчик мой. Трудности и потрясения грозят немалые, но ты через всё пройди и пронеси цветок жизни и наследникам своим его передай.
С этими словами странник вложил Даниле в ладонь что-то тёплое и тяжёлое. Встал и, не попрощавшись, пошёл широкими шагами по пыльному тракту. Данила побежал догонять бредущее по хорошо знакомой дороге стадо. Только прогнав всех коров через деревню, разведя их по родным хлевам, паренёк разжал затёкший кулак и рассмотрел оберег, составленный из разных камней в форме цветка. Вручённый колдуном (никак иначе и назвать его не получалось) каменный цветок был тёплым то ли от Данилиных ладошек, то ли от внутренней силы, жившей в рукотворной вещице.
Документы на вольную всем Бирюковым были готовы к концу сентября, а в путь тронулись уже в ноябре с санным обозом, сопровождая самого барина и барыню. Рождественские праздники предпочитали помещики Ставрыгины проводить в столице, у брата Андрея Борисовича.
Вместе с хозяевами в столицу отправились конюх Тимофей и прислуга. Путешествовали в крытом просторном возке, запряженном четвёркой лошадей. Марья с малолетней Алёнкой разместились рядом с Андреем Борисовичем и барыней внутри, а Иван с Данилкой пристроились на облучке. Вместе с Тимофеем отец и сын Бирюковы пробивали занесённый местами путь, слушая рассказы конюха о столице, где тот бывал «ужо целых два раза». В дороге Данила думал о бабке, которой теперь будет ему не хватать. Она не отличалась многословием и не часто ласкала внука, но мальчик всегда чувствовал её тепло и поддержку.
Бабка Лукерья отказалась ехать вместе с семьёй. Тут дом, который отец строил, где детей рожала и хоронила. Поздно уж новую жизнь начинать, старую доживать надо. Иван повздыхал, но возразить матери не смог.
Ехали неспешно, отдыхая на почтовых станциях. Там же договаривались об охране — обычно им давали местных служивых, которые отлично знали и дорогу, и опасные места. Разбойных людишек во все времена на Руси хватало.
Часто, завидев вооружённых всадников, грабители не высовывались из кустов — себе дороже. Но однажды всё-таки пришлось вступить в стычку.
Зима выдалась ранняя и суровая. Ехали они по хрусткой снежной колее через дремучий вологодский лес, вдруг лошади остановились. На пути стояли люди, человек пять разбойников с вилами и пиками. Один из них, бородач в залатанном тулупе, сделал два быстрых шага вперёд, для разбега, и метнул пику в ближнего солдата. Та пролетела в сажени от цели. Всадник выхватил саблю:
— Шалишь!
Иван с сыном спрыгнули с облучка, и буквально сразу Данила заметил сзади справа от возка бегущего к ним второго татя. В руках старинная алебарда.
— Спра-а-ава! — истошно закричал Даня, и второй охранявший обоз солдат, мгновенно развернувшись в сторону опасности, выхватил из-за широкого пояса пистолет, редкость для тех времён, и почти в упор выстрелил в мужика, уже занёсшего своё оружие для удара.
Разбойник выронил алебарду и схватился за лицо. Звериный рык прокатился по лесной чаще. Остальные нападавшие, увидев у своего подельника струящуюся сквозь пальцы кровь, отступили обратно в гущу деревьев. Только один, неудачно бросивший копьё бородач, побежал к раненому. Возможно, это был его родственник. Но и его охрана оттеснила в лес.
— А ты молодец! — похвалил Данилу сопровождавший солдат.
— Да я-то что, — парень скромно потупился в снег. — Увидел да крикнул. Кажный может.
— Он бы вмиг меня рассёк, — возбуждённо продолжал всадник, разглядывая дуло разряженного пистолета. — Хорошо, осечки не случилось. А то всяк бывало…
Дорога была свободна, и обоз тронулся в путь.
Петербург встретил Бирюковых ветрами и метелями. Выехав осенью, обоз прибыл в столицу в декабре. Как и обещал, Андрей Борисович Ставрыгин помог купить небольшой домишко на окраине Ямской слободы.
— Дальше уж сами, — напутствовал переселенцев их бывший хозяин. Изба требовала ремонта. Марья с Алёнкой разболелись после долгой дороги. На новом месте нужно было искать себе дело, привыкать к независимой жизни. Несколько дней Иван ходил в полицейский околоток для оформления документов. Там никак не могли взять в толк, как это барин подарил целой семье вольные и ничего с мужика не взял. Ведь спасать барина и его детей крепостному Господь заповедовал, и никакую награду просить за это не полагается.
Всё в этом городе было чужое, вычурное и русскому мужику неприглядное. Пробродив целый день в поисках работы, глава семейства вернулся мрачным и раздражённым. Дворцы с колоннами, большими дверями и окнами вызвали в душе привыкшего мыслить деревенскими понятиями мужика недоумение и расстройство. Ну, сколько же дров надобно, чтобы такую избищу обогреть? И пошто окна такие нелепые вырублены, узкие и высокие, словно через них проходить кто выдумал? Всё не как у русских! А по улицам неметчина ходит и на своем языке растарабаривает. Как жить в таком городе? И назад не добраться к матери. Закрутил крестьянина петербургский омут. Другую жизнь барин подарил, а куда её пристроить — не сказал.
Раньше Иван считал себя мужиком толковым, работящим, и верил, что в любой ситуации не пропадёт и семью прокормит. А здесь, на берегу этой странной холодной реки, растерялся. Как он понял, народишко в основном торговал чем придётся, не перетруждая себя. Иван умел плотничать, охотиться, даже кузнецким делом немного владел, а торговать не научился. Погнался за свободой, за столичным счастьем, за новой долей, а есть ли здесь всё это?
Чтобы хоть как-то прожить зиму, Бирюковым нечего было продать или обменять. Зато оказалось, что совсем недалеко живёт ростовщик, который может дать взаймы переселенцам на первое время. Нужен заклад. Единственной ценностью, заинтересовавшей местного сутягу, был дом, купленный для Бирюковых Ставрыгиным. Окутанный радужными надеждами и неизменной уверенностью в силу труда, Иван заложил дом, причём на самый короткий срок выплаты по долгам, чему старичок, дававший ссуду, был искренне рад. Оторвавшийся от земли крестьянин был уверен, что сможет найти в таком большом городе заработок, чтобы вернуть деньги и содержать семейство.
А Даниле сразу понравилось новое место обитания. Он тут же полюбил неторопливое царственное движение полноводной Невы, не замёрзшей в декабре, шутливые окрики извозчиков, запах немецкой булочной, расположившейся неподалёку. Любознательный мальчонка уже несколько дней присматривался к разным мастерским, размещавшимся на окраине города. Жить и работать здесь должно быть проще и свободней, чем в тесном каменном центре, пересечённом росчерками рек и каналов. Наличие рядом большого числа покупателей обеспечивало местных ремесленников работой и доходом. Все эти булочники, сапожники, гончары собирали заказы у столичных жителей, а потом изготавливали требуемое количество товара и доставляли покупателям. Так появлялись в России новые буржуа.
Понравился мальчишке и большой город. Огромные, невиданных размеров дома, возки и кибитки, мчащиеся по прошпекту, гусары в киверах с султаном. Так много новых слов, обрушившихся на него сразу.
Барский дом на его родине, казавшийся когда-то маленькому Данилке огромным роскошеством, в сравнении с петербургскими строениями выглядел деревенской лачугой. Всё в городе святого Петра было большое, основательное, поражающее своими масштабами. На огромной площади у Невы строился невиданный по красоте дворец. Долго не мог оторвать глаз Данила от золотого шпиля Петропавловской крепости, пронзившего низкое зимнее небо Петербурга.
Тёмным утром с мрачными мыслями отправился Иван в город на поиски работы. В кармане портков требыхался кусок лепёшки. Денег мужик с собой не взял, надеясь заработать в порту. Когда он приблизился к большим домам, бросавшим тень на широкие по деревенским представлениям улицы, откуда-то вывернула троица и направилась к одинокому прохожему.
От приблизившихся бродяг, Иван их так определил, пахло перегаром и чесноком. Занятый своими мыслями, деревенский отступил на край, а один из поравнявшихся пьяниц, цыкнув, бросил на ходу:
— Табаком угости!
— Так нету, — протянул крестьянин в ответ, удивившись бесцеремонности обращения.
— Не куришь, што ли? — прогудел надвигавшийся на него прохожий, тот, что был повыше других и шире в плечах.
— А хоть бы и так, — Иван сжал кулаки, намереваясь дать отпор проходимцам.
— А может, ты просто жадный? — приблизился к крестьянину первый и резко толкнул в грудь.
Иван чуть не полетел в грязь с узкого дощатого настила, но устоял на самом краю и, удерживая равновесие, двинул кулаком в скулу толкнувшего. Тот полетел и упал на большого, вместе они повалились на доски.
— Ладно, мужики, побаловали и будет, — Иван наклонился и протянул руку, чтобы помочь незнакомцам выбраться из грязи, которой была покрыта проезжая часть.
Вдруг что-то толкнуло доброго крестьянина в бок. Он удивлённо поднял глаза и увидел рядом с собой третьего собутыльника, улыбнувшегося и спрятавшего нож в карман. Ноги Ивана стали подкашиваться, он осел на доски и свернулся крючком, зажимая рану.
Пырнувший Ивана ножом, не чинясь, обшарил его одёжу.
В грязь полетел только кусок лепёшки.
— И чего выкобенивался? Вывернул бы карманы, а то сразу кулаками махать, — прошепелявил убийца, дожидаясь, пока дружки отряхивали грязь с портков.
Когда Данила вошёл в их новый дом, он уткнулся взглядом в чёрный стол. Вытянувшись, как срубленный ствол могучего кедра, на деревянном полотне лежал мёртвый отец. Данила никак не мог впустить в себя мысль, что тятя неживой. Пышущий силой и здоровьем человек, любящий муж и отец теперь был лишь мёртвым телом на деревянном столе. Лицо мальчишки перекосилось, из глаз хлынули слёзы. Он давно считал себя взрослым и не позволял себе плакать. Данила тёр глаза кулаками, а захлестнувшее его горе всё росло и росло внутри, превращаясь в жёсткий и колючий ком.
После похорон мысли метались в голове. Он остался теперь в семье за старшего. Как отдавать деньги, взятые отцом? Что будет с их новым домом? Неужели снова всей семьёй придётся продаваться в крепостные? Тяжесть положения толкала его к поиску неординарного решения…
ХХ век
Самые необычные каникулы:
в центре войны
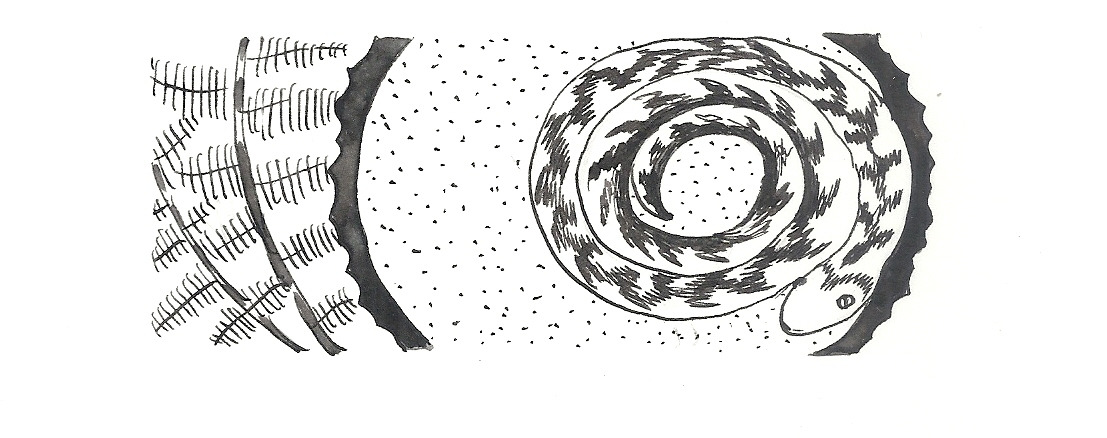
Глеб и раньше видел змей. Но всё как-то мельком, когда те бесшумно ускользали подальше от человека. А эта лежала себе, свернувшись колбасой и приподняв голову, в метре от его ног, смотрела прямо на подростка.
«Гадюка!» — подумал Глеб. С ромбовидными узорами по всему телу, пугающе блестящему на солнце. Прямо как на картинке в той книжке про лесных обитателей. Точно ядовитая. Это не ужик болотный. И не уползает, сволочь. Что она здесь, спала что ли? Не услышала приближения человека? Хорошо ещё, что не наступил. Глеб медленно обхватил руками двухлитровый бидончик, висевший на поясе. «Если бежать, главное — не рассыпать землянику». Красно-розовые ягоды уже заполнили почти весь бидон, до горлышка. На этой полянке как раз можно было добрать доверху и возвращаться к бабушке.
Гадюка пошевелилась. Сердце Глеба забилось чаще. Чего она хочет? Напасть или уползти восвояси? Неподвижные зрачки смотрят, не отрываясь, приплюснутая голова слегка качается из стороны в сторону. Осторожный шаг назад. Ещё один. Предательски хрустнула ветка, но змея осталась на месте. Может, у неё здесь поблизости гнездо? Поэтому и не уползает?
Ну вот, теперь расстояние, вроде, безопасное, можно развернуться и — к бабушке. Главное, не бежать. Когда тебе пятнадцать лет, а в октябре уже будет шестнадцать, стыдно бежать от змеи. Засмеют!
Бабушка Фёкла сидела на поваленном стволе берёзы и, сняв с головы платок, стряхивала с него вездесущую паутину и еловые иглы. Потом обвязала этим платком глиняную гладышку, доверху наполненную ягодами. Как говорят в Белоруссии, «со скоптором».
— Ба, а я гадюку видел, — как можно более безразличным тоном сообщил внук.
— Да ты что? Испужался, небось? — сочувственно покачала головой пожилая женщина, развенчав этим вопросом всё напускное спокойствие Глеба.
Пора было возвращаться в деревню. Парень время от времени нагибался, срывая спелую июньскую землянику и пополняя свой бидон. Приходить домой с неполным — неслыханное дело.
— Ба, а тебя змея кусала когда-нибудь?
— Бог миловал.
— А если гадюка укусит, что делать-то?
— Надо высосать яд, сразу. Только у того, кто будет это делать, не должно быть ранки во рту.
— А то он умрёт?
— Умрёт, — бабушка говорила спокойно, как будто речь о курице, которой она вчера хладнокровно отсекла голову и понесла в сени ощипывать.
Вот и просвет между стволами. Вышли на простор. На самой границе леса, из недр густого куста орешника Фёкла Платоновна достала бутыль с водой и хлеб с салом. Они всегда своё «подкрепление» оставляли в этом орешнике. Не таскать же с собой лишнюю тяжесть?
Глеб, нагулявший в лесу аппетит, жадно набросился на еду.
— Вот и поснедали, — крестьянка аккуратно стряхнула крошки с тряпицы в ладонь и отправила их в рот.
Вернулись в деревню ближе к полудню, когда солнце уже высоко забралось на голубое безоблачное небо, освещая буйную зелень садов, красноту созревающих вишен, нависших над плетнями и заборами, и белые цветы шиповника, торчащего из сельских палисадников.
Вымывшись по пояс холодной колодезной водой и переодевшись в чистое, Глеб вышел на крыльцо. Воскресный день в деревне ничем не отличался от будних. Люди занимались своими делами, собаки и кошки старались спрятаться в тени, жужжал шмель, направляясь к одному ему известной цели.
Деревня называлась Броды. Видимо, когда-то, в царские времена, пробегающий за огородами ручей был полноводной рекой, и в этом месте можно было перейти её вброд. Здесь Глеб проводил каждое лето. Это была его вторая Родина. А родился и жил он в Ленинграде. Это почти в тысяче километров отсюда на северо-восток. Наверное, это неправильно так думать — «вторая Родина». Родина одна — Советский Союз. Но уж очень разной была жизнь Глеба там, в городе, девять месяцев в году среди каменных домов и яркого электрического освещения, где по улицам ходят трамваи и автобусы, и здесь, в забытом Богом селе, в восьми километрах от райцентра, где весь быт остался как при царях-императорах. Керосиновые лампы, телеги и ни одной радиоточки.
Глеб потянулся, глянул ещё раз на небо: какой жаркий день! Надо бы сходить в погреб, достать жбан с домашним квасом. Он уже направился было во двор, когда его внимание привлекло облачко пыли на другом конце деревни. Глеб встал на цыпочки, всмотрелся и понял, что это бежит местный деревенский сорванец Колька.
«Чего так несётся?» — подумал Глеб. Может, новость какая? В прошлый раз почтальонша ему доверила принести письмо, пришедшее из Ленинграда, так же бежал, как ошалелый. Запыхавшийся мальчишка остановился напротив Глеба и выпалил:
— Дядя Василь из райцентра приехал…
— Ну и что? Почту привёз?
— Нет, слушай… Война началась.
— Какая война?
— Германия сегодня… утром… напала на Советский Союз, — вставляя глубокие вдохи и выдохи между словами сообщил прибежавший.
И Колька помчался со своей новостью дальше.
Немцы пришли не сразу. Сначала приехал разведотряд на трёх мотоциклах. Прямо посреди деревни один из фашистов дал очередь из автомата по перебегавшему дорогу гусю. Мотоциклисты остановились и несколько минут хохотали. Стрелявший подобрал мёртвого гуся, и все поехали дальше, к дому председателя колхоза. Тот уже ушёл на фронт, в добротной хате жила его семья. Немцы осмотрели все помещения, между собой что-то прокурлыкали, сели на свои тарахтелки и укатили. В другие дома даже не заглянули, тогда партизан ещё не боялись.
Глеб всё это наблюдал из окна. Значит, не сбылись его надежды на то, что немцы здесь не объявятся. Он вспомнил недавний разговор с Колькой. Тот спросил:
— Как думаешь, война скоро кончится?
— Шут её знает… последняя война с немцами несколько лет шла… — авторитетно заявил городской житель.
— Ничёсе… а в Белоруссии воевали? — не отставал пацан.
— Воевали, но сюда не дошли, не боись. В Могилёве ставка царя была. Значит, немцев тут не было. В учебнике про это мало написано, там всё больше про Гражданскую, но я это точно знаю. В другой книжке читал.
Глеб и в самом деле надеялся, что фашистов остановят и откинут назад ещё до конца лета, и он спокойно поедет в Ленинград. Мама в самом начале войны послала телеграмму, чтобы он из деревни не выезжал. Дороги бомбят…
Погостить в Белоруссию мать отправляла Глеба по просьбе бабушки, которая очень любила внука. Фёкла Платоновна была человеком прошлого века, о котором Глеб мало знал. Конечно, он читал о трудной жизни во времена империалистического режима, но бабушка вспоминала о том времени всегда с теплотой, как о лучших годах жизни.
— Чего ж там хорошего было при царях? — спрашивал внук, пытаясь утвердиться в собственных представлениях о мрачности и серости дореволюционного прошлого.
— Молодость моя там была, любовь, надежды на лучшее.
— Какая же ты непросвещенная! Это сейчас мы верим в светлое будущее коммунизма, а тогда ещё и не знали об этом! — вспыхивал внук.
— Ну да, ну да… — соглашалась Фёкла Платоновна.
В буфете у бабушки напоминанием о мирной жизни стояли разные фигурки. Глеб как городской житель считал это деревенскими обычаями, а от учительницы литературы в своей ленинградской школе слышал, что фигурки на комоде — это «признак мещанства». А это что-то нехорошее, низкое. Хоть у бабушки фарфоровые куколки и животные стояли не на комоде, а за стеклом, словно в музее, внуку почему-то было стыдно за любимого человека. И однажды он решил об этом поговорить:
— Ба, а зачем у тебя эти куколки, игрушки, ты ведь уже не маленькая?
— Доглядливый ты, внучок. А фигурки ещё от покойницы-матушки мне достались. Не всё сохранить удалось, жись-то разная была. Это будто память моя о семье, о родителях. Давно уж не маленькая, а иногда выну и начну расставлять — так всё, что было и давно быльём поросло, и вспомню. Вот смотри, фарфоровая куколка, ею ещё матушка в детстве забавлялась. Я эту фигурку завсегда на почётное место ставлю.
Глеб прикоснулся к старинной фарфоровой куколке и словно по-новому посмотрел и на бабушку, и на эти игрушки, которые хранили прикосновения и тепло ушедших предков.
Потом, когда пришла весть о взятии немцами Минска, Глеб думал, что в их глухомань те не полезут, обойдут стороной. Но вот всё-таки не обошли. Через два дня после разведчиков в деревню вполз крытый брезентом грузовик, из него высыпал десяток немцев. Из кабины вылез сухопарый офицер, осмотрелся, поправил портупею и лающим языком дал указания солдатам. Двое пошли с ним в дом председателя, остальные заняли соседнюю хату. Хозяевам пришлось съехать к родственникам, перечить новой власти никто не стал. Ни криков, ни тем более стрельбы больше не было. Вообще, первое время жизнь с оккупантами протекала более-менее спокойно. Те заходили в дома, требовали еду — яйца, сало, или курицу… хозяева отдавали, понимая, что сопротивление бесполезно. Но обысков и насилия не было. Даже наоборот. Вот случай.
Ранней осенью сорок первого года один из немцев стирал своё бельё в ручье, потом поднялся на берег, взял из таза новую партию, но по возвращению никак не мог отыскать мыло. А поблизости ошивался Колька.
— Wo ist meine Seife? — спросил фриц сослуживца, со скучающим видом сидящего поблизости.
Тот молча показал на Кольку. Первый немец направился к парню, жестами показывая, чтобы тот вернул мыло. Хлопец испуганно замотал головой из стороны в сторону, мол, не понимаю. Фриц решил, что тот отказывается вернуть его личное имущество, разозлился и попытался схватить сорванца за шиворот. Колька увернулся и дал стрекача. Так они бегали по деревне минут десять, немец выдохся и злой вернулся к своему белью. Второй оккупант, держась за живот от хохота, поднял мыло из ямки в траве. Оказывается, оно соскользнуло туда и наговор на парнишку был напрасный.
— Hans, du bist Schwein! — презрительно бросил немец второму солдату и медленно направился в дом, превращённый в казарму.
Через несколько минут он вышел с шоколадной плиткой и вручил её перепуганному Кольке.
Это спокойное время закончилось для жителей Бродов уже в декабре. Кто-то обстрелял в лесу немецкий грузовик, везущий оккупантам снаряжение. Водитель успел «дать газу» и оторваться от нападающих, но второй солдат, сидевший рядом с ним, получил ранение в шею и по приезде скончался, не приходя в сознание. Кто стрелял: партизаны или отбившиеся бойцы отступающей Красной армии — никто не знал.
Тогда в деревню нагрянули другие немцы — каратели. Фашисты врывались в каждый дом, и пока солдатня грабила имущество, тучный краснолицый майор-эсэсовец допрашивал жителей. Рядом находился переводчик — хромоногий учитель немецкого из райцентра.
Глеба хотели сначала спрятать в погребе или на сеновале, но решили, что так будет только хуже, и правильно сделали. За это могли и расстрелять. Первым же делом немцы залезли в погреб, вынесли все заготовки, кроме нескольких банок варенья. Обшарили и сеновал, а также сарай и дровник. Даже в отхожее место заглянули.
Вопросы задавали стандартные:
— Сюда приходили советские солдаты или партизаны?
— Нет.
— Есть ли в доме оружие?
— Нет.
Тогда майор ткнул перчаткой в грудь Глебу:
— Сколько лет?
— Четырнадцать ему, — поспешно ответила за него Фёкла Платоновна.
— Как зовут? Где родители? — на этот раз эсэсовец вытянул руку ладонью вперёд в сторону женщины, жест означал «молчать!»
— Глеб Ливинцков. Родители в Ленинграде, — ответил подросток.
Офицер удивился, сказал что-то типа «красивый город», и поинтересовался, знает ли Глеб немецкий язык.
— Нет, — соврал парень. На самом деле он учил Deutsch с четвёртого класса и понимал большинство иностранных слов, услышанных в этой комнате.
— Запишите, — обернулся к адъютанту майор.
Глеб понял фразу без перевода. Немцы пошли в следующий дом, а бабушка Фёкла обняла внука и прошептала: «За какие грехи нам это?»
Подросток уже знал, что фрицы угоняют трудоспособное население в Германию на работы. Скорее всего, он сегодня попал в список, поэтому стал уговаривать бабушку отпустить его к партизанам.
— Через мой труп! — резко ответила Фёкла Платоновна.
Деревня была разорена. В день, когда проводили допросы, немцы забрали оставшуюся домашнюю птицу и увели с подворий всех коров. Оставили только одну, в доме, где жила многодетная семья с маленькими детьми. Говорят, они так громко плакали, что фашисты поспешили убраться.
Всё, чем питались Глеб и его бабушка, была картошка из подпола, в который фрицы не догадались заглянуть, и сухари с остатками варенья. На этом предстояло протянуть до лета, когда что-то вырастет в лесу и можно будет что-то посадить на огороде. Если будет, что сажать. А может, уже кончится война…
Раньше, до прихода карателей, Глеб проводил время в хлопотах по дому, помогая бабушке, а в свободное время делал упражнения для укрепления пресса и бицепсов, читал, рисовал. Он любил рисовать, и мама даже хотела его отдать в художественный кружок. Но мальчик отказался. Намного интереснее было гонять мяч со сверстниками на ближайшем пустыре. Сейчас же, в студёные январские дни сорок второго года, Глеб перестал упражняться и даже читать. Они с бабушкой экономили всё: еду, дрова, керосин, силы. Зато парень стал собираться в дорогу. К партизанам.
На крещение они увидели две волокуши, на которых тесно друг к другу сидели укутанные в платки молодые женщины из соседней деревни, Рудни. Фёкла вышла на крыльцо:
— Куда это вас?
— Говорют, что в неметчину, — невесело ответила одна из молодух.
Хозяйка дома перекрестилась. А Глеб принял окончательное решение. Этой ночью он не спал. Дождался, когда бабушка заснула, натянул старый дедов тулуп, самые высокие валенки, закинул за спину заранее собранную котомку и вышел в ночь.
Он надеялся, что в такую стужу деревню никто не патрулирует и часовые стоят только у «штаба» — дома председателя, который находился на другом конце села. Ночью действовал комендантский час, и парень, выйдя на улицу, рисковал жизнью. Два километра до Рудни он прошёл быстрым шагом. В этой деревне немцев не было. Может, потому, что она уступала Бродам по размерам, а может, из-за близости леса. Густого, местами непроходимого, опасного леса. Вотчины партизан.
Дорогой Глеб думал о бабушке. Она была малограмотной крестьянкой, всю жизнь работающей руками, от зари до зари… но в то же время неиссякаемым кладезем народной мудрости, добрым и самым близким ему человеком после мамы. Глеб не хотел оставлять её одну, потому что любил. Но ему была противна толкающая его вперёд мысль, что его, как и других, угонят в Германию. Не меньше, чем родных, подросток любил свою Родину.
Во второй с краю хате жила бабушкина двоюродная сестра, Акулина. Глеб постучал в дверь. Почти сразу замерцал огонёк в окне — хозяйка спала чутко.
— Кто? — послышался стариковский голос за дверью.
— Это Глеб, тётя Акулина, откройте.
Скрипнул засов. Уже в сенях керосиновая лампа приблизилась к лицу парня.
— Матка боска! Что ты здесь?.. Случилось чего?
— Нет-нет, всё нормально, я сейчас расскажу.
Они сидели около тёплой русской печи и пили кипяток с ароматными травами, которые хозяйка знала, где собирать, и умела по-особому заваривать.
— Вчера ваших женщин везли к штабу, формируют команду в Германию, — начал Глеб.
— Знаю, знаю… ох, бабоньки, что же с ними будет…
— Так вот, я тоже вроде как в списках… и завтра, наверное, будут наших всех сгребать. Я у вас переночую, а утром уйду к партизанам.
Баба Акулина охнула и перекрестилась на образ в углу.
Ещё до рассвета она разбудила родственника, накормила холодной кашей и отвела к деду Егору — бородатому старику, его хата стояла на отшибе, у леса. Тот выслушал Глеба, неодобрительно покачал головой, но согласился проводить туда, куда тот рвался.
— Сам не найдёшь, сгинешь, — заключил он хмуро.
Они быстро пополнили запасы парня сухарями, крышанами и мороженой крольчатиной. Люди отдавали последнее, Глеб это понимал.
— Там в сарае сани небольшие у стены справа, возьми, и быстро надо грузиться, не на плечах же всё тащить… навроде, мы за дровами пошли, шевелись, хлопец, светает уже, — распоряжался хозяин.
Торопила и Акулина:
— Давайте уже, идите с Богом, лес близко, авось никто не углядит, но бережёного Бог бережёт.
— Вы только бабушке передайте, что со мной всё в порядке, она волноваться будет, — попросил Глеб, обнимая на прощанье сердобольную родственницу.
— Сама понимаю, всё-всё, я зачиню за вами, — у Акулины навернулись слёзы.
Шли долго, не торопясь ступая на еле заметную среди сугробов утоптанную тропу. Несколько раз останавливались, молча сидели на поваленных стволах, жевали снег. Уже после полудня вышли к балке, Глебу показалось, он увидел следы вдоль неё. Дед Егор скинул рукавицы, сложил ладони лодочкой и поднёс ко рту, будто собираясь дышать на них, отогревая. Вдруг громкое уханье совы раздалось рядом, и Глеб не сразу понял, что звук шёл от деда Егора.
— Это для чего? — наивно поинтересовался юноша.
— Чтобы нас не застрелили раньше времени.
Сначала ничего не произошло, только лёгкий ветерок бежал по балке, снимая снежную стружку с гладких сугробов, но после второй попытки им ответили.
Лагерь оказался небольшим, с десяток землянок, накрытых еловым лапником, для маскировки. Часовой сразу отвёл их к командиру отряда. Тот выслушал, пристально посмотрел на Глеба и спросил:
— Ты винтовку-то хоть держал в руках?
— Только пневматическую… в тире, — признался Глеб.
Жизнь в партизанском отряде была суровой. Продовольствия не хватало. Кашеварили два раза в день, и пайка была мизерной. Сосущий под ложечкой голод теперь был постоянным спутником Глеба. Самодельные печурки в землянках нещадно чадили, и люди по ночам не высыпались, ворочаясь от недостатка кислорода и надоедливых вшей. Через какое-то время эта напасть завелась и в Глебовой одёжке.
— А что сробишь? Звиняйте, бани нема, — хмуро оправдывался командир отряда Иван Семёнович.
Медикаментов тоже не было. Если кто заболел, а зима выдалась суровой, одно средство — кипяток с брусникой. Радовать могло только относительное спокойствие, пули над головой не свистели. Немцы боялись сунуться в лес, особенно зимой. Ходили слухи, что Гитлер не собирался так долго воевать и с зимним обмундированием у фрицев случился провал. А попробуй-ка повоюй в тонкой шинельке в такой мороз. Тут вам не Европа…
В отряде же все люди были крепкие, к комфорту не приученные. Из местных крестьян. К морозу, голоду и вшам терпимые. Только командир — бывший рабочий районного леспромхоза, член партячейки, коммунист. И настойчиво беспокоила его обида: «Я бы сейчас бил фашистскую гадину лицом к лицу в рядах Красной армии, но партия считает, что моё место здесь», — сокрушался он.
Были ещё в отряде два кадровых военных — танкисты. С одним из них, Фёдором, сержантом-наводчиком, Глеб как-то разговорился в наряде. Оказалось, что их соединение из десятка лёгких Т-26 под Оршей сражалось с немецкими «Панцирями» PzII.
— Понимаешь, парень, отступали мы шустро, и разведка в таких условиях ни к чёрту, — поведал Фёдор. — Поступил приказ: держать разъезд. Туда должен был выйти авангард немецкой мотопехоты. Мы заняли позиции в перелеске, на рассвете смотрим — матерь божья!
— Что? — Глеб перевесил тяжёлую винтовку с одного плеча на другое.
— А то, что на разъезд выполз сразу весь батальон. Впереди броня, за ней пехота.
— Ну, а вы?
— А что мы? У нас приказ! Все рванули в бой, а наша машина не завелась! Мы и так и этак, магнето не срабатывает и всё!
Федя присел на пенёк и, зачерпнув ладонью пригоршню снега, умыл лицо. Видно было, что рассказ давался ему нелегко. От переживаний повествование получалось рваное и наполненное эмоциями.
— Короче, на наших глазах все Тэшки сожгли. Эти гады всю Европу на своих монстрах прошли, а для нас это первый бой был… и последний. Мехвод машину всё-таки завёл, перемкнул что-то напрямую, выкатываемся к разъезду, а на нас — вся армада. Командир мой кричит, мол, умереть завсегда успеем, отходим! Разворачиваемся обратно в сторону перелеска, я — башню на 180 градусов, на немцев, и заряжаю первым… а те увидали, и — за нами.
Утекали мы так, отстреливаясь, до большого оврага, деваться некуда, спустились в него и как будто в ловушке оказались. Эти волки нас сверху и накрыли, гусеницу порвало, башню заклинило, мехвода нашего ранило. Мы с командиром под руки его, и наружу, до кустов. Повезло ещё, что пехота отстала сильно, а Панцири в овраг не полезли, на черта им это? Так мы и ушли, а мехвод наш не вытянул… похоронили его ночью в лесу.
Глеб слушал молча, и танкист продолжил:
— Три дня шли на восток, жрали только чернику и сырые грибы, немцев несколько раз видели… но какие из нас вояки, с одним пистолетом на двоих?
— И как вы сюда попали? — не выдержал Глеб.
— Вышли к деревне, немцев в ней не было, нас ночью отвели к деду одному, тот проводил в отряд.
— Дед Егор? — выпалил наугад подросток.
— Точно, он. Борода лопатой. Спасибо ему, — танкист умолк и задумался о чём-то своём. Глеб не стал ему мешать.
Тем временем отряд от патрулирования и разведки переходил к действиям. Напали на немецкий санный обоз, положили двух фрицев и трёх полицаев. Лагерю достались консервы, винтовки и два шмайсера. Даже бутыль шнапса. Вечером по чарке выпили, отметили успех. Налили и Глебу.
Это был первый в его жизни глоток спиртного.
Случались и другие операции, никто Глебу подробно о них не докладывал. Люди уходили в ночь, потом возвращались, бывало, не все. Парень просил командира взять его в бой, но Иван Семёнович только отмахивался:
— Успеешь ещё. В лагере дел хватает.
Как-то ранней весной в отряд привели «языка» — перепуганного немецкого фельдфебеля. Тут пригодились школьные знания Глеба. Фрица усадили в командирской землянке и допросили. Сначала он сбивчиво что-то лопотал, но Иван Семёнович налил ему кружку воды и спокойно разъяснил:
— Мы не звери. Если будешь отвечать чётко и правдиво, останешься жить.
Глеб перевёл. Немец немного успокоился, хлебнул из кружки, но первая его фраза была:
— Ich wollte nicht kämpfen. Ich bin einnormaler Buchhalter. Hab Mitleid mit mir!
От него узнали, что Ленинград и Москва окружены, но не взяты. Глеб обрадовался, что его родной город ещё держится, вспомнил маму с младшей сестрёнкой — как они там? Успели эвакуироваться или нет?
Тем временем фриц продолжал отвечать на вопросы командира отряда. Сказал, что под Москвой идут ожесточённые бои, туда перебрасывают всё новые соединения. Эшелоны формируют в Низовом, там большой железнодорожный узел.
Молодой партизан почти всё понял, перевёл. Информация совпадала с разведданными отряда. Низовое было километрах в шести отсюда, если напрямую через лес.
— Эх, патронов бы нам. А ещё лучше динамит! — в сердцах выпалил Иван Степанович.
Немца спросили об охране на железной дороге, потом накормили супом, увели и посадили под арест.
В отряд продолжали прибывать люди, по весне соорудили ещё три землянки. Несколько раз их навещал дед Егор. Рассказал, что назавтра после ухода Глеба к Фёкле Платоновне заявился офицерик, тот самый, что жил в доме председателя. Спрашивал, где внук.
— Ночью сбёг, не знамо куда, — честно ответила бабушка, смахнув слезу.
Фрицы перевернули вверх дном весь дом, громко ругались на своём лающем языке, но в результате ушли ни с чем.
— Хорошо, что каратели уже уехали, — добавил дед Егор. — Могло и хуже всё кончиться.
— А про меня говорили с бабушкой? — спросил Глеб.
— Да. Сказал, что ты живёшь, как у Христа за пазухой.
Парень улыбнулся: «Всё верно!»
Вскоре после допроса «языка» командир отряда заглянул в землянку, которую Глеб делил с танкистами и ещё тремя партизанами. Парень склонился над плохо обструганным столом и огрызком карандаша рисовал лесной пейзаж в своём блокнотике. Иван Семёнович взял в руки рисунок:
— Да ты способный малый, как я погляжу. — Потом посмотрел на подставку под котелок, вырезанную из дерева в виде гнома с вытянутыми руками.
— Твоя работа?
— Моя, — признался парень.
— А приклад новый смастерить можешь? А то у Картавенко Петра раскололся…
— Попробую, — отозвался Глеб.
Командир повертел рисунок в руках, о чём-то задумался, потом положил на стол, нахлобучил ушанку и вышел.
Приклад получился замечательный. Картавенко был в восторге. Глеба похвалили и стали поручать кроме хозяйственных дел ещё ремесленно-столярную работу.
Помимо посещения окрестных деревень и проведения мелких операций, отряд держал связь с другими белорусскими партизанами. Однажды, в середине апреля, когда бурная весна уже окончательно подмочила репутацию зимы — снег споро таял, запели первые соловьи и из соседней балки стал слышен шум оттаявшего ручья, командир снова посетил их землянку.
— Федя, Михаил, сегодня ночью пойдёте с Картавенко встречать самолёт, — объявил он танкистам.
— Самолёт? — вырвалось у Глеба.
— Да, это такая железная птица.
И уже серьёзно продолжил: — Идёте на Геннадьево поле, Михаил за старшего, — кивнул он танковому лейтенанту. — Выступаете в 21 час.
— Есть, — ответили военные. А Глеб, конечно, спросил:
— Можно я тоже пойду?
— Для тебя, парень у меня есть другое ответственное задание. Но не сегодня.
Геннадьево поле находилось между деревней и расположением отряда. Когда-то, ещё до революции, там был хутор, обитал в нём зажиточный крестьянин Геннадий с семьёй. Выращивали они лён, пшеницу, овощи, поэтому раскорчевали себе немаленькое поле в лесу. В конце двадцатых годов Геннадия раскулачили и выслали в Сибирь. Но полю не дали зарасти деревенские мужики. Они продолжали там сеять рожь и пшеницу. Из заброшенного дома невывезенная утварь и кое-какая скобянка перекочевали в партизанский лагерь.
На этом поле самолёт можно было и посадить, но не в весеннюю жижу. Поэтому бойцы отряда дождались условного времени, развели сигнальные костры и вскоре после полуночи услышали гул мотора «кукурузника». Тот скинул груз на парашюте, махнул на прощанье крыльями и развернулся на восток.
Утром весь отряд рассматривал вытащенный из ящика разобранный пулемёт системы «Максим». Там же находились патроны и… рация.
— А на што нам это радио? — удивился один из партизан. — Кто умеет на этой штуке робить?
— Завтра связной приведёт радиста из центра, — пояснил командир.
И кто-то добавил:
— Жаль, динамита нету. Ну что ж, повоюем с тем, что есть!
Ещё через неделю Глеб понял, что имел в виду Иван Степанович под «ответственным заданием».
— Ну что, художник, твой выход, — начал он разговор с самым молодым партизаном. — Пойдёшь с хлопцами к Низовому, на станцию. Мужики покажут место, откуда всё хорошо видно: комендатура, охрана, пути.
— Будем фрицев бить, товарищ командир? — не выдержал Глеб.
— Будешь рисовать. Всё подробно, как сможешь.
Глеб разочарованно взял из рук Ивана Степановича планшет и по-солдатски ответил: «Есть!»
— Пойми, — командир положил руку на плечо парню. — От того, как точно ты нам начертишь, будет зависеть успех всего дела!
Иван Степанович пронзительно посмотрел в глаза мальчишки.
Операцию назначили на 15 мая. Лес освободился от остатков зимы. Первые берёзовые листочки скромно показывались из набухших почек. Из чёрной земли тут и там пробивались белые пятна подснежников. Партизаны собирали берёзовый сок. На вопрос Глеба: «А зачем?» — кто-то их мужиков кратко обосновал: «Полезно!»
Именно 15 мая, согласно перехваченной радиограмме, в Низовое прибывал эшелон с боеприпасами. Сразу после загрузки тендера и заправки водой он отправлялся дальше на фронт.
— Тротила нема, а то бы пустили состав под откос, и нате вам, воюйте! — сокрушался командир. — Поэтому задача — захватить станцию и вывести из строя локомотив. Если всё получится, то разбираемся с грузом, ищем динамит и подрываем полотно. Стрелковое оружие — в отряд, сколько унесём.
Выдвинулись ещё до рассвета, осторожно ступая по прошлогодней листве. Фёдор тащил за собой собранный и тщательно смазанный пулемёт. В сержантской школе учили стрелять из всего. Глеб опять просился идти со всеми, но его, радиста и ещё троих раненых оставили в лагере. Парень пожелал своим танкистам успеха, и вдруг, сам не ожидая такого от себя, непроизвольно перекрестил закрывшуюся за ними дверь. Так делала бабушка… отряд растворился в предрассветных сумерках.
Отголоски боя стали доноситься до лагеря во второй половине дня. Глеб изгрыз себе ногти, была у него такая дурацкая привычка, когда сильно волновался…
Бойцы вернулись ближе к ночи, но не все. У командира рука висела плетью, лейтенант всё время тянулся к окровавленной повязке на голове. Рана кровоточила, но танкист пришёл на своих ногах. А ещё одного бойца несли на самодельных носилках. У него было ранение в живот, и он громко стонал, прося пить. Из двадцати пяти бойцов назад вернулись семнадцать человек.
В ночной караул в этот вечер, конечно, пошли те, кто оставался в лагере. И только наутро Глеб узнал о ходе боя. Разговорчивый Фёдор поведал ему, что сначала всё шло удачно. Оказалось, что состав прибыл ночью и, слава богу, не успел отправиться дальше. Бесшумно убрав одного из часовых — лейтенант метко бросил нож, — разрезали колючку со стороны леса и подползли ближе к станции. А вот пулемётчика на вышке с первого выстрела снять не удалось. Он успел дать несколько очередей в сторону леса, этим и поднял тревогу раньше времени. Тогда все сконцентрировали огонь на вышке, кто-то попал, и пулемёт смолк. Командир снял с пояса убитого караульного ручную гранату и передал её лейтенанту:
— К паровозу!
Танкист кивнул и, пригнувшись, побежал к локомотиву.
— Я видел, как машинист, фашистская сволочь, высунулся из кабины и стрелял из «вальтера» по товарищу лейтенанту, — продолжал свой рассказ Фёдор. — Одна пуля сбила с него шлем, оцарапала голову, но граната всё-таки попала в цель, влетев в окошко.
— Всё там разнесло, — лицо сержанта расплылось в злорадной улыбке. — Уверен, что и машиниста, и его помощника накрыло… а потом мы окружили комендатуру и палили, пока фрицы, как тараканы, выпрыгивали оттуда врассыпную. Думали, фронт сюда пришёл. Мы рванули к эшелону, а не тут-то было, у них целый вагон с охраной… повыскакивали сволочи, и давай нас обстреливать. Нескольких наших сразу положили, командира в плечо ранили, тогда он приказал — отступаем!
Я поставил пулемёт на насыпи, прикрывал отход бойцов. Много людей потеряли, — с горечью в голосе закончил сержант. — Но немцы в лес за нами не сунулись, и за то спасибо.
— Значит, поезд никуда не поедет? — обрадовался Глеб.
— Паровоз сменят, и поедет. Пути-то целы остались… полдела только сделали.
Днём лагерь продолжал жить своей жизнью, партизаны обсуждали детали боя. Глеб носил воду из ручья, дежурные собирались варить ужин. Когда парень нёс третье по счёту ведро, в небе послышался гул, а затем и пронзительный свист. Как всякий сделал бы в минуту опасности, Глеб бросился к лагерю в свою землянку. Выплеснулась вода из брошенного на землю ведра. Парень бежал сломя голову и вдруг резко остановился. На тропинке перед ним стоял старик. Одет в холщовые штаны и ватник, как обычный партизан. Но дело-то в том, что у них в отряде не было такого человека! Сначала Глеб подумал, что это дед Егор. Такая же густая борода… но нет, не он. Тяжёлый взгляд зелёных глаз из-под кустистых бровей будто приковывал юношу к месту. Всё равно здесь не может быть никого, кроме своих.
— Нас обстреливают, надо бежать! — крикнул незнакомцу Глеб и в доказательство поднял голову вверх, откуда грозила опасность. Когда опустил взгляд, старика уже не было. До землянки он не добежал несколько шагов…
«В голове так гудит или это мотор самолёта? Может, от страха такие видения?» — успел подумать Глеб и со всех ног рванул по тропинке к лагерю. Эта мысль осколком застряла в памяти.
К лету 1942-го года уже все в Красной армии от солдата до главнокомандующего понимали, что немцев можно бить и нужно победить. Но те всё ещё представляли собой грозную силу. Откинув фашистскую группу армий «Центр» от Москвы, наши войска всё-таки не сумели отрезать главную снабжающую немцев магистраль Орша-Ярцево-Вязьма и захлопнуть крышку огромного котла. Обе армии были слишком измотаны. Поэтому Гитлер уже не мог готовить наступление по всему фронту. Он решил сконцентрировать основной удар на юге, чтобы захватить нефтяные месторождения на Кавказе и обескровить нашу бронетехнику и авиацию. Прорыв оказался неожиданным и болезненным — более трёхсот тысяч советских солдат и офицеров были окружены, уничтожены или попали в плен.
Фашистские батальоны хлынули в образовавшуюся брешь, к берегам Дона и Волги. Но и наши командиры кое-чему научились за этот год войны. Быстро организованное отступление не превратилось в бегство, это дало возможность предотвратить полный разгром на этом направлении, перегруппировать силы и не пустить немцев дальше предгорий Кавказа. После кровопролитных боёв пал Севастополь, и теперь весь Крым был в руках врага. Но в целом наступление было остановлено, в том числе на севере, где гитлеровцы пытались перерезать Мурманскую железную дорогу, лишив Советы иностранной помощи — техники и снаряжения. К осени баланс сил двух самых крупных армий в мире выровнялся, а западные страны всё ещё выжидали, на чьей стороне будет перевес.
— Валя, Валентина, что с тобой теперь? Белая палата, крашеная дверь.
Глеб открыл глаза и, действительно, увидел больничную палату и девушку в белом халате, косынке с красным крестом, читающую книжку со стихами у его изголовья.
— Тоньше паутины из-под кожи щёк… — продолжала медсестра. А Глебу захотелось что-то ей сказать, но с губ сорвался хриплый стон. Девушка вскочила с табурета, книжка упала на пол.
— Ой, очнулся! Я знала, знала! — молоденькая сиделка отложила потрёпанный томик ещё довоенных стихов.
— Что? — уже довольно внятно произнёс Глеб.
— Я знала, что если с тобой разговаривать, читать тебе, то ты быстрее придёшь в себя.
— Где я?
— Ты в госпитале, в Орехово-Зуево. А сейчас мне надо позвать врача. Лежи, не шевелись, тебе нельзя.
Девушку звали Зоя. Она ухаживала за всеми ранеными в палате. У Глеба была тяжёлая контузия, плюс перелом ключицы и большая потеря крови.
— Молодой организм, вытянет, — сказал пожилой хирург после операции. И был прав. Всё лето юный партизан провёл в госпитале, медленно, но неуклонно идя на поправку.
О том, что его доставили на самолёте и он несколько дней был без сознания, тоже узнал от врача. Вскоре парень выяснил, что вместе с ним в госпиталь попал ещё один партизан с ранением живота. Его уже прооперировали, и тот лежит в соседнем крыле. Как только Глебу разрешили ходить, он рванул на разведку и вскоре нашёл палату, где двое раненых играли в шашки. Сидящий спиной к двери оглянулся, и Глеб вскрикнул:
— Картавенко! Пётр!
— Художник! — обрадовался мужик, подтянул к себе костыль, встал с кровати и обнял сослуживца.
Шашки были отложены в сторону, мужчины разговорились:
— А я справлялся о тебе! — старый партизан снова сел на койку и усадил рядом собеседника. — Мне говорят: в другом корпусе. Ну и куда я с этими вот? — он махнул в сторону костылей.
— Ага, я на хирургическом. Видишь, в каком панцире хожу? — Глеб кивнул на загипсованные грудь и предплечье. — Мне ключицу чинили.
— Да уж, у тебя доспехи, хоть сейчас на передовую, ни одна пуля не пробьёт.
— Пётр, а расскажи, как всё было? С налётом. Я ведь ничего толком не знаю.
— А что говорить? Сам мало знаю. Выследили нас фрицы. Может, по дыму от костров, а может, ещё как… подняли звено бомбардировщиков. Больше шума наделали, все в землянках отсиделись, а там двойной накат, осколками не возьмёшь. А прямое попадание только одно было.
Глеб напрягся и пристально посмотрел в глаза Картавенко.
— В вашу землянку немец попал. От ребят мало что осталось, — с болью в голосе поведал партизан. — Получается, повезло тебе, что не добежал немного. А одним из брёвнышек тебя как раз накрыло… хорошо, что по плечу. Чуть в сторону и… хоронили бы вместе с танкистами.
Глеб молчал. У него навернулись слёзы. В горле образовался горький ком. Он вспомнил и молчаливого лейтенанта, тяжело переживавшего своё отступление от разъезда, и разговорчивого балагура Федю… они давно хотели уйти, прорваться к своим, воевать в танке, делать то, что хорошо умеют.
Но остались, и получается — навсегда.
— Ну а потом, как мы здесь оказались? — мучительно выдавил Глеб, медленно приходя в себя.
— Командир через радиста вызвал самолёт, и нас с тобой, как тяжёлых, на Геннадьево поле понесли, там и загрузили. Спасибо нашей авиации, научились по ночам летать, днём бы сбили к чёртовой матери. Да, и ещё, — добавил Пётр, — Ко мне особист приходил… всё-таки мы с тобой с оккупированной территории, фигуры подозрительные… так наш командир, чтоб ему жилось долго и счастливо, письмо успел нашкрябать, что мы — герои партизанского движения. Так что давай, художник, выздоравливай! Повоюем ещё. Родине нужны герои!
Потом эти слова он часто вспоминал. В городе Горький, которые многие местные по привычке ещё называли Нижним, куда его отправили на реабилитацию в санаторий, было много солдат и офицеров. Здесь проходили переформирование потрёпанные в боях воинские части. Выписанных из госпиталей сразу прикрепляли к уходящим на фронт батальонам. Вспоминал, когда рисовал зимние пейзажи за окном, и когда делал упражнения, восстанавливая мускулатуру, и когда чистил картошку на кухне…
Новый 1943 год он встретил здесь же, в Горьком. На санаторном складе нашли картонные хлопушки и ровно в полночь дали вялый залп.
А ниже по Волге, в Сталинграде, шли кровопролитные бои за каждый метр промёрзшей, израненной осколками земли. Там был иной салют — канонада тяжёлых гаубиц, наших и немецких, ознаменовала новый календарный год и не прекращалась ещё несколько месяцев, пока город не превратился в руины и пепелище.
«Моя страна истекает кровью, а я, комсомолец, здоровый лоб, прохлаждаюсь в тылу. Хорош!» — рассуждал Глеб. И пошёл в военкомат. Однорукий офицер с капитанскими кубиками в петлицах хмуро посмотрел в его документы:
— Нельзя тебе, Ливинцков. Нет восемнадцати.
— Мне семнадцать, это почти то же самое.
— Почти, да не то же! Потерпи, парень, навоюешься. Мы завтра Берлин ещё не захватим.
— Ну почему? Я здоров и умею обращаться с оружием. Винтовка, ППШ, МР-40!
— И много немцев убил?
Врать к своим семнадцати годам Глеб так и не научился, поэтому в ответ выдавил сквозь зубы: «Ни одного».
— Вот ты говоришь — здоровый. И хочешь помочь Родине. Иди на завод! Учеником токаря, например. Будешь точить снаряды. Сейчас рабочие руки позарез нужны!
Но Глеб приходил к военкому ещё и ещё — несколько дней подряд.
И капитан сдался:
— Ну, ты и настырный! Ладно, подправлю тебе год рождения. Приходи в понедельник. Пострижём в рекруты.
Глеб был счастлив. Он добился своего. Правда, сразу на фронт его не отправили. Уже не бросали необстрелянную молодёжь в самое жерло войны. Он попал в учебку, в артиллерийский полк, сформированный тут же в Горьком.
В апреле Глеб наконец-то получил долгожданное письмо от матери. Дело в том, что как только он освободился от бинтов и узнал, что его направляют в военный санаторий, он написал своей тёте, маминой сестре, в Свердловск. Туда же отправила своё письмо и мама Глеба. Дорога Жизни переправляла всё, в том числе почту. Поэтому тётя ленинградское письмо переслала уже в Горький. Мама писала, что у неё всё нормально, она работает в госпитале, а у всех работающих питание лучше, чем у иждивенцев. Что означает «нормально» в замерзающем и голодающем городе, Глеб не мог себе представить, но рад был хотя бы тому, что мама была жива.
В июне сорок третьего года их отдельный миномётный батальон был направлен на фронт. Глеб смотрел из-за приоткрытой двери теплушки на мелькающую зелень лесов и желтизну полей, на синеву безмятежного неба и понимал, что это здесь оно — мирное. А там, куда он едет, ничего мирного нет. И рисунки, которые вскоре появятся в его блокноте, будут совсем не те, что прежде.
Он ехал мстить. За своих друзей-танкистов, у которых остались семьи. За мать, которая вынуждена жить на двухстах граммах хлеба в день и при этом тяжело работать. За сотни тысяч погибших советских людей. Хребет фашистской военщины был надломлен, но держался. Гитлер спешно перебрасывал на восточный фронт все резервы, а Красная армия медленно, но неуклонно продвигалась на Запад. Вместе с линией фронта перемещались и миномётчики. Они участвовали в боях за освобождение Курска, Белгорода, Днепропетровска.
Но артиллеристы не сидят в окопе и не ходят в штыковую атаку. Они посылают сотни мин, не видя неприятеля, и редко пользуются личным оружием. Поэтому первого немца, направившего на него автомат, Глеб увидел только в октябре, накануне своего восемнадцатилетия.
— Поедете с Фроловым вон за ту рощу, там «Студебеккер» с нашим боезапасом застрял, — буднично сообщил комроты, как будто не отдавал приказ, а делился информацией.
— Есть, — отчеканил ефрейтор Глеб Ливинцков.
— Заводи мотор, — крикнул добродушный весельчак Фролов водителю дежурного тягача, поправляя на ходу автомат и запрыгивая в кузов.
Глеб устроился рядом. Они дислоцировались недалеко от Харькова. Линия фронта была в нескольких километрах, а тягач тронулся в противоположную сторону, в тыл. Накануне весь день лил дождь, поэтому не удивительно, что «снабженец» застрял в грязи. Когда тягач по разбитой колее тащился по перелеску, Фролов вдруг снял автомат с плеча и положил к себе на колени. Может, увидел что-то, а может, шестое чувство. Если так, то оно его не подвело.
Первая же очередь из засады прошила кабину. Несколько пуль попали в водителя. Солдат зажал рану в груди и повалился на сиденье. Скорость тягача была небольшой, и он, съехав с дороги, уткнулся в ствол могучего вяза. Фролов и Ливинцков мгновенно оказались на земле под грузовиком. Ещё одна очередь подняла фонтанчики грязи рядом с ними. Но больше не стреляли, явно берегли патроны.
— Если побежим, нам конец. Останемся здесь — тоже хана, — оценил обстановку Фролов.
Раньше он служил в полковой разведке, но после ранения его перевели в артрасчёт. Трезво рассуждать он ещё не разучился. Глеб не собирался никуда бежать, но он не понимал, как в тылу могли оказаться немцы? Крепко сжав в руках свой ППШ, он вглядывался в лес.
— Их не может быть много, это отставшие, — как будто прочитав мысли ефрейтора, шёпотом утешил Фролов. — Значит так, вон там шевелились ветки. Пали туда по моей команде, я их под шумок постараюсь обойти.
Глеб дал по кустам несколько коротких очередей, разведчик в это время шустро отполз назад и перекатился за обочину. На какое-то время всё стихло. Сердце у Глеба било в набат, но разум оставался холодным. Вдруг в лесу опять всё оживилось, раздался треск очередей, птичья стая взмыла ввысь… «Это Фролов зашёл им в тыл», — подумал Глеб и на всякий случай перекатился под днищем ЗИСа к задним колёсам, больно ударившись головой о карданный вал. И этим спас себе жизнь. Стрельба прекратилась, зато из ближайших кустов вылетела ручная граната, разорвавшись перед грузовиком. Правое переднее колесо оторвалось, на его месте образовалась воронка. Осколки впились в задние скаты, за которыми лежал Глеб. Те беспомощно зашипели, выпуская воздух.
«Наверное, решили, что я мёртв», — злорадно подумал боец Ливинцков. Он ждал, что будет дальше. Опять повисла плотная тишина, и тут позади грузовика что-то хрустнуло, как будто кто-то наступил на сучок. Фролов?
Глеб перевернулся на спину, по-прежнему сжимая автомат, и увидел чумазого гитлеровца в порванном кителе. Они вскинули оружие одновременно, и треск автоматных выстрелов разрезал тишину. Промахнуться было невозможно. Их разделяло всего несколько метров.
XXI век
Император:
по законам игры
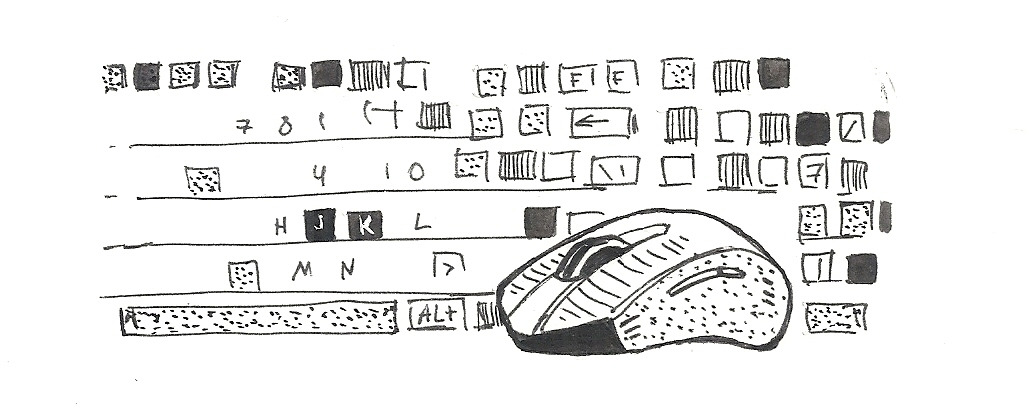
Император в бою потерял шпагу и побежал от нападавших. У него ещё оставался кинжал, но против нескольких достойных противников он бесполезен. Перед ним открывались двери дворцовых комнат и залов, но ощущение погони не оставляло. И вот спасение так близко, он знает, где спрятано оружие. Вбежав в тронный зал, Император попытался быстро открыть тайник, но преследователи уже стояли за спиной. Четыре меча одновременно вошли в тело с чавкающим звуком. После такого не выживают.
Перед глазами поползли чёрные буквы: Игрок Император, 34 уровень, потрачена жизнь, восстановление возможно через 59 секунд, потерян прогресс 168 баллов, недополучено 36 бонусов. Привязанные к игроку предметы можно забрать в тайнике после восстановления персонажа.
Сева Сапожников снял шлем и стал прислушиваться к своим желаниям. Взглянув на уни-браслет (от слова «универсальный»), он прикинул, что провёл в виртуальной реальности около восьми часов. «Не зря мать ворчит, что в игру, как на работу, хожу». При мысли о работе поморщился.
Сейчас 2022 год. Севе уже стукнуло двадцать четыре, но жизнь как будто и не начиналась. Учиться в школе было скучно и неинтересно. Хорошо, что на многих уроках можно было сидеть за последней партой и залипать в смартфоне.
Матери почти никогда не было дома, поэтому он научился подключаться к виртуальным играм и растворяться в среде придуманных персонажей стрелялок и бродилок.
Ещё школьником придумал себе звучный ник «Император». Разместил на аватарке корону, и дело сделано.
Тогда казалось, что подвластно всё. Можно исправить то, что не нравится, начать сначала, переиграть любую ситуацию. Эта уверенность происходила из любимых компьютерных игр, когда даже смерть была обратима. Сколько бы раз ни начинать, всегда можно добраться до победы. Но в жизни многое получалось иначе. Не смог сдать выпускные экзамены по русскому языку и математике в девятом классе и отправился в училище. Ну, и ничего страшного. Кого заботит этот аттестат? Только мать тяжело вздыхала и приходила с работы всё позже. На новом месте учебы тоже не сложилось. После ночей, проведенных за компьютерными играми, вставать рано утром и куда-то тащиться было «влом». Быстро накапливались неуды и хвосты, и из училища пришлось отчислиться. Проживёт и без этого образования. Зачем столько лет учиться, чтобы потом как молодому специалисту получать три копейки? Хотелось всего и сразу.
Сева не спешил взрослеть. Ночами входил в виртуальную реальность и становился абсолютно другим, не таким, каким отображало его скучное зеркало. Сливался со своим персонажем. Жил так, как складывалась игра.
Мать уже с ног сбилась, обращаясь к знакомым с просьбами найти для сына хоть какое-нибудь занятие, приносящее деньги. Прокормить детинушку становилось всё труднее…
Пришлось долго уговаривать, но, в конце концов, сын согласился пройти собеседование.
Крупный мужчина с ёжиком седых волос и большим квадратным подбородком сверлил пронзительными глазами листок с напечатанным текстом. Это было резюме Сапожникова.
Оторвавшись от шаблонного жизнеописания, хозяин помещения посмотрел на стенку, увешанную сертификатами и дипломами. Для директора крупного магазина кабинет был удивительно небольших размеров и очень скромно обставлен.
— Значит, на складе Вы работать не можете, так как у Вас сколиоз… нельзя поднимать тяжести и вообще физический труд под строжайшим запретом?
— Получается, так, — отозвался молодой человек.
Директор потёр свой массивный подбородок и посмотрел Сапожникову в глаза:
— Нам нужны люди на складе, в офисе и в торговом зале вакансий нет.
Сева поёрзал на стуле.
— Но так как я давно знаю Вашу маму как исполнительного работника и хорошего человека, — продолжил мужчина, — я решил лично с Вами поговорить, возможно, что-то и придумаем…
— С-спасибо, — глухо выдавил из себя проситель.
— Обычно отдел кадров даёт заполнить анкету с разными коварными вопросами, но я не сторонник сложных тестов. Поступим по-другому.
При этих словах хозяин кабинета вытащил из подставки обычную шариковую авторучку, протянул её гостю:
— Простая игра: я покупатель, Вы продавец. Продайте мне этот аксессуар.
Сапожников взял ручку, повертел её в руках, как бы отыскивая подвох, и нерешительно начал:
— Ну… это очень хорошая авторучка, купите её у меня… пожалуйста.
— А чем она лучше других, аналогичных? — равнодушно откликнулся директор.
— Э-э… ну, я не знаю, но если Вы купите её у меня, то правильно сделаете. И не пожалеете.
— Ясно, — вздохнул «покупатель» и отклонил «аксессуар», который попытался вернуть Сева, — оставьте себе, на память. Не смогли Вы меня убедить.
— Но ваша компания ведь не авторучками торгует, — вяло возмутился соискатель.
— Да, в нашем магазине продаются строительные товары. Но я уверен, что если попрошу Вас продать мне рулон рубероида, у Вас не получится лучше, чем с авторучкой. Потому что не знаете, какой он бывает, этот рубероид, и на фиг он, вообще, нужен! Верно?
Сапожников молчал.
— Инна Петровна говорила, что Вы ходили на другие собеседования, и чаще всего Вас не устраивала зарплата. Значит, хотите хорошо зарабатывать?
— Ну, я же не таджик какой-нибудь?
Хозяин кабинета недоумённо посмотрел на своего визави:
— У нас работают таджики, узбеки и люди других национальностей. Причём они трудятся, как говорится, не покладая рук, ответственно относятся к своим обязанностям и поэтому достойны уважения… и хорошей зарплаты.
Сева опять промолчал. Что он мог сказать?
— Ладно, — директор отодвинулся вместе с креслом от рабочего стола, давая тем самым понять, что разговор окончен. — Если в течение суток Вам не перезвонят, значит, Вы нам не подошли.
Когда Сапожников был уже в дверях, его снова настиг голос директора:
— С авторучкой — это известный фокус, много лет используется на тренингах и собеседованиях. Могли бы глянуть в интернете, перед тем, как идти на соискание должности менеджера.
Когда дверь захлопнулась, оставшиеся по разные стороны: хозяин кабинета и его посетитель — уже понимали, что никто никому не перезвонит.
Инна Петровна в молодости была красива, но молодость быстро проходит. Сергея она полюбила, как только увидела и сделала всё, чтобы увести крепкого широкоплечего и видного во всех отношениях парня у подруги. Любовь закрутилась быстро. Молодые люди словно потеряли ощущение реальности. Для них не существовало ни времени, ни пространства, ни других гомосапиенсов. На всё им было наплевать, кроме друг друга. Учёбу в институте Инна забросила, с подружками рассорилась, никого не замечала. Закончилось это, когда девушка поняла, что ждёт ребенка. Она была красива, молода и неопытна. А ещё была влюблена, и это делало её вдвойне безумной. Реакция Сергея на новость о беременности подруги была бурной:
— Почему ты так спокойно об этом говоришь?
— А как я должна сказать? Торжественно, с трибуны? Или плача и ломая руки?
— Как это могло случиться… мы же предохранялись!
— Серёженька, это иногда случается. Не понимаю, почему ты так расстроен? Это не болезнь. Это ведь частичка тебя… во мне.
— Я не готов стать отцом, — он вскочил и начал мерить шагами комнату, — Мы ещё молоды и… не нужен сейчас этот ребёнок.
— Ты за нас двоих так решил? — холодно произнесла Инна.
Она ясно увидела, что огонь любви погас в его глазах так же внезапно, как вспыхнул. После ухода Сергея вернулась реальность и обрушилась на молодую беременную женщину градом проблем. Она твёрдо решила оставить ребёнка. От Инны отвернулись многие, в том числе родители. Они были жёсткими людьми с консервативными понятиями о семейной жизни.
— Ты променяла образование на какого-то мерзавца, обрюхатившего тебя и слинявшего в неизвестность, — ледяным тоном констатировал отец. — Значит, это твой выбор и твоя судьба. Можешь переехать в бабушкину квартиру, ты же теперь самостоятельная.
Бабушка Инны скончалась три года назад от пневмонии, успев перед смертью завещать свою «однушку» на Гражданке любимой внучке.
Инна перебралась на новое место жительства и осталась вдвоём сначала со своим горем, а потом со своим сыном. Об институте пришлось забыть, найти работу… и начать всё как бы сначала.
Постепенно жизнь устроилась, но любовь к Инне больше не приходила. У ещё молодой и привлекательной женщины «случались» ухажёры, но она никогда не приводила их в свою скромную квартирку на северной окраине Питера, где ждал уже всё понимающий Сева.
Маршрут от дома до работы и обратно резко сократил её жизнь, значительно уменьшив плотность событий. Когда Инна Петровна посмотрела в печальное зеркало, то увидела, что от былой красоты мало что осталось. Сын вырос, но перестал обращать на неё внимание, как и другие мужчины. Хотя она ходила на работу, покупала в магазине продукты, готовила еду и всё же знала, что жизнь её закончилась. Умерли желания и надежды, а без них словно и нет человека. Инна Петровна, бесспорно, хотела сыну добра, только не знала, как ему помочь. Севочка давно считал себя умнее матери и не желал прислушиваться к её нравоучениям.
— Когда уже ты перестанешь скрипеть? — нередко обрывал неблагодарный сын материнские упрёки.
Та замолкала и отворачивалась. Вырос сын, и воспитывать его уже поздно.
Если приходил Игорь — Севин товарищ по компьютерным играм — парни нередко вели беседы о своём, молодёжном:
— Игорёк, вот ты в университете учился аж до второго курса, много чего, наверное, узнал? — начинал подтрунивать над школьным другом приятель.
— Ну, хватит, ёк-макарёк, прикалывать-то. Чё надо?
— Вот скажи, почему весь мир разделился на геймеров и чайников, которые только и могут, что пасьянс разложить или тетрис по полю гонять? Некоторые, — Сева выразительно посмотрел в сторону кухни, — даже комп включать правильно не умеют. И они друг друга терпеть не могут, потому что не понимают. Живут в параллельных мирах, говорят на разных языках, но иногда сталкиваются на одной кухне.
— И что тебя удивляет? Да, появление компьютеров и интернета изменило мир. Теперь мы первые среди равных. Я считаю, квесты и файтинги круто прокачивают скилы. Учиться не надо, переживать разные сложные жизненные ситуации тоже. Игра всему научит. Легко и быстро.
— Но это совсем другое и никак с реальностью не вяжется. Тут монстры и рейдбоссы, а там мать ворчит, деньги где-то брать надо. Если бы можно было нажать «искейп» или перезагрузиться.
— Кто тебе мешает, ёк-макарёк! Нажми кнопку входа, надень шлем, возьми джойстик, войди в виртуал — и ты в другой реальности, повелитель матрицы.
— Как у тебя всё просто…
— Ты много паришься, смотри, философом заделаешься, книжки начнёшь писать, мозг в черепную коробку перестанет помещаться.
— Вот отключили бы меня от этой реальности и оставили в виртуальной, — мечтательно произнёс Сева, — там можно перерождаться и начинать всё сызнова..
— Хэ! Ёк-макарёк, был уже в мифологии такой, которому боги в наказание оставили жизнь и заставили юзать одну и ту же игру. И звали того героя Сизиф, и катал он свои камушки, как шарики в лайнсе, целую вечность и хотел только одного — смерти, как у обычного человека.
— Ну, и к чему эта твоя поучительная история?
— Мы боги, пока можем жить и творить сразу в двух мирах: реале и виртуале. Помнишь, два года назад, когда началась эта пандемия, всех посадили на карантин, а потом ещё на целую неделю вырубился интернет, вот тогда и была засада, казалось, что мир рухнул. Кругом сбои в работе всех служб! Да, никто без интернета ничего не может. Вся сила в глобальной сети!
— Ты, конечно, загнул, но я эту неделю помню. Жестокое попадалово.
— Ладно, ёк-макарёк, надеюсь, больше такого не случится… лучше не вспоминать. Как говорил наш препод по психологии: «Только не думайте про белого кролика». Это, поди, из какой-нибудь книжки или фильма. И как после такой фразы про него не думать? Наши девчонки потом долго вспоминали этого кролика.
— А чего о нём думать?
— Не грузись! Это у него прикол был такой. Понимаешь, поверил я Льву Анатольевичу, классный мужик. Мне даже интересно было на его занятиях. Вот на высшей математике я ничего не шарил, а на психологии было реально круто. Препод пытался объяснить нам, в чём смысл жизни, хотя и говорил, что это нерешаемая задача. Ключевыми в этом деле он называл время и место. Это две философские категории.
— И что? При чём тут время и место?
— Человек, это так Лев Анатольевич говорил, должен найти своё место в своём времени. Типа нужным кому-то стать, пользу приносить. Это теория такая, а практика как-то не складывается. И всё-таки, при чём тут белый кролик, ёк-макарёк! — Игорь задумчиво упёрся взглядом в стенку и замолчал.
Когда Сева учился в школе, с ним произошел один случай, о котором он старался впоследствии не вспоминать. Но и забыть не получалось. Мальчик с раннего детства понимал, что их семья живёт беднее других, так как мать из сил выбивается, чтобы одеть и накормить сына. А он всё равно страдал от осознания нищеты. Одноклассники и ровесники не упускали случая, чтобы дать почувствовать своё превосходство, связанное с обладанием теми или иными предметами детской роскоши. А у Севы не было этих желанных вещей, да и быть не могло. Ни дорогие импортные игрушки, ни модные «тамагочи», ни навороченные сотовые телефоны даже «не улыбались» мальчугану. Мечтать о них не имело никакого смысла.
Мать в конце каждого месяца вынуждена была занимать, чтобы дотянуть до зарплаты. Уже в начальной школе Сапожников столкнулся с обидно-жалостливыми сочетаниями «мать-одиночка» и «неполная семья». Так говорила их учительница, проводя в классе опрос. Мальчик, задумываясь над простыми, на первый взгляд, словами «одиночка» и «неполный», нутром чуял свою оторванность от общества и неполноценность.
Как-то на перемене к Севе пристал Вовка Синицын, требуя объяснить, почему у Сапожникова нет отца.
— Без папы дети не получаются. Я-то знаю. Где твой отец скрывается или ты его скрываешь? Рассказывай!
Вова накануне подсмотрел в классном журнале, что напротив фамилии Сапожникова записаны только данные матери.
Сева ничего рассказывать не хотел, да и не знал, что говорить, ведь мать на эту тему никогда не распространялась. И он с досады толкнул настырного мальчишку. Синицын спиной налетел на стеклянную дверь и по закону глобального невезения разбил её вдребезги. Он вскочил и выпучил глаза на осколки, не в силах осмыслить произошедшее.
А Сева от испуга разревелся, словно испытал сильную боль. Учительница застала немую сцену. Перед ней стояли ничуть не пострадавший Синицын и размазывающий слёзы по щекам Сапожников. Суровый, но справедливый педагог сделала неверный вывод, что пострадавшим следует считать Сапожникова. Все последующие разъяснения не смогли переубедить классную руководительницу, которая уже вынесла вердикт. От своего первоначального мнения учительница никогда не отказывалась, поэтому в школу вызвали родителей Синицына. Да и что взять с матери-одиночки Сапожниковой? А отец виновника отремонтирует сломанное без возражений.
После уроков к Севе подошёл Вовка с двумя дружками. Не терпелось разобраться, ведь виноватым во всём Синицын считал своего одноклассника. И спускать обиду не собирался. Разговор был коротким, но Сапожников так испугался, что он принял решение не выходить из школы.
Сева искренне поверил, что троица будет караулить его на улице, а значит, путь домой отрезан. Помощь ждать было неоткуда. Второклассник забился в дальний угол раздевалки для младших школьников. Там складировали потерянные вещи. Мальчик расположился на мягком и обессиленный от свалившихся на него переживаний задремал.
Когда открыл глаза, то не сразу сообразил, где находится. Над ним стояла женщина и бесцеремонно его разглядывала. Сева смутился.
— Ты почему здесь? Почему домой не идёшь? — грозно спросила гардеробщица.
— Я уснул, — честно признался второклассник.
— И что тебе снилось?
И вдруг неожиданно для себя и для слушательницы Всеволод начал рассказывать свой сон.
Вокруг гулко шумели высокие деревья. Тёмные тени надвигались на меня. Было очень страшно. Я шёл по дороге в глубь леса. Чувствовал, как всё дальше ухожу от дома. Я что-то искал, но не знаю, что. А потом прямо на дороге я увидел волка. Он смотрел на меня с хитрым прищуром. А глаза горели зелёным огнём. Как будто знал обо мне всё. Я не мог убежать, но и дальше идти не мог. А зверь, преграждая дорогу, чего-то ждал от меня. Не знаю, чего. А потом, словно не дождавшись, развернулся, мотнул большой лохматой головой и ушёл. Я открыл глаза и увидел вас.
Суровая женщина улыбнулась, и Сева понял, что она не страшная. Этот случай и сон, увиденный в школьной раздевалке, парень запомнил навсегда. Вот только мучил его один вопрос: чего ждал от него волк?
На днях, выходя из магазина с упаковкой чипсов, Сева столкнулся со своим бывшим одноклассником Вовкой Синицыным. Тот из малька превратился в крепкого спортивного парня. Он смотрел в длинный список продуктов и чуть не сбил Сапожникова с ног.
— О, Вован. Здоров! — развязно приветствовал его геймер. — Чё, на месяц затовариваешься? — он ткнул пальцем в список.
Синицын смущённо убрал листок в карман:
— На неделю.
— А чего доставку не закажешь?
— Да так… привычнее. Самому можно свежее выбрать.
— А, ясно. Как сам-то? Слыхал, в универе маешься? Грызёшь гранит науки?
— Ага, грызу.
Старые распри были давно забыты, ребята несколько лет не виделись и поэтому охотно общались.
— Какая специальность-то? — спросил Сева.
— Лингвистика.
— Блин, да это сплошная зубрёжка, наверное? И чё, нравится?
— Да как сказать… с одной стороны, тяжко. С другой — понимаю, что это на будущее. Куда сейчас без специальности? Да и иностранный язык всегда пригодится. Вот, к примеру, что мы знаем о европейцах? То, что нам по телеящику показывают. А ведь там может быть предвзятая информация, в зависимости от того, дружим мы сейчас с этим государством или нет. А поговорить с каким-нибудь, скажем, бельгийцем, понять, как ему живётся в его Брюсселе, смогу, только зная язык.
— Да ты крамольные вещи глаголешь, ишь, телек ему не нравится, — усмехнулся Сева. — А ты новости всякие не смотри, там и другие каналы есть. А кем будешь работать, когда выучишь свои языки и диплом получишь?
— Не знаю ещё, рано об этом думать, — вздохнул Володя. — Может, экскурсоводом устроюсь, как моя мама. Она очень много интересного рассказывает о своей работе. Что это я всё о себе, ты-то как? Учишься? — спохватился будущий лингвист.
— Да нееет, — протянул Сапожников. — Дудки, насиделся я за партой. Пошёл в лицей после школы, радиотехнический… но там тоже не понравилось, та же физика с математикой, и кругом одно быдло… катись оно всё! Сейчас работу подыщу, чтобы по душе… Сева ковырнул носком ботинка трещину в напольной плитке. — Приходишь домой, и свободен! Ни тебе зачётов, ни курсовиков, ни других хоум-ворков! Никаких экзаменов — кайф! Вникаешь?
— Понимаю, — подтвердил Синицын. — Ладно, мне пора. А то все огурцы без меня скупят. Бывай, свободный человек!
Сева запустил руку в пакет с чипсами и побрёл к выходу.
Вообще, Сева нечасто вспоминал свой класс, но по отношению к компьютерным играм всё было просто. Все ученики были разделены отношением к геймерству на две неравные части. Толик, например, был в классе самый умный, любил читать, если находил хоть одну свободную минуту в течение дня. У него просто физически времени на зависание в сети не было. У Вовки Синицына родители были строгие. Уроки сделал — спать! Скука…
Егор с Филиппом увлекались физкультурой. Сева часто их видел на спортплощадке рядом со школой. «Какой интерес потеть на турнике?» — недоумевал Сапожников. Вот Игорьку надо бы похудеть, но он-то как раз был «сторонником» компьютерных игр и виртуалки. Ашот занимался музыкой. Кажется, виолончелью. Трындец! Родители-музыканты. Вот чуваку не повезло… в старших классах он перевёлся в специализированную музыкальную школу. Ну а про девчонок вообще говорить нечего — какие из них игроманы? Чатятся сутками и смотрят свой любимый «Дом-2». Курицы.
Лишь Сева не мог жить без игр в онлайне вплоть до того, что засыпал перед включенным компьютером, который был для него и другом, и соперником, и врагом. Жизнь внутри всемирной паутины подходит не всем, всё равно как военный лётчик свысока презрительно смотрит на все остальные рода войск.
В игровой мир Сапожникова вовлёк Игорёк. Тогда они ещё не были друзьями. Просто после школы шли в одном направлении.
Одноклассник пригласил Севу домой, чтобы похвастаться новым родительским подарком — компьютером. Как только в первый раз попал в виртуальный мир, он оказался в своей стихии. Даже рыба в воде не чувствует себя лучше и естественнее, чем ощутил себя подросток. Он стал одержим компьютерными играми. Мать каждый день слушала причитания сына о том, что невозможно жить без мощного компьютера. А как без него полноценно учиться?
Инна Петровна стала откладывать деньги на дорогую «машину», а пока что Игорь стал для Сапожникова лучшим другом и проводником в другую реальность.
Выходить из дома Сева не любил. Но мать не покупала ему любимую колу и чипсы, поэтому иногда сам шёл в магазин. Однажды по пути в универсам к нему привязалась странная женщина. Была она в длинной, тянувшейся по земле юбке, чернявая, с выбивавшимися из-под платка космами. То ли увидела она что-то такое в Севе, то ли просто приставать больше было не к кому. Тётка наговаривала что-то непонятное. Но из бессвязного набора слов выходило, что скоро ожидает Сапожникова страшное горе.
— И через горе это найдешь ты свою любовь. Только и с ней счастлив не будешь, — тараторила сумасшедшая, едва поспевая за ускорившимся Севой.
— Да, отстань ты! — отмахивался парень.
— Всё ещё исправить можно. И беды избежать, и любимую удержать. А не ведаешь ты, что творишь. Не знаешь, как соединить прошлое и будущее с настоящим.
— Вот ведь доставучая! — Сева оттолкнул закатывающую глаза и странно подвывающую навязчивую бабу. А она продолжала кричать ему в спину:
— Перед смертью стоять будешь, а ничего не поймешь, как дитё неразумное! Память свою открой, память!
Он поделился этой историей с мамой, та грустно покачала головой: встреча с гадалкой никому ничего хорошего не сулит.
Сева всей душой ненавидел книги. Он сам не помнил, когда эти странные чувства появились. Рос тихим и незлобливым мальчишкой. Уважал старших, избегал конфликтов со сверстниками, здоровался с соседями. Маму слушался до определённого возраста. При всех этих достоинствах вроде должен был любить учиться и читать книги. Своими заячьими повадками оставаться незаметным и умением бесшумно сидеть на уроках Сапожников походил на отличника. Вот только мало казаться отличником, нужно ещё им быть. Однажды он принёс в школу больше всех макулатуры. После этого книг у него дома не осталось.
Сева не любил гулять, ходить пешком по городу и покидать квартиру. Он учился в школе, которая находилась практически около дома, пока был маленький, играл с мальчишками. Правда, и с соседями по двору отношения как-то не сложились. В общем, сначала Сапожников боялся выходить во двор, потому что ребята могли побить, а потом просто не хотел. Кому-то нравится гулять по улицам, а кому-то нет. На вкус и цвет, как говорится.
Жили они с матерью в Калининском районе в старой пятиэтажке, построенной ещё в советское время по типовому проекту. Дома, рассчитанные на 30—40 лет эксплуатации, в третьем десятилетии ХХI века представляли собой жалкое зрелище.
Если бы Сева сфотографировался около дома, то вряд ли кто-нибудь по городскому ландшафту догадался, что Сапожников находится в Санкт-Петербурге. Ничего, напоминающего культурную столицу в ближайшем окружении Севы не наблюдалось: ни дворцов, ни соборов, ни набережных с мостами — всего, чем славится град Петра.
В Эрмитаже Сева был в детстве на школьной экскурсии, и больше туда не хотелось. Лучше в игре многократно проходить один и тот же сложный уровень, чем бродить по одним и тем же залам. Музеи и другие культурные учреждения паренька нисколько не интересовали.
— Мальчик лишён чувства прекрасного, — со вздохом сетовала классный руководитель.
Сильное впечатление в детстве произвёл цирк. Когда ему исполнилось десять лет, мама в подарок, вместо игрушки, купила билеты на цирковое представление. Севка сначала расстроился, потому что мечтал тогда о новом компьютере, но, когда оказался в необычном здании на набережной Фонтанки, был потрясён. Ему понравилось всё: и забавные клоуны, падавшие на арене, и дрессированные тигры, и умные слоны. Поразили детское воображение эквилибристы, летавшие под куполом. А ещё был фокусник, распиливавший людей. После цирка мама с сыном гуляли в Летнем саду, ели мороженое. И Севе как никогда в жизни хотелось рассказывать о том, что он в тот день увидел. Надолго в памяти осталась яркая вспышка радости, которую хотелось повторить, вот только молодой человек не знал, как. Он даже собирался купить билет в цирк, но, узнав цену, передумал. «Что я — маленький? — рассуждал он. — На эти деньги можно взять столько пива и чипсов!»
В общем, старинного Петербурга, ради которого миллионы людей приезжают сюда со всего мира, Сева не знал. Город был ему неинтересен, и отвечал своему неблагодарному жителю тем же. Разве мог Всеволод Сергеевич Сапожников, 24 года, образование 8 классов, безработный, быть интересен Петербургу?
Недавно после очередного трудового дня Инна Петровна покормила сына ужином, помыла посуду и подсела к своему чаду, терпеливо ожидая, когда Император закончит проходить очередной уровень игры. Вот он щёлкнул пальцами и благодушно откинулся в кресле. Видимо, этот раунд завершился победой. Женщина заговорила:
— Севочка, у меня на работе открылась вакансия системного администратора.
— Мам, ты опять за своё? — улыбка исчезла, уступив выражению досады на лице геймера. — Ползать с проводами под чужими столами и выслушивать бред тупых чайников? Это без меня!
— Но это ведь работа с компьютерами, тебе вроде нравится…
— Сейчас любая работа с компьютером. На дворе XXI век! А сисадмином не стану, — раздражённо отрезало чадо.
— Но ты же не ищешь работу, целыми днями сидишь у экрана монитора, я боюсь за твоё зрение, за твой сколиоз, за твоё психическое состояние, в конце концов!
— Ну, понеслось… мам, я нашёл себе работу в сети, «прокачиваю» супергероев.
— Что же ты тогда на чипсы у меня деньги стреляешь?
— Потому что это пока не очень прибыльно, — Сева отвернулся к стенке и разговаривал сквозь зубы, явно тяготясь диалогом. — Но мы с Игорьком скоро замутим стартап, у нас идей масса!
Инна Петровна сокрушённо покачала головой. Сын решил, что если быстро свернуть этот разговор не получится, надо перевести его в другое русло:
— Ладно, мать, не парься, скажи лучше, я там коробку под шкафом нашёл. В ней какие-то фигурки, керамические… типа тётки в старинных платьях и зверушки всякие…
— А зачем ты туда лазал? Там мои вещи.
— Я свой старый плэй стэйшн искал, хотел продать на Авито…
— Это старинные статуэтки, сделаны из настоящего фарфора, они мне от моей прабабушки достались, поэтому я не держала их на видном месте… когда ты маленький был, боялась что разобьёшь или обменяешь.
— Ну, теперь-то я не маленький, можешь выставлять своё сокровище напоказ, мне ваще они по барабану, я же не девчонка. А прабабка твоя их откудова взяла? Может это, как его… антиквариат китайский?
— Да нет, это местного производства. Один матрос, когда национализировали какую-то мастерскую на Петроградской стороне, рассовал по карманам бушлата «безделушки» и потом раздаривал их детям. Вот и моей прабабушке несколько штук досталось… она же ещё ребёнком тогда была. Так что вот. Семейная реликвия, получается. Не трогай их, пожалуйста, я ими дорожу.
— Да больно надо, было бы что! — он придвинул кресло к компьютерному столу.
Это был самый длинный их разговор за последние десять лет.
На днях Игорёк принёс новость, появилась новая игра NW, геймеры называли Невой, только ударение в слове не как в названии реки. New World, или по-русски Новый мир, был квестом с элементами шутера и файтинга. Можно и пострелять, и подраться… Неплохо детализированный мир, где оболочка персонажа выбирала тебя после небольшого теста. Раньше Сева играл в разные игры. Начинал с ДУМа и ГТА, потом подсел на доту. Другие: ролеплей, роблакс, майнкрафт — были лишь проходным моментом. И вот теперь перед ним открывается Новый Мир. Всё тело напряглось, сердце ускорилось, руки его задрожали в предвкушении игры. Сева надвинул на глаза VR-очки, которые до этого располагались на лбу, и ушёл в дивную, цветную реальность.
Император был счастлив.
Этот миг был прерван зазвонившим смартфоном. Звук мешал сосредоточиться на игре. Сева хотел сбросить, но машинально нажал кнопку ответа.
— Алло, это Всеволод? Инна Петровна Сапожникова кем Вам приходится? Ах, мама… Ваша мама… она попала в аварию, — произнёс незнакомый холодный голос.
Через час он уже был в больнице, и узнал, что мама не дожила до его приезда.
XVIII век
Гончар:
пора ученичества

1778 год не был спокойным для христианского мира. Австрия с Саксонией воевали между собой за обладание богатой Баварией. Французы колотили англичан в Северной Америке, а Бенджамин Франклин настраивал конгресс на полную независимость США от тех и других. В Париже скончался Вольтер. Екатерина вскоре договаривается о покупке его знаменитой библиотеки.
Этьен Фальконе, не дождавшись окончания работ над Медным всадником, конфликтует с императрицей и покидает Россию. Основываются города Мариуполь, Херсон, Шуя и Ковров.
Данила плёлся домой измотанный за день, но почти счастливый. Сегодня его опять похвалили, но не этому он радовался. К добрым словам мастера уже привык, но, помня его же наставление: «Никогда не останавливайся на достигнутом», — Данилка не зазнавался, а работал с ещё большим усердием.
А улыбка на его лице играла потому, что сегодня был его последний день в учениках — завтра предстоит экзаменация. Долгие месяцы обучения закончились, и наконец должна решиться его судьба — ехать домой к матери или стать настоящим подмастерьем, а потом, даст бог, и мастером. И с настоящим жалованьем, а не с похлёбкой два раза в день, как положено ученику…
Сегодня вечером, при тусклом свете керосинки, он ещё раз просмотрит эскизы, они у него с собой. Там, в большой картонной папке, обтянутой потёртой жёлтой кожей, примеры того, что делали ученики на прошлых экзаменациях… Данила Бирюков сейчас волновался и радовался одновременно. Завтра всё решится!
Бледно-оранжевый солнечный диск стремился спрятаться за крыши петербургских домов. К вечеру противный дождь со снегом прекратился, немного подморозило, и Данька иногда ускорял шаг, чтобы проскользить на прямых ногах по ровному участку мостовой…
Свернув в свой переулок, он увидел дворника Пахомыча, неторопливо посыпающего песком ступени, ведущие к входным дверям домов. Он зачёрпывал из старой рассохшейся кадушки песок полукруглым совком, наподобие того, каким отвешивают муку в лавках, и нёс к очередному скользкому участку.
— Вечер добрый, Матвей Пахомыч! — Данила всегда здоровался с дворником и называл его на Вы, в отличие от других жителей переулка.
— А, привет! Сколько сегодня горшков слепил?
— Один. Но большой, — весело отозвался мальчишка.
— Ну, и то добро, — усмехнулся Пахомыч в свою огромную бороду и с кряхтеньем наклонился к бадье за новой порцией противогололёдной смеси. Дворник — уважаемый и ответственный человек на своём месте и многое знает о его обитателях, не из любопытства: надо понимать, когда и сколько дров нужно жильцу, накачать ли воды, да и чтобы посторонние не ошивались…
Поднявшись по скрипучей лестнице на третий этаж к своей каморке и отперев дверь, Данила скинул с плеча папку с эскизами, снял шапку, повесил на гвоздь, стал расстёгивать шубейку, но руки вдруг замерли на второй пуговице — взгляд его упал на стол, на нём что-то лежало.
Данила точно знал, что ничего не оставлял утром на столе, и шагнул ближе. На неструганной столешнице покоился свёрток и какой-то пучок соломы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это соломенная кукла: руки, ноги, косы, разрисованная углём мордашка… масленица! А в старой тряпице оказалась серебряная монета. Данила ахнул: «Рубль! Целый рубль!» В кармане Данилы могли водиться разве что медные копейки.
Догадка осенила молодого гончара: «Яшка! Больше некому». Яшка-вор не обучен грамоте, поэтому вместо записки подсунул игрушку, поздравил Данилу с Пасхой! Бирюков вернулся к входной двери и проверил навесной замок — ни одной царапины! Ну, Яшка, ну, стервец. Хозяин комнаты восхищённо разглядывал непривычную чеканку и вспоминал, как он познакомился с вором…
Ещё в прошлом году, по осени, так же вечером возвращаясь с занятий домой, он вдруг заметил, что из подворотни навстречу ему шагнула тень. Паренёк, одного с Даней роста и, возможно, возраста… был одет в залатанную рубаху, цигейку-безрукавку, засаленные портки и надвинутый на брови картуз.
— Куды торопимся? Деньги есть?
Данила опешил.
— Нету, — искренне признался он.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.