
Бесплатный фрагмент - Книга перемен. Том 1
Материалы к истории русского искусства
Вперед, в историю! Небольшой мемуар
Москва, 2016
Иногда Андрея Ковалева называют «первым критиком». Но это не совсем так. В Советском Союзе всегда существовала весьма плотная среда критиков и историков искусства. И в восьмидесятых я достаточно активно публиковался в профессиональной прессе — журналах «Творчество», «Искусство», «Декоративное искусство». И даже написал с Еленой Курляндцевой небольшую книжечку, содержащую интервью с художниками, которая вышла каким-то немыслимым по современным понятиям тиражом. Но никакой критики в официальной прессе, конечно, не было. Когда наступила перестройка, я обнаружил, что в самых ультрапрогрессивных перестроечных изданиях, например, «Огоньке» и «Московских новостях», в отделах культуры работают люди, весьма консервативно относящиеся к современному искусству. Кроме того, в те времена практиковался совершенно немыслимый рерайт, убивающий всякий смысл.
А в начале девяностых я несколько неожиданно для самого себя превратился из академического искусствоведа в газетного критика. И на короткий промежуток времени оказался единственным профессиональным искусствоведом, который пишет для массовой прессы. Дело в том, что, когда в 1991-м году ко мне подошел Борис Кузьминский и предложил писать в новую газету — «Независимую», я уже примерно знал, что и как нужно делать. В 1990-м году я защитил диссертацию, посвященную художественной критике 1920-х годов.
Во время работы я изучал все доступные опубликованные тексты 1920-х годов и поэтому весьма неплохо представлял себе практику письма об искусстве в массовые издания. Мои герои-кумиры — Николай Пунин, Николай Тарабукин, Алексей Федоров-Давыдов, Абрам Эфрос и другие — в те времена мастерски совмещали академические исследования с собственно художественной критикой в газетах и журналах. Так я и оказался единственным человеком, который был готов к переходу на новый уровень письма.
Отмечу, что большинство моих коллег по отделу искусства «Независимой газеты» и газеты «Сегодня» также в большинстве своем происходили из академической среды. Журналистского образования, кажется, ни у кого не было. Его, собственно, не было и у большинства сотрудников этих прекрасных изданий. Нет сомнений в том, что наши издатели ставили некие ограничения для тех, кто писал на общеполитические и экономические цели, оставив карт-бланш на стиль изложения. Но для отдела Культуры не было выставлено никаких границ — и мы веселились вовсю, беседуя с нашими читателями как со старыми друзьями, которых можно спокойно мистифицировать и умничать на только нам понятные темы. Я, например, бравировал в капиталистической газете своим декоративным марксизмом; Вячеслав Курицын повсеместно насаждал постмодернизм. И наши эскапады вызывали лишь одобрительное урчание консервативного Андрея Немзера.
Впрочем, все было не так. Мы старались честно и искренне донести до наших читателей свои представления о художественном процессе, будучи глубоко убежденными в том, что говорим с людьми умными, добрыми, незашоренными и стремящимися к новым знаниям. И, как то ни удивительно, эта странная тактика сработала. У нашей страницы появилось довольно много интересантов, даже среди тех, кто сроду никаких газет не читал или был категорически не согласен с позицией наших политических и экономических обозревателей. То есть мы каким-то магическим образом образовали внутри общенационального издания некий элитный журнальчик, который неожиданно приобрел, как говорят, общенациональную популярность. Наверное, это произошло потому, что мы были уверены, что все делаем правильно. Другое дело, что к тому моменту академическая наука развалилась окончательно, и нам пришлось на своей площадке заместить весь спектр интеллектуальной продукции. Именно поэтому западные люди так удивляются, обнаруживая, сколь высокий статус могла иметь в определенный момент художественная критика. Вообще говоря, во всем мире «академики» весьма высокомерно относятся к «газетчикам». Просто к тому моменту все возможные площадки интеллектуальной активности уже свернулись. А новые еще не появились. И умственная составляющая нашей гуманитарной деятельности разлилась по газетно-журнальным страницам.
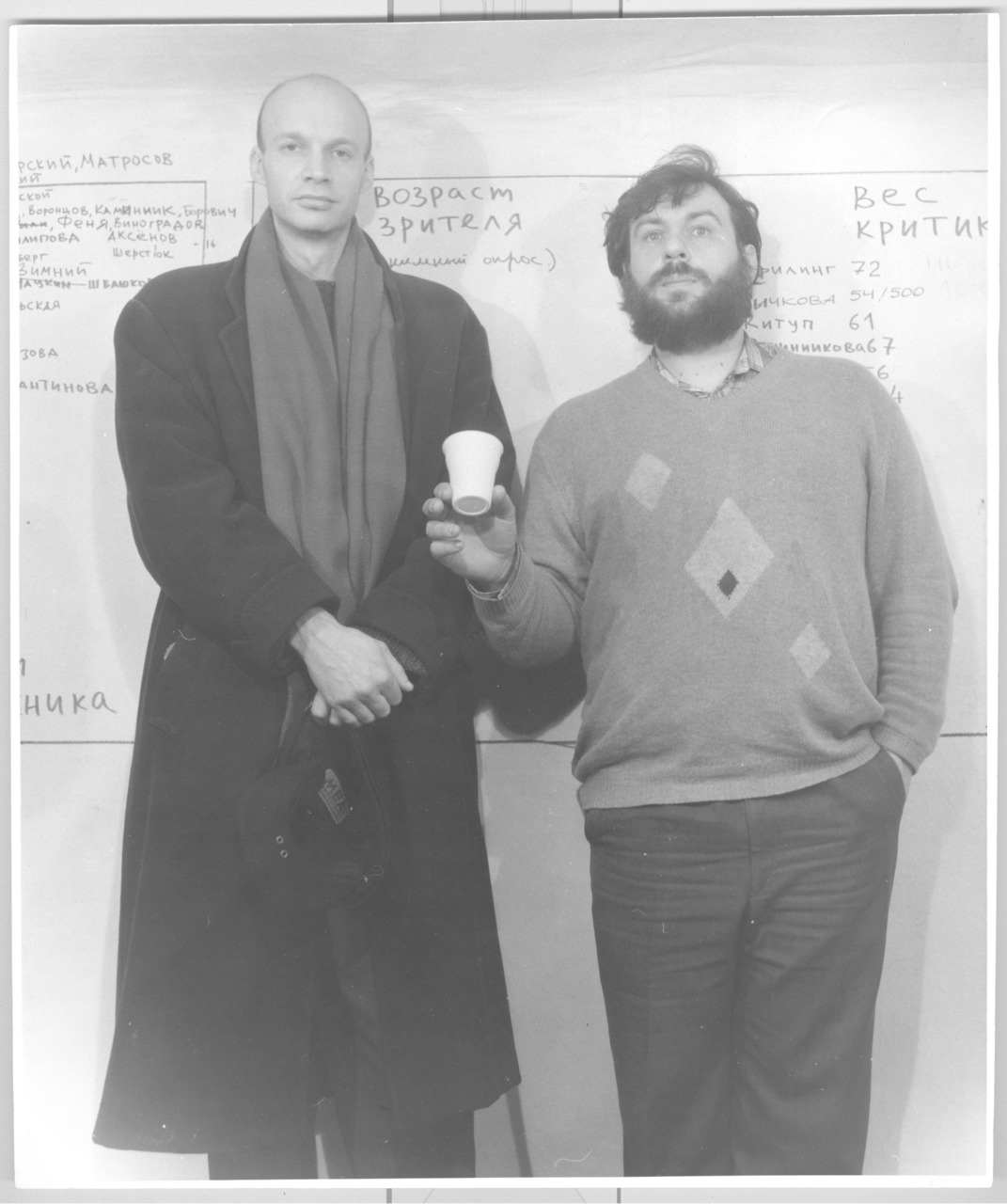
Так начался прекрасный, но короткий беспредел критического текста. На одном обсуждении в «Гараже» достойнейший коллега Валентин Дьяконов с оттенком зависти сказал, что сегодня в «Коммерсанте» он может писать только о деньгах. То есть критикует, кого захочет. Но освещает только такие события, в которые были сделаны достаточно серьезные инвестиции. А в девяностых денег попросту не было, и я был волен писать о выставках в музеях наравне с событиями в маленьких галереях. Следует также сказать, что в те титанические времена возникло множество изданий самой разной направленности. И вполне ответственные статьи об актуальном художественном процессе появлялись даже в непрофильных и беспредельно популистских изданиях. Просто тогда всякий дискурс приходилось выдумывать заново. Даже категорически отсутствовавший в СССР язык желтой прессы требовал серьезных интеллектуальных инвестиций. В «Московский комсомолец» писала (и об искусстве в том числе) Марина Овсова. И даже в беспредельно желтом листке «Мегаполис экспресс» работал поклонник Юрия Мамлеева Игорь Дудинский.
Удивительно, но наше начальство тоже смотрело на наши эскапады как-то на удивление благодушно. А мы в какой-то момент обнаружили себя людьми именитыми и знаменитыми, хотя еще совсем недавно более уютно чувствовали себя в тиши библиотек, сверяя примечания для очередного тома «Вопросов чего_нибудь_там». Конечно, такой размашистый критический метод часто оборачивался некой неряшливостью по отношению к своему материалу (в данном случае я признаюсь только в своих собственных прегрешениях и ни в коем случае не имею никаких намерений возвести хулу на моих добросовестных и корректных коллег по упомянутым изданиям).
Однако я очень недолго пробыл единственным на всю страну газетным художественным критиком. В 1993-м при переформатировании газеты «Коммерсантъ» в ежедневное издание туда пришли Алексей Тарханов и Екатерина Деготь. И, в ответ на разухабистый стиль «Независимой», поставили сами перед собой достаточно жесткие рамки — точности и объективности. Конечно, эта самая «объективность» есть категория весьма подозрительная. Но в «Независимой» и «Сегодня» предполагалось, что «врез» заполняет какой-то общий размышлизм, а в «Коммерсанте» «врез» представлял собой гораздо более форматный и лояльный по отношению к читателю информационный блок о событии, которое обсуждалось в статье.
Как я точно знал из моих архивных штудий, истинный критик просто обязан быть пристрастным. И я до сих пор уверен, что моменты агрессивной и безудержной полемики между течениями и направлениями точнейшим образом индексируют ситуацию «золотого века». Конечно, мне достались «железные» девяностые, и я теперь могу по-стариковски ворчать, что сегодня все уж как-то слишком гладко идет. Никто ни с кем не дерется и даже не препирается. Но, как бы то ни было, в девяностых я эту полемику инициировал вполне сознательно — чтобы все было «по настоящему». Конечно, часто действовал слишком уж размашисто и не учитывал того обстоятельства, что мои оппоненты оказывались лишены голоса — просто других площадок не было. К примеру, однажды я обнаружил, что мои «наезды» на Илью Кабакова привели к тому, что уважаемый и немолодой человек опасался ехать в Москву, поскольку там бродят такие монстры с дрекольем в руках.
Однако все изменилось кардинально. Андрей Ковалев давно уже не адское наводящее ужас создание, а почтенный профессор, который с долей ностальгии вспоминает те времена, когда газетные критики «сочетали свободу и лихой журналистский драйв с веселой бесчеловечностью по отношению к «чужим» и с необязательностью «бэкграунда» — так определила тогдашнюю критическую методу мой хороший друг и редактор одной из моих книг Галина Ельшевская. А с четой Кабаковых у меня сегодня отношения просто идеальные.
И дело не в том, что нарастает кризис печатной прессы, особенно в России, где независимые издания закрываются одно за другим. Самим художественным критикам уже почему-то надоело тянуть эту лямку — писать рецензии на выставки и делать обзоры сезонов. Вот например, Екатерина Деготь, с которой мы в первой половине девяностых не то что соперничали, но гонялись наперегонки — я в «Сегодня», она в «Коммерсанте» — в 2007-м, став шеф-редактором раздела «Искусство» портала OpenSpace.ru, решила, по ее собственным словам, «забанить кудрявую арт-критику в интересах социально ориентированной фактографии». Интересно, что мою непреклонную уверенность в высшем предназначении критика, погруженного в густой темпоральный поток, критика, за которым закреплено право на ошибку, разделяли далеко не все. Когда меня пригласил Виктор Мизиано создавать новое профессиональное издание, названное «Художественный журнал», то я взялся курировать отдел рецензий. Просто потому, что не имел никакой склонности к «аналитическому письму», которое взращивалось в ХЖ. Недавно Виктор прямо заявил в интервью: «Колбаса выставочных рецензий никогда не была мне интересна, я не чувствовал необходимости покрывать этот мутный поток, но воспринимал это скорее как этическое обязательство». Однако время показывает, что такая точка зрения во многом оказалась пророческой. И мемуар мой заканчивается на ноте печальной. Уже и молодые и активно функционирующие критики во время недавней дискуссии в «АртГиде» с сильным скептицизмом высказываются относительно будущности критики как таковой.
Жанр признаний и покаяний следует закончить на том, что все высказанное не имеет прямого отношения к данному изданию. В нем собраны мои «исторические» тексты. Но и здесь есть некая тонкость, скажем так, физиологического свойства. Я испытывал серьезные трудности при переходе из «академического» дискурса письма в «критический», мне было довольно трудно изложить самую простую мысль меньше, чем на пятнадцать страниц. При обратном переходе я диагностировал в самом себе некую мутацию, мой критический организм распылился на летучие молекулярные фракции. И, получая заказ на фундаментальное исследование для солидного каталога, я обнаруживал, что уже все, что хотел, сказал на окончании пятой страницы.
Когда я собрал все тексты в один файл, то обнаружил, что все как-то совсем уж нескладно получается. Игривый эссеизм, чистое просветительство, оснащенные массой ссылок тяжеловесные исследования перемежаются с короткими заметками в маргинальных изданиях вроде журнала «7 континент», принадлежавшего соответствующему универсаму. Его, кажется, никто из нормальных людей не читал, но и туда, исключительно ради наживы, я продуцировал хоть и микроскопические, но достаточно ответственные тексты.
Если бы я был благожелательным рецензентом этого сборника, то сказал бы, что это довольно забавно, когда наметки большой History перемежается с разнообразными Stories. От себя, в качестве самокритики, скажу, что попытка сложить некое подобие связной истории несколько смазана тем обстоятельством, что в ней зияют ужасающие пробелы. Почему-то ничего не написал о многих любимых художниках. О Павле Филонове, например. Проблема не только в моей хронической прокрастинации, но и в неистребимой каузальности моего производственного цикла. Подавляющее большинство текстов написано «к случаю», по заказу составителей каталогов или редакторов различных изданий. Иногда я сам выбирал тему, когда был штатным критиком к различных изданиях. Но и там я был связан необходимостью описывать конкретное событие — выставку или новое издание.
Здесь я должен воспеть дифирамб новейшим издательским технологиям. Сервис Ridero предоставляет формат print on demand — у этой книги не будет никакого тиража, а ровно столько читателей, сколько сочтут нужным заказать и купить издание. При этом никто не будет инвестировать деньги в это, заведомо безнадежное с точки зрения простой самоокупаемости, издание — платить за бумагу, печать тиража и так далее. И, что самое главное, оказалось, что никакого строгого редактора надо мной нет. Если бы я сам выступал в качестве редактора подобного сборника, то потребовал бы выкинуть всю лишнюю мелочь, унифицировать стиль. И вообще — привести все в порядок. Однако, пользуясь предоставленной мне вседозволенностью, позволил себе, наплевав на элементарные нормы текстографии, компилировать тексты, написанные по разным поводам и в разное время, добавлять в примечания новейшую библиографию. Часть текстов просто перетащил из других моих книжек. Оправдывает меня только то, что мои предыдущие сборники уже давно стали библиографической редкостью, а еще моя надежда на то, что эти сочинения кому-то могут принести пользу. Поэтому я собрал в одном месте все доброе и положительное из того, что я когда-либо написал. Например, текст, посвященный Илье Кабакову, «собрал» из нескольких, постаравшись исключить все заушательские выпады, то есть убрать или хотя бы сгладить всю разнузданную публицистику. И старался как-то все это собрание академизировать, хотя, конечно же, никакой последовательной истории не получилось.
В результате вся эта совокупность разнородных текстов сложилась в целых три тома. Они разложены в формате, имитирующем «настоящую» историю русского искусства. Первый том содержит в себе рассказы о периоде от Кандинского до Рогинского. Во втором томе собраны истории, относящиеся к семидесятым-восьмидесятым, условно говоря, «от Кабакова до Новикова». И наконец, в томе третьем собраны заметки об искусстве от девяностых до наших дней.
И наконец, я хочу высказать благодарность моим терпеливым, безотказным и надежным редакторам, которые работали над моими текстами, часто сумбурными и бессвязными. Я с гордостью могу назвать их моими соавторами, но перечислить их всех поименно нет ровным счетом никакой возможности. Но особую благодарность я должен выразить Мэри Саргсян и Диане Качуровской вместе с их коллегами, которые взялись подготовить эту книгу к публикации. И провели скрупулезную работу по унификации ссылок, которых у меня набралось в этом томе около пятисот. В руки к ним попал довольно сырой конгломерат текстов, иногда это были варианты черновиков, выловленных мной в дальних уголках моего компьютера. Они сделали за очень короткий срок работу целого издательства: бесстрашно приводили в почти идеальный порядок мои тексты; тщательно вылавливали многочисленных «блох», пропущенных мной и моими редакторами.
Я также должен поблагодарить сотрудников научно-исследовательского отдела Музея современного искусства «Гараж» и лично их руководителя, Александру Обухову. Они предоставили мне оригиналы моих собственных сочинений, которые я по нерадивости утратил.
Особую благодарность я должен выразить студентам факультета Искусств МГУ им. М. В. Ломоносова. Их часто наивные, а чаще всего заковыристые вопросы на лекциях и семинарах заставляли меня уточнять формулировки, искать какие-то новые доводы и проводить специальные исследования.
I. Разные истории: Некоторые методологические заметки по поводу искусственного знания
Аарон+Харон = любовь или История ноу хау
1995
При описании любого феномена важно точно понимать соотношение производительных сил и производственных отношений. Критика — активный агент способа производства. Уникальность советского нонконформизма в том, что «современное искусство» возникло и длительное время существовало в парадоксальных рамках нематериального производства, при полном отсутствии обрамляющих функциональных институций. Структурирующую роль архитектонического каркаса исполняли органы цензуры и репрессий. При этом продукт, отчуждаемый в процессе производства на таких парадоксальных фабриках, типологически соответствовал функциональным признакам современного искусства в тех случаях, когда проходил через западные машины по производству искусства.
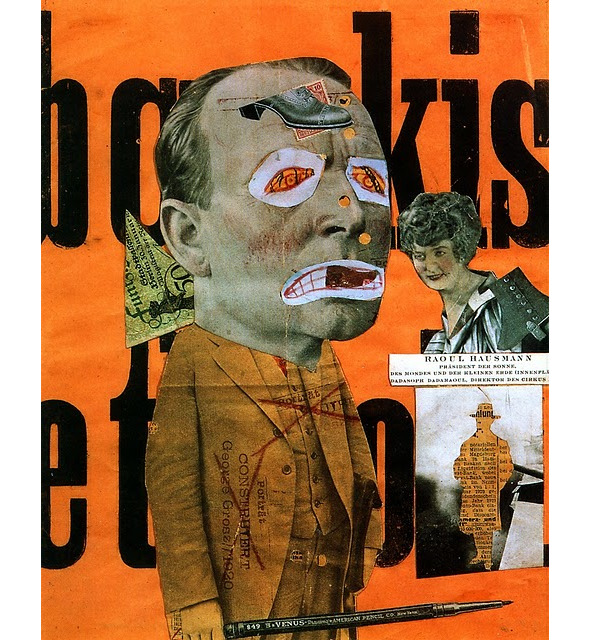
После крушения колосса на глиняных ногах обнаружилось, что одновременно открылись каверны, в которых пряталось современное искусство, и все участники художественного процесса почувствовали огромный дискомфорт. Старые машины были приспособлены к производству специфического продукта — советского искусства, и их конверсия была невозможна. Самое забавное, что новые механизмы, выстраиваемые на «чистом месте», оказались как две капли воды похожи на «нормативные». Что вполне естественно — способ производства определяет производственные отношения. Русская специфика лишь в том, что норма в России требует героизма, а отклонения, напротив, вполне естественны. Социальная роль — галерейщика, критика, директора музея современного искусства, куратора и т. д. — не получена ими по наследству и не завоевана во внутривидовой борьбе, но есть реализация индивидуального проекта. Газетная критика оказалась наиболее реализованным фрагментом общей машины, так как не требует материальной поддержки, но инициирована прямым социальным запросом.
Для критика, получившего, если использовать милитаристскую модель, свой ранг не в результате постепенного карьерного повышения по службе, а экстерном, странно было обнаружить в своих руках реальные механизмы власти. Катапультировавшись в начале девяностых в газетную критику, я первоначально наивно предполагал, что произвожу эксперимент, оставаясь наблюдателем-историком. Но исторические эксперименты, в отличие от физических, доступны лишь великим людям, типа досточтимого сэра Тойнби. Люди попроще однажды обнаруживают, что социальная маска становится истинной натурой. Однако сухие остатки исторического материализма, впитанные на Историческом факультете Московского университета, позволяют мне, надеюсь, скользить между дискурсами и типами хронотопа. Замечу, что власть и харизма критика не имеют денежного эквивалента, и актеры московской арт-сцены опосредованно бескорыстны. Русский критик не имеет никаких механизмов экономического давления, но и фантомный арт-рынок не имеет никакой власти над ним. Правда, экономический эффект от критики имеет место — галерейщик или куратор потрясает пачкой статей перед спонсором. Курьезно, но я первое время вручную распространял свои статьи, перечеркивая автоматическую коммуникацию, свойственную массмедиа.
Критик-коммуникатор в классовой войне между художником и обществом инвестирует себя в искусство и прямо заинтересован в усилении самого института «современного искусства». Он, к счастью или несчастью, привязан к галерной скамье машин по производству искусства; чувство классового самосохранения репрессирует критические интенции. Я полагаю, что даже доброжелательный критик обязан выступать коррелятором художественного процесса. Но мой критический запал неизменно подтачивается моим знанием о стойкой недоброжелательности общества к современному искусству. Вместо того, чтоб прямо сказать, что художник N провалился на выставке в N-й галерее, я вынужден снова и снова описывать его заслуги перед современным искусством. В условиях подполья не существовало писанной истории, к которой я мог бы прямо апеллировать.
Пока я говорю преимущественно о критике-коммуникаторе, дистрибьюторе дискурсов. Он поступает согласно итальянской поговорке о переводчике-предателе (traduttore-traditore), внедряясь в среду производителей искусства и разбалтывая затем их тайны. Критик-теоретик, который пишет в специализированные журналы и каталоги, больше похож на ветхозаветного Аарона. Бог на горе говорил с косноязычным Моисеем, тот передавал все своему брату Аарону, который возвещал послание народу. А коммуникатор предательски разбалтывает тайны избранного народа всем подряд. Критик, как говорил в 1924 году уже упоминавшийся Николай Пунин, — это не неудавшийся художник, это неудавшийся литератор. Как писал русский формалист Юрий Тынянов, «критика должна осознать себя литературным жанром». А уж то, что Язык — это Власть, вам подтвердит любой парижский апаш или «новый русский». На собственном опыте подтверждаю, что критика типологически занимает место цензуры в тоталитарном обществе. По крайней мере, до сих пор некоторые продолжают воспринимать мое личное мнение как голос власти или папскую буллу.
Николя Бурье полагает, что критика является паразитарным по отношению к искусству дискурсом. Если также согласиться с тем, что реальность (искусство) не ошибочна, а ошибочны только представления о реальности, то получится, что и критика не может ошибаться. Я сам активно поддерживал художественные явления, которые в конечном счете оказались недостаточно жизнестойкими и продержались не больше двух сезонов. Но исчезающий дискурс газетного критика, погребенного в быстро желтеющих завалах газетной макулатуры, и почти тактильные воспоминания о зримой реальности этих «быстроживущих» феноменов несколько смягчают мои ламентации о печальной судьбе бедного критика. Однако Клио мстит своим служителям намного коварнее. Просматривая разнообразные истории современного искусства, я обнаружил, что они переполнены рекордным количеством совершенно никчемных и справедливо забытых художников. Количество незаконной контрабанды там граничит с полной безответственностью. Возможно, переполнение музейной и энциклопедической памяти чрезвычайным количеством неудобоваримого барахла есть редукция бума на вторичных и третьестепенных мастеров среди историков Ренессанса и барокко. Меня всегда восхищали старательные и кропотливые исследования о каком-нибудь венецианце XVII века, которого и современники не очень-то знали и которому сейчас условно приписывают две или три плохо сохранившиеся картины. Боюсь только, что будущие антиквары не заинтересуются неизвестными учениками Болтянского или последователями Джефа Кунса. Кстати, а эти кто такие?
Так что я не вижу никаких причин для историков искусства так высокомерно смотреть на эфемерных и переменчивых критиков. Кто бросит камень в критику и скажет, что Джон Рескин или Клемент Гринберг ошибались? Юрий Тынянов писал: «Нельзя судить пулю по цвету, вкусу и запаху. Она судима с точки зрения динамики». Статические модели затягивают в воронку дурной бесконечности. Так, замечательные и глубокомысленные мыслители, Борис Гройс и чета Тупицыных, свершили в свое время нечеловеческий подвиг. Именно они привили русским рассуждениям об искусстве вполне конвенциональный дискурс. Им удалось подтвердить место московского концептуализма в западном сознании. Но, из-за необходимости манипуляций со статическими моделями, им теперь приходится постоянно оперировать одним и тем же набором архивных фото и настаивать на том, что актуальное русское искусство есть результат злокачественных метастаз.
Часто для того, чтобы поставить на место некое новое течение или группу, говорят, что это-де очередная мода. То есть подразумевается, что есть нечто истинное и вечное, а мода — переменчива и глуповата. Критик — биржевой брокер, проигранное сегодня он сможет отыграть завтра. Каждый раз он ставит на кон себя самого. Важно ошибиться красиво, как, например, Акилле Бонито Олива со своим трансавангардом, интересным сегодня только коммерческим галереям.
Так называемый плюрализм возникает в результате нежелания взять на себя личную ответственность за суждение или означает желание выторговать себе гандикап и скидку. Словечко «плюрализм» активно употребляли советские либералы, доказывавшие властям, что наряду с нормативным соцреализмом могут иметь место и девиантные формы так называемого «молодежного искусства». Эта самомаргинализация вполне соответствует западному определению плюрализма, то есть оранжерейной подкормки различных краевых дискурсов — всякого феминизма, гомосексуализма, этнической экзотики. Для самих маргиналов, выталкиваемых на поверхность очередной модой, искусственное вскармливание не принесет ничего хорошего. Поэтому меня как русского критика очень радует, что неоколониалистский по своей сути «русский бум» периода перестройки и падения берлинской стены наконец закончился. Русские художники перестали быть курьезом и без всякой форы принуждены к реальной конкуренции и участию в общей скачке с препятствиями в будущее. Или историю, что, в сущности, одно и то же.
А тот, кто указует перстом на Суд Истории, попросту ускользает от суждения и ставит себя в неловкое положение. История делается здесь и сейчас, отложить решение на завтра невозможно. Харон продает билеты только в одну сторону.
Самокритика — движущая сила художественной критики
2001
Средь художественных кругов появилось новое поветрие — критиковать критиков. Психологически феномен очень понятный: критики всех критикуют — кураторов, художников, галерейщиков. Стало быть, надо найти управу и на самих критиков. Наиболее тонкая аналогия высказана анахоретом беспредельного дискурса Павлом Пепперштейном в «Художественном журнале»: «Образ газетного листа, образ текста, который готов быть в любую минуту разорван на куски и засунут в задний проход, создает версию особого, анального чтения, анальной осведомленности, анальной информированности».
Иногда высказывается более мягкая точка зрения, что критики просто нет. Я, поскольку считаю себя критиком, сначала обижался, а потом понял, что речь идет о неразличении функциональных видов деятельности — собственно критики и суждения об искусстве. С другой стороны, на инстициональную реальность существования тела критика намекают некоторые косвенные обстоятельства — появилось множество текстов, посвященных, как и предлагаемый вниманию благосклонного читателя, критике и самокритике.
Критик постоянно слышит обвинения в том, что слишком выпячивает свое личное мнение, и стенания, что он пишет нечто непонятное. Галерейщики в один голос вопиют, что критик-де должен производить иерархии и внедрять их в сознание общества (надо понимать, покупателей).
Должен сразу признаться, что я всеми фибрами души поддерживаю точку зрения Джилберта, протагониста в диалоге старого доброго Оскара Уайльда «Критик как художник». «Вы говорили, что говорить о созданном труднее, чем создавать, и что ничегонеделанье — труднейшее занятие в мире; вы утверждали, что все искусство аморально, и что всякая мысль таит в себе опасность, и что критика в большей степени творчество, чем само творчество, и что высшая Критика та, которая находит в произведении вещи, отнюдь не подразумевавшиеся художником, и что истинным судьей становишься потому, что ничего не можешь создать сам, и что настоящий критик не бывает ни справедлив, ни искренен, ни рационален». К сему нечего прибавить от себя, разве что согласиться с определением печальной судьбы газетных рецензентов, которые «оказываются в положении репортеров при полицейском участке, расположившемся в стане литературы, и вынуждены информировать о новых преступлениях рецидивистов от искусства». (События последнего времени переводят эти пророческие слова из переносного смысла в прямой: критикам все чаще приходится торчать у околотка.)
В плане самокритики должен заявить, что мой опыт ограниченно уникален — в то же самое время кто-то организовывал первую галерею, кто-то первый Музей современного искусства и так далее. Несколько неожиданно для себя я оказался, на какой-то промежуток времени, обладателем странного социального опыта — своего рода целой институцией в одном лице и стал наблюдать/участвовать в процессах порождения новых социальных функций в треугольной композиции художник-куратор-критик. Все указанные фигуры оказались в высшей степени чувствительны к исполнению социальных функций и связанных с ними ритуалов. Эта ситуация похожа на вынужденную общность неофитов, оторванных от культовых центров, которая вызывает особые гипертрофированные формы фарисейства. Хотя художественной среде сильно повезло, ибо искусство не находится ни в какой координации с обществом и проклятым рынком.
Моя газетная активность была принята со сдержанным недоумением коллегами по Российскому институту искусствознания, где я тогда работал. В советские времена у интеллигенции выработался стойкий комплекс неучастия, ибо любое действие выражалось в неприятном идеологическом сервилизме. Для той части либеральной интеллигенции, которая была готова на сотрудничество с официальной прессой, каждая статья в «Правде» или «Известиях» была результатом сложной интриги, целью которой было вложение в уста Власти ценностей, подправляющих и размывающих официальную идеологию. Для внешнего наблюдателя этот текст был совершенно закрыт, истинные сообщения проявлялись в контексте, который считывался заинтересованными людьми. Например, совершенно стертый термин «многообразие советского искусства» выступал идеологическим оружием борьбы двух кланов. Один боролся за власть под лозунгом стилевой и идеологической чистоты советского искусства, другой — под знаменами стилевого многообразия.
Теперь эта структура давно не действует, но память о газете ка рупоре высших сил остается. Сегодня функционирует гораздо более упрощенная и нереактивная система, но до тех пор, пока мы работаем с реликтами предыдущего семантического сознания, наши действия зависают и не приводят к прогнозируемым и понятным для нас последствиям.
Реальность наших дней гораздо более фантомна, чем плотная и упругая фактура старого режима. Кстати, именно закат оного породил понятие плюрализма или широкой палитры мнений. Плюрализм — это безответственность. По своему социальному статусу критик — наемный работник, его приглашают для выполнения определенных операций на общем конвейере. Если работодатели начинают говорить о необходимости более широкого подхода, то это обозначает лишь то, что данный работник их не вполне устраивает. Искусство — крайне тоталитарное занятие, хотя всякая ответственность тоже тоталитарна. Критик — демон Максвелла, пропускающий только быстрые и активные элементы.
В русском языке понятия «критиковать, критик, критика» носят откровенно репрессивные коннотации. Критическое выступление неизменно ассоциируется с репрессивной критикой советского времени. Первое время для представителей бывшего неофициального искусства я как критик газетный, даже работающий в признанно либеральном издании, оставался фигурой мерцания. С одной стороны, мое бытовое тело не оставляло никаких сомнений в совершенном дружелюбии и заинтересованности, с другой — газетное, виртуальное навевало неприятные воспоминания о былых травмах и погромной критике.
Добавим, что при всей изощренности аналитического Дискурса в кругу московского концептуализма фигура критика там совершенно отсутствовала. При этом «критик» часто имплантировался в саму ткань произведения, как в некоторых ранних работах Ильи Кабакова. Теперь ситуация кардинально изменилась, хотя остался некий локус, как бы не подверженный критике и любому не-апологетическому обсуждению. В этом локусе концентрируются в основном представители «духовного андерграунда» шестидесятых, которые склонны видеть в любом, даже вполне заинтересованном, обсуждении непременную интригу врагов.
Итак, кругом враги. Критик находится в состоянии постоянной войны. Но это очень странная война, в основном с персонажами, непрерывно порождающими из самих себя фантомные институции. В процессе собственной бюрократизации критик вступает в конфликт со стремительно бюрократизирующимися новыми бюрократами из-за того, что поля его бюрократического произрастания никак последним не подвластны. Естественно, что в ходе дальнейшего усложнения социальных машин, производящих искусство, конфликт будет стабилизироваться за счет осознания общности стратегических целей. В то же время возможности социального перфекционизма для критики пока весьма ограничены.
Моя работа в «Независимой газете» началась как литературный эксперимент. Газета — бесконечный текст, в котором индивидуальность Автора по сравнению с другими формами текстопорождения в существенной степени снижена. Мне показалась очень забавной задача выведения текста, который может помещаться внутри газетного. Правда, ситуация в глобальном социотексте была совершенно уникальна, поэтому даже эти, специально адаптированные, тексты могли быть напечатаны в любом профессиональном журнале. Но текст такого рода был крайне недолговечен и привязан к переходной ситуации.
Теперь ситуация существенно изменилась. Но и социотекст изменился. Газетные критики начали ощущать мягкое давление со стороны остального газетного текста. Репрезентанты буржуазного сознания, которые прежде только посмеивались над эскападами радикальности современного искусства, стали осторожно намекать: «Ну не все же писать об этих, которые штаны снимают. Нас Читатель может не понять…» Заметим, что подобного рода дружественные наезды подлежат инверсии — именно масс-медиа производят сознание, Читатель есть фантом сознания производителей массового сознания. Так что теперь мои легкомысленные реприманды по поводу моего скромного левачества на службе у финансовых магнатов стали приобретать опасно овеществленный характер. Реальные оформители идеологии буржуазного сознания, как обнаружилось, и в самом деле тщательно избегают всяческого радикализма. Так что основная вина моя и моих коллег — в том, что нам так и не удалось добиться реального признания современного искусства в качестве социальной реальности. Пора привыкать к мысли о новом эстетическом подполье на неуютных просторах буржуазного общества.
Существовал ли «русский авангард»? Тезисы по поводу терминологии
2001
Известно, что в 1910–1920-х гг. в русской искусствоведческой терминологии слово «авангард» практически не употреблялось, а если и употреблялось, то имело чисто экспрессивную окраску и по существу термином не являлось. Термин «русский авангард» появился впервые примерно в 50-е годы в англоязычной литературе, где он применялся для обозначения начального этапа высокого модернизма. То есть мы можем говорить о том, что интересующее нас явление было сначала поименовано задним числом. Затем появились исследования в рамках новой терминологической общности, и лишь после этого «русский авангард» был, можно сказать, возвращен в Россию. Столь сложное происхождение определило некую неадекватность данного термина к обозначаемому им явлению, ибо совершенно очевидно, что понятие «русский авангард» не соответствует понятию «русское искусство первой трети XX века». Тем не менее в большинстве западных исследований, посвященных искусству этого периода, речь идет как раз о «русском авангарде».
Все это, так сказать, самое «внешнее» описание проблемы. Однако за простой терминологической неувязкой таится, как того и следует ожидать от терминологических неувязок, масса самых принципиальных проблем. Впрочем, и эти проблемы — к примеру, навязчивая тема «Россия и Запад» — в таком контексте приобретают вполне терминологический, назывной характер. Вообще говоря, вопрос в данном случае выглядит весьма упрощенно. Если принимается первая модель — «русского искусства» (центральной риторической фигурой этой мифологии является представление о загадочной русской душе и следующее из него определение русского искусства, исполненного всяческой внутренней экзотики), — то тем самым признается наличие некой, автономной от общемировой, иерархии. Эту модель можно назвать парадигмой внутренней полноты. При принятии второй модели, то есть «русского авангарда», автоматически принимается и специфическая западная мифология о России, неизбежно присутствующая в любом исследовании, даже написанном самым лучшим специалистом. Эта «экзотика» вовсе не должна выражаться в формах настоящей фольклорной экзотики. Напротив, для западного сознания весьма важно, чтобы всякое сообщение было выражено в доступных и умопостигаемых терминах. При этом наше собственное представление о европейскости кардинально отличается от собственно европейского. К примеру, Пушкин, наш самый «европейский поэт», остался не воспринят западной культурой, в то время как Лев Толстой и Достоевский, старательно избегавшие европейского лоска и вдобавок серьезно критиковавшие западное устройство жизни, оказались в числе безусловных столпов мировой литературы. Таким образом, обе парадигмы в принципе не противоречат друг другу, а переплетаются в самых странных сочетаниях.
Учение о «загадочной русской душе» порождает вечную неуверенность русской культуры в себе. Для нормального самочувствования ей постоянно необходимо смотреться в зеркало Запада. При этом идея «завоевания Запада» нерасторжимо соседствует с идеей собственной уникальности. Василий Перов, находившийся в Париже в самый расцвет импрессионистского движения и, несомненно, осведомленный о его сути, все же предпочитает срисовывать клошаров. Илья Репин рискнул было испробовать импрессионизм в «Дерновой скамье» — и столь же благополучно от него отказался. Парадоксально, но факт — следствием этого отказа стал вечный импрессионизм Союза русских художников, который вплоть до настоящего времени претендует на звание «русского стиля». Впрочем, может быть, в этом принципиальном отказе влиться в общий поток был какой-то особый смысл, и критический реализм при новом рассмотрении может оказаться более принципиальным и радикальным направлением, нежели русский импрессионизм. Историю этих притязаний-отказов, так похожих на любовную игру, можно продолжать до бесконечности. Наталья Гончарова, сразу же после громкого манифеста «Я отряхаю прах от ног своих и удаляюсь от Запада», тут же отправляется покорять Париж в дягилевских сезонах. А чего стоит замечательная по своей трагикомичности история путешествия Владимира Татлина в мастерскую Пабло Пикассо под видом слепого бандуриста!
На протяжении трех последних тысячелетий человеческой истории роль мирового центра духовной культуры неоднократно переходила от одной столицы к другой, которая и принимала на себя роль Олимпа. Прежние же центры оставляли за собой право на ностальгические воспоминания, превращаясь в хорошо оборудованные музеи — как Рим в XIX веке или Париж с 1960-х годов, когда столица актуальной культуры переместилась в Нью-Йорк. Хотя промежуточные, то есть не столичные этапы культурной истории фиксируются только в рамках региональных культур, тем не менее каждая не столичная культура может в определенные моменты надеяться на кратковременное включение в Большой каталог мировых культурных ценностей — к примеру, как венский Сецессион или мексиканский мурализм. Русский авангард, в сущности, и является случаем вхождения в этот Большой каталог. В области изобразительного искусства ему предшествует только «русская икона». Остальное русское искусство там никак не представлено. Следует понимать, что такое ущемление представительства практически тотально и неоспоримо. Доказательство можно привести на самом простом примере. Если выбрать какую-нибудь региональную культуру и попытаться представить ее сконцентрированный визуальный образ, то, предположим, для Испании между Гойей и Гауди будет зиять ничем не заполненная пустота. Весь скандинавский регион в подобном случае будет представлен кораблями древних викингов, Цорном и современной финской архитектурой.
В принципе любая «Всеобщая история искусства», где бы она ни создавалась, имеет подобное строение — то есть описываются прежде всего стержневые, фундаментальные процессы и только затем региональные флуктуации общего стиля. Любой гуманитарно образованный представитель европейской культуры является держателем такого каталога, а «русский авангард» занимает в нем почти все пространство, отведенное для русского искусства. Внутреннее пространство этой «идеальной энциклопедии ценностей европейской культуры» пронизано сложной паутиной разнообразных силовых линий, которые на общераспространенном лексиконе именуются воздействиями, традициями, контактами и так далее. Более того, само вхождение в эту структуру определяется прежде всего наличием таких двусторонних взаимосвязей. Можно, например, говорить о том, что «русская икона» значится в этом каталоге только по той причине, что ею однажды увлекся Анри Матисс. И, с другой стороны, представители «русского авангарда» явственно унаследовали именно эти традиции.
Наиболее значительным персонажем русского сегмента каталога является Казимир Малевич, оставивший наибольшее количество наследников и последователей.
Вместе с тем одностороннее взаимодействие в рамках описываемой системы имеет мало значения, поэтому вполне высококачественная работа в уже открытом «стиле» практически никогда не приводит к регистрации в Большом каталоге, несмотря на большую значимость для местного искусства. Так, например, произошло с «Миром искусства», несмотря на очевидные пан-европейские амбиции ее участников. Оказавшись на положении эмигрантов в Париже, эти художники, уже достаточно известные в местных кругах, так и остались изолированной маргинальной группой и не оказали на ход художественного процесса ровным счетом никакого воздействия. И далее, множество русских художников, устремленных в Париж якобы для «учебы», а на самом деле снедаемых вполне понятной потребностью сделать там карьеру, вовсе в этом не преуспели. Однако по возвращении на родину карьера их складывалась почти автоматически, и эти художники становились несомненными столпами отечественной культуры. Искусство, которое они вывозили оттуда, оказалось безупречно качественным, но весьма умеренным по сравнению с лидирующими на тот момент течениями. Примерно то же самое произошло со следующей волной художественной эмиграции в 1970-х. Эти художники, практиковавшие, за немногими исключениями, собственные интерпретации неких «стилей», так и остались на положении мало кому известных маргиналов.
Возвращаясь к Малевичу, следует отметить, что далеко не вся сложная эволюция творчества мастера оказывается одинаково значимой в таком контексте. Малевич рассматривается по преимуществу как создатель супрематизма и оригинальной теории искусства. И его ранний этап развития, и «крестьянские» серии, которые так высоко ставятся в настоящий момент русскими историками искусства, продолжают оставаться фрагментами личной биографии художника.
С «русским авангардом» сложилась весьма странная и парадоксальная ситуация, в плане изучения его как исторического феномена. Подавляющее большинство исследований о нем, начиная со знаменитой книги Камиллы Грей, принадлежали западным ученым или же русским историкам искусства, но издаваемым на Западе. Нет нужды доказывать, что каждый, особенно изучающий современное искусство, исследователь получает определенные импульсы из современного ему художественного сознания. В известном смысле историк искусства выполняет культурный заказ своего времени. Поэтому можно сказать, что рассматриваемый фрагмент русского искусства, именуемый «русским авангардом» и исследованный на данный момент едва ли не лучше, чем какой-либо другой промежуток истории русского искусства, был подвергнут анализу и интерпретации в результате несколько постороннего заказа. Таковое обстоятельство приводило и приводит к определенным терминологическим и гносеологическим сдвигам.

Кроме того, согласимся, что каждый исследователь стремится как бы присвоить себе изучаемый предмет. В нашем случае западные коллеги обращались к «бесхозному» материалу и в силу этого чувствовали себя вправе препарировать его по собственному усмотрению. Так, на выставке «Великая утопия» привычная историческая перспектива оказалась существенно измененной. Начало русского авангарда — по воле кураторов — сдвинулось к 1914 году. Таким образом, выпали все начальные этапы (особенно жаль примитивистский). С другой стороны, рамки экспозиции расширились за счет включения социально-ангажированного искусства вплоть до образцов соцреализма, который раньше принципиально исключался из сферы рассмотрения. Ясно, что кураторская концепция в этом случае опиралась не только на современный интерес к различным формам социально ангажированного искусства, но и прямо отсылала к теоретическим построениям Бориса Гройса. В данном случае весьма примечательно, что никто из российских ученых не вступил в открытую полемику с кураторами выставки.
Если возвратиться к описанной выше метафорической модели Большого каталога, то следует отметить, что принципиальная цель местных каталогов заключается в исправлении и дополнении всеобщих. Увы, русское искусство к настоящему моменту почти никак не описано энциклопедически, что, собственно говоря, и делает его беззащитным перед операциональными вторжениями извне, о которых шла речь выше. В этой связи небесполезно вспомнить, что первая внятная история русского искусства была написана как дополнение к одной из всеобщих историй искусства. Речь, конечно, идет об «Истории русской живописи в XIX веке» Александра Бенуа.
В так и не состоявшейся полемике о «Великой утопии» проглядывает еще одна терминологическая тонкость. Дело в том, что применительно к русскому искусству редко используется термин «модернизм». По всей видимости, из-за перехлестывания с русским аналогом терминов «Art Nouveau» или «Jugendstil». Между тем в устоявшемся на Западе искусствоведческом тезаурусе термины «модернизм» и «авангард» — пересекающиеся, но вовсе не совпадающие по смыслу. Это частичное «слипание» терминов создает серьезные затруднения по той причине, что именно русский модерн был первым по-настоящему интернациональным стилем, чья принадлежность к высокому международному стилю не вызывает сомнений.
В своей окончательной форме и «авангардизм», и «модернизм» наполнились теми содержательными функциями, которые они несут в настоящий момент, только к 1960-м годам. Сделали это теоретики высокого модернизма, такие как Клемент Гринберг, Барбара Роуз и другие. По определению Ренато Поджоли, автора книги «Теория авангарда» (1968), черты авангарда следующие: активизм (любовь к действию, динамизм, постоянное стремление вперед); антагонизм (оппозиция к историческому и художественному порядку, антитрадиционализм); нигилизм (деструктивность и инфантилизм). Модернизм — более мягкое определение: этим понятием описывается гораздо более широкий круг явлений, нежели понятием «авангард». Безусловно, в определении «модернизм» также подразумевается некий разрыв с прошлым во имя адекватного представления новой эпохи. Но само это отрицание и отказ от прошлого уже институциализируются в формах авангардизма. Так что в принципе и символисты, и художники русского модерна, которые не уставали твердить о своем «новом времени», вполне адекватно располагаются в рамках, соответствующих понятию «модернизм».
В рамках такого терминологического различения можно, несколько огрубляя, сказать, что история модернизма — это история произведений искусства и история вкуса, а история авангардизма — это история радикальных жестов. Эта граница проходит и по самому искусству, и по творчеству отдельных художников. По позднейшей историографии, центральным событием авангардной, то есть радикальной истории современного искусства являются два произведения — «Черный квадрат» Казимира Малевича и выставленный Марселем Дюшаном в качестве произведения искусства под названием «Фонтан» обыкновенный писсуар. В авангардной истории одинаково важны и выходка футуристов и дадаистов, и бесконечные манифесты, которые приравниваются, а часто собственно перевешивают произведения искусства, созданные ими. В модернистской историографии эти акции или прямо осуждаются, или служат своего рода анекдотическим фоном к эволюции искусства и стиля. А сами художники рассматриваются в таком случае как лица, не вполне отдающие себе отчет в своих действиях, но создающие при этом замечательные произведения искусства, служащие, в свою очередь, объектом тщательного формального и стилистического анализа. Есть, например, два Михаила Ларионова. Один — буйный радикал, без устали эпатирующий буржуазию своими совершенно несносными выходками и без конца выдумывающий все новые и новые стили и направления. Другой — вдумчивый и искренний художник, устремленный к «почве» и культуре. Впрочем, со временем эта трагическая раздвоенность как-то сама собой расточилась — сначала в связи с активной деятельностью в дягилевских сезонах, затем произошел откат из области актуального модернизма. И после 1917 года искусство Ларионова представляет собой спокойное, ровное, лишенное прежней буйной энергии творчество.

Замечательно, что все без исключения участники авангардистской авантюры в России претерпели подобную контр-эволюцию. Вслед за Ларионовым и «бубновые валеты» — Илья Машков, Аристарх Лентулов, Петр Кончаловский — возвратились после ряда достаточно радикальных экспериментов в спокойное русло русского сезаннизма, чтобы в конце концов выпасть из рамок модернизма и перейти в стан русских реалистов, даже «соцреалистов с формалистическим душком». Наконец, и столп радикализма, Казимир Малевич в конце 1920-х неожиданно в своих крестьянских сериях как бы ликвидирует все предыдущие завоевания и, переписав свою собственную эволюцию, также становится реалистом. Нечто подобное, с поистине фатальной неизбежностью, происходит со всеми русскими авангардистами. Так что к тому моменту, когда началось мощное государственно-идеологическое давление на искусство, сами они уже были внутренне сломлены, и печальные рассказы о том, как Сталин разрушил русский авангард («авангард, остановленный бегу» — выражение принадлежит Е. Ковтуну) есть не более чем идеологический контр-миф. Замечательно также, что наиболее последовательные модернисты — Кузнецов, Фаворский, Сарьян, Петров-Водкин, Фальк — оказались, как это ни странно, гораздо более устойчивыми перед идеологическим напором и с некоторыми потерями пытались отстаивать свои художественные идеалы до конца.
В западной историографии обе модели истории современного искусства — модернистская и авангардистская — сосуществуют, переплетаются и противостоят друг другу. Если просматривать доступные «Истории современного искусства», обнаруживается, что те труды, которые написаны в рамках гринбергианского и постгринбергианского формализма, опираются прежде всего на историю живописи. В то время как энциклопедии и истории, написанные в следующую эпоху, то есть после поп-арта, коллекционируют как раз историю отказов от искусств. Естественно, что каждая из таких историографий внутренне противоречива. Тем не менее авангардистская историческая концепция, история «шоков от нового», в конце концов становится просто заслуженной и почтенной традицией, хотя реализацию такой модели можно было бы упрекнуть в недостаточно тщательном отделении «русского модернизма» от «русского авангарда».
Если возвратиться к бытующей в искусствознании терминологии, то можно отметить, что адекватными современными терминами, которые определили интересующее нас явление, были «футуризм» и «левое искусство». Граница между ними прокладывается достаточно очевидно — она заявлена на «Последней футуристической выставке». Именно этот рубеж разделяет и последующую историографию — «русский авангард» и «русский конструктивизм». Примечательно, что советские историки искусства, склонные, вольно или невольно, прибегать к эвфемизмам для обозначения «опасных» предметов, охотнее всего использовали введенный еще Н. Н. Пуниным на излете движения термин «новейшие» (или мягче — «новые») течения. Под этим вполне адекватным термином рассматривались чисто модернистские явления. В данном случае «оправданием» существования такого вида искусства была принадлежность к искусству в точном смысле этого слова. Естественно, что в рамках искусства не было никакого оправдания тому декларативному отказу от искусства, который был объявлен группой будущих конструктивистов в московском ИНХУКе. Искомое оправдание этому безумному дионисийскому действу было найдено в революционном энтузиазме и последующей утилизации открытий пионеров новой архитектуры и дизайна. Столь же очевидно, что специальный интерес к русскому конструктивизму со стороны западных исследователей имел в качестве начального импульса левацкие и марксистские наклонности западной интеллектуальной элиты. Для ее идеологов русский конструктивизм был принципиально важной отправной позицией почти идеальных с их точки зрения взаимоотношений искусства и политики. Следует отметить, однако, что и с русским конструктивизмом не обошлось без терминологических сдвигов, ибо наиболее адекватным названием был бы термин «производственничество» или «производственное искусство».
Таким образом, даже поверхностное рассмотрение понятия «русский авангард» убеждает в том, что явления, которые под ним подразумеваются, весьма сильно отличаются друг от друга. Возможно ли использовать в научной практике расплывающийся на глазах при внимательном рассмотрении термин? Для того, чтобы решить, что делать дальше, необходимо сначала договориться о том, что такое искусство вообще и современное искусство в частности.
Письма с Красной Звезды или Парадокс об Авангардисте
1989
Наши сегодняшние экскурсы к истокам авангарда носят качественно иной оттенок, нежели во времена Камиллы Грей. Место искусства, которое героически провозглашало себя Новым искусством, modern, занято постмодернизмом, в самом названии которого довольно двусмысленно совмещены противоречивые временные характеристики. В системе постмодернистской ментальности производятся новые исторические модели. Модернизм, до сей поры считавшийся своего рода «перпетуум мобиле», неостановимое движение вперед, имеющее некий первотолчок, но не могущее остановиться, становится замкнутым и хронологически определенным образованием, обретающим форму, подобно другим историческим стилям прошлого. Неостановимый марафон изобретения новых форм, старт которому был дан в первые десятилетия XX века, сегодня выглядит историческим эпизодом. Исследователь получает пока не вполне осознанную возможность произвести акт отстранения, избежав искушения подхватить из рук уставших марафонцев символический факел, и продолжить безостановочное движение. Я не очень уверен в том, что со мной кто-либо готов солидаризироваться, но я не могу уже воспринимать без улыбки суждения о том, что именно за ранним авангардом — будущее. Для меня это — прошлое, прекрасное и далекое, как Античность или Ренессанс, и с этой точки зрения авангард принадлежит и прошлому, и будущему. В безусловной и безоговорочной проекции авангарда в будущее усматривается некая временная ловушка, устроенная его хитроумными творцами, футуристами и будетлянами. Ведь ни у кого не поворачивается язык говорить о том, что Пракситель и Караваджо принадлежат будущему — между тем как это общепринято полагать по отношению к Казимиру Малевичу, Александру Родченко или Павлу Филонову (и гораздо реже — Пикассо, Матиссу или Клее). Последнее рассуждение, касающееся национальной специфики именно русского модернизма, позволяет сделать вывод о том, что его идеология отличалась особым перспективизмом, экспансией в будущие времена, в грядущее тысячелетнее царство Нового искусства. Эта непреклонная воля к завоеванию, захвату пространства и времени обострялась традиционным для России мессианизмом, что находилось в известном несоответствии с установкой модернистского сознания на непрерывное изобретательство, новаторство, ибо всякий мессианизм эсхатологичен, а эсхатология, по своему определению, есть учение о Пределе. Более того, упомянутая установка, сопровождаемая принципиальным нежеланием, а может быть и неспособностью узреть в завтрашнем дне какую-либо эволюцию, законосообразность спонтанных изменений, создавала ситуацию, которую можно описать как «парадокс об авангардисте». Парадокс заключен в следующем: художник — изобретатель и провидец, творящий модель Грядущего, как бы застывает в позе оранта перед его величием, в то время как быстротекущее естественное Время неумолимо движется вперед, независимо от него создавая все новые и новые конфигурации. Ноуменальная идея опережается чередой быстротекущих феноменов, и тот, кто был впереди, в авангарде, оказывается объективно позади реальности. Близкий к авангардным кругам Роман Якобсон писал в 1921 году: «Классики футуризма» — оксюморон, исходя из первой концепции футуризма, тем не менее, он к классикам, либо к нужде в них пришел». И если в 1921 году Якобсон, друг Маяковского и автор первого исследования о Хлебникове, совершает жест дистанцирования по отношению к футуристам, то девятью годами позже в известной книге «О поколении, растратившем своих поэтов» (1930) он уже полностью ассоциирует себя с футуристами. Описывая своего рода ловушку под названием «Будущее», в которую он был затянут, Якобсон говорит уже о трагедии «поколения утративших», «тех, кому между 30-ю и 45-ю»: «Мы слишком порывисто и жадно рванулись к будущему, чтобы у нас осталось прошлое. Порвалась связь времен. Мы слишком жили будущим, думали о нем, верили в него, и больше нет для нас самодовлеющей злобы дня, мы растеряли чувство настоящего. <…> Будущее, оно тоже не наше. Через несколько десятков лет мы будем жестоко наказаны — люди прошлого тысячелетия. <…> У нас были только захватывающие песни о будущем, и вдруг эти песни из динамики сегодняшнего дня превратились в историко-литературный факт. Когда певцы убиты, а песню волокут в музей, пришпиливают к вчерашнему дню, еще опустошеннее, сиротливей да неприкаянней становится это поколение, неимущее в доподлинном смысле этого слова».
Мы подошли к важному в контексте выяснения исторических судеб раннего русского модернизма вопросу — о его хронологических границах. Вопрос этот, как и все «пограничные» вопросы, к примеру, о том, кого же в конце концов можно причислять к авангардистам, запутан до крайней степени как ими самими, так и последующей традицией, особенно устной. В этом смысле широко распространено суждение о том, что авангардизм был разрушен сталинской репрессивной системой. Следует подчеркнуть, что к началу 30-х годов, то есть ко времени развертывания репрессий, авангард как художественное течение был уже на излете. Поэтому можно говорить скорее о том, что непосредственно пострадали от репрессий не авангард, а авангардисты: большинство из них попросту было выкинуто на самое дно социальной лестницы, предано ритуальному поруганию и официальному забвению. Эти действия, как и большинство ритуальных пассов тоталитарного режима, поддерживали миф о разрушенном авангарде. Таким образом, в основе указанного мифа лежит одновременно как решительное стремление тоталитарной системы к моральному и психологическому уничтожению всех возможных соперников в идеологической сфере, так и стремление продолжателей и почитателей тех, кто объявлял себя властелинами времени, представить дело таким образом, что любимое ими течение не было естественным путем замещено следующим, а было разрушено чудовищными внешними силами, прервавшими самореализацию Великой утопии. Хотя здесь скорее следует говорить о тех самых нe возникших и не пришедших на смену художественных явлениях, сама идея о возникновении которых была загублена в зародыше, вследствие чего русская культура, так блистательно сделавшая «Великий скачок», внезапно, словно остановленная непреодолимой стеной, застыла, не пройдя целого ряда необходимых этапов развития.
Таким образом, если мы можем указать на ряд санкций со стороны государства конца 20-х — начала 30-х годов, насильственным образом прекративших общественное функционирование «левого» искусства (разгон ИНХУКа в Москве и ГИНХУКа в Ленинграде, запрещение выставки П. Филонова и т. п.), то некоего реального срока завершения деятельности левых течений мы попросту не имеем возможности точно назвать. При этом начальные этапы возникновения и разнообразных превращений, всегда чрезвычайно радикальных, авангардистского движения — неопримитивизм, кубофутуризм и др. — известны с точностью почти до месяца. Более того, буквально по дням можно проследить наиболее резкий перелом, произошедший в недрах московского Института Художественной культуры зимой 1921–1922 года, когда «двадцать пять передовых мастеров левого искусства под напором революционных условий современности отказались от „чистых“ форм искусства, признали изжитым самодовлеющий станковизм, а свою деятельность как только живописцев — бесцельной». Идеология авангарда, в своих истоках столь чуждая какой-либо утилитарности, в короткий срок преобразилась, декларировав переход на рельсы абсолютной утилитарности, отказа от искусства, совершенного с чисто русской безоглядностью, заставляющей вспомнить описываемых Плинием гиперборейских поэтов, любимцев Аполлона, бросающихся в море от избытка эстетических чувств (см. у пролеткультовского поэта Алексея Гастева: «Тысяча лучших поэтов бросится в море»).

Грандиозный рывок за пределы искусства сопровождался непрерывным процессом размежевания между теми, кто имел волю двигаться дальше, в неизведанное, и теми, кто не находил возможным для себя лично совершать очередной акт разрушения. Так, из того же ИНХУКа сначала был изгнан Василий Кандинский, не поддержавший идеологии «самодовлеющей вещи», а затем, уже к осени 1922 года, и такие левые художники, как Клюн, Древин и Удальцова. Примечательно, что дальнейшее развитие художников, «выпавших» из сферы авангардного сознания, выглядело как движение «обратно» по стадиальной шкале европейского искусства, как «забывание» совершённых открытий. Характерно, что при этом качественный уровень их произведений вовсе не всегда понижался — так, беспредметные опусы Александра Древина в какой-то степени уступают его более поздним пейзажам.
Таким образом, мы сталкиваемся не только с невозможностью хронологически определить рамки изучаемого явления. Практически невозможно составить также и список действующих лиц — непосредственных участников авангардного процесса. Если по отношению к более традиционным направлениям это требует только определенной усидчивости и способности отделить лидеров течения от второстепенных его участников, то дело обстоит гораздо сложнее, когда мы обращаемся к авангардистскому движению. На всех этапах его развития присутствует, несомненно, небольшое количество фигур, которые определяют своей индивидуальной эволюцией общую эволюцию движения, но основную массу его участников составляют художники, которые только небольшой отрезок пути прошли вместе с общим течением, перейдя затем к более традиционным формам, а впоследствии даже к крайне консервативным. Как это случилось, скажем, с группой участников первой выставки «Бубновый валет» — Петром Кончаловским, Ильей Машковым, Аристархом Лентуловым, участвовавшими в начальном, неопримитивистском этапе модернизма и постепенно на протяжении 1910-х годов отстававшими от своих более радикально настроенных товарищей, чтобы уже в 1920-е оказаться, как Машков, в наиболее консервативных группировках вроде АХРР или, как Кончаловский, довольно естественно войти (до определенного предела, конечно) в нормативную структуру сталинского искусства 30-х и 40-х годов. Так что в русском искусстве мы встречаемся не только с великими примерами рывков вперед, но и совершенно необычайными примерами «заднего хода», который совершил к концу жизни Казимир Малевич, один из самых несгибаемых апостолов эксперимента в искусстве. Причем такого рода реверсивные пассажи почти никогда не обставлялись концептуально. Как, например, неоклассический период Пикассо или хорошо продуманный неотрадиционализм итальянских метафизиков.
Резкие, внекаузальные переломы индивидуальных судеб почти каждого из творцов и участников авангардного движения совершенно невероятным образом искажают общую картину, делают крайне трудным объективное, научное изучение процесса, при котором за вопросом «Как это было?» несомненно должен следовать вопрос «Почему это происходило?». Единый художественный процесс как бы расщепляется на два непересекающихся и несообщающихся потока, каждый из которых развивается по своим собственным законам и в своем собственном ритме, и переход из одного в другой возможен только в результате кардинального изменения индивидуальной судьбы конкретного художника. Все это создавало и создает нетривиальную — по сравнению с другими историческими периодами — ситуацию, когда каждый исследователь может породить непротиворечивую и достаточно логически обоснованную историю, используя только часть материала и отвлекаясь от всего остального, вследствие чего сосуществуют две почти никак не скоординированные истории русского искусства первой трети XX века.
Явственно наблюдаемая неустойчивость, удивительная нечеткость, труднообъяснимая изменчивость художественного процесса несомненно объясняются тем ускоренным прохождением исторических этапов, на которые указывает Д. В. Сарабьянов, и создают труднопреодолимую путаницу в терминологии. Дело в том, что термин «авангард», «авангардизм» применим здесь лишь условно, ибо не был самоназванием, равно как и «модернизм», который представляется более корректным термином для обозначения всего явления в целом. Что же касается автохтонных самонаименований, то наиболее широкое бытование имел термин «футуризм», а после революции — «левое искусство», породивший затем официальное название группы ЛЕФ — «Левый фронт». Самоопределение в среде авангардистов, которых мы все-таки условимся именно так называть, ибо любой термин есть условность, происходило в форме самоотождествления и принятия этого отождествления всей группировкой. Николай Пунин, практически единственный профессиональный искусствовед, связавший себя с авангардными течениями, в статье для массового журнала «Жизнь искусства» смог определить, кого же можно называть «левыми» художниками (то есть авангардистами, в нашей терминологии) только через тавтологию: «левым» в искусстве будет все то, что «левые» художники назовут «левым». Такое определение было дано уже на излете существования авангардизма как структурной общности, превращения его в обыкновенную совокупность художников, объединяемых только сходством стилистической манеры. В более ранние периоды авангардное сообщество самоотождествлялось без каких-либо дефиниций. В него, похоже, принимался без какой-либо инициации всякий, кто соблюдал «правила игры», вся суть которых заключалась в том, что они находились в непрерывном изменении. «Своим» считался тот, кто успевал следить за этими изменениями и понимать их смысл. Попадавший в авангардистскую общность, для внешних наблюдателей выглядевшую как эзотерический клан, должен был уметь выполнять ритуальные действия, которые выполняют все члены общности. При этом идеи, возникшие у идеологов, лидеров общности, моментально становились всеобщим и лишенным индивидуального происхождения достоянием. Одномоментность и большая скорость восприятия новых идей постоянно создавали ситуацию совершенно параллельного и одновременного изобретения тех или иных стилистических ходов. Именно так следует объяснять, как мне кажется, описанное еще Камиллой Грей соперничество Казимира Малевича и Владимира Татлина, которые подозревали друг друга в плагиате.
Все эти наблюдения, особенно характерные для раннего периода развития авангардного течения, замечательно описываются в терминах, предложенных британским антропологом Виктором Тэрнером, — «лиминальность», то есть приниженное, внеструктурное состояние, и «коммунитас» — внеструктурная общность, противостоящая структуре. В такой системе понятий оказывается значимым фактор, что подавляющее большинство лидеров авангардизма — провинциалы, происходящие из семейств со средним уровнем образованности, что, несомненно, делало их при вхождении в культуру больших городов в определенной степени «метеками», чужаками, маргинальными личностями. И далее: желтые кофты, «пощечины общественному вкусу», для сторонних наблюдателей выглядевшие как бессмысленное кривлянье и опасное разрушение основ гуманитарной цивилизации, были ритуальным жестом, преследующим цель возвышения через уничтожение. Хепенинги футуристов, столь эпатировавшие не только и не столько буржуазию, сколько «людей культуры», типа А. Бенуа, были первыми опытами «переклассификации действительности и отношений к обществу, природе и культуре». Старая институционализированная структура раскачивалась с шумом и треском, и охранители культуры совершенно резонно видели в диких, оскорбительных жестах молодых бунтарей последнее проклятие их уходящей культуре, провозвестие Смутного времени.
Среди творцов «нового искусства» меня привлекают две фигуры — Казимир Малевич и Павел Филонов. Странные, темные пророки, говорящие на каком-то неуклюжем, но полном экстатического вдохновения языке… Носители откровения, облеченные харизматической властью, они стояли особняком среди довольно бедных молодых людей, которым было так весело разрушать старое, отжившее, умирающее. То, что для их спутников было почти единственным смыслом жизни, для них было только эпизодом, поэтому почти курьезно выглядит совсем не склонный к гаерству Малевич, разгуливающий по Кузнецкому мосту в котелке и с деревянной ложкой в петлице, ибо его дело было проповедовать, учить, возглашать. Супрематизм, как и идеология «аналитического искусства», не просто очередной изм в бесконечной череде измов двадцатого века. Это пророчества и откровения, далеко выходящие за рамки того, что мы привычно считаем искусством. Горячий ветер Откровения возвышает и без того довольно замкнутого человека над его спутниками; рамки течения становятся ему узкими, недаром Малевич в начале 1920-х годов удаляется в Витебск, словно апостол — к варварам, и окружает себя преданными учениками, которые будут послушно внимать Учителю.
Пафос учительства, который обуял футуристов, совсем недавно ни о чем таком не помышлявших, а сразу же после революции рьяно начавших строить здание нового художественного образования, выглядит явлением вовсе не случайным. Однако школы, которые образовали вокруг себя и Малевич, и Филонов, стоят несколько особняком — в них происходил не обыкновенный процесс обучения, передачи знания, а передача учения. Об этом свидетельствуют необыкновенное последействие и жизнестойкость этих школ, а само общение учителя с учениками описывается в духе традиционной агиографии.

Несомненно, что тип авторитарной личности, столь ярко высветившийся и в Малевиче, и в Филонове, которые, пусть весьма различно, манипулировали сознанием своих учеников, планируя распространять свое влияние до бесконечности, до пределов всего человечества, не может не вызывать некоей неприязни у плюралистически настроенного человека конца XX века. Однако их тяжеловесные озарения, начисто лишенные всякой кокетливой игры, полные серьезности и внутреннего величия, продолжают притягивать к себе, и в этом, наверное, и заключается их внутренний непреходящий смысл и значение. Но при этом — при каждой встрече с прорастающей, биологической живописью Филонова, мне на ум приходят те гекатомбы, которыми окружала его безжалостная история, а изображение всемирно знаменитого 4-го блока Чернобыльской АЭС живо напоминает мне «будущие планиты для землянитов», сопровожденные трогательным комментарием Малевича: «Система планита дает возможность держать его в чистоте, он моется без всякого для этого приспособления».
А. А. Федоров-Давыдов и советское искусствознание 1920-х гг.
1988
А. А. Федоров-Давыдов, как и подавляющее большинство ученых, работавших в 1920-е годы, в одном лице совмещал все три ипостаси искусствоведа в том виде, в каком искусствознание сложилось в конце первой четверти XX века — художественного критика, историка искусств и теоретика. Все эти три, увы, достаточно отчужденные сегодня друг от друга вида искусствоведческой практики у молодого Федорова-Давыдова были органически связаны — невозможно определить ту грань, за которой общее теоретизирование переходило у него в доскональное изучение конкретно-исторического материала, а академический ученый превращался в страстного полемиста-критика и деятеля современного искусства.
Как ученый А. А. Федоров-Давыдов сложился в творческой атмосфере двух замечательных научных организаций — ГАХН и РАНИОН. Когда после окончания Казанского университета Федоров-Давыдов переехал в Москву, он поступил в аспирантуру Института археологии и искусствознания РАНИОН, где, как и все аспиранты, или, как их там называли, сотрудники второго разряда, проходил сразу две школы: знаточески-исторического изучения истории искусств и формального теоретизирования в «искусствоведческом разряде», в работе которого принимали участие такие представители «формального метода», как A. Габричевский, А. Бакушинский, Д. Недович и др. Каждый аспирант должен был сделать доклады по восточному, русскому и западноевропейскому искусству и один или несколько докладов по социологической секции. Таким образом аспиранты учились применять на практике как формальный метод в его чистом виде, так и социологический метод в соответствующей секции под руководством B. М. Фриче. В результате уже в самом процессе обучения складывалась ситуация мирного сосуществования в руках одного исследователя методов, которые признавались противоречивыми и даже противоборствующими. Показательно, что в условиях вполне свободного выбора молодые ученые чаще избирали именно социологический метод. В формалистических по духу «Трудах секции искусствознания» мы находим по преимуществу работы ученых старшего поколения; Труды социологической секции составлены в основном из работ молодых — Федорова-Давыдова, Н. К. Коваленской, Э. Н. Ацаркиной, А. И. Михайлова, Н. В. Яворской и др. Распространено мнение о том, что социология искусства была в то время доминирующим методом, однако реально социологическое отделение РАНИОН существовало на равных правах с отделением искусствознания. Последнее к тому же было обеспечено более квалифицированными силами; симптоматично, что социологическое отделение издало только два тома Трудов, в то время как отделение искусствознания — четыре.
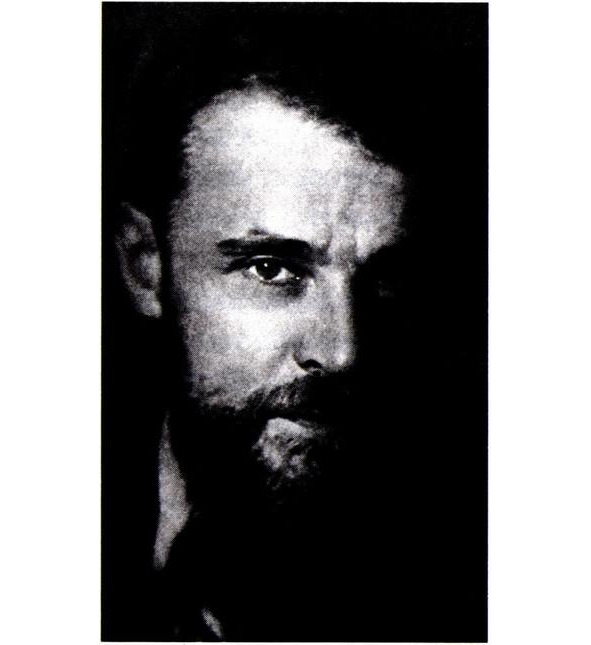
Причину тяготения молодых искусствоведов к социологизму можно объяснить тем, что В. М. Фриче, возглавлявший в то время социологическое отделение института, смог заинтересовать молодежь своим методом. Блестящий ученый, подпольщик и пропагандист-большевик, после революции ставший крупным организатором науки, на протяжении 1920-х годов Фриче был безоговорочным авторитетом в области «марксистского искусствопонимания». Важно отметить, что вопросы изменения социального статуса художника, социального взаимодействия художника и государства, художника и общества, художника и зрителя, специфических объединений художников впервые в советском искусствознании были поставлены именно Фриче.
Понимая, по всей видимости, слабости своей концепции, В. М. Фриче, создатель «макросоциологической» теории, направлял своих многочисленных учеников к разработке «микросоциологических» проблем. Именно под непосредственным влиянием Фриче впервые в нашем (а возможно, и в мировом) искусствознании с необходимой внимательностью разбирались конкретные проблемы взаимоотношений художника и зрителя (Н. Яворская), вопросы конкретного (а не априорного) определения «потребителя искусства» (статья Федорова-Давыдова о социологическом изучении русского лубка). С этой же конкретно-социологической точки зрения интересен и сборник «Русское искусство XIX века» под редакцией В. М. Фриче (М.: изд. ГАХН, 1929).
Другой, не менее замечательной научной организацией, концентрировавшей в 1920-е годы лучшие силы молодого советского искусствознания, была Государственная Академия художественных наук. Большинство ученых того периода активно работали в обеих организациях — и в ГАХН, и в РАНИОН. Хотя официальная часть научной карьеры Федорова-Давыдова проходила в аспирантуре РАНИОН, большую часть своих ключевых докладов он прочитал в социологическом отделении и в подсекции современного искусства Секции пространственных искусств ГАХН.
В Москву А. А. Федоров-Давыдов приехал в 1923 году, по-видимому, уже с четко оформленной теорией, которую он тогда же изложил на пленарном заседании Социологического отделения ГАХН в докладе «Материалистическая история изобразительного искусства». Таким образом, следует предположить, что основные идеи первой книги Федорова-Давыдова «Марксистская история изобразительных искусств», изданной в 1925 году в Иваново-Вознесенске издательством «Основа», сложились еще в период обучения в Казанском Университете. Книга эта, как и многие работы молодых теоретиков начала 1920-х годов, отличается определенной скоропалительностью выводов и необузданным теоретизированием, далеко не всегда стоящим на почве реальных фактов.
Ведя работу над изучением русского искусства XIX и начала XX веков, Федоров-Давыдов практически не выступал в печати по этим вопросам до 1929 года, когда одновременно вышли его статья в сборнике «Русское искусство XIX века» и книга «Русское искусство промышленного капитализма».
В отличие от его первой книги, где абстрактные построения доминировали над конкретным материалом, в «Русском искусстве промышленного капитализма» вся конструкция строится исключительно на фактическом материале, а теоретические обобщения предлагаются не перед началом исследования, а в ходе его или в конце. Кардинальное изменение типа научного рассуждения от безграничного схоластического теоретизирования к конкретике историко-стилистического исследования, определившее долговечность научной судьбы указанной книги, на которой учились многие поколения искусствоведов, было следствием соприкосновения с формально-стилистической школой истории искусств в ГАХН и РАНИОН. Следует подчеркнуть столь характерную для «эпохи замыслов» решительность, с которой Федоров-Давыдов поставил перед собой задачу создания обобщающего исследования художественного процесса второй половины XIX — начала XX века. Сама глобальность постановки вопроса, исходящая от довольно еще молодого человека, стремление к всеохватности, всеобщности выводов и ориентация на нужды сегодняшнего дня — все это в высшей степени характерно для людей 1920-х годов. Ибо в какое другое время ученый мог бы, нисколько не покривив душой, предварить свой академический труд следующим пониманием его конечной цели: «…на основе знаний законов и механизма развития искусства научно переделывать социальную эстетику, участвуя по-своему во всеобщей революционной переделке человеческого общества».
В методологическом плане для Федорова-Давыдова основной, наиболее важной была проблема стиля, находившаяся на средостении социального и имманентного рядов, определяющих, по его мнению, сущность искусства. Он определял стиль следующим образом: «Стиль есть понятие не историческое, а типологическое, — как сумма определенных, искусственно выделенных и теоретически абстрагированных тенденций, — и лишь в этом абстрактном его понимании имеет научный смысл и ценность». «Под стилем я подразумеваю сумму признаков, добытых в результате материалистически-производственного анализа данного искусства, анализа его социального механизма, системы художественных приемов в социальной функциональности их трансформации и деформации материала внехудожественной действительности».
Следуя в целом формулировкам Плеханова и других социологов искусства, Федоров-Давыдов полагал, что стиль любой эпохи, каждая из которых была для него связана с появлением на исторической арене определенного класса, переживает три основных стадии «1. Содержание господствует над формой; 2. Содержание и форма наиболее полно соответствуют друг другу; 3. Форма господствует над содержанием».
Диалектику развития стиля Федоров-Давыдов определял следующим образом: «Установить же диалектику формы и содержания — значит уяснить себе сущность процесса художественного творчества, механизм смены художественных течений в исторической жизни искусства. Кроме того, только путем осознания этой диалектики можно постичь искусство и его произведения как целостные единые явления, в то время как, наоборот, утверждение с самого же начала знаменитого „единства“ всегда таит в себе опасности фактического раздвоения». Изучение диалектики формы и содержания приобретало для Федорова-Давыдова значение высшего смысла и конечной цели всякого исследования: «Новое содержание вырабатывает новые формы, только благодаря им получая художественное существование, и, вырождаясь в манерничанье, становится антитезой, являясь первоначальной формой для нового содержания».
Более того, следуя логике собственного научного рассуждения, он пытался творчески переработать указание Плеханова о «двух актах марксистской критики», полагая, что «скользким является предлагаемый Плехановым метод исследования художественного произведения: сначала проанализировать содержание, а затем форму. Он скользок потому, что у критика, смешивающего содержание с идеей и потому отражающего содержание от формы, он принимает вид двух отдельных анализов, следующих один за другим. Это, разумеется, неверно и может привести, да фактически и приводит, к очень ложным оценкам».
Показательно, что приведенные выше высказывания по поводу стиля, формы и содержания, были изложены Федоровым-Давыдовым еще до того, как он приступил к конкретно-историческим штудиям во время написания своей диссертации — книги «Русское искусство промышленного капитализма». Это исследование стало героической попыткой насытить реальным материалом искусства умозрительную и выведенную сначала из весьма общих соображений теорию. И произошло нечто парадоксальное: надуманная схема в сознании исследователя ожила, перестав быть голой конструкцией, какой она была у многих коллег Федорова-Давыдова — социологов искусства. Это отразилось даже на стиле изложения — остром, напряженном, где лапидарная точность характеристик сочетается с изысканной выразительностью научной лексики.
В целом Федоров-Давыдов ставил перед собой задачу рационального сочетания формального и социологического подходов. Но называть его метод, как это иногда делается, формально-социологическим нет оснований, ибо такой метод был разработан теоретиками производственничества — Б. Арватовым и Н. Тарабукиным. И социология искусства, и формальный метод представлялись тогда высшими достижениями методологии, выражали характерное для эпохи устремление к «точности» и «научности» во всех сферах деятельности. Как писал Федоров-Давыдов, «из эстетов мы стремимся теперь стать такими же учеными, как естественники, математики и т. п. Подчеркиваю: учеными не в археологии лишь, но в искусствознании, как таковом».
С указанным поиском «точных» методологий связан еще один парадокс «Русского искусства промышленного капитализма»: с исторической дистанции первые две части книги, где художественный процесс описывается в формально-стилистических категориях, кажутся намного более достоверными, нежели третья часть, где тот же процесс характеризуется с помощью социологического аппарата. При внимательном прочтении обнаруживается, что Федоров-Давыдов в первых двух частях строит концепцию, исходя из материала, а в третьей, напротив, часто подгоняет материал (в данном случае социологический) под заранее заготовленную концепцию. Причины тут заключены в самой сущности двух применяемых методов, их историческом генезисе. Формально-стилистический метод оказывался много более гибким, разработанным, нежели социологический, содержавший в себе тенденцию (явно или неявно выраженную) к «тоталитарному» превосходству над другими методами. Очевидно и то, что сам социологический метод был еще относительно молод, его аппарат был плохо разработан. Это отразилось даже на научном тезаурусе: богатейший словарь специальной лексики первых двух частей явно скудеет в третьей, социологической части. Но все вышесказанное не отменяет правомочности самой постановки вопроса в той форме, в какой его ставил А. А. Федоров-Давыдов и его коллеги — Э. Ацаркина, Н. Коваленская и др. Зарождавшееся на рубеже 1920-х и 1930-х годов методологическое направление, которое можно было бы назвать конкретной социологией искусства, прокладывало новые пути в изучении искусства, но, к сожалению, не получило, в силу как внешних, так и внутренних причин, дальнейшего полноценного развития.
В качестве художественного критика А. А. Федоров-Давыдов начал выступать с первых шагов своей научной и художественной деятельности. Начинал он в качестве критика, так сказать, одного жанра, публикуя в журнале «Печать и революция» в 1924—1927 гг. большие обзоры выставочных сезонов. Основной чертой критической деятельности А. А. Федорова-Давыдова было стремление не упустить ничего, заглянуть во все уголки художественной жизни, осветить даже незначительные явления, что связывает его творческий метод как критика с тем подходом к истории русского искусства, который проявился в его «Русском искусстве промышленного капитализма». Точно так же его отчеты наполнены множеством имен, краткими, но чрезвычайно выразительными, порой даже излишне хлесткими характеристиками и наблюдениями. Федоров-Давыдов обладал необычайно тонким художественным чутьем, однако он проявлял некоторый скептицизм по отношению к «дореволюционному» искусству, к примеру, к мастерам символизма — М. Сарьяну и П. Кузнецову (он писал, что они пережили «дни расцвета, дни адекватности мировоззрения живописца и общества») Одновременно скептицизм Федорова-Давыдова в тот момент по отношению к «левому искусству» — и к его станковому варианту, и к производственничеству, — направленность критического взора на выставки, на которых «левые» появлялись довольно редко, приводил к тому, что почти весь этот пласт художественной культуры выпадал из поля его зрения.
Всякий критик, как бы он ни стремился к объективности, неизбежно выделяет какое-то течение в общем потоке искусства, видя за ним особые перспективы. В первый период своей критической деятельности, т. е. в 1924—1927 годах, Федоров-Давыдов особую ставку делал на ту линию, которую он определял как «экспрессионистический реализм», т. е. на ОСТ. На большие перспективы этого течения он обратил внимание еще на Первой Дискуссионной выставке. Критик, в отличие от историка искусства, обладает неким правом на преувеличение, это естественно. Здесь важно обостренное чувство той vita nova, дух которой осенял собой молодежь 1920-х, к коей принадлежал и сам Федоров-Давыдов. И в дальнейшем он внимательно следил и столь же высоко оценивал остовцев, не закрывая глаза, впрочем, и на те недостатки, которые усматривал в их искусстве.
Итак, мы подошли к короткому, но самому сложному и в определенной мере загадочному периоду творческой биографии Федорова-Давыдова. Примерно на рубеже 1927–1928 гг. он прекращает публиковать свои обзоры выставочных сезонов в «Печати и революции». Из наблюдателя (хотя и вовсе не пассивного) художественной жизни он превращается в апологета одного течения — позднего производственничества общества «Октябрь». От изучения истории искусства он переходит к непосредственной практической деятельности в Третьяковской галерее, где пытается материализовать в «Опытной марксистской экспозиции» свою концепцию истории русского искусства. В области теоретических взглядов Федоров-Давыдов в этот момент резко и категорично «левеет». Если в 1924–1925-е годы он весьма саркастически относится к беспредметничеству и конструктивизму, заявляя: «Мы, марксисты, привыкли всегда считать искусство, в том числе и живопись, особым, своеобразным видом идеологии, и для нас утверждение, что в будущем живописи не будет, может означать лишь то, что люди будущего социалистического общества обеднеют в какой-то части своей идеологии» — то с 1928 года взгляды его на левое искусство резко меняются. Этот резкий переход сказался и на исследовании «Русское искусство промышленного капитализма», вышедшем в 1929 году. Судя по тематике докладов в ГАХН и РАНИОН, именно в 1927–1928 годах Федоров-Давыдов разрабатывал главы о художественной промышленности и архитектуре, перенося туда основной вес своих концепций, подхватывая заглохший было у «левых» производственников миф о гибели станкового искусства. При этом он практически слово в слово повторяет некоторые тезисы идеолога производственничества Б. Арватова. Необычайная резкость поворота Федорова-Давыдова подчеркивается и тем обстоятельством, что на протяжении 1924–1927 годов в своих рецензиях в «Печати и революции» он весьма энергично полемизировал с производственниками, в том числе и с Б. Арватовым. «Станковизм — плоть от плоти буржуазного, капиталистического товарно-денежного хозяйства… Станковая картина есть вид нормальной движимой ценности, возникающей вместе и существующей в меру роста товарного хозяйства… и перехода художника от производства на заказ к производству на безличный рынок», и в заключении на последних страницах: «Новый стиль мог возникнуть только после окончательной смерти станковизма. Поэтому ясно, что в условиях капиталистического общества новое искусство, новая эстетика принципиально могли возникнуть только вне искусства, вне эстетики, вопреки им и уничтожая их. Новые формы вещей, первые ростки нового художественного ощущения зарождались в недрах техники с ее принципами гармонической конструктивности и функциональности, с ее пристальным вниманием к материалу». Более того, он пересматривает свои взгляды на эксперимент левых станковистов, в частности К. Малевича, устраивая его выставку в ПТ одновременно с выставкой ИЗОРАМа. Он говорит о Малевиче: «Хотя искусство Малевича является в значительной мере идеологически нам чуждым, тем не менее формальные качества и мастерство его произведений настолько существенны для развития нашей художественной культуры, что ознакомление с его работой весьма полезно, как для художественного молодняка, так и для нового зрителя». Новое понимание будущности искусства автор раскрывает таким образом: «Мы хотим создать новый органический стиль, сущность которого будет не во внешнем украшательстве, а в конструктивном формотворчестве, в наиболее совершенном, целесообразном и качественном оформлении предметов».
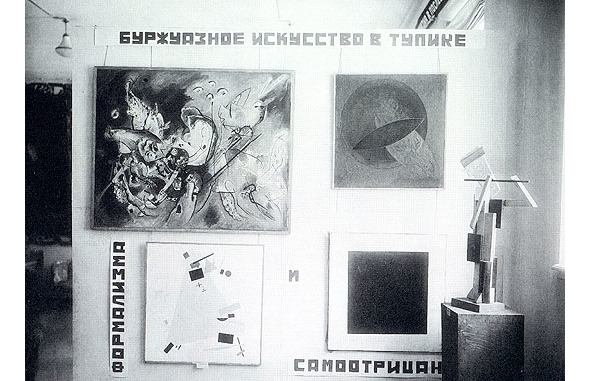
Что же привело к такому радикальному изменению взглядов и «полевению» — совсем не ко времени — Федорова-Давыдова? Это объясняется, по-видимому, внутренней логикой научного теоретического рассуждения, с одной стороны, и специфичностью художественного и, скажем, идеологического процесса, который Федоров-Давыдов с самого начала проецировал на себя и в момент резкого размежевания направлений и группировок на рубеже 1920-х и 1930-х годов явно не мог, в силу особенностей личности, занять позицию «над схваткой».
Социологическое изучение искусства в 1920-х годах с фатальной неизбежностью приводило к отрицанию станковизма и апологии конструктивизма как единственно возможного пути развития нового искусства, и не один Федоров-Давыдов испытал это на себе. Даже в высшей степени академичный Ф. И. Шмит, в 1919 году ругавший футуристов на чем свет стоит, в 1928 году разражается сентенцией в духе Хулио Хуренито. Романтическая по своей сути утопия захватывает и молодых критиков и теоретиков, изначально стоявших на принципиально различных позициях, но сходившихся в одном — в отрицании станковизма. Здесь сходились и молодой ленинградский теоретик И. Иоффе, и патриарх социологии искусства В. М. Фриче. Эта же утопия свела под лозунгами общества «Октябрь» И. Мацу и недавних аспирантов РАНИОНа, учеников Фриче — А. Острецова, А. А. Федорова-Давыдова, А. Михайлова. Именно в обществе «Октябрь», история которого в отличие от истории других обществ и течений 1920-х годов поразительно мало изучена, и происходит завершающий и во многом трагический этап истории русского авангарда.
Примечательно, что и теоретики, и художники первого периода конструктивизма конца 1920 — начала 1930-х не вошли в это общество, в чем сказалось, видимо, разочарование в ими же самими созданной утопии. Б. Арватов замолкает в 1928 году, Н. Тарабукин занимается академическим теоретизированием в ГАХНе и пишет книгу о Врубеле, проделав, как шутил А. А. Сидоров, путь «от мольберта к машине и обратно». Из ранних теоретиков к «Октябрю» присоединяется только А. Ган. Вокруг общества разгорелась ожесточенная полемика, сокрушительная критика велась со страниц ахрровского журнала «Искусство в массы» (затем «За пролетарское искусство»). При этом надо помнить, что АХРР был уже не тот, что в середине 1920-х. Вхутемасовская молодежь, завоевавшая там власть, бойкая и крикливая, отодвинула прежних лидеров и вместо характерного для АХРР натурализма там, а затем и в РАПХе развивалась своеобразная версия экспрессионизма. Вхутемасовцы составляли ядро и нового АХРР, и «Октября», и оба этих течения, ослабленные в жесткой борьбе начала 1930-х годов, вскоре были вовсе устранены с арены художественной жизни. Их место заняли совсем другие силы.
Большинство теоретиков «Октября» работали или принимали участие в деятельности Сектора пространственных искусств Института литературы и языка Комакадемии. В этом секторе, которым руководил И. Л. Маца, и разгорелись самые жаркие дискуссии. «Тяжелая артиллерия» била по своим, а полемика у теоретиков искусства чем-то напоминала ситуацию в политике. Сначала общими силами была изничтожена концепция Ф. И. Шмита, затем «развенчан» И. Иоффе, в начале 1930-х наступило время критики искусствоведческих построений И. Мацы, чему было посвящено специальное заседание Института литературы и языка и выпущен специальный сборник. Параллельно активно критиковалась позиция «Октября».
В общем избежав «проработки» в Комакадемии, Федоров-Давыдов подвергся резким нападкам со стороны журнала «За пролетарское искусство», один из номеров которого был почти целиком посвящен ему персонально. Были последовательно изобличены: позиция, которую он занимал по отношению к обществу «Октябрь»; его основные выступления того времени: по ИЗОРАМу, о текстиле, «Русское искусство промышленного капитализма»; наконец, особые нападки вызвала его деятельность по созданию «марксистской экспозиции» в Третьяковской галерее. Тон «заезжательской» критики характеризуют названия статей, посвященных Федорову-Давыдову: «Изоискусство в роли дезорганизатора», «Третьяковка в тисках формализма», «Об одной реакционной ликвидаторской теории. Идеологическое вредительство. Под дымовой завесой псевдомарксистской фразеологии. (Об одном из тех, кто мешает пролетариату овладеть изоискусством)».
К чести Федорова-Давыдова надо сказать, что даже в своей критике позиций тех ученых, с которыми он был не согласен, он оставался в рамках этики научной полемики. Еще в середине 1920-х годов он в одной из своих рецензий напоминал своим соратникам, что «в новой, созидаемой только, науке об искусстве не только неизбежна, но и плодотворна множественность различных установок и приемов исследования. У нас все еще только рабочие гипотезы, которые все время эволюционируют. Надо лишь сознавать, что мы все время работаем для одного и того же — социологии искусства и поэтому обязаны внимательнее относиться к оттенкам мысли друг друга».
И в другом месте: «Нам прежде всего нужно побольше внимательности друг к другу». Алексей Александрович Федоров-Давыдов принадлежал к тому поколению, становление которого прошло в бурной атмосфере второй половины 1920-х годов. Взгляды и ориентации Федорова-Давыдова, как и многих его сверстников, на протяжении 1920-х и первой половины 1930-х годов несколько раз круто изменялись. Но это вовсе не было проявлением беспринципности. Принципиальность тех, кто вместе с А. А. Федоровым-Давыдовым стоял у истоков отечественного искусствознания, подчеркивается и тем, что подавляющее большинство молодых теоретиков и практиков не приняло поворот эстетики 1930-х годов к псевдоклассическим идеалам и к догматическому толкованию классиков марксизма.
Окончательное решение проблемы искусства: социологическое искусствознание 1920-х гг.
Публикуется впервые. Дата написания: 1994
Логика научного расследования неумолимо привела таких ученых, как А. Федоров-Давыдов, И. Маца, В. Фриче, к выводам, которые практически уничтожили сам предмет рассмотрения, то есть искусство. Сюжет этот почти неизвестен, отчасти из-за кратковременности, отчасти — по причине того, что пик событий пришелся на 1929 год, год «Великого перелома», и события совсем иного сорта заслонили его. Парадоксальным, на первый взгляд, выглядит тот факт, что социологический подход к искусству, который опирался на официальную идеологию, был репрессирован в той же, если не большей, мере, что и «формализм». Социологизм был серьезной угрозой тоталитарной системе — опираясь на язык, принятый Властью, он был — в потенции — готов ее раскодировать. Энтузиастический скептицизм социологов искусства вызывал ожесточенную идиосинкразию со стороны исполнителей Языка Власти.
Но время печальных ламентаций о том, что наша наука потеряла, давно уже прошло, и сегодня имеется необходимость, скорее, в критической ревизии аналитического глоссария науки об искусстве. Но не придется ли нам тогда кардинально изменить представление не только об объекте наших занятий, но и о его субъекте-художнике?
Диффузия формализма и социологизма в академическом искусствознании имела некоторые пределы — секция методологии (социологической) находилась в ГАХНе на правах своего рода лаборатории. Социология большинством искусствоведов и историков искусства рассматривалась как нечто не вполне самодостаточное, как вспомогательный метод, вроде эпиграфики. А. Сидоров, например, предлагал подвергать социологическому рассмотрению уже формально исследованное искусство. По этой причине типовое социологическое исследование двадцатых годов составлено, как правило, из двух частей. Первая часть — «формальная», вторая — «социологическая». По такому принципу построено большинство статей молодых искусствоведов, опубликованных в сборнике «Русское искусство ХIХ века» под редакцией В. М. Фриче. В рамках жесткой классовой атрибуции, заданной учителем всех социологов искусства, Владимиром Максимовичем Фриче, художник только оформляет идеологию своего класса. Важно лишь правильно определить тот класс, на идеологию которого он работает. В работах самого Фриче такая атрибуция, особенно когда он пытался проводить ассоциации в области цвета или композиции, выглядела просто курьезно (например, глава «Социология цвета» в его «Проблемах искусствоведения»).
В книге «Русское искусство промышленного капитализма» Федорова-Давыдова градус социологического анализа повышается от обыкновенной в те времена риторики до разрушительного пафоса. Для него, как и для всякого социолога, искусство имеет свою экономику и свою идеологическую надстройку. Он прямо приравнивает станковое искусство к товару, обращение и производство которого сходно с любым другим товаром. Так, он рассматривает Товарищество передвижных выставок как типичное мелкотоварное предприятие, ибо «демократизация создает товарный рынок для искусства»; описывает, как в 1900-х меценатство заменяет роль мелкого товарного рынка в воздействии на судьбы искусства и так далее.
Но что происходит, когда художник встраивается в буржуазную «эстетику роскоши»? Федоров-Давыдов обнаруживает специфическую черту положения художника в буржуазном обществе — «Художник (работавший на крупного мецената. — А. К.) был экономически независим от широкой публики и это создавало ему иллюзию свободы и независимости». Одновременно, в 1900-е и особенно в 1910-е годы, растет значение малых форм искусства, которое связано не с имманентными законами развития искусства, но «обуславливается их товарной рентабельностью».
В качестве короткой ремарки отмечу, что современный рынок искусства, который, после его легитимизации, почти целиком располагается в области антиквариата, оперирует в основном предметами мелкотоварного художественного производства, которые зафиксировал в свое время Федоров-Давыдов, и никак не реагирует на неконсумерические факторы. Так, русский авангард, который в тот период еще не был вовлечен в широкий товарный оборот, и в настоящее время также почти не вращается на местном рынке, на котором произошла реставрация на 1914 год.
Впрочем, и русский футуризм, и такие западные явления, как экспрессионизм, для Федорова-Давыдова и его единомышленников не более, чем отражения идеологии класса, склоняющегося к упадку. Логический ход социологических рассуждений неизбежно приводит его к выводу, что искусство в буржуазном обществе невозможно. «Не касаясь идеологического содержания и значения стилизаторского подражания всем стилям и всем народам в этом искусстве, можно сказать, что оно как факт вытекало из невозможности органического разрешения проблемы стиля в условиях капиталистического общества». Третья, по Федорову-Давыдову, технологическая, стадия искусства в буржуазном обществе и есть «самоуничтожение стиля, которое было и самоуничтожением буржуазного индивидуалистического искусства».
За всеми этими решительными негативными жестами, изгнаниями торговцев из храма искусств просматривается абсолютный идеализм, приверженность к чистому, незаинтересованному и абсолютно нематериальному искусству. В предельном варианте этот пафос выразил Вальтер Беньямин в своем знаменитом «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1935), призвав, в очередной раз, отбросить «ряд устаревших понятий, таких, как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство, неконтролируемое использование которых ведет к интерпретации фактов в фашистском духе». Естественно, что за всей этой предельно эстетской утопией не было почти никакого реального искусства. Но эта утопия, выведенная из логики научного исследования, привела Алексея Федорова-Давыдова, Ивана Мацу, Алексея Михайлова и даже самого Владимира Фриче, человека старомодного по вкусовым пристрастиям, в ряды эфемерного образования — общества «Октябрь». Это общество, где собрались «старые» лефовцы, социологи искусства и молодые вхутемасовцы, именно там и происходил последний акт осуществления Великой утопии русского авангарда. В ходе жестких обсуждений в обществе «Октябрь» тоталитарная машина и апроприировала окончательно идею Большого стиля, над-индивидуального и синтетического. Но окончательное воплощение стиля произошло, конечно, уже без самих идеологов, зараженных мелкобуржуазным индивидуализмом. Для реализации были призваны как раз герои товарного производства живописных изделий предреволюционого времени — Исаак Бродский, Александр Герасимов и пр. Последние качественно выполнили заказ на дематериализацию станковой картины, которая умерла окончательно, превратившись в симулякр себя самой.
Неудачливые или менее гибкие и упорные станковисты, производители товарных ценностей, доказывали неверность тезиса о том, что станковое искусство относится к эстетике буржуазной роскоши, стоически производя искусство в условиях тотальной невозможности его потребить. Наличие мощной и все нараставшей оппозиции социалистическому реализму доказывает слишком абстрактный тезис Бориса Гройса о семантической социальной преемственности авангарда и соцреализма. Но как раз эта оппозиция и расшатала незыблемость социалистического реализма как авангардизма путем успешного внедрения квазирыночных отношений, заключавшихся в торговле искусством между цехом (Союзом художников) и государством. Самым парадоксальным образом именно живописные ценности оказались языком дешифровки идеолекта, инструментом критики общества. Собственно авангардизма в Советском Союзе не существовало практически до середины семидесятых именно вследствие этой двусмысленности и смазанности частей бинарной оппозиции.
Мы подошли — правда с другой стороны — к роли художника в буржуазном обществе, которая оказалась сокрыта для самих социологов искусства 1920-х годов. Они действительно произвели глубокую деконструкцию искусства как институции буржуазного общества. Собственно, дезинтеграция традиционного понимания картины и искусства и была основной проблемой европейского модернизма. Но, как отмечает Петер Бюргер, один из самых радикальных теоретиков модернизма, «основная цель авангардистов в их самых экстремистских манифестациях — искусство как институция в том виде, в каком оно развивается в буржуазном обществе». Но все дело в том, что капиталистическое сознание обладает потрясающей способностью ассимилировать любой протест и интегрировать любую альтернативу. «Несмотря на то, что дюшановский „Писсуар“ предполагает разрушение искусства как институции, включая его специфические организационные формы, такие как музеи и выставки, художник, приславший на выставку печную трубу, требует, чтобы его „работа“ была принята музеем. Но это значит, что авангардистский протест обращен в свою противоположность».
Таким образом, художник в западном буржуазном обществе занял место терапевта общественного подсознательного, актуального шизофреника, раскодирующего потоки желания машины власти. Но Федоров-Давыдов и Маца, равно как и Арватов с Тарабукиным еще не имели — и не могли иметь — такого опыта, который имели Бюргер в семидесятых или Делез и Гваттари в восьмидесятых. Советские социологи искусства нашли код к деконструкции буржуазного искусства как институции, и ключ этот оказался очень даже простым — достаточно было просто указать, что станковое искусство есть потребительский товар. Для этого определения не требовалась слишком большой решимости — из-за специфики географического нахождения самих социологов искусства в Советской России. Гораздо сложнее было дойти до предельного и радикального разрешения вопроса. «Буржуазия, — как писал Ролан Барт в „Мифе сегодня“, — довольствуется миром вещей, но не хочет иметь дело с миром ценностей; ее статус подвергается подлинной операции вычеркивания имени; буржуазию можно определить поэтому как общественный класс, который не желает быть названным». Прибавим, что на столь же революционное раскрытие смысла тоталитарного социализма как Языка Власти у социологов 20-х уже не было исследовательской воли и революционной решимости, и сами они с фатальной неизбежностью пополнили ряды интеллигентской оппозиции к репрессивной победившей авангардистской утопии, базис для которой они же сами и заложили.
Но эта склонность к слишком жесткой социальной атрибуции и отказ от рассмотрения реализации индивидуальности художника в буржуазном обществе в качестве критика, идеолекта и оппонента власти и была наиболее слабым местом социологии искусства. Если возвратиться к тому же Фриче, то он ясно и недвусмысленно утверждал, что «разрыв художника со своей средой отнюдь не есть доказательство в пользу надклассового или внеклассового характера искусства». Буржуазное декадентство было самой излюбленной мишенью социологической иронии. Если интеллигенция не есть класс, то ее можно списать со счета, ее присутствие на общем фоне только затуманивает картину. Например, Наталья Коваленская в работе «Русский жанр накануне передвижничества» пишет о том, что «осложняющее влияние психологии самих художников как представителей мелкобуржуазной интеллигенции сказалось в народнических тенденциях». И далее: «гипертрофированный психологизм этой интеллигенции, ее оторванность от материального производства, с одной стороны, и от гедонистического потребительства, с другой, были причиной слабой художественной формы искусства 60-х гг.». Но именно эта выключенность из процессов материального обмена и преимущественная активность в области обмена символического и предопределила роль катализатора и движущей силы революции символических ценностей.
Чтобы понять искусство, надо выпрыгнуть из него, как говорил Борис Арватов в книге о Натане Альтмане. Но радикальное уничтожение значения предмета искусства как непререкаемой ценности открыло абсолютно новые перспективы за поверхностью холста, покрытого красками. Двадцатый век был эпохой негативной эстетики и Великого Отказа. Оптика в конце эпохи размывается, даже со стороны великих «отрицателей» раздаются призывы к положительным ценностям и прочему буржуазному мусору. И в этих условиях особенно важно хоть как-то поддерживать остроту зрения и изучать свой предмет таким, каким он был — то есть искусством, которое пыталось перестать быть искусством.
Введение в музей современного искусства
1997
Музей?
В мире сейчас насчитывается около ста музеев современного искусства, и все время открываются новые. Сеть Музеев современного искусства покрывает весь мир от Южной Африки до Токио, при этом сама институция — Музей Современного Искусства — к концу двадцатого века приобретает почти трагические очертания, равно как и само современное — modern и contemporary — искусство.
В формуле «Музей современного искусства» обсуждению подлежат не только ставший сомнительным термин «современное искусство», но и само понятие «музей». С одной стороны, идентичность музея раз и навсегда гарантирована, равно как и практика коллекционирования и собирания. Традиционная музеология только рассказывает истории о том, как складывалась та или иная коллекция и как она развивалась, но никогда не говорит, почему все это происходило. Музеи классифицируют и собирают артефакты истории, цивилизации, природы, но в них отсутствует функция самоанализа. Музеи только предъявляют себя, не говоря ничего о том, зачем они это делают. Такая непреклонная уверенность в своей предвечности прямо свидетельствует о том, что язык музея корреспондирует с Языками Власти, которые так же упорно скрывают свою сущность. Элиан Хупер-Гринхилл утверждает, что публичный музей приобрел форму аппарата с двумя глубоко противоречивыми функциями: «с одной стороны, это элитарный Храм искусств, с другой — утилитарный инструмент для демократического образования народа».
Музей возник в определенном месте и отражал определенные изменения в общественных механизмах. Дуглас Кримп придерживается мнения, что такой парадигматической инстанцией раннего художественного музея была Старая Пинакотека, ставшая «институциональным выражением „современной“ идеи искусства, впервые сформулированной Гегелем». Она была построена Карлом-Августом Шинкелем как раз в тот момент (1823–1829 гг.), когда Гегель читал свои лекции в Берлинском университете. Кримп утверждает, что Пинакотека стала своего рода вместилищем Абсолютного духа и — специфическим индексатором социальных и политических взаимоотношений раннекапиталистического общества. Эта точка зрения восходит, по всей видимости, к высказыванию Герберта Маркузе, который утверждал, что музей и есть то место, где буржуазное общество «располагает свои социальные мечтания и утопии».
Но если Власть — это Знание, то каковы же соотношения власти-знания внутри этого священного места? В статье «Музей в дисциплинарном обществе» Хупер-Гринхилл доказывает, что восторги Французской революции «создали условия для появления новой истины, новой рациональности, приведшей к новой функциональности для новых институций — таких, как публичный музей». Публичные музеи, по ее мнению, демонстрировали одновременно и падение старых форм контроля ancien regime, и демократичную пользу Республики. Присваивая королевские, аристократические и церковные коллекции именем народа, революция превратила музей из символа деспотической власти в инструмент для образования граждан, который служит коллективному благу государства. Но музей производит институциональное разделение производителей и потребителей знания. Эта сегрегация, которая так греет сердце всякого музейщика, выражена в архитектурных формах музея, где имеются Хранилища, то есть скрытые пространства, где знания производятся, и публичные помещения, где знания предлагаются для пассивного потребления. «Музей стал тем местом, где под постоянным надзором тела становятся послушными». Левоструктуралистская точка зрения на музей выглядит довольно мрачной и одномерной и отсылает к разработанной Мишелем Фуко семантике тюрем и наказаний. Но музей все же не тюрьма — в золотую клетку заключены только сами объекты искусства. Однако даже если музеи и представимы как инструменты классовой гегемонии, что, кстати, объясняет экстраординарные усилия по организации «пролетарских музеев» в 1920-х, то они в той же степени могут оказаться и тем местом, где «в процессе критики этих гегемонистических идеологических артикуляций, управляющих музейным показом, происходит поиск новых опережающих артикуляций, способных к организации контргегемонии» (Тони Беннет, «Политическая рациональность музея»).
Странно, но Соломон Гугенхайм собирал только международное искусство — в коллекции, переданной в Бильбао, присутствуют и русский Василий Кандинский, и голландец Пит Мондриан. Более того, стойкая позиция миллионера во времена маккартизма позволила многим художникам избежать обвинений в «антиамериканской деятельности» и космополитизме.
Музей? Современного?
Искусство XX века твердо настаивало на своей привилегии не быть любимым и не вызывать чувства умиления. Драйв раннего авангарда, направленный против культуры прошлого, был прямым ответом на восторги музеефикаторства XIX века. Русские авангардисты, европейские дадаисты и движения им наследовавшие сражались не против старой культуры, а против культуры апроприированной, как говорил Малевич, буржуазным сознанием и помещенной в колумбариях музеев. Джотто, Рембрандт или даже Ватто с его «утонченным будуарным запахом парфюмерной культуры» замечены в революциях не менее серьезных, чем те, что совершили Казимир Малевич, Марсель Дюшан или Энди Уорхолл. В XX веке было радикально переформулировано само понятие искусства, и это новое понимание распространилось и на так называемое «старое» искусство. Но при приближении к Музею как дисциплинарной и педагогической институции раннебуржуазного периода и теоретики, и художники готовы согласиться, что современное искусство — это мусор, валоризация профанного, которому не место в «настоящем» музее.
Борис Гройс, например, настаивает на том, что «экономический» принцип, на котором выстроен музей, очень прост и похож на принцип церковной экономики. «Музей покупает произведения искусства на рынке, но впоследствии он уже их не продает». Дональд Каспит, говоря о музее уже в постмодернистской парадигме, пишет, что «музеи стали снова привилегированным пространством, в котором принудительно становятся чем-то вроде церквей для пилигримов, истинных верующих, желающих приобщиться к настоящим мощам художника». В результате Музеи современного искусства оказались паллиативом, ибо произведения Пикассо и Дюшана должны находиться в Лувре, а Малевич — в Эрмитаже. Ведь никого не удивляет, что в письменной истории искусства Джотто и Татлин оказываются под одной обложкой, а в своих материальных телах сойтись могут разве что в частной коллекции или в провинциальном музее.

Оппозиция «настоящих» музеев и Музеев современного искусства впервые проявилась при создании самых первых публичных собраний актуального искусства, появившихся, как известно, в начале двадцатых годов в России. На первом этапе полемики между Казимиром Малевичем и Николаем Пуниным, происходившей на страницах газеты «Искусство коммуны», Малевич совершенно в духе Николая Федорова утверждал, что «устройство современного Музея есть собрание проектов современности, и только те проекты, которые смогут быть применены к остову жизни или в которых возникнет остов ее, — могут быть хранимы для времени». В 1923 году Малевич уже вполне прагматически настаивает на включении «новейших течений» в структуру традиционных музеев, а Пунин, напротив, высказывает опасение, что «освященные традицией Голиафы поглотят маленькие музеи художественной культуры». (Речь идет о Московском музее живописной культуры и Петроградском Музее художественной культуры.) Но поглощение это все равно произошло, а сам Пунин стал руководителем Отдела Новейших течений Русского музея, в результате чего — к счастью для мировой культуры — русский авангард ко времени наступления тяжелых дней был надежно упрятан в музейных хранилищах. Но это уже совершенно отдельная история.
Мodern or contemporary?
Каждый музей современного искусства несет в себе один парадокс — он в принципе должен расширяться до бесконечности с той же скоростью, с какой развивается действительность. С другой стороны, переполнение современностью приводит к тому, что двери прикрываются просто вследствие того, что все места уже заняты. И Спираль Гуггенхайма, и Фабрика Бобура давно уже заполнились, обрели внутреннюю полноту.
Как показал Дуглас Кримп, такие формы современного искусства, как видео, перформанс и привязанные к определенному месту инсталляции бросили вызов истинной функции музея как коллекционера и хранителя почитаемых артефактов материальной культуры. Но музеи все равно предпочитают покупать предметы с ясно определимой ценностью и чаще всего просто игнорируют явления, качество которых неотделимо от жизненного опыта и чью будущую ценность как артефакта в высшей степени трудно оценить или гарантировать. Это могут быть работы, производимые в репродуцируемых техниках, конфронтирующих с музейной установкой на определение ценности через уникальность. Интердисциплинарные и концептуальные практики, появившиеся в шестидесятых и семидесятых, приводят в хаос системы музейной классификации. Отчего утратившие свою актуальность «музеи модернистского искусства» оказываются не в состоянии воспринять новые тенденции, которые теперь обращаются почти исключительно к таким эфемерным техникам.
Комментируя заявление Уильяма Рубина, руководителя отдела живописи МОМА, о том, что новые художественные практики «требуют другого окружения и, возможно, иной публики», Дуглас Кримп отмечает, что «на место реальности художественного процесса в музей приходят новоявленные гении, изготовляющие клишированные полупорнографические, наполненные отсылками к прошлому «произведения». Музеи современного искусства, созданные на волне радикального переосмысления самой сущности искусства, почивают на лаврах, их поглощает мелкий рынок, разрабатывающий тематику, ставшую классической. Как печально констатирует Розалинд Краусс, музеи, которые были порождены прозелитическим стремлением вылететь за пределы современного искусства, теперь находятся в опасности пришествия бастардного потомства бюрократий и транснациональных компаний, опасности функционирования исключительно ради коммерческих целей. «И они — музеи — должны умереть».
Но преемственность искусства XX века — только в непрерывном поиске новых способов выражения вечно ускользающего «духа времени». Для таких поисков требуется открывать все новые и новые музейные институции. Например, в Париже актуальные и еще только становящиеся художественные проекты выставляются исключительно в Городском Музее современного искусства (Мusée d’аrt modernе dе lа Villе dе Pаris), но не в Бобуре. Точно так же и в Нью-Йорке в 1977 году был создан Новый музей современного (contemporary) искусства для того, чтобы охватить концептуальные и ориентированные на процесс работы, которым нет места в традиционном Музее современного (modern) искусства. Но что будет, когда и эта эпоха перестанет быть современной? По этому поводу Октавио Пас, еще в 1967 году, говорил о том, что единственным выходом из циклической «современности» будет изменение концепции Времени.
Музей современного искусства? В Москве?

В Советском Союзе Музей современного искусства как институция не мог существовать в ситуации, когда национального искусства — Третьяковка и Русский — превратились в своего рода постамент для осуществленного искусства, то есть социалистического реализма. В этом смысле Третьяковская галерея времен Александра Герасимова продолжала концепцию Музея живописной культуры и Музея художественной культуры, которые обосновывали появление искусства в окончательном варианте. Малевич, Родченко и Татлин — каждый по-своему обосновывали «свершенность» искусства. Естественно, что и в качестве оппозиции искусству, которое завершает историю, оказалось искусство, которое не изменяется. Социалистический реализм сталинского времени приобрел свою неоспоримую мощь, использовав программу Малевича, но впоследствии был разложен искусством, которое ничего не желало знать ни о «Черном квадрате», ни о «Fontain». «Потаенное» искусство тридцатых и сороковых было вполне допустимо, ибо не претендовало на дискурс Власти. Послевоенное советское искусство шаг за шагом отказывалось от заимствованной у раннего модернизма идеи «свершенности» искусства и позволило себе подвергнуться эволюции, то есть коррупции. В итоге и национальные музеи превратились в музеи истории этой эволюции, абсолютно изоморфной и самодостаточной.
Идея создания Музея современного искусства, равно как и прочих рамочных институций, неизбывно носила у нас романтический характер. Но, как мы видим, сам Музей как институция находится в перманентном кризисе. Однако, то чему суждено умереть, должно сначала родиться. История всегда репрессивна: выбирая только отличников, она отправляет всех остальных во врата забвения или полузабвения. Музей современного искусства закрывает двери в прошлое. До тех пор, пока то или иное течение не попало в музей, оно существует только в настоящем. Создание Музеев современного искусства, то есть признание модернизма общественной ценностью, каждый раз было символом модернизации, которую проходило общество в целом. Но нет модернизации — нет и Музея. Или наоборот — нет Музея — нет и модернизации.
Мы другие или другие мы. Русское искусство на Западе
1999
Всякий раз тема, содержащая сочетание «Россия и Запад», погружает нас в древние, как мир, ламентации о судьбе России и прочих вечно живых предметах. В рамках искусствоведческой терминологии речь заходит обыкновенно о «национальном своеобразии» или, напротив, о «связях культур». Язык сам собой начинает заплетаться в рассуждениях на тему о самоопределении России, священных камнях Европы, таинственной русской душе, etc. Или, например, о «России как подсознании Запада», русской парадигме… Болезненная навязчивость, с которой вопросы самопознания преследуют русскую культуру, говорит лишь о том, что сама эта проблематика заложена в базисный набор генеральных идей русской культуры. Поэтому есть смысл обсуждать только одну проблему: почему она всех нас так сильно интересует?
Понятно, что русская культура тяжко переживает стигматические комплексы культурной обделенности, проистекающей из многих десятилетий изоляционизма и гонений. Но и здесь не все так просто. Известно, что русское искусство стало реальным и неотъемлемым фактором мировой культуры только в XX веке. Почти весь XVIII и XIX века, за немногим исключением, русская культура занималась своими собственными проблемами и не имела особенных интенций к тому, чтобы убедить окружающих в глобальности этих проблем. Начавшись с дягилевских сезонов, претерпев удивительный всплеск в связи с ранним авангардом и несколько комично вспыхнув в конце 1980-х — начале 1990-х, в веке двадцатом русское присутствие на мировой художественной сцене было обозначено весьма даже четко, но при этом обросло массой различных мифов и баснословий. Поэтому проще всего было бы ограничиться описями успехов и списками прибитых к вратам различных городов щитов. Но вся беда в том, что патетика победы над Западом постепенно выродилась в полный фарс. В последнее десятилетие в стандартном пресс-релизе любого мелкого отечественного живописца непременно упоминают: «N хорошо знают на Западе». Чаще всего в реальности имеется не более чем участие в групповой выставке в небольшой галерее в маленьком американском городке или в экспозиции в немецком супермаркете.
Заметим, однако, что благородная истерика по поводу догоняющей позиции русской культуры сама есть порождение неумения спокойно жить в провинции, как шведы или португальцы, старающиеся не очень расчесывать идеи национального своеобразия. Можно даже сказать вслед за А. А. Федоровым-Давыдовым, что промышленный капитализм неизменно порождает идеи «национальных школ», которые на поверку оказываются похожими как две капли воды. При внимательном рассмотрении между Национальными музеями Будапешта или Стокгольма не обнаруживается никакого принципиального отличия, и основные течения и художественные направления XIX века вполне соответствуют друг другу. В Стокгольме гораздо более мощный неоклассицизм, потому что там работал Торвальдсен, в Будапеште гораздо сильнее выглядит ранний авангард, которого в Стокгольме почти нет. И так повсюду далее по карте провинциальной Европы. Более того, посткапитализм продуцирует искусство, национально на первый взгляд почти не идентифицируемое, что входит в некоторое противоречие с установками постмодернизма как искусства идентичности.
А русская культура между тем все еще лелеет в себе подростковое желание понравиться и быть любимой. Отсутствие же любви и понимания погружает в депрессию. Впрочем, депрессивность часто выступает конструктивным и стилеобразующим фактором: так американцы, которым тоже не чуждо чувство культурной обделенности, перед войной валом экспортировали культуру из Европы для того, чтобы стать полноценным Западом. Поэтому коллекция МОМА (Музей современного искусства в Нью-Йорке) и Музея Соломона Гуггенхайма по своему положению в исторической семантике «американской школы» вполне соответствуют месту коллекций Щукина и Морозова в генезисе русского авангарда. Отметим, что и Кандинский, и Малевич оказались в МОМА и Гуггенхайме как специфические культурные трофеи, привезенные из изощренной Европы. В этом смысле Европа для Америки точно такой же фантом, как для России — Запад. Ущербность культурного капитала изживается исключительно посредством массированных инвестиций — как финансовых, так и интеллектуальных. Поэтому не только бессмысленно, но и просто разрушительно для культуры предаваться сладким воспоминаниям о былом величии — следует снова накачивать утраченные культурные капиталы актуального сознания. Тем не менее важно не только подробно описать и зарегистрировать феномены русской культуры, имплантированные в западные, то есть европейские и американские контексты, но и внимательно проанализировать историческую фактуру, которая далеко не так безоблачна и возвышенна, как это представляется.
Например, при внимательном рассмотрении обнаруживается печальная вещь: за немногими исключениями, русская культура на Западе на всем протяжении XX века выступала в качестве пассивного агента. Даже восхитительный Дягилев все же выступил с дикими скифскими плясками, то есть с тем, чего от него (то есть от всей России) и ожидали. Таким образом, он и его единомышленники заведомо согласились на изготовление специального продукта в экспортном исполнении, адаптированного к нуждам специфических потребителей. Поэтому дягилевские сезоны и остались фактом по преимуществу русской культуры, оставив мировой след только в преобразовании балетной техники. Точно так же мхатовцы Михаила Чехова научили немых артистов Голливуда высокопарной технике выразительности по Станиславскому, а сами при этом остались за кадром. Таким образом, локальный успех вовсе не означает подлинного внедрения и удачной культурной интервенции. Переехав в реальный Париж, мирискусники во главе с Александром Бенуа так и остались в своих петербургских Версалях, собравшись в довольно изолированное культурное гетто.
И если в такой ситуации оказались европейски образованные интеллектуалы и эстеты, для которых не стояла бытовая проблема языковой коммуникации, то что можно было требовать от следующего авангардного поколения, которое обладало гораздо меньшей просвещенностью. Достаточно вспомнить хотя бы фантасмагорическую историю с визитом Татлина под видом слепого бандуриста к Пикассо. В этом, собственно, и есть беда не только русского художника, но и почти всякого провинциала: они часто просто ошибаются адресом. Татлину было бы полезнее найти «своих», то есть дадаистов, и встретиться, например, с Тристаном Тцара — таким же, как и он, простоватым парнем из Восточной Европы, который тем не менее заложил основы европейского дадаизма. Парадокс: для того, чтобы сделать карьеру в искусстве, гораздо правильнее присоединиться к маргиналам, а не пытаться понять, как делается мейнстрим. Но Татлин ехал не искать своих (то есть правильно «потусоваться»), но найти окончательные ответы на свои метафизические вопросы, поэтому его вполне дадаистский жест художественного шпионажа так и остался странным курьезом. При этом Татлин действительно был очень близок идеологически и стратегически к дада, ведь вовсе не случайно Георг Гросс и Джон Хартфильд демонстрировали свои восторги перед татлинской машинерией плакатом: «Die Kunst ist tot! Es lebe die neue Maschinenekunst Tatlins!» Сегодня вполне ясно, что XX век оказался веком не кубизма, а дадаизма. За Пикассо слишком далеко никто не пошел, а за дадаистами — Татлиным, Дюшаном и Хартфильдом — выстроилась целая историческая эпоха. Впрочем, история искусства никогда не выглядела как последовательная эволюция, генетические связи часто перескакивают через многие десятилетия и географические препятствия.
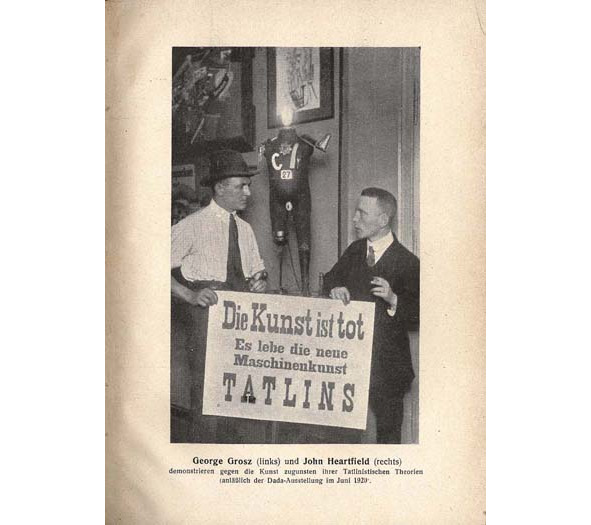
Но невозможность коммуникации, нежелание адаптироваться, врасти, вступить в диалог преследовали художников и в двадцатые годы, когда неутомимый Штеренберг во главе Наркомпроса вел весьма агрессивную и экспансионистскую политику. Родченко, например, приехав в Париж, так и остался отчужденным и недоброжелательным туристом, не совершив никаких попыток связаться с местной художественной средой. Еще более неадекватным окружающему оказался Казимир Малевич. В Берлине, куда он приехал проповедовать свое учение, он так и не смог никому ничего растолковать. Конечно, были и художники, прекрасно враставшие в западные контексты и при этом ничуть не потерявшие своей самобытности: Эль Лисицкий, Марк Шагал, Василий Кандинский.
Но, как то ни печально, можно резюмировать, что фигуры первого плана — Малевич, Татлин, Родченко, Филонов — так и остались в сознании своих европейских современников странными и непонятными пророками. Актуальное искусство создается в процессе живого интеллектуального и художественного общения. Поэтому авангард, выпавший из «тусовки» к тридцатым годам по причине опустившегося железного занавеса, остался мерцать где-то на краях художественной культуры.
Ситуация кардинально изменилась только в шестидесятых годах, после выхода знаменитой книги Камиллы Грей «The Great Experiment. Russian art 1863–1922». Конечно, часто бывает, что успех и мода приходят только после смерти художника, но здесь совершенно особый случай. Ван Гога, в конце концов, сначала оценили сами французы и потом весь остальной мир. Но с русским авангардом случай совершенно особый: определенный фрагмент русской культуры был как бы отделен от остального массива и географически локализован в ином месте. Конечно, и у нас всегда была небольшая группа хранителей и продолжателей, но как культурное явление русский авангард возвратился обратно в Россию уже как западный продукт.
В «русском буме» шестидесятых-восьмидесятых следует различать два основных направления, которые можно определить как экспорт революции и экспорт товара. Здесь следует иметь в виду определенную дистанцию между левыми интеллектуалами, которые восторгались Эйзенштейном, Лисицким и Родченко, и искусствоведом и музейщиком Альфредом Барром, который гонялся по всему миру за работами Малевича и Кандинского. Если для Клемента Гринберга или Мейера Шапиро, классиков высокого модернизма и ярых троцкистов, открытие Малевича было открытием новой возможности критического и конструктивного отношения к миру, то для Барра — классическим примером обоснования современного дизайна и уникального способа организации пространства картины и правильного зрения. Так, при обсуждении прибавочного для европейской культуры элемента — русского авангарда — обозначился весьма четкий водораздел между двумя историями искусства: формалистской и радикальной, историей предметов искусства и их восприятия и историей идей, изменяющих зрение и мир. Первая породила уникальную исследовательскую школу самодостаточного познания, когда предмет может быть понят только исходя из его собственных свойств и значений — Малевич может быть объяснен только посредством текстов самого Малевича. Вторая история искусств, напротив, открыла дорогу таким течениям в искусстве 1960–1970-х годов, как минимализм, arte povera и много чему еще. Замечательно, что и эти рецепции русской культуры были как бы возвращены к своему источнику, когда на рубеже восьмидесятых и девяностых крупнейшие художники Европы и Америки — Дональд Джадд, Янис Кунеллис, Жан Тэнгли — совершали специальные паломничества в «Москву Малевича и конструктивистов».
Что касается знаточеской школы изучения русского авангарда на Западе, то можно сказать, что непосредственной причиной столь широкомасштабных исследований явилось достаточно специфическое субсидирование со стороны государства, отчего советология, русистика и даже славяноведение получили несколько гипертрофированное развитие. Русский авангард оказался изучен вглубь и вширь, исследован усилиями таких замечательных ученых, как Джон Боулт, Николлетта Мислер, Кристина Лоддер, Шарлотта Дуглас и многих других. Более того, сложилась такая ситуация, что, когда у советских ученых появилась возможность хотя бы тайно заниматься авангардом, многие источники были на иностранных языках. Потом и их собственные исследования стали впервые выходить также на иностранных языках: достаточно упомянуть такие имена, как Лариса Жадова, Дмитрий Сарабьянов, Селим Хан-Магомедов, Анатолий Стригалев, Евгений Ковтун. В результате разнонаправленных усилий этих энтузиастов русский авангард оказался едва ли не самым изученным фрагментом истории русского искусства, и новым поколениям исследователей остается только разыскивать мелкие фрагменты и недостающие кусочки, которые мало чего нового прибавляют к общей картине. Можно лишь позавидовать пионерам, которые открыли для себя и мира новый пласт культуры и посвятили свою жизнь тщательной и подвижнической обработке уникального материала. Но эта патетическая история завершилась — остались научные конференции, где горячо спорят о датировках, да обширные, хорошо иллюстрированные монографии.

P. S. Я совершенно сознательно не говорил ничего о реальном бытовании предметов русского авангарда за рубежом. К сожалению, и рынок, и музеи, и частные коллекции просто наводнены фальшивым русским авангардом. Причина только в одном: буквально единицы из многочисленных работ, оказавшихся на Западе, имеют точный провенанс — в какой-то момент они были сначала незаконно проданы, потом незаконно вывезены. Опасаясь оказаться не в ладах с советскими законами, продавцы и покупатели до сих пор не имеют никакого желания документально подтверждать свои действия. Этот вопрос не имеет этической подоплеки, так как западные дипломаты, корреспонденты и другие иностранцы вывозили из Союза то, что реально могло пропасть или быть уничтоженным. Такая ситуация породила колоссальную индустрию фальшивого авангарда, к чему рынок искусства XX века был просто не готов, так как привык доверять дилерам, перекупщикам и коллекционерам. Почему так мало фальшивых Мондрианов и так много фальшивых Малевичей? Просто потому, что при музеефикации или торговле мифологическими предметами неизбежно возникает возможность для махинаций.
II. Такая история: Настоящее в прошедшем
Василий Кандинский: Две вершины
1996
Нет ничего приятнее для рецензента, чем откликаться на издания безупречные и приятные во всех отношениях. Признаюсь, что принадлежу к числу косвенных учеников и тайных почитателей Дмитрия Владимировича Сарабьянова. Если соскрести налет амикошонства и наносного декоративного марксизма, то и у меня обнаружатся наросты добропорядочного университетского формализма. Внутреннее благородство книги о Кандинском начинается уже с того, что нигде не обнаруживаешь никакого упоминания о том, что раньше было нельзя, а теперь можно. Сам Кандинский, двойной эмигрант — сначала из Советов, затем из Третьего Рейха, никогда ни словом не обмолвился об этих обстоятельствах. Личность автора и его героя корреспондируют самым прямым образом, вплоть до портретного совпадения. Неизменно мягко благожелательный и одновременно отстраненный от жизни мыслитель, Кандинский был еще большим европейцем, чем сами европейские художники его времени. Вряд ли они приступали к таинству живописания в столь тщательно отглаженной тройке. Впрочем, если внимательно вглядеться в черты этого гипертрофированного европейца, то можно разглядеть черты деда-бурята, знаменитого сибирского разбойника.
Кандинский удержался в рамках холодной вычурности югендштиля и никогда не был «авангардистом», несмотря на весь свой абстракционизм. Искусство ХХ века располагается по эту сторону «Черного квадрата» и дюшановского Fontain — писсуара, объявленного искусством. Со всем своим скарбом — «Духовным в искусстве», патетическим преклонением перед научными и техническими достижениями и салонными виршами он так и остался в старом мире добропорядочного, но пустого и мелкобуржуазного девятнадцатого века.

Но, что самое интересное, и биограф художника к концу века двадцатого отрицает свой век и просветительски верит в вечные истины, в то, что человек — венец вселенной и прочие прекраснодушности. Типологически сарабьяновский формализм соответствует формализму Клемента Гринберга. С одним только отличием: эстетика последнего модерниста героична, а подвижнический формализм самого знаменитого исследователя русского авангарда предельно пассеистичен. Было бы трюизмом утверждать, что сарабьяновский текст конгениален Кандинскому. Столь величественно и конструктивно эпическое течение текста, что никому уж не превзойти этот оточенный до немыслимого и экстатического совершенства стиль формального одорационного Описания Произведения. Единственное, что отсутствует в этом добротном издании — какие-либо признаки историографии и библиографии. Библиографический обзор приоткрыл бы этот герметически прекрасный мир и в щели затянуло бы ливни безумной краски Джексона Поллока, вампирскую усмешку Энди Уорхола, маниакальный взор Йозефа Бойса и много еще чего.
Бескровное убийство
2003
Журнал издавала компания молодых художников, которая познакомилась и подружилась в начале десятых годов в художественной студии Михаила Бернштейна, впоследствии тоже принимавшего участие в веселье молодых проказников. Но именно там Вера Ермолаева, Елена Турова и Николай Лапшин познакомились с молодым футуристом Михаилом Ле-Дантю. Этот студент Академии художеств к тому времени уже успел войти в круг футуристов, вступить в самое радикальное художественное объединение Петербурга — «Союз молодежи», оформить в 1911 году авангардистскую постановку народной драмы «Царь Максимилиан и его непокорный сын Адольф» и подружиться с Гончаровой, Ларионовым и Татлиным.
Илья Зданевич вспоминал потом про Ле-Дантю, что это был «застенчивый молодой человек, русый, с козлиной бородкой и говоривший почти шепотом. Он никогда не говорил слишком много или громко. Но несколько почти шепотом брошенных фраз, сопровождавшихся застенчивым жестом нежнейших рук, разили, разбивали, рушили и вместе с тем приподнимали завесу». При этом Ле-Дантю был прирожденным революционером — потомком той самой француженки Камиллы Ле-Дантю, которая отважно ринулась в холодную Сибирь за декабристом В. П. Ивашевым. И родился он в далекой глуши, поскольку его отец был политическим ссыльным. Поэтому вовсе неудивительно, что Ле-Дантю был весьма продвинутым по части эпатажа обывателей и прочего художественного бунтарства. В 1913 году в компании с товарищами-футуристами он гулял по московским улицам с раскрашенным футуристическими письменами лицом. Народное признание пришло быстро — фотография футуриста в боевой раскраске попадает в бульварную прессу с соответствующими случаю комментариями. Ле-Дантю привлекают к суду, в ходе которого так и не удалось установить, по какой статье можно провести такой способ нарушения общественного порядка, как появление в общественных местах с раскрашенным абстрактными знаками лицом. Естественно, что столь последовательного и непримиримого футуриста с треском изгоняют в 1912 году даже из либеральной в те времена Академии художеств.
И тогда соратники по футуристическому цеху, братья Зданевичи, приглашают Михаила погостить на лето у родителей в Тифлисе. Вот там и происходит одно из самых замечательных открытий прошлого века. Встречу Кирилла Зданевича и Михаила Ле-Дантю с Нико Пиросмани обычно принято описывать в крайне романтических тонах — два русских футуриста гуляют по Тифлису, заходят в духан, там видят прекрасные картины, знакомятся с художником… На самом деле молодые люди не просто гуляли, любуясь окрестностями. А самым натуральным образом «загуляли», то есть таскались из одного духана в другой, предаваясь тому самому пороку, который и свел в могилу великого грузинского примитивиста. Но только так и могло совершиться столь важное открытие — молодым людям из приличных семейств, каковыми были и братья Зданевичи, ход в столь злачные места, как тифлисские духаны, был строго заказан.
И что самое интересное — представители столичной богемы приехали не для того, чтобы расслабиться, а искали в древнем городе подтверждений своих новейших теорий. Ле-Дантю был не просто футуристом, но очень серьезным футуристом — чтобы написать манифест «Живопись всеков», он надолго засел в библиотеках, изучал материалы в Археологическом институте, где училась художница Вера Ермолаева, впоследствии активно участвовавшая в «Бескровном убийстве». Как ни странно, русские футуристы на самом деле смотрели только назад, в глубокое прошлое, а источники вдохновения видели в Египте, Вавилоне и русской иконе, во всем варварском, ярком и диком. Находясь в мейнстриме мирового художественного процесса, они категорически отвергали все, что идет с Запада, и искали свой, оригинальный путь. Так что «открытие» грузинского примитивиста вовсе не было случайностью, просто так все идеально совпало. Написанный Ле-Дантю манифест «Живопись всеков» — сочинение довольно путанное. Но там сказано: «С внесением в Россию официального западничества, при Петре Великом, национальному искусству был нанесен решительный удар… Нужно изучать лубки, вывески, вышивки, разные изделия русского искусства во всей его самостоятельности и со всеми признаками его преемственности».
Запущенный Михаилом Ле-Дантю в 1915 году проект «Бескровное убийство» открывал совершенно новый этап футуризма. Открытия старшей генерации авангардистов были подвергнуты испытанию иронией. Даже «Ассиро-Вавилонский» выпуск «Бескровного убийства», казалось бы, идеально соответствующий программным установкам «всечества», и тот представлял собой ироническое изложение последовательного влияния этой программы на художницу Веру Ермолаеву. А шестой «Фиджийский» выпуск вообще был прямым издевательством над романтическими поисками идеальной и незамутненной цивилизацией культуры. Там речь идет о некоем министре изящных искусств островов Фиджи, который перебрался в Петроград, но никак не мог приспособиться к местной кухне. Борзые репортеры, которые пытались сделать с ним интервью, пропадали без вести, а у нашего героя в глазах появлялся «типичный блеск сытости». Осмеянию подвергли все. Особым объектом поругания была серьезность старших футуристов, их огромные амбиции — именно футуристы требовали учреждения поста министра изящных искусств. Досталось, конечно, и консерваторам из Академии художеств, из профессоров коей у бывшего руководителя фиджийского Минкульта получалась откровенно «тухлая колбаса».
Но, что самое главное, в мир авангардистских сдвигов и абстракций ворвалась живая реальность — дело происходило в 1916 году в Петрограде, который испытывал серьезные трудности со снабжением, очереди за продовольствием и в самом деле выстраивались колоссальные. В кругу «бескровных убийц» было принято хихикать и посмеиваться над самыми серьезными вещами, в особом почете была самоирония. В пятнадцатом номере, например, описывались перипетии эвакуации с фронта раненого художника Николая Лапшина, им же самим и проиллюстрированные. Впрочем, в специальном заявлении было сказано, что «сюжет и темы безразличны, ибо „Бескровное убийство“ никогда нельзя было упрекнуть в узости кругозора и задач. Всякий сюжет и всякая тема становятся достойными, как только „Бескровное убийство“ коснется их». И далее — «К сотрудничеству в журнале привлекаются только сливки гениальности». Примечание — «Сливки должны быть свежие, кислые ни в коем случае в издательство не принимаются». Но этот манифест существовал только в рукописном виде, в «Бескровном убийстве» принципиально отсутствуют какие-либо манифесты, которые составляли едва ли не большую часть продукции «старших» футуристов. Манифест, декларация — это особый способ коммуникации с широкой публикой. А в этой компании было принято рассчитывать только на людей, которые и так все понимают с полуслова, людей, которым никакие манифесты не нужны. Узкий дружеский круг, которому и адресовалось это издание, был неотъемлемой частью издательского процесса. Читатели журнала, участники веселой тусовки, часто оказываются героями публикаций. Например, Роза Левинсон, которую в восемнадцатом выпуске «Бескровного убийства» называют Монной Лизой Левинсондой, или писатель Николай Белоцветов, по прозвищу Коля Бархатный. Поэтому «Бескровное убийство» часто более похоже на домашний альбом, нежели на авангардистское издание — в «Осеннем выпуске», посвященном съезду бескровных убийц после летнего отдыха, есть рисунок, где Екатерина Турова разводит уток и выращивает подсолнечник, а художник Михаил Бернштейн помогает ее мужу, ветеринарному врачу, который выслушивает заболевшую корову. В конце концов компания даже поселилась в соседних домах, а две персональных выставки Ле-Дантю произошли на квартире Веры Ермолаевой на Спасской улице. Естественно, что в такой тесной компании не обходилось и без жувиальности, хотя отношения этих новаторов между собой были на удивление невинными. Ольга Лешкова в одном письме напоминает знаменитому сердцееду Ильюше Зданевичу о Екатерине Туровой, которой тот как-то на Новый год «доказывал свое умение целовать женщин».
Михаил Ле-Дантю был идейным вождем предприятия, но в 1916 году его призвали в армию. Пока Ле-Дантю учился в школе прапорщиков, он довольно часто наезжал в Петроград; затем он попал в действующую армию, поездки в столицу почти прекратились. Истинным создателем журнала стала его невеста, Ольга Лешкова, которая писала тексты, составляла номера, размножала издание на гектографе, занималась распространением. То есть была единственным сотрудником импровизированной редакции импровизированного журнала. Именно Лешковой и принадлежит большинство текстов «Бескровного убийства», преисполненных веселого абсурда и далеких по своей поэтике от зауми и сдвигологии классического футуризма. Более того, все обстоятельства создания отдельных номеров и прочие частности изложены в письмах Лешковой к прапорщику, а затем поручику Ле-Дантю в армию. Получается, что именно эта молодая журналистка, а не футурист Ле-Дантю, и является создательницей абсурдистской эстетики журнала, очень близкой по своим установкам к эстетике дадаизма. А дадаизм, который принципиально отказался от футуристического стремления к переустройству космоса, был уже следующим этапом в развитии модернизма. Заметим, что все последующее развитие мирового искусства XX века — сюрреализм, поп-арт, концептуализм, а также всяческий постмодернизм конца века — восходило не к футуризму, а к тем «бескровным убийствам», которые любили совершать дадаисты. Но это уж совсем отдельная история, хотя один из фигурантов «Бескровного убийства», Илья Зданевич, после революции эмигрировавший во Францию, контактировал в Париже с тамошними дадаистами.
Характерная история произошла с самым знаменитым «Албанским» выпуском «Бескровного убийства», который сопровождался рисунками Михаила Ле-Дантю и Веры Ермолаевой. Ольге Лешковой, как всегда, принадлежал небольшой, совершенно абсурдный текст «Янко, круль Албанский», нацеленный, по ее словам, на то, чтобы скомпрометировать журналиста Янко Лаврина, который, естественно, также принадлежал к компании «Бескровного убийства». По версии Лешковой, проходимец Янко набрел в албанских горах на каких-то разбойников, которые решили сделать его королем. И приклеили его, по местному обычаю, к трону клеем. Янко почувствовал себя настоящим королем, приказал начертать на всех домах, людях и животных, а также на 10 миллиардах блох фразу «Собственность Янки Лаврина». Поднялось народное возмущение, и король был вынужден бежать в Петроград. Веселая история, как обычно, обыгрывала известные в этом кругу жизненные реалии. Янко Лаврин и в самом деле побывал в Албании в качестве военного корреспондента газеты «Новое время». И провел все путешествие в страхе перед албанцами, которые показались ему страшными разбойниками. Свои впечатления Янко изложил в книге «В стране вечной войны. (Албанские эскизы)». Этот словенец был человеком очень серьезным, секретарем «Общества Славянского Научного Единения». Он умел совмещать вещи, казалось бы, несовместимые. Например, он познакомил Велимира Хлебникова с редакцией газеты «Славянин», которая отстаивала идеалы общеславянского братства. И великий Будетлянин, свои стихотворения писавший на праязыке, написал несколько статей для этой газеты на вполне общеупотребимом русском наречии.

Илья Зданевич, который произнес коронный футуристический лозунг «башмак прекраснее Венеры Милосской», о существовании «Бескровного убийства» узнал только в конце ноября 1916 года. И как человек до крайности деятельный, решил придать столь прекрасному проекту общественное звучание. За полтора дня написал пьесу, переложив рассказанный Лешковой абсурдистский сюжет на звонкий язык футуристической зауми. Николай Лапшин и Вера Ермолаева изготовили костюмы и декорации. Пьеса была поставлена 3 декабря 1916 года в мастерской художника Михаила Бернштейна. Футуристические декорации, исполненные в такой спешке, выглядели прекрасно — большие листы картона с наклеенными кусками цветной бумаги, актеры только высовывали головы и руки с коронами, мечами и прочими атрибутами албанской жизни. Некоторые из приглашенных на действо в качестве актеров не явились, поэтому Зданевичу пришлось исполнять и их роли. А также объяснять происходящее публике, поскольку вся пьеса, по его словам, шла на чистом албанском языке, без перевода. Музыкальное сопровождение обеспечивал гармонист-латыш, который просто играл латышские народные мелодии под видом албанского коронационного марша. Под конец обнаружилось, что свое сочинение Зданевич так и не дописал, что вызвало особенно бурный восторг у немногочисленной публики. Публичное исполнение пьесы запретила цензура, а опубликовано это историческое сочинение было только в 1918 году в Тбилиси, куда перебрался Зданевич в целях дальнейшей пропаганды футуризма. После первого представления «Круля Албанского», собравшаяся общественность решила, по предложению Зданевича, превратить «Бескровное убийство» в официальный орган футуристов, открыть кабаре, театр, типографию и т. д.
Но на этой громкой ноте все и кончилось. В 1917 году поручик Чердынского полка Михаил Ле-Дантю, двадцати шести с половиной лет, погиб при крушении поезда близ Проскурова (ныне г. Хмельницкий). А потом началась такая эпоха, в которой уже не было места всем этим безбашенным эстетам, циникам, скептикам и романтикам. О дальнейшей судьбе Ольги Лешковой почти ничего не известно. «Своих» дождалась только Вера Ермолаева, которая стала сначала верной последовательницей Казимира Малевича, а потом — известным советским графиком. Уже в начале тридцатых она стала заведовать детским сектором ГИЗ, где и встретила продолжателей дела «бескровных убийц» — Даниила Хармса и других обэриутов. В 1937 году Вера Ермолаева была расстреляна в Карлаге.
Илья Зданевич писал в 1923 году о великолепной эпохе футуристических безумств: «Одним росчерком пера мы создавали шедевры, писали поэмы, состоящие из чистых листов. Во всех маленьких и случайных фактах, в чернильных пятнах мы обнаруживали законы, принимаясь за строительство. Сейчас мы знаем, что все осталось на своем месте, что ничего не изменилось; знаем, что наша юность прошла бессмысленно. Нам не удалось открыть новую истину, не говоря уже о том, что мы напрасно потеряли десять лет».
Наталья Гончарова: Живописная контрреволюция
2002
Наталья Гончарова относится к числу великих создателей русского авангарда. Несмотря на то, что Гончаровой отведено довольно важное место в пионерском описании русского авангарда, проведенного Камиллой Грей в начале шестидесятых, постепенно интерес к ее творчеству угас. Исследовательский пафос западных ученых подогревался актуализованными к семидесятым идеями раннего авангарда о дематериализации объекта искусства и Смерти Картины. На первый план вышли Малевич и конструктивизм, то есть «искусство после «Черного квадрата». И Гончарову, с ее брутальной живописью, не включили в «Великую Утопию» (1992). Возрождение интереса к этому периоду началось экспозицией «Гончарова и Ларионов» в Центре Помпиду в 1995 году. «Амазонки русского авангарда», среди которых важное место занимала и Наталия Гончарова, обозначили уже окончательную победу живописного ревизионизма и контрабандного возврата к тотальной визуальности.
При этом, несмотря на эмигрантский статус Гончаровой, ее наследие старательно изучалось в России учеными, большинство из которых так никогда и не приняло идей высокого модернизма. Видимо, поэтому архив Гончаровой и Ларионова был передан в 1989 году парижскими наследниками в Третьяковскую галерею. В отличие от своих соратников-мужчин, людей ветреных, Гончарова тщательно заботилась о результатах своего творчества. При этом часто очень сложно различить работы двух великих русских художников, которые на протяжении многих десятилетий жили и работали вместе, пользовались одинаковыми холстами и красками.
А началась эта романтическая история еще в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где учились и буянили Ларионов и Гончарова. Поначалу Гончарова стала последовательницей яркого и заводного бунтаря Михаила Ларионова. Но на протяжении последующих лет они то сходились, то расходились — и как супруги, и как художники. Кто-то из них вырывался вперед, снабжая идеями того, кто начинал отставать. Футуристическая эпоха «Бури и натиска» обозначала неудержимый бег вперед, и даже неукротимый Малевич оказывался последователем Гончаровой.
Другая проблема — гендерная, то есть соотношение «мужского» и «женского» вклада в русский авангард, легко открывается социологическими методами. Ларионов, сын военного фельдшера из провинциального Тирасполя, как и большинство русских авангардистов, происходил из низших классов. Плебейский пафос разрушения высокой культуры, исходивший от дурно воспитанных, но очень злых молодых людей, уравновешивался и структурировался женщинами русского авангарда. Они происходили из образованных высших классов. Наталия Гончарова, правнучатая племянница жены великого русского поэта Александра Пушкина, происходила из средней обедневшей аристократии, в которой с особым тщанием сохранялись культурные традиции, и умела гарцевать на коне в платье модели «амазонка».
Гончарова, которая так никогда и не приняла Великого отказа от искусства, все же была очень решительной дамой. «Первое: мужественность. — Настоятельницы монастыря. — Молодой настоятельницы» — писала о ней поэтесса Марина Цветаева. Без всякой суфражистской истерики Гончарова воплотила в жизнь принципы «свободной семьи», формализовав свой гражданский брак с Ларионовым только в пятидесятых. Одевалась в мужские костюмы, в футуристическом фильме «Драма в кабаре №13» снялась с голой грудью, что было неслыханно не только в патриархальной России. Привлекалась к суду за порнографию, а ее интерес к иконе и религиозной живописи закончился тем, что цензура дважды запрещала показ ее картин на религиозные темы.

Усиленная социальная жестикуляция и антибуржуазная риторика в сочетании с умелым манипулированием массмедиа привели к парадоксальному результату — художница стала в какой-то момент героиней желтой прессы, которая упивалась ее выкриками вроде «Стадо баранов!» или «Тупые буржуа!». С тех пор манипуляции общественным мнением стали важной технологией модернизма. Но даже акции дадаистов и сюрреалистов выглядели спокойнее, чем хулиганские выступления русских футуристов, которые шокировали самого Томазо Маринетти, который в 1914 году приезжал в Россию агитировать за машинное искусство. Ритуальное освистывание, которому подвергся лидер итальянских футуристов, основывалось на новой антизападной программе, выдвинутой русскими аванградистами, к тому времени уже аппроприировшими явочным порядком все существовавшие в тот момент стили и направления — сезаннизм, кубизм, футуризм… В предисловии к каталогу своей первой ретроспективы в октябре 1913 года Гончарова заявила: «Мною пройдено все, что мог дать Запад для настоящего времени. Теперь я отряхаю прах от ног своих и удаляюсь от Запада. Мой путь — к первоисточнику всех искусств, к Востоку». Но эта антимодернисткая и антизападная речь, сказанная европейским интеллектуалом, скрыто апеллирует к той критике европейской культуры, которой занимались Гоген, Пикассо и немецкие экспрессионисты. Если, в духе Эдварда Саида, трактовать неопримитивизм как специфическое проявление колониализма, то можно отметить, что немцам и французам приходилось осуществлять свои захватнические экспедиции на далеких «заморских территориях». А русские осваивали внутренние пространства. В качестве альтернативы идущему на закат Западу Гончарова извлекла свой кубизм из скифских баб, которые и есть изображение мифологических амазонок южнорусских степей. Впрочем, у этих «истуканш», изображенных Гончаровой, вместо присущего им выражения недвижимой вечности видны странные хулиганские ухмылки.
Бурное десятилетие колонизации времени и пространства закончилось странной картиной «Пустота» (1914). Гончарова вышла на совершенно новый и индивидуальный уровень беспредметности, уже не имеющей психологических мотиваций в духе футуризма или кубизма (направление рентгеновских лучей или точки зрения движущегося наблюдателя). Можно только предположить, что именно этот вызывающий и бесформенный черный шмат, брошенный посреди цветных разводов, оказался тем последним толчком, который породил икону ХХ века — «Черный квадрат». Малевичу оставалось только отсечь последние признаки световой и цветовой перспективы, создающей трехмерное пространство, из которого так и не решилась выйти Наталия Гончарова. И захлопнуть дверь в умопостигаемую картезианскую реальность.
Для Казимира Малевича все только начиналось. А вот для Гончаровой неутомимое движение вперед оборвалось на самом интересном месте. Знаменитый антрепренер Сергей Дягилев к 1914 году обнаружил, что в Париже интерес к изощренному эстетству его ранних русских сезонов начал угасать, и прагматично занялся вывозом русской дикости и экзотики. Сотрудничество «пассеистов» и «футуристов» в одной экспортной компании оказалось очень удачным — восхитительный балет «Золотой Петушок», оформленный Гончаровой, стал классическим образцом сценографии. Но успешный экспорт пикантного и брутального Востока на Запад оказался разрушителен для самой художницы. В скором времени некоторые внехудожественные круги в России смогли так мощно эпатировать западного буржуа, что он утратил интерес к путешествиям на Восток. Так что закончилось все печально — русские европейцы и творцы Будущего Гончарова и Ларионов умерли в полной безвестности и нищете в том самом Париже, который они так рьяно низвергали когда-то.
Давид Бурлюк: Менеджер безумцев
2016
Давид Бурлюк любил называть себя отцом русского футуризма, хотя был он футуризму славным дядькой. Большой, шумный и немного нелепый, он по отечески заботился о постоянно находящемся в состоянии медитации Велимире Хлебникове или прикармливал вечно голодного Володю Маяковского. Этот шут и скоморох, стойко эпатировавший буржуазный вкус своим внешним видом — потертым фраком, цилиндром и моноклем — оказался великим куратором и организатором. Он мастерски вымогал деньги на самые безумные акции у тех самых буржуа, которых и фраппировал. И эти возмутительные лекции и дебаты, которые Бурлюк устраивал по всей России, собственно футуристов и кормили.
И экстравагантно изданные им на оберточной бумаге манифесты и сборники приносили неплохой доход, даже брошюра «Пощечина общественному вкусу», где предлагалось «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч., с парохода современности».
Все или почти все, что в раннем футуризме было веселого, легкого и забавного, — все принадлежит Давиду Бурлюку. Именно он и организовал все это разухабистое лицедейство, ранний русский футуризм. Вместо традиционной для художника задумчивой и возвышенной позы обитателя Парнаса Бурлюк выбрал маску шута и гаера, чем ставил людей серьезных в крайне неловкое положение. Александру Бенуа, кажется, совершенно нелепо было бы отвечать на выкрики этого скомороха в цилиндре и мятом костюме. Даже слова «галдящие Бенуа» и прочие эпатажные выступления как-то никого особенно не обижали. Мешковатая и всегда немного неопрятная фигура самого Давида, человека неисчерпаемо добродушного и симпатичного, сделала всю эту историю очень даже веселой и привлекательной.
Несравненной энергии и бессеребренечеству Давида Бурлюка мы обязаны тем, что ранний футуризм, золотая страница европейской культуры ХХ века, оказался коммерчески вполне успешным предприятием. В том же манифесте имеется горделивая фраза «Стоять на глыбе слова „мы“ среди моря свиста и негодования». И вот это самое море свиста и негодования он умел организовать отлично. Бурлюк сотоварищи устраивали весь этот разудалый балаган в абсолютной уверенности, что тем самым закладывают основы нового искусства и в самом деле творят Будущее. И можно сказать, что Бурлюк стал первым художником нового времени, мастером, который почти целиком самоосуществляется в создании новых контекстов существования искусства.
Его авторитет ниспровергателя основ был настолько неоспорим, что когда маньяк порезал ножом картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван», то пресса немедленно обвинила футуристов-бурлюков в этом злодеянии. Забавно, что и сам Репин в это поверил. Но после Бурлюка уже абсолютно невменяемыми и неуместными кажутся высказывания типа: «Художник N совершил этот поступок (кусал посетителей на выставке и так далее) для того, чтобы добиться дешевой популярности». Так что лучшей и самой ценной частью творческого наследия Давида Бурлюка можно считать как раз инспирированные им заметки в тогдашних газетах да полемические сочинения, собственноручно написанные. Изобретенный им типаж художника как массмедийного персонажа для искусства ХХ века значит не меньше, чем «Черный квадрат» Казимира Малевича или писсуар, представленный Марселем Дюшаном на выставку в качестве произведения искусства. И, что самое забавное, уже ставший каноническим жест художника, призванный поднять волнение в прессе, продолжает восприниматься обществом с совершенно неподдельным энтузиазмом даже через девяносто лет после футуристического «штурм унд дранга».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
