
Бесплатный фрагмент - Книга миниатюр
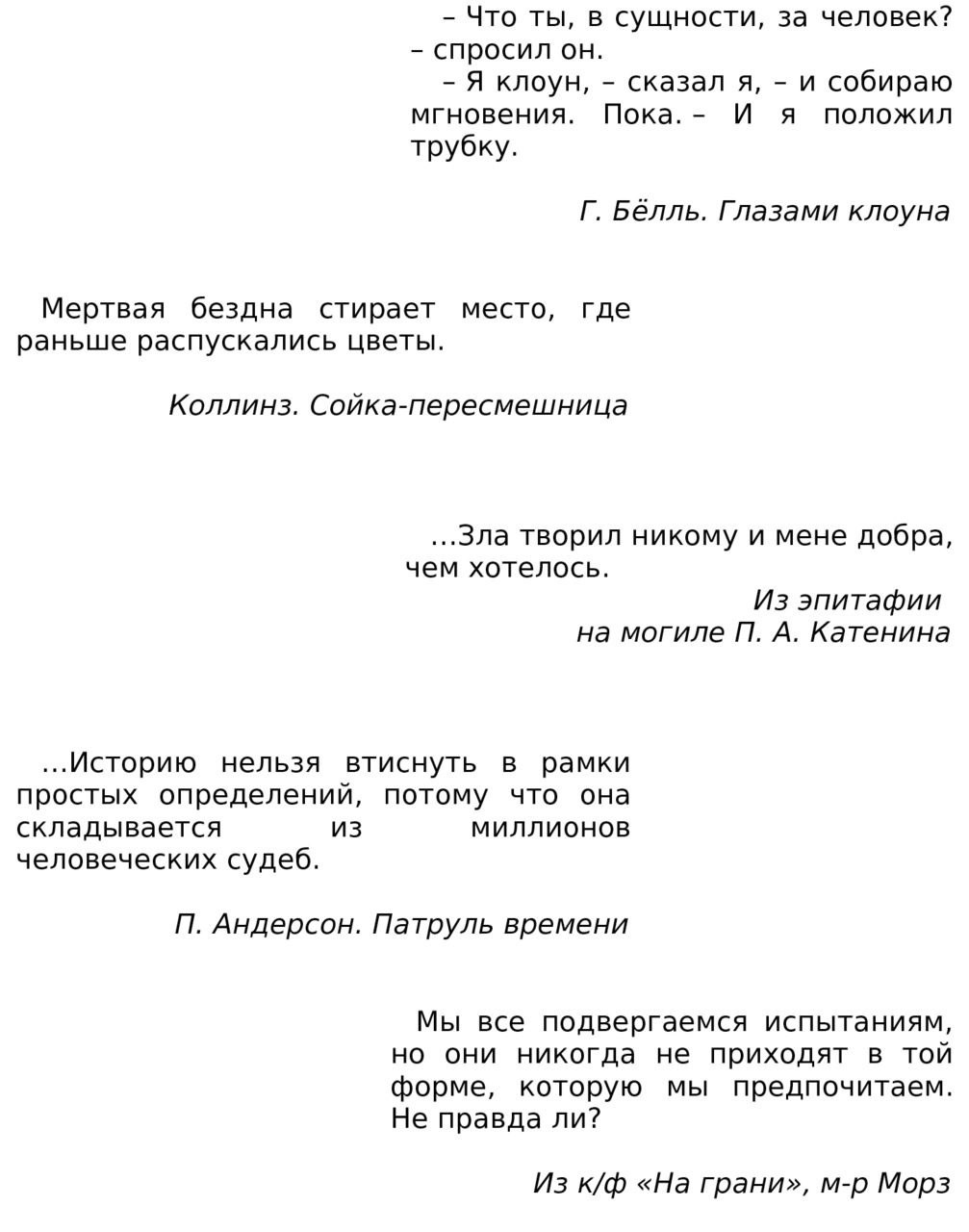
Душа тоскует
Я и художник сидим на лавочке во дворе воскресной школы и болтаем. Жалуется мне на разное. Даже не то, чтобы жалуется, а просто рассказывает о всяком, чего я ещё не вполне понимаю. Ему за тридцать, а я на целых двенадцать лет младше. Он уже давно известен в городе, хотя и невольно променял в последнее время выставки на заказную работу в домах новых русских, на всё это конвейерное изготовление икон из бересты, расписывание гостиных в венецианском стиле… Художник, сын художника… Отец упрекает его в забвении себя прежнего. Жене нужны только деньги от него. Есть дочка любимая, но она становится всё больше и больше похожей на мать…
Мы сидим и болтаем. Одна из учениц его художественного отделения влюблена в художника. Ищет его внимания, всегда идёт до трамвайной остановки вместе с нами после занятий. Она хорошая. И он хороший.
Художник боится этого чувства. Зачем он ей, такой старый, спрашивает меня. Разница в восемнадцать лет. А мне кажется, что они могли бы быть вместе. Что это за жизнь, когда вместо дома предпочитаешь напиваться и ночевать в мастерской…
Проводив её до остановки, мы идём в ближайший гастроном. Заказываем себе по сто граммов и, сидя на пластмассовых стульях за пластмассовым столиком, опять говорим о жизни, о вдохновении, о любви… И так — почти каждое воскресенье. Душа тоскует у него.
В конце мая воскресная школа отправляется в паломническую поездку. Старинные монастыри в соседней области. Все вместе прикладываемся к открытым по случаю праздника мощам. Потом дети пьют чай в трапезной. Потом идём на источник. Пока остальные купаются, мы поднимаемся на ближайшую гору и заходим в женский скит. Ухоженные огороды, цветники, аккуратно посыпанные гравием дорожки. По-особенному тихо. «Да вот же она, вот, смотри!» — шепчет художник и тянет меня за рукав. Мимо нас проходит молодая монахиня. Мы случайно стоим на узкой дорожке так, что пройти, не встретившись взглядом, просто невозможно. И монахиня поднимает глаза, чтобы попросить нас отшагнуть в сторону. И я понимаю, чтó есть самое прекрасное в этом скиту.
«Матушка, — смущаясь, говорит художник, — можно Ваш портрет написать?»
Всегда большой, он странно робеет. Он словно бы мечту свою увидел. И я его понимаю.
«Спросите у матери-игуменьи», — тихо отвечает монахиня и проходит мимо, всё так же опустив голову. Закутанная в чёрное, она удаляется, а мне всё видятся её глаза, это настоящее потрясение всех чувств, я понимаю художника. Он тоже молчит.
Эту монахиню я встречаю потом всего лишь раз. Случайно, приехав вместе со знакомым на источник, текущий под монастырской горой. Больше я уже не вижу её.
Однажды спрашиваю у художника, написал ли он её портрет. Художник разводит руками: мать-игуменья не дала благословенья. Он несколько попыток сделал, уговаривая её. Обещал и портрет её самой написать, и у митрополита даже спрашивал, которому берестяную икону дарил на день тёзоименитства, думая, что тот на настоятельницу повлияет… «Суета всё это» — сказала ему мать-игуменья. Не с теми мыслями будет он портрет писать. Не стоит соблазн множить.
А я вот помню её глаза до сих пор. Двенадцать лет уже прошло. И художника я теперь куда лучше понимаю. Написать портрет я не смогу, но вот хотя бы просто увидеть её…
Самое важное слово
У нашей соседки мать заболела. И пришлось ей забрать старушку к себе. Бабулька была живенькая, энергичная, только с головой у неё что-то случилось. Может быть, от одиночества деревенского, когда все разъехались по чужим городам и весям, может — от природы ей уготовано было. Проходя однажды мимо наташиных дверей, я услышал, как изнутри кто-то скребётся, словно замок пытается открыть и не может. По наивности остановившись, я ещё поговорил с незнакомым голосом несколько минут, просившим выпустить его. Это и была незнакомая нам бабулька. В «хрущёвках» ведь как живут… Строили их в шестидесятые чаще всего с помощью разных организаций, и заселялись в них люди, хорошо знавшие друг друга по месту своей работы. И жили одной родственной общиной. И знали, кто кому сват, брат, сын… А тут новый голос невидимого человека.
Вечером я встретил Наташу и спросил у неё, кто там «на волю» стремился. Она смутилась немного и рассказала. «Бабулька» её никак не может осознать, что у дочери живёт, всё время порывается уйти, будто от чужих людей. Вот и приходится Наташе дверь на ключ запирать, когда на работу идти.
Грустно, конечно. Однако делать было нечего, и Наташа старалась, как могла. Гуляла с матерью, будучи дома, терпеливо напоминала ей, кто есть кто, с кем «бабулька» ныне живёт. И так — год, другой…
Потом старуха слегла, чтобы уже не вставать. Наташа — женщина сильная. Не сдавалась. Ухаживала, кормила, в ванну на себе таскала. И так — год, другой…
Вот однажды в этой ванной комнате и случился у них потоп. Уж не помню причины, но только они немного залили соседа снизу. Пётр Сергеевич поднялся к ним со своего этажа сразу, как увидел, что с потолка закапало. Мужик он был незлобивый, не ругаться отправился, а помочь, если потребуется, краны там поменять или трубы проверить. Наташа ему и погорилась на свою долю. Он послушал терпеливо, а сам тем временем помог ей с водой справиться.
Это я к чему всё рассказываю? Недели не прошло, как померла бабулька. Крышка от гроба в подъезде появилась, потом исчезла. Все и узнали, что теперь Наташе можно спокойно вздохнуть.
— А знаешь, почему она так долго не умирала? — вдруг спросил меня Пётр Сергеевич при встрече.
Я, разумеется, отрицательно покачал головой. Откуда?
И он рассказал. Он ведь тогда и в комнату к Наташе заглянул, не только в ванной возился. Заглянул, а там бабулька в креслице за столом сидит. Перед ней в тарелочке и творожок свежий, и ещё что-то… Дочь хорошо заботилась. А он посмотрел на это и говорит: «Наташа, ничего ты не понимаешь!» — «Как так не понимаю? — удивилась она. — Плохо ухаживаю?» — «Да что этот творожок? — сказал он. — Ей другой пищи надо. Она сама не разговаривает, сказать не может, а душа-то у неё исповеди и причастия просит».
Наташа прислушалась. И ведь как вышло! Позвонила священнику по номеру, который для неё Пётр Сергеевич в церкви спросил, пригласила. Батюшка приехал, причастил старушку. А на следующий день та и отошла в мир иной. И ведь долго до того лежала — немая и бездвижная, а тут сразу…
— Думаешь, совпадение? — спросил он меня. — Я тебе тогда ещё случай расскажу.
Жил у нас во дворе Сашка. Мужик здоровенный, заведовал пунктом приёма стеклотары. Ну и водочкой левой приторговывал. Те, кто у него «столовались», никогда не жаловались, хвалили даже, что отравленный товар не продаёт. Да, не магазинная, самостоятельно сварганенная из ворованного спирта, но ведь не отравишься.
И вот Сашку этого в конце концов паралич разбил. Лёг пластом в своей квартире и затих. Лежит и мучится. И снова — год, другой…
А Пётр Сергеевич, пока пить не бросил, к нему забегал частенько за этим делом. Потом, по старой памяти, просто так заглядывал. Вот и в этот раз зашёл. Сашка тоже говорить не мог. Общался лишь по буковкам, на бумаге нарисованным, на которые он пальцем указывал поочередно. Пётр Сергеевич и ему говорит: может, брат, причаститься тебе? Жена Сашки, как услышала, так руками замахала. И без того денег нет, так священнику ведь платить ещё придётся! Пётр Сергеевич только цыкнул на неё: мол, молчи, дура, я сам заплачу, если тебе жалко. Глядит на Сашку — приглашать? Тот кивает согласно.
Пригласил.
— И что же ты думаешь? — спрашивает меня сосед. — Причастился он, а спустя сорок дней умер. Спустя именно сорок дней! Уж не скажу, как там, а тут вот вроде как ещё дополнительные дни ему назначились…
Сосед любит у меня всякую символику искать — в датах, в поступках… Однако ведь и правда — словно ждали они самого важного для себя, терпеливо ждали. Год, другой… Не хотели умирать, не причастившись. А как дождались, так и ушли облегчённо.
«Пока!»
Он сидит за письменным столом и заполняет особенный альбом. Вчера заходил в книжный магазин и по случаю купил его. Шёл, собственно говоря, за последними томиками Достоевского из собрания сочинений, но вот… «Мои первые шаги». Подумал скептически, что видит стандартную лабуду для молодых родителей: мол, запишите дату первого шага вашего чада, его первого слова — ну и всё такое… Как водится, в стандартно безвкусном оформлении, рассчитанном не пойми на кого: чада всё равно читать не умеют, а для родителей что аляповатые краски, что огромный шрифт намекают на умственный возврат в начальную школу… Потом всё-таки полистал. Хмыкнул, удивляясь себе. Купил.
И вот он сидит и пишет. И вспоминается столько! Тот самый «первый шаг»… Очень лёгкая дата — день рожденья Пушкина. Пока остальные родственники спорят, во сколько ребёнок поднимется с колен и пойдёт, он наблюдает: дочка цепляется за его джинсы и стоит, покачиваясь, рядом. Отпускает руку. Провоцируя её, он делает маленький шажок вперёд, и она — тоже. Сама, не держась за него. Ей совсем не страшно — ведь папа рядом. Он продвигается ещё немного вперёд, потом ещё, наблюдая, как дочь восторженно не отстаёт от него… Изумившись собственной смелости, она плюхается на попу уже в другой комнате, пройдя самостоятельно тридцать один шаг…
А вот дурацкая графа — «мои первые колыбельные». Интересно, она помнит, как он носил её на руках, когда она никак не могла заснуть, и пел ей про злые ветры, которые «да налетели» с восточной стороны и «да сорвали шапку» с его буйной головы? Кстати, очень быстро уткнулась носом ему в плечо и засопела под такой репертуар…
«Моё первое слово»… Ну уж точно не «мама». Что-то такое замысловатое изрекла, жаль не записал сразу. Зато помнятся первые стихи! На свой третий день рожденья, в саду за домом, она промаршировала по дорожке и с гордостью выдала: «Раз, два, три, четыре, пять, вышла Катя в сад гулять».
Так он сидит и записывает моменты прошлого. Что-то кратко, что-то — подробнее. На одной странице останавливается. Там о каком-нибудь интересном случае надо вспомнить. А перед ним вдруг встаёт картина тёплого августовского вечера…
Он уже давно не живёт с женой, пока ещё женой, но часто приезжает, чтобы погулять с дочкой, почитать ей сказки, смастерить что-нибудь вместе. Вот и сейчас они играют в песочнице на детской площадке у школы. Он тоже возится в песке, приводя в восторг остальную детвору. Их мамашки лихо покуривают у школьной ограды да последними сплетнями делятся. А тут — взрослый дядя с совочком сидит. Ну ничего, малыши принимают его в свою компанию, а он старается оправдать доверие, подсказывает, как замки строить, чтобы не рассыпались сразу, как горку для машин делать… Потом в мяч с ними играет, в догонялки…
Вот с этими догонялками… Дочь вдруг начинает разыгрывать какой-то свой сюжет. Поворачивается к нему и говорит: «Пока!» И ручкой машет. «Пока!» И направляется куда-то. Оборачивается на пути, снова машет и снова говорит «пока». И всё дальше, дальше уходит, едва ли не к выходу со школьного стадиона… А он смотрит на неё и понимает, что она реальный сюжет разыгрывает. Это ведь он так приезжает и потом всякий раз говорит «пока», уходя. Невыдуманный сюжет. Всего лишь отражение взрослой жизни…
Занести ли эту историю в альбом? Она — «интересный случай»? Или пусть остаётся в памяти?
Да, когда-нибудь он расскажет ей об этом. А сейчас…
Надо дальше жить…
Мастерское вожденье
Когда он купил себе иномарку, мы некоторое время посмеивались: уж так вдохновенно он расписывал её достоинства. Разумеется, не обошлось и без сравнения с «тазиками гаечек и болтиков» и прочих подобных пассажей.
— ABS, o ABS! — поэтично выпевал он чарующие сочетания букв. Выплёскивал свою радость в рассказах о том, как… что… и если бы… и вообще, лучше машины не придумать…
— Да ну? — иронично хмыкали некоторые.
— Ну конечно! — начинал горячиться он. — Впереди грузовик вдруг резко тормозит, а я понимаю, что машину несёт на него, и никак не увернуться. Асфальт мокрый. Если бы не абээска, я бы тут с вами не сидел, так и впечатался бы в него. Или вообще бы закрутило и в кювет выбросило. Сто двадцать, не шутка…
— А зачем гонять по мокрой дороге на ста тридцати? Поезжай восемьдесят, и никакая абээска тебе не потребуется. Ум нужен, а не «а-бэ-эс».
Слыша такие реплики, он погружался в волнующее состояние мудреца, которому приходится объяснять элементарные вещи нерадивому школьнику. Звучали слова «совок», «машина для людей», «наслаждение», «мастерство»… В общем, всё как обычно. Подобных диалогов бывает в нашей жизни великое множество.
Пока все спорили, я вышел на балкон покурить. Там уже стоял Пашка, который в споре не участвовал, будучи нелюбителем сотрясать воздух.
— Серёга — мастер, — с непередаваемой интонацией сказал он, махнув сигаретой в сторону комнаты. — И раньше гонял, а теперь-то уж…
— Да ну, — я постарался скопировать его тон, — он теперь будет своей «абээс» наслаждаться, куда ему гонять…
— Гонять… тормозить… был у меня случай… — сказал Пашка. Он потушил сигарету и, ожидая, пока я докурю, стал рассказывать.
Он тогда пошёл на прогулку с дочкой. Она маленькая была, года три-четыре. Любознательная, как все дети, открытая. Смотрят малыши на мир вокруг ясными глазами и верят, что он хороший. А весна наступила, по дорогам ручьи бегут. Где ледок ещё лежит, где вода талая… Соорудили они вдвоём из бумаги белый кораблик. «А кто на нём поплывёт? Принц, да?» — спрашивает дочка. Верит, что папа всё знает и что уж точно поможет герою путь к принцессе найти. — «Конечно, принц!» — Спустили они корабль на воду, и побежал он стремительно куда-то вперёд, между льдистых берегов, мимо завалов из веточек и мокрых сигаретных пачек, через запруды и озерца с разноцветной переливчатой гладью… А они вслед за ним побежали вприпрыжку, за руки взявшись.
И вот добежали вместе с ручейком до большой дороги. Поток там уже большой, настоящая «волга» получается. Самое то — в дальние края за принцессами плыть. И уж хотел Пашка повернуться да к «верховьям» идти, как вдруг дочка его заволновалась и показывает: кораблик несёт прямиком под колёса большого грузовика. Почтовый, за посылками приехал, и как раз собирался заворачивать. Колёса так грозно надвигаются, а капитан бумажного кораблика задремал, наверное. Ему бы свернуть, в другой поток судёнышко направить, а он… Ещё несколько секунд и…
«Папа, а как же принц?» Дочка рукой машет, на кораблик показывает, а у самой слёзы на глаза наворачиваются. Он и растерялся. Не будешь же под колёса грузовика прыгать!
В общем, пока он думал, «ГАЗ» этот вдруг остановился. Кораблик принесло уже вплотную к нему. Белеет он у огромного колеса, трепещет на водной ряби и — ни взад, ни вперёд. Что тут делать? А машина стоит на месте.
— Совсем остановилась?
— Ты не поверишь, — сказал Пашка. — Я на водителя взгляд поднимаю, а он из кабины высовывается и мне показывает: лезь давай за вашим кораблём! Спасать-то надо его…
— А ты?
— Так и полез я туда. Достал, дяде-водителю мы потом радостно помахали и «спасибо» сказали.
— Остался принц в живых, значит!
— А как же иначе? И знаешь, вот такое вожденье я с тех пор называю для себя мастерским. А всё прочее — фигня…
Чёрные птицы
— Ты уж извини, — шутливо сказал он мне, заглянув в гости, — я тут твою идею украл. Ты ведь разрешил тогда…
Наверное, у меня было очень изумлённое лицо. Зашёл человек, добрый мой сосед, в шахматы поиграть и вдруг рассказывает об украденной идее. Да не у кого-то, а у меня же. И что интересно — я и не помню никаких своих умных мыслей, озвученных в последнее время!
Он тоже удивился. Развернул принесённую с собой городскую газету и ткнул пальцем в маленькую заметку. Всё ещё недоумевая, я пробежал её глазами и только тогда вспомнил…
Он в последнее время поигрывал на спортивном тотализаторе. Появились букмекерские конторы, принимавшие ставки на футбольные матчи, на исход шахматных партий, на всё-всё-всё… Сосед выработал свою систему и, надо признать, имел некоторый успех. Доход был небольшим, потому что играл он осторожно. Соблазнившись его примером, я тоже пару раз сделал выверенные и решительные ставки по типу «экспресса», просадил относительно крупную сумму и на этом успокоился. Ему в этом не признавался. Самому смешно было, чего уж там…
А вот у него всё получалось. И он частенько вслух размышлял, куда можно потратить свои небольшие выигрыши. Однажды показал мне эту городскую газету: договорился с редактором о скрытой рекламе. Решил вести за счет спонсорских денег «спортивно-философскую» рубрику, где можно размышлять о футболе и о жизни, а между строчек вплетать рекомендации для игроков.
Заметки у него получались интересные. Ну и опять же — гонорар капал.
А потом пришёл ко мне и поделился печалью: идеи исчерпались. Просто рекомендации по ставкам делать — неинтересно, а что-то ещё сочинять — не получается. Вдруг внутренняя пустота образовалась. Словно бы что-то удерживает, мешает взять ручку и сесть за письменный стол. А я незадолго до этого вернулся с лыжной прогулки. И в тему рассказал ему о мимолётном впечатлении, об ощущении, которое вдруг поднялось во мне, когда проезжал мимо лесной опушки.
Зимой на полях аграрного университета накатывают лыжню, которая то бежит по краю этих необозримых белых пространств, то ныряет в овражки и перелески ботанического сада, раскинувшегося рядом. Там всё и случилось. Я миновал небольшое редколесье, выехал на открытое место, и прямо передо мной в воздух поднялась странная стая чёрных птиц. Никогда не страдал мистичностью мировосприятия, а тут вдруг подумалось: такая вот туча бесов нас и окружает! Странно, зловеще всё выглядело. Я один на лыжне, ровный зимний свет, белёсое небо — и эти хрипло кричавшие чёрные птицы. Бесы гордыни, бесы самомнения, хитроумия, превосходства над другими, бесы жадности… Взлетели с лыжни, покружились и сели на деревья. Еду мимо, а они внимательно смотрят сверху. И тишина…
Такая история, её он и вспомнил. Ну и хорошо. Всё равно ведь я её сам не использовал нигде. А он написал.
Кстати, это была его последняя заметка о ставках.
Хлебушек
Лето, июнь, обеденное время, мы с бабушкой вдвоём за столом. Неторопливо едим, иногда переговариваемся о чём-нибудь. В плетёной корзинке лежит хлеб. Я смотрю на него и говорю:
— Вот ты представляешь: были времена, когда эти кусочки ценились на вес золота, а сейчас мы и не думаем о них, лежат — и хорошо.
Бабушка хорошо помнит эти «времена». Она родилась ещё до революции, о многом может порассказать. Она и рассказывает. Я жалею, что в таких случаях у меня никогда не оказывается диктофона под рукой. Ведь как без него передать все оттенки её историй?
Первый голод она пережила в двадцать первом. Одно из ярких детских воспоминаний: мама перемалывает жёлуди в муку.
— Вот из них и пекли хлеб. Добавляли отруби ещё и пекли. Хлеб получался тяжёлый такой, чёрный. Ну, какой был… А однажды к нам приехал мамин брат. Он с женой в деревне жил, недалеко от Борисоглебска. Там, конечно, посытнее жилось. И на прощанье мама ему целый каравай дала, она в этот день его выпекала. У нас их два лежало, один мы уже начали есть, а второй она ему в чистую тряпочку завернула и дала. Он взял, вышел из дому, за угол завернул и оглядывается — не смотрит ли кто. Мама хозяйством занялась, а я во дворе оказалась, он меня не заметил. Так вот мамин брат тряпочку развернул и хлеб этот… лошади своей скормил. Мне потом так горько стало: голодно ведь жили, не приведи господь! И ведь знал же, что у мамы трое маленьких на руках, не брал бы хлеб, а он его — лошади…
— Ты ей потом сказала?
— Нет, даже не знаю почему. Сама поплакала в уголочке, а ей ничего не говорила.
Ещё бабушка часто вспоминает войну. Хлеб только на золото меняли. У неё все украшения ушли барыгам, единственное, что осталось, — это фамильное кольцо от мамы. А все серёжки, перстеньки — разлетелись на рынках.
— А карточки? — спрашиваю я.
— Да с карточками тоже беда могла приключиться. Послала за хлебом твою маму с дядей, они маленькие были, но уже ходили в магазин самостоятельно. А продавщица им хлеб отвесила, а карточки не отдала. Они пришли домой, я спрашиваю, где карточки, а они плачут. Я в магазин. А продавщица отпирается: всё она отдавала, это, мол, они их потеряли по дороге. Ну что тут сделаешь? Две недели без карточек и без хлеба. На рынке он дорогой, а денег не было. Ох, и голодно было…
Я вспоминаю, как сам захватил эпоху перестройки и карточек. Хлеб всё-таки можно было купить. По карточкам — сахар, сигареты, водка, крупы, но хлеб был доступен…
— И ещё не забуду, как я прихожу домой, — продолжает бабушка, — а малыши еды ждут. Вот я им хлеба кусочки отрезаю, остаток убираю, и садимся суп кушать. Они смотрят, что у меня хлеба нет, и с двух сторон мне свои кусочки — на, мама! Приходилось обманывать, говорить, что свой кусочек я уже съела. А что там эти кусочки — съешь и не заметишь…
Так, за разговором, мы доедаем борщ. Смотрю на плетёную хлебницу перед собой. Я даже не откидывал с неё оберегающую от мух салфетку. Я редко ем хлеб, но у бабушки с давних-давних лет такой ритуал: хотя бы один кусочек хлеба должен лежать на столе…
Человек, у которого ничего не было
Забежав погреться в «Макдональдс», мы сели у самого окна и принялись смотреть на идущий снег. Город засыпало уже второй день, везде выросли пушистые сугробы, пешеходы вязли в белой целине, с трудом расходясь друг с другом на узких тропинках. До Нового года было ещё далеко, но в душе уже поселилось весёлое и радостное ожидание его. Мы были красивы и молоды, мы сидели у окна в круглой башне этого кафе, смеялись и смотрели на по-зимнему чудесные, залитые огнями улицы города.
Ели мороженое, запечённые кусочки куриного филе. Как всегда, неосторожно обжигались горячим кофе. Говорили о пустяках. Рассматривали тех, кто сидел за соседними столиками, таких же молодых и счастливых. Парочки, державшиеся за руки, много школьников, мамашки, приведшие своих чад на день рожденья…
В один момент я отвлёкся от общего разговора и случайно посмотрел на входную дверь. В неё бочком протискивался помятый, неопрятно одетый мужичок с большой жестяной кружкой в руках. Я знал этого бездомного побирушку, по обыкновению, он сидел на центральной улице напротив универмага и тихо попрошайничал.
— Ух ты, тоже ведь зашёл прикупить себе чего-нибудь! — сказал мой друг о мужичке и, мгновенно забыв о нём, снова повернулся к остальным.
Какую же сумму он насобирал, задумался я. Дороговато здесь просто так наггетсами питаться, когда у самого ничего нет. Да и на кофе цена кусается.
Мужичок тем временем подобрался к кассам. Девушка, оказавшаяся перед ним, уже открыла рот, чтобы привычно пропеть свою заученную речёвку, но отчего-то поперхнулась на полуслове. Я заметил её удивлённый взгляд, которым она смотрела на странного посетителя. А потом сквозь музыку и шум голосов различил негромкий стук монет, падающих в копилку пожертвований на благотворительность.
Человек, у которого ничего не было, умудрялся что-то отдавать другим…
Главное — поставить перед собой цель
А потом пришла болезнь.
Первый месяц он ходил, словно оглушённый. Ужасно раздражался, когда о нём начинали заботиться, угадывать его желания, когда в разговорах с ним непроизвольно меняли интонацию — всё это словно бы клеймо на нём ставило. «Болен неизлечимо». Родственники прокручивали мысленно месяцы назад: а если бы годом раньше прошёл обследование, когда забеспокоило? Если бы они настояли? А при нём умолкали и начинали разговаривать о чём-нибудь весёлом, от чего он тоже раздражался.
Потом привык. Нашёл себе чудодейственную методику питания. Наотрез отказывался от врачей, сходив к ним по инерции ещё несколько раз.
Пытался продолжать своё строительство. Сын был далеко, дочь — в этом же городе, но так же далеко, как и сын. Жена… Бизнес…
На его похоронах было много народа. Он уже лет десять, как не работал на заводе, однако даже оттуда приехало на автобусе человек сорок. В комнате, где он лежал в гробу, теснились траурные венки. Последние три года Сергей Иваныч строил себе дом, давнюю мечту детства, просторный, высокий, комнаты в этом доме были огромными, но венки всё равно занимали всё пространство вдоль стен там, где он лежал теперь.
Перед тем, как ехать на кладбище, покойника отпевали. Отец Олег читал молитвы звучно и чётко, кадило в его правой руке мерно покачивалось. Кончив отпевание, он повернулся к присутствовавшим и, складывая вместе епитрахиль и поручи, произнёс небольшую импровизированную проповедь. Рассказал, что делать с иконкой и освящённой землицей, разрешил пришедшим небольшое послабление в поминальной трапезе (шёл Филиппов пост), хотя и попенял на возможное наличие спиртного на столах. Не водкой поминают человека, сказал, лучше за душу его молиться и на службе побывать. С намёком вспомнил людей, которые так старательно делят наследство умерших, что потом делаются врагами на всю жизнь, братья ссорятся с братьями, сёстры с сёстрами… Бесы искушают, сказал.
Отец Олег исповедовал покойника перед смертью. Вероятно, что-то вспомнив из исповеди, он перед самым уходом бросил последний взгляд на умершего. Не унывайте, сказал потом вдове, это по маловерию нашему мы пугаемся неизвестного, а христианин радуется тому, что к Богу идёт. Покойник-то, видите, как лежит? Лицо спокойное. Он ведь много лиц на отпеваниях видел. Не у всех такое спокойное лицо бывает, сказал.
Сергей Иванович действительно выглядел, как светлая восковая кукла. Черты лица его не расплылись, не деформировались, не приобрели бурого или землистого оттенка. Он лежал действительно просто и спокойно.
Да и вообще простым человеком был. Болел душой за друзей и родных. Переживал за рождавшихся, возраставших, выходивших замуж и женившихся. Бывая в церкви, всегда приносил просфорки другим в угощение. Значит, и молебен за других заказывал. Не держал зла на обидевших его, а ведь обижали его иной раз крепко. И деловые партнёры обманывали на крупные суммы, и дети подкидывали нежданных проблем. Да и с родного завода, на котором он начинал после армии простым рабочим и где быстро взлетел до начальника цеха, вынудила его уйти банальная человеческая зависть. Однако же вот, приехали и с завода…
Пятьдесят три года всего. Последние полтора боролся с болезнью, но она всё-таки победила. Хотя в чём-то он её обыграл — погулял на свадьбе любимого крестника, сына сестры. Тяжело уже ему было подниматься, но всё-таки сел за руль и приехал на торжества, посидел за праздничным столом, порадовался искренне молодой жизни. А через пару месяцев — вот…
Вот почему так? Отец Олег, если Он любит, то почему так наказывает? Все мы хотели это спросить, только не решились.
Я знал Сергей Иваныча лишь последние годы его жизни. Сразу же запомнилась его улыбка и смех. Он мог давить на людей, умел быть настойчивым, иногда даже упрямо-настойчивым, но смех выдавал его: он смеялся так, как смеются никому не желающие зла. Наверное, те нечестные компаньоны, кидавшие его, воспринимали это как слабость.
Последние годы его жизни были временем особенным. Дети подросли. Дочь замужем, и внук — радость. Сын жил в другом городе. На сына он как раз и «давил» до его отъезда, много «давил». Казалось Сергей Иванычу, что сын не по той дорожке идёт, не тем делом в жизни занимается, не с теми людьми общается… Он его и в институт пристроил, и к бизнесу своему подключить пытался. Дочь что? Выросла, замуж отдал, и пусть муж с ней сам разбирается. А вот сын — наследник, твоё продолжение, отцы поэтому всегда переживают за них и почти всегда не умеют понять, что сыновья выросли и стали самостоятельными. С ними надо как с равными себе общаться. Не ребёнка бестолкового видеть, а личность. Получалось ли?..
Я вспоминаю, как однажды мы сидели за большим столом в его огромной кухне (дело ещё в старом доме было). Повод был — торжества по случаю покупки новой машины, дорогущей иномарки. Сергей Иванычу пришлось в кредит влезть, чтобы её купить. Однако хозяин не унывал от повешенного на шею долга (кстати, о кредите мы все узнали не сразу).
— Я всё просчитал, — говорил он весело. — Главное в жизни — поставить перед собой цель! Вот пройдет ещё полгодика, мы и Наташеньке машину купим. Не такую здоровую, поменьше, чтобы удобнее ездить было.
— Ford Fiesta, — радостно вторила ему хозяйка дома. — Вот только на права сдам.
— Неужто вторую будете брать? — ахали гости с лёгкой ноткой зависти в голосе.
— А что? — всплёскивала руками жена. — Буду сама рассекать по улицам.
И с благоговеньем произносила понравившееся название.
— Гараж-то вон какой большой, — говорил Сергей Иваныч и вёл всех смотреть пространство под домом, где, действительно, уместилось бы не две, а четыре машины.
Вернувшись за стол, гости обращали взоры на сына Михаила и призывали его учиться у отца.
— Видишь, как папка-то живёт? — спрашивали одни. — Вот он с полным правом может сказать: «Я добился».
— Да, да, — соглашались другие, — не получил, а добился! Сам…
— Ты учись у папки, он добра тебе желает. Где-то похитрее будь, где-то поэнергичнее…
Михаил мрачнел от уже замучивших его нравоучений и сравнений с тем, кто лучше понимает жизнь. Начинала назревать ссора, её гасили, но осадок оставался.
— И план уже есть? — ахали гости в сопереживании грядущих обретений.
— Да, я уже всё по месяцам расписал, как что будет, — говорил хозяин и доставал откуда-то из груды бумаг заветный блокнот с расчерченным графиком будущего счастья.
За столом сидели в основном нынешние партнёры Сергей Иваныча по предпринимательским делам. Это был сетевой маркетинг, в котором ему с женой удалось выстроить более-менее доходную группу. Периодически все они встречались на «семинарах», «мастер-классах» и тому подобных мероприятиях. Насколько я знал, половина суббот и воскресений были заполнены эти встречами. Там они радовались успехам, повышению «уровней» друг друга. Записывали выступления заезжих гуру бизнеса на видео. Смотрели на стоявших выше в сетевой лестнице и сами планировали подняться на очередную ступень вверх, ещё вверх, ещё, чтобы получать больший доход. Рассказывали о легендарных «брильянтах» из соседней области, спонсирующих детские дома и совершающих прочие благородные поступки («брильянты», «изумруды» и прочие — это такие уровни в их иерархии). Много денег — много возможностей совершать благородные поступки, таким был их негласный девиз. На не проникшихся бизнесом взглядывали с лёгким сожалением… «Вот я на семинаре была неделю назад, — говорила высокомерно одна из дам, — на Сардинии. Представляете себе? Следующий раз наша группа „брильянтов“ летит в Тунис. Растите, перед вами все перспективы откроются». И тоже поглядывала на скептиков.
А на своё пятидесятилетие Сергей Иваныч решил строить новый дом. Прежний был хоть и большим, но всё-таки на двух хозяев, а ему хотелось исполнить давнюю-давнюю мечту — иметь свой дом. Он продал имевшееся и купил участок под застройку. Свободные деньги вложил для сохранения в несколько квартир, в одной из которых и поселился с женой. Новый дом рос, требовал средств. Они продали квартиры, переселились в кирпичную коробку с голыми стенами. Денег не хватало. Всё-таки три высоченных этажа на двоих, самый высокий дом среди соседей в престижном районе, на третьем этаже можно в волейбол играть. И тем не менее, дом рос и хорошел, хорошели одна, вторая комнаты, теплели полы с подогревом на просторной кухне, задумывались и возникали на участке изящные скамьи из кованого железа, вазоны, оградки… Наверное, он так и не верил до конца, что сын вырос и не будет жить с ними, а уедет в другой город, чтобы там строить своё счастье и быть самостоятельным. И что дочь будет жить отдельно, своей жизнью и жизнью своей семьи, из дочери превратившись в мать… Он хотел видеть себя во главе большой семьи. И планов было громадьё…
А потом пришла болезнь.
Любовь и одиночество
Я однажды подумал: наши встречи друг с другом — стандартны или особенны? Вот если Вы мне понравились, и я стал ухаживать за Вами, и выполнять тот самый ритуал, который всегда выполняется — кино, вино и домино — было бы это любовью? А если бы на моем месте был другой, не был бы результат тем же? Или на Вашем месте — другая, а я так же выполнял привычный всем ритуал? Можно ли назвать это любовью? В этом нет никакого одиночества, потому что мы все всегда вместе: в ночных клубах, в театрах, на дружеских вечеринках, мы понятны друг другу, мы знаем, что любят девушки и что любят ребята, мы говорим на одинаковом языке… Иногда мы говорим: скучно что-то, уж не пора ли мне влюбиться? — и легко ошибаемся, принимая новые отношения за любовь. Даже когда мы не можем ухаживать, потому что сердце девушки (парня) занято, и мы думаем при этом: ах, если бы не он, другой (она, другая)! — мы всё равно одинаковые и неодинокие.
А одиночество приходит тогда, когда мы выпадаем из привычного. Оно рождается, когда я смотрю на Вас и понимаю, что открыл в себе то, о чём никто и не знает, потому что я сам ещё не знал этого до настоящей минуты. И Вы этого не знаете. Остаются в мире — только я и моё чувство. И тогда мы бываем счастливы и… безумно одиноки, не зная, как встроить наше переживание в привычный мир. Одиночество закрывает нас от других, потому что не к ним идёт сияние изнутри нас. Если оно — к Вам, то что мне другие? Оттого мы выглядим странно, подчас нелюдимо, хотя влюблённые люди — самые добрые на земле, они способны рождать, но не разрушать. И хорошо, если Вы сможете поймать и понять мой взгляд. Понять, что одиночество в моих глазах — это и есть то самое, что изменяет мир по-настоящему. Если Вы сами сможете быть настоящей, то почувствуете, что именно Вы увидели. И — примете это. Или не примете. Возможно, смутитесь. Однако в любом случае это станет тем, что Вы будете вспоминать до конца жизни, потому что только это — настоящее, как знак избранности. Вашей избранности. Всё остальное — суета.
Вечный круговорот
Я поднимаюсь по лестнице на свой этаж и, проходя мимо одной из квартир ниже, слышу визгливый женский голос. Он ещё молод и даже упруг, благозвучен, но так и ждёшь в нём первой, пока ещё малозаметной надтреснутости. Прислушиваюсь невольно: кричат на маленькую девочку, грозят прогнать её с глаз долой. Девочка плачет и капризничает. А вчера тот же голос кричал на мужчину. Тот недовольно огрызался, а потом голоса умолкли и были слышны только глухие звуки, когда бьют или отпихивают другого человека.
Мне вспомнилось, как пятнадцать лет назад в этой двухкомнатной квартире тоже обитала маленькая девочка. Её родители выдали старшую дочь замуж, а сами остались «доживать век» вместе с младшей. Они даже получили наследство, как поговаривали, дом где-то в пригороде. Обрадовались, конечно. Ходили с гордо поднятой головой. Улыбались всем соседям — весомо, с чувством собственного достоинства. «Он» даже перестал попивать, а «она» пилить его вечерами. Потом дом продали, на вырученное хозяин купил себе машину. И всё с той же улыбкой он выходил из неё, ставя у подъезда, жена с дочерью спускались на улицу, и все ехали куда-нибудь. Через год её угнали прямо из гаража под окнами. Угнали покататься, а потом сожгли прямо на набережной. Малолетки, наверное. Так и не нашли никого.
«Он» после того заметно сдал. Поседел быстро. Маленький мужичок в невзрачной одёжке. Стал попивать, друзья-алкоголики вновь объявились. Вечерами весь дом наслаждался семейными сценами в публичном исполнении. Однажды ко мне в гости зашёл сосед и спросил, нет ли у меня какой детской книжки. Дочка от них выбежала на лестничную площадку и стояла там, сжавшись, в уголке. Сосед её к себе пустил, чаем напоил и вот пошёл книжку искать, чтобы занятие ребёнку было. Так не раз бывало потом.
Девочка умненькая была. Звёзд с неба не хватала, но на твёрдую «четвёрку» в школе училась. Не злая, но и не мать-тереза, ровная какая-то была. Ровная и обычная, незаметная среди других одноклассниц. С ребятами гуляла, с одним — долго вместе была, рассталась, когда тот пить начал. Он ещё приходил раз к ней поздним вечером, отношения выяснять, кто кого бросил и почему. Закончилось тем, что друг сердечный подрался с её отцом, маленьким мужичком в невзрачной одёжке, и зачем-то побил собственной головой все стёкла в подъезде, его потом «скорая» увезла. Были и другие, за одного девочка замуж вышла. Свою дочку родила вскоре, гордо таскала коляску по тесным лестницам «хрущёвки», накупала ей всякие соки да детские пюре сумками в ближайшем магазине… Квартиру они разгородили по-новому, в одной стороне — родители, в другой — молодые, все с отдельным входом в свою комнату.
Маленький мужичок умер как-то внезапно. Упился в чужой квартире. Пока кореш сердечный бегал за добавкой, ему плохо стало, тот вернулся, а гость уже и не дышит. Мать — так же внезапно. Тот весной, она — осенью. Собачились всю жизнь, а умерли почти в один день. Уж в один год точно.
А в квартире осталось только новое поколение.
Теперь вот я часто поднимаюсь по лестнице на свой этаж и, проходя мимо одной из квартир ниже, слышу визгливый женский голос. Очень узнаваемый голос. С теми же интонациями, что и пятнадцать лет назад…
Амазонки
Как мне кажется, они просто случайно сбились в стаю. Нужно же было как-то выживать. Одна принесла охапку сухой травы, вспомнив своё детство в деревне и то, как приходилось растапливать печь. Принесла — и пошла за сушняком, без костра все бы замёрзли. Другая вытащила из сумки нехитрую провизию, захваченную в последний момент. Там же, в сумке, оказался и тупой столовый нож, которым она, напряжённо хмуря лоб, стала резать хлеб. Долго мучиться ей не дали, кто-то взял буханку из её неумелых рук и просто разломал на части. «Ты бы, б****, ещё салфетки стелить вздумала, чтобы крошек не было! Вон мужики на своей рыбалке жрут без столовых приборов, и ничего, нормально…» — «Да известно, как и что они жрут». — «Скоты». — «Бабоньки, а нечто и нам… не „пожрать“? Мы ж не хуже!». — «А есть?» — «А то, обижаешь!» — «Ну ты, мать, продуманка…»
Так и прибились друг к другу. Хоть женский коллектив и похуже террариума, да всё ж вместе не так страшно, как в одиночку по холмам и полям шляться. Тут и кобель случайный не угроза — вместе они его самого так откобелят, что… Одна из них вспомнила свою спортивную молодость, научила других луки делать и стрелять из них. Поначалу плохо получалось, птицы чуть ли не хохотали, нагло вспархивая из-под ног. Потом пошло всё, как надо. Голод ведь не тётка, тут никому не закатишь профилактического скандала по поводу свежеобжаренной сёмги, приготовленной не в том вине со специями и поданной не под тем грибным соусом в компании цветной капусты… «Мадам Баттерфляй, мать их»… тут не ресторан, что поймалось, то и скушалось.
Луки эти не только в добывании провизии пригодились. Как-то раз наткнулся на них спартиад один. Были они ещё пуганые тогда, решили не связываться с ним, тем более, что дядя при оружии был. Окажись вблизи, заломал бы и покалечил запросто. А так они его из лука и угостили с расстояния. Отбежали чуть-чуть и снова стрелой наградили, в ногу удачно ранили, а потом по неподвижной мишени поупражнялись стрелять. Говорят, что спартиад тот на смертном одре призывал отомстить за него, ибо сразили его бесчестным образом. Они-то, сильные мужчины, лук не признавали, называли его оружием трусов. Вот он и бормотал, умирая, страшные проклятия в адрес гнусных убийц. По крайней мере, так Геродот рассказывает…
Справедливо рассудив, что месть может оказаться ужасной, они решили откочевать подальше. Ушли из благодатной долины сначала в северные гористые края, а оттуда в дикие скифские степи забрались. По пути многих к себе брали. Сидят вот так ночью у костра, смотрят на огни деревеньки какой, откуда новенькая к ним прибилась, и разговаривают. «Тебя муж обижал?» — «Бывало». — «Ну, это ты зря… Мужик ведёт себя настолько свободно, насколько мы ему позволяем». — «Да, да…» И начинается курятник: кудах-тах-тах… кудах-тах-тах… «Вот я и решила, что с меня достаточно», — говорит новенькая. — «И правильно! А он что? Как воспринял?» — «Я ему недавно говорю: я женщина, а не посудомойка! Довольно!» — «А он?» — «А он, скотина, ржёт мне в глаза: он, мол, тоже тогда — мужчина, а не извозчик и не ишак. Возить кого-то туда-сюда, чтобы перед подругами покрасовалась, деньги все отдавать и знать при этом, что кое-кто ещё и карманы на всякий случай обшаривает в поисках утаённой заначки… В общем, горбатиться на дуру с непомерными амбициями он больше не собирается». — «Это он тебя дурой назвал, сам скотина?» — «Да, меня. Сказал, что ему проще нанять эту самую посудомойку, чем мой бред ежедневно выслушивать». — «Ну и?..» — «Да что… Посчитал с калькулятором, что кухарка, посудомойка, приходящая уборщица, няня для детей ему якобы дешевле обойдутся, чем одна я. И для душевного спокойствия тоже. И выгнал. Сказал: как амбиции поумерю, так могу возвращаться». — «Ну так давай с нами, у нас этих скотов нет». — «Спасибо, бабоньки, вместе не пропадём»…
Не пропали, факт. Кочевали по степи, охотились. Жили в юртах, потому что прочные дома строить — ума не хватало. В строительстве математика нужна, а они в расчётах не сильны были. Юрты — самое то. Пришли холода, так легко снялся со стоянки и перебрался туда, где теплее, потом — ещё на новое место, ещё… А если дом строить, так это надо голову напрягать, сопротивление материалов в возведении стен высчитывать, всякие системы отопления проводить, канализацию копать… Конечно, если бы кто-то просто так предложил пожить — не отказались бы, но ведь этот «кто-то» почти наверное захочет снова сделать из них кухарок, посудомоек… Нет уж, дудки! Помнится, ни одна из них никогда не готовила своему мужу завтрак (когда у них ещё были мужья), предпочитая поспать, чтобы днём лучше выглядеть. Так с чего вдруг им менять свои привычки? Пусть сами готовят и сами стирают…
Так и кочевали. Геродот рассказывает, что они хорошо метали копьё и посылали стрелу в цель, что были они искусными наездницами… Лошадей любили и берегли, это верно. Лошади большие и тёплые, надежные и бессловесные. К тому же это скоты-мужики могут себе кое-чего травмировать, скачущи верхом, а бабам напротив: тепло промеж ног да ритмичное касание волшебной точкой об луку седла — самая радость. Да ещё ощущение собственной власти: она — сверху, она — повелевает этим большим и сильным животным…
Когда же вдруг становилось невтерпеж, то самые опытные выезжали на особую охоту. Возвращались, таща на аркане… ненавистных и возбуждающих самцов. Ставили перед выбором — смерть либо… Выбиравших второе уводили в особые юрты, а затем отпускали восвояси. Надо сказать, что соглашавшиеся не прогадывали: вряд ли где ещё они могли найти такие изголодавшиеся и страстные тела. После вынужденных ночных подвигов мужики возвращались в свой мир ошалевшими и не до конца понимавшими, что это было. Рождавшихся затем детей делили: мальчиков отсылали туда, откуда их скоты-отцы были, а девочек оставляли себе.
Существовал, конечно, немалый риск, что какая-нибудь из сестёр влюбится (по иронии богов) в своего ночного гостя. На этот счёт коблы (то есть царицы амазонок, как их деликатно называет Геродот) придумали действенное средство. Всем девушкам вырезали левую грудь. Это мужики считали, что делается подобное обрезание для того, чтобы было удобнее стрелять из лука. Наивные! Если уж стрела или тетива и задевают грудь, так не левую, а правую. Дело в другом. Такая мера предотвращала мысль об уходе! Вот влюбится девица в мужика, и что? И ничего! Все соседи мужика засмеют, если он вдруг надумает одногрудую замуж позвать…
В общем, так и жили. Охотились, безобразничали, занимались собирательством. Собирали то, что из мужского мира перепадало и упадало. Производить самостоятельно что-нибудь они не умели и не пытались. Ни Диодор Сицилийский, ни Аристарх из Эфеса, ни кто другой не сообщают нам свидетельств об их творениях. Ни беломраморных статуй, ни пышноукрашенных городов, ни письменной истории, ни божественной поэтической речи… Некоторые глупцы считают, что Эфес, знаменитый город в Азии, был основан амазонками. Одураченные! Афинянин Андрокл был его основателем. Лишь потом, ослеплённый Афродитою, он решил дать городу новое имя, в честь той, случайной, которая ни камня не положила в его стены. Вспоминают ещё Фемискиру, столицу воительниц. Однако и её не они строили. Мужчины-архитекторы и мужчины-строители, купленные, похищенные, соблазнённые — вот кто были настоящие созидатели. Потребители же никогда не становятся творцами. Они даже не всегда умеют оборонить для них построенное, ибо Тесей с лёгкостью взял себе и город, и самоё царицу амазонок.
Их погубила склочность. И ещё, наверное, — неизбывная зависть к мужскому началу. Кочуя рядом с каким-нибудь поселением, они незаметно, с милыми улыбками вливали яд в уши местным жительницам, и те начинали вести себя неестественно и глупо. Ссорились из-за пустяков со своими мужьями. В ссорах упорствовали до последнего, руководствуясь высокой поэзией: «Возвращаться к женщине нужно максимально быстро… Так быстро, чтобы она не успела понять, что ей и без тебя хорошо…» Требовали чуть ли не собственного обожествления. Их неожиданная сентенция: «Помни, ты достойна лучшего! Ты у себя одна!» — повергала в близких в замешательство. Или совсем просто: «А разве я этого не достойна?» Они, одураченные, искренне приписывали себе чужие заслуги. И даже составляли кодексы поведения, в которых себе отводили сплошные права, а мужьям — сплошные обязанности. Плиний Старший рассказывает, что в одном из городов появилось общество ревнительниц Артемиды. Его организаторы установили специальный день, в который женщина объявлялась главным существом на земле. Праздник этот они позаимствовали у амазонок. Неизвестно, что думал на этот счёт Зевс, но тут даже спокойная Афина не выдержала. Устав от истеричных безумств этих воительниц, чьи проклятия в адрес мужчин доносились до вершин Олимпа, оскорблённая их кровавым нападением на город, носивший её имя, мудрая богиня вложила особенную мощь в длань Ахиллеса. И когда сошлись в битве под Троей великий герой и царица амазонок, то поразил он главную коблу, а остальные амазонки, лишившиеся боевого духа, рассеялись в ужасе, и никто уже больше не слышал о них. Может быть, перебили их. Может, сами в степи замёрзли.
Впрочем, яд, влитый ими в неокрепшие души по разным местам, не исчез, к сожалению. И после рассеяния амазонок многие были таковы, словно бы воспитывались в том племени. Вот, например, Кассандра, катастрофически не умевшая говорить с мужчинами, всегда начинавшая свою речь к ним с оскорбительных интонаций или ироничных претензий, сетовала на пренебрежение её пророчествами. Но как было верить ей, когда она постоянно твердила: «Ахилл — скот. Ахилл — скот», — не желая, например, замечать всей нежности, излившейся из души этого сурового воина на Брисеиду?!
Так то говорила Кассандра, царская дочь… А сколько было других, совсем глупых и необразованных…
О праведниках и львах
И будешь ты «владычествовать над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею…» Как хорошо сказано. Как много потеряно.
А затем только праведники зверями обладали. Преподобный Герасим, живший на Иордане, льва приручил. Огромный зверь пришёл в монастырь и стал сопровождать мирного и безобидного зверя — осла, который воду доставлял в обитель. Палестина — страна знойного солнца. Однажды лев заснул, а арабы, проезжавшие мимо караваном, увидели осла и увели его с собой. Лев, проснувшись, стал искать осла, но, конечно, безуспешно. Герасим немало огорчился, увидев льва возвращавшимся в одиночестве. Другой человек сказал, что лев, вероятно, сам же осла и растерзал. И Герасим заставил страшного зверя носить воду в обитель вместо осла, что тот безропотно делал. И лишь много времени спустя снова встретились лев и караван, вместе с которым шёл по пустыне украденный осёл. Купцы, завидев хищника, разбежались, а лев вместе с ослом возвратились в обитель…
А Франциск Ассизский дружил с волком. А Сергий Радонежский — с медведем…
Иногда я прохожу мимо маленького зелёного домика. Он в стороне от моего обычного пути на остановку. Но всё-таки — случается прогуливаться в тех местах. Почти всегда вижу там пожилую женщину. Она выходит на крыльцо и кормит голубей. Птицы слетаются к ней, зная, когда у них будет и «завтрак», и «обед», и «ужин».
Я прохожу мимо и думаю о праведниках и львах, о тихих женщинах и мирных птицах… А сам ведь и голубей никогда не кормил. Не умею. Не знаю, как это…
Ромео и Джульетта
…Так, смутен весь, он долу лик склонит
И о своей греховности вздыхает…
Мы шли с ним по полям, наслаждаясь вечерней майской прохладой, когда сама земля, кажется, дышит и поёт беззвучно. Он жаловался мне на свои беды и огорченья, говорил даже о приходящих внезапно мгновеньях, когда появляется страх смерти, о полнейшей разочарованности в себе и в том, что вокруг. Затем перескакивал на другое, начинал восхищаться засыпавшим тихо свечением неба, ароматами юных трав, благорастворением воздухов в этом вечере. И снова жаловался и печалился потом. Спросил, нет ли среди моих знакомых хорошего психолога. Или психиатра, он уже и сам запутался. Для чего ему надобен психолог, поинтересовался я. Он ведь всё равно выслушает его и ничего не станет делать, ибо считает, что его беды уникальны и более конченого человека в целом мире не найти. Услышав мою скептическую реплику, он даже обрадовался, схватив меня за руку. «Точно, точно ты определил! — едва ли не закричал он возбуждённо. — Я так и жил последний десяток лет. С полным убеждением в уникальной собственной никчёмности… И сейчас живу так же».
По моим полям очень хорошо гулять. Они тянутся не на один километр. И всё это — почти в центре города. Так невероятно. Студенты сельхозинститута проходят здесь практику, засеивают их разными культурами, пашут, сеют, измеряют урожай… Это их дневная жизнь. А вечерами городской мир, городская цивилизация уходят отсюда, оставляя человеку лишь небо, воздух и далёкие просторы трав, в которых отражаются ночь и переливы звёзд.
«Вот ты жалуешься на жизнь, — сказал я ему, — а я тебе историю расскажу…» Он склонил голову, прислушиваясь. Засмеялся: «О женщинах? Как всегда?» В чём-то он оказался проницателен. О женщинах… и о женщине…
…Она сомневалась, что я смогу её вспомнить. Осторожно написала в интернете, что хотела бы увидеться и пообщаться. Ни о чём конкретном — просто поговорить, если получится. Такой вот голос из прошлого. Пару раз она действительно приезжала, но не заставала в те дни меня на службе. А на третью договорённость всё наконец сложилось, я ещё издали увидел её, стоявшую в коридоре у окна. Всё такая же…
Она протянула мне большой пакет с конфетами. «Для дочки», — сказала. Я смущённо принял неожиданный подарок. Тем временем в памяти всплывали то одна деталь прошлого, то другая. Когда-то их пришлось стереть, но они так быстро оживали… Почему пришлось?.. Да так…
Впервые увидел её почти десять лет назад. Так, вероятно, он увидел донну Анну. Юную, черноволосую, весеннюю. Не у испанца, а у швейцарца, помните: «…Молча. Как громом поражённый. Так, кажется, принято выражаться? Никогда не забуду: она медленно спускалась по лестнице, платье её развевалось на ветру, а когда я упал на колени, она остановилась. Мы оба молчали…»?
Специально ли я заучил эти строки? Сами легли в память… Да что там, конечно — чистая литературщина. Зато другие я бы, казалось, сам мог написать. Те, что когда-то Данте написал. Как она светлела лицом, видя дожидавшегося её друга, и потом они, взявшись за руки, медленно шли куда-то, полные друг другом, как она расспрашивала о незнакомых вещах и событиях, радостная познанием мира, готовая без всякой заносчивости нести потом это знание дальше, как она жила общей жизнью, вместе с другими, но жила и ожиданием другой жизни, какой-то своей, потаённой, прекрасной и обещанной — всё это вспоминалось, и вспоминалось, как негромко шелестели в моём тогдашнем сознании безжалостные строки: «…и о своей греховности вздыхает…»
Они были вместе со школы. Потом вместе ездили поступать в Москву. Она поступила, её друг нет. Тогда она забрала документы, чтобы вместе вернуться в родной город, светлый, уютный, камерный. Вместе учились дальше. Почти всегда были рядом друг с другом. Всегда ждали друг друга, в этом дне и в дне следующем. Это было то, чему даже завидовать не получалось — мы лишь улыбались смущённо, прикасаясь невольно к их истории. Потому я и стёр почти всё из памяти. Достаточно было знать, что я видел маленький кусочек этой истории, маленькую часть того, что так редко, но всё-таки случается.
Последнее, что я слышал о ней, была весточка грустная. Рассказали, что ей внезапно стало плохо на занятиях, приезжала «скорая»… Что-то там с аллергической реакцией связанное. То ли пух тополиный, то ли скушала не тот продукт…
И вот она разыскала меня спустя почти десять лет. Отчего меня? Наверное, я когда-то сделал ей что-то доброе, я не помнил. Освободившись от забот служебных, я пригласил её погулять по городу. Она когда-то провела здесь почти год, но города почти не знала, за исключением нескольких центральных улиц. Ей было радостно теперь узнавать новое. Я рассказывал о себе, о своих делах невесёлых, затем стал её расспрашивать. Мы уже к тому моменту нагулялись вдоволь и по набережной, и по городским холмам с их узкими улочками и полуразрушенными церковками. Выбрались в знакомый ей центр, зашли в кафе.
Она взяла себе только минеральную воду, я заказал кофе и пирожное.
А ей кофе было нельзя пить. И чай. И печёности разные. Это всё из-за той аллергии, начавшейся так внезапно, необъяснимо, до ужаса несправедливо, если так можно сказать.
— Я теперь ем только то, что сама готовлю, — улыбнулась она. Она вообще ни разу не вздохнула в разговоре со мной, светилась так же, как и тогда, когда её впервые увидел.
— Неудобно ведь, ни в гости пойти, ни поехать куда далеко, — необдуманно сказал я.
— Совсем нет, я ведь сижу тут! И в Крым каждое лето отдыхать езжу, с родителями.
Она стала рассказывать о Крыме, о его красотах, а я посмотрел на её безымянный палец. Она поймала мой взгляд, улыбнулась, вот теперь — грустно.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
