
Бесплатный фрагмент - Кинокефал
Часть первая. Пламя
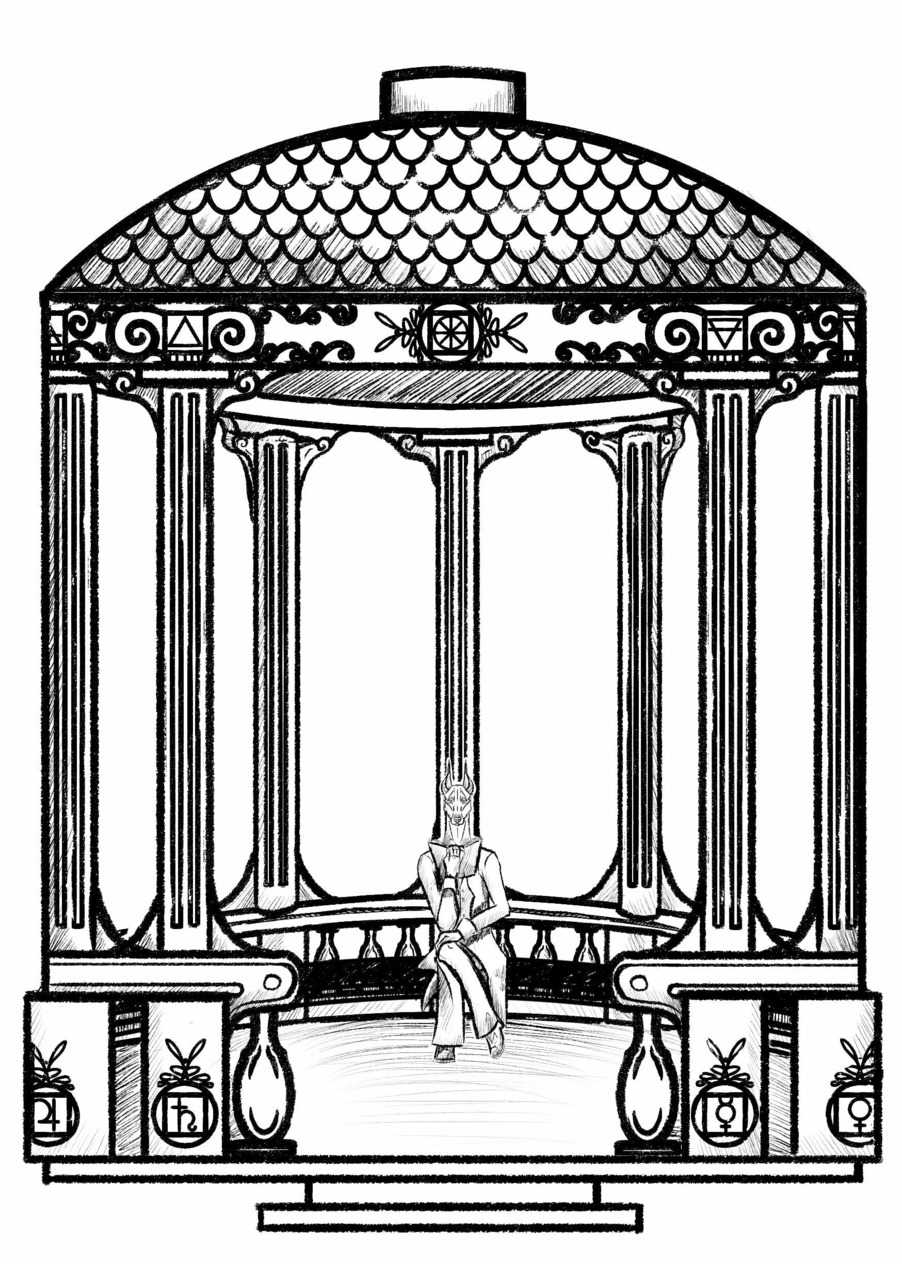
Глава 1
В доме моего отца стоял стойкий запах шерсти, аромат старой мебели, воска и книг. Эти переплетения с порога ударили мне в нос, и я сразу прочувствовал жизнь, недавно кипевшую в этих стенах. Несмотря на возможность использования электричества, предпочтение отдавалось камину и свечам. Не смог подавить ухмылку: «Отец до последнего так и оставался неисправимым консерватором». Но улыбка тут же слетела с моих губ. Его консерватизм — это было практически то немногое, что я о нем знал. Отец был очень замкнутым… человеком.
Коридор изогнулся, представив перед взором небольшую гостиную. Берта и Шарорт — отцовские эксперименты, ласково суетились у моих ног, но я старался не замечать их. Я не мог на них смотреть. Гостиная была скупа на побрякушки, в ней не было ничего лишнего: круглый стол, диван, резные стулья, камин с парой свечей на каминной полке и шкаф с фарфоровым сервизом. Все эти вещи имели некое сочетание, которое только и могло бы удовлетворить отца. Я понял это по схожести этого зала с залом моего детства. Только дубовый стол был тот же. Не удержавшись, я подошел к нему и прощупал торец, ища заветные зарубки. Когда пальцы наткнулись на то самое, давно прошедшее, странное чувство разлилось от ушей до кончика хвоста — я словно вновь был дома. Вспомнились наши детские шалости с Рейном, как мы, малые дети, любили придумывать разные забавы и проверять друг друга на храбрость, грызя дубовый стол. Как же было трепетно делать вмятины, с волнением косясь на дверь, в ожидании прихода учителя Гер Шеруе, или матери, или смотрительницы — строгой миссис Веруты, или того хуже — отца. Я даже вдруг ощутил победный вкус древесины, как вдруг моей ладони коснулось нечто мокрое, ощущение пропало, и я отдёрнул руку. Берта обиженно повела ушами, попыталась лизнуть меня ещё, но я резко развернулся и вышел из комнаты.
Конец коридора венчала винтовая лестница, и я инстинктивно почуял, что искомый мной отцовский кабинет находится именно там. Чутьё не подвело. Витки лестницы уперлись в небольшую площадку с двумя дверьми. Потянул правую — не поддалась. Для полного убеждения дернул повторно, но заперто. Странно, вахтмейстер не упоминал об опечатанных комнатах. Возможно, её заперли ещё при жизни отца.
— Уррр… — не сдержал ворчания. — Придётся вдобавок разыскивать ключ.
С чаянием я толкнул левую дверь, и та безропотно поддалась. Войдя, сразу обнаружил победу — на столе лежала кипа бумаг, оставалось надеяться, что в их ворохе найдётся искомое. Я примостился в кресло напротив стола и стал торопливо их разбирать. В пылу спешки даже не удосужился рассмотреть помещение, но то, что это был именно кабинет — сомнений не оставляло никаких. Особенно после того, как я наткнулся на папку с чёрными буквами-вмятинами «родовая летопись». Именно этот документ, по заверениям матери, отец мог хранить в исключительно личном пространстве. Я осторожно раскрыл его и… рыкнул так, что Шарорт с Бертой, просочившиеся в комнату вслед за мной, мгновенно вылетели из неё, как ошпаренные. Да и неудивительно, моё негодование взвилось почти до самого пика — папка была пуста! Вся история семьи, исправно ведшаяся аж с раннего средневековья! Все семейные очерки, подписи, титулы, всё то, к чему с детства тянулись мои руки — исчезло!
Я прикрыл глаза. Конечно, летопись должна быть где-то здесь, быть иначе не может. Но это просто святотатство вынимать такую древность из векового панциря! Что же при этом руководило отцом?
Открыв глаза, посмотрел на исконный фамильный вензель. Он представлялся в виде латинской буквы Д, стилизованной под м-м-м… нашу голову и красовался почти на полпапки, ниже истёртых букв.
— Так что же, дорогой отец, ты предложишь взамен?
Я продолжил осмотр. Берта и Шарорт вновь проникли в кабинет и осторожно улеглись у моих ног. Я упорно игнорировал их присутствие.
В преимуществе бумаги представляли собой выписки из газетных заметок, биологических статей и писем юридического характера. Одним словом — макулатура. Когда отбросил очередную статейку, перед глазами вдруг предстал любопытный рисунок. Скорее, подробный чертеж его обожаемого эксперимента. На чертеже были подробно изображены все стати, прорисована каждая мышца. Меня невольно притянула детализированность, и я, как зачарованный, переводил взгляд от обрубка-хвоста к тонкому костяку, от стройных лап к крепкой груди, от острых ушей к глазам…
Остановившись на глазах, я отбросил рисунок в сторону. Это были его, его глаза! Его лицо…
Я положил руки на переносицу, потёр, вновь собрался.
— Слишком много наваждений сегодня, воспоминаний. Правду говорил Рейн — не следовало идти одному, — высказал вслух, то ли оправдывая, то ли подбадривая себя.
— Ладно, раз уж пришёл, досмотрю твои жизненные ценности.
Второй раз за последние десять лет я обращался к отцу. Пусть и не явно, метафизически, но боюсь, как бы это не вошло в привычку. Нередок случай, когда люди могут говорить с ушедшим из жизни, сами воспроизводя мысленную беседу. В моем же случае представить четкость образа и диалога я не мог, да и смысла в том не было вовсе. Роль горем убитого сына, увы, не для меня, так что надо прекратить разыгрывать пафос перед собой. Я прикусил язык и нагнулся за листом. Тут моё внимание привлек неясный предмет квадратной формы, покоящийся у ножки стола. Берта, тут же подскочив ко мне, принялась с отчаянием брошенного ребенка, тыкаться носом в мою щеку, но я, бесцеремонно оттолкнув её, поднял предмет. Это оказался толстенький альбом в новом переплете, и я с наслаждением вдохнул чуть уловимые нотки кожаной свежести. Еле сдерживая желание вдохнуть запах альбома глубже, я распахнул его. Мой взгляд, похоже, на мгновенье потерял осмысленность. Я захлопнул альбом, открыл на другой странице, снова захлопнул, снова открыл на другой… С каждым хлопком глаза мои наливались бешенством. Я ненавидел отца всё больше и больше, и ненависть моя достигла апогея, поднявшись вместе с шерстью на загривке.
— Пррррочь отрррродье!!!
Я захлебнулся своим рыком. Берта с Шарортом успели нырнуть в дверной проём, вслед им полетел альбом. Обмякнув в кресле, я запрокинул голову на спинку. Нос мой ещё пребывал в состоянии гармошки. Всё. Дальнейшее нахождение в этом логове было невыносимо. Выскочив из комнаты, прогромыхав по лестнице, я вылетел из дома по направлению к ближайшей телефонной будке.
Трубка успокаивающе холодила пальцы, но руки мои ещё потрясывало, когда я судорожно доставал монеты. Прислонив речевой конец трубки к губам, слуховую часть я отвел как можно дальше от уха. Гудки и шипение в моём состоянии могли вывести на уровень разрушителя, а вновь платить за порчу имущества совершенно не хотелось.
Стиснув зубы, я попробовал считать, но это не помогало. Я уже начал молиться всем путешественникам, особенно превознося Христофора, как наконец-то гудение оборвалось долгожданным ответом.
— Рейн Ортвин Шефер слушает.
— Рейн, это Бонифац. Ты был прав, приезжай.
— Знатная квартира, знатная… — спустя полчаса, Рейн с присущим ему любопытством восторженно разглядывал картины на стенах коридора и резные узоры дверей. А я не мог взять в толк, чему тут дивиться при таком смраде. В первый раз, войдя в дом, я был более снисходителен к своим рецепторам, но теперь все давило и оглушало, горло непроизвольно вибрировало.
— Бони, друг мой, прекрати. Сейчас мы откроем с тобой бутылочку сильванера, и твоё напряжение испарится. Полюбуйся, ты рассматривал эту красоту?
Я исподлобья глянул на этого ценителя. Конечно, он не чует зловонности, не чует вообще ничего. На его нос, да и на всё лицо его, лёг отпечаток человечьей крови. Только уши выдают в нём иную личину, да и то они так тщательно замаскированы под париком, что внешне Рейна никак не принять за кинокефала.
— Лёгкие колыхания твоей грудной клетки издают нечто схожее с сопением и вздохами. Вы до такой степени опечалены, старина?
«Но вот слух у него отменный», — усмехнулся я.
— Вся природа нашего брата сгустилась в твоих ушах. Естественно, опечален, чёрт… Сейчас я покажу тебе это.
— Я весь в нетерпении, — Рейн наконец отвел глаза от дурацкой картины. На ней изображался ничем не примечательный луг. Никогда не мог стерпеть никчемность произведений и к ним прилагаемый труд, полностью лишенный смысла. И это причисляется к искусству?
Рейн перевел взгляд на меня.
— А насчет чего я оказался прав? Насчет того, что нам с сильванерой надо было быть с самого начала?
Ответить я не успел. Спрятавшиеся от моего гнева Шарорт и Берта услышали звуки нового голоса и поспешили убедить пришельца прекратить гомон и капитулировать в обратном направлении. Я знал о действии отцовского эксперимента по слухам, но никогда не случалось увидеть его воочию. Эффект был громоподобен. Я, право, растерялся, когда на моего бедного Рейна кинулись эти бешеные фурии. Их оскал, бессмысленный блеск чёрных точек, пьяная решимость разорвать — ошарашивали, но я все-таки успел заслонить друга. Бестии притормозили, хоть и назад ни на йоту не отступили. Я рыкнул на них, но они, словно оглушённые, продолжали тянуться к Рейну из-под моих рук. Видя безвыходность положения, пришлось применить проверенный способ доминирования. Я резко схватил одной рукой кобеля за загривок, а другой — прижав его длинную морду к низу, вцепился ему в ухо. Рык сменился взвизгом. Шарорт рванулся и отпрянул от меня. Берта, почувствовав боль собрата, прекратила скалиться и гулко рыча, ретировалась следом.
«Когда дело пахнет паленым, женская натура всегда едина».
Сплюнув в платок (в зубах застрял изрядный клок собачьей шерсти), повторил свой рык. На этот раз желание моё было услышано — Шарорт обиженно заковылял в гостиную. Следом поплелась и Берта, прожигая меня углями глаз. Я тут же захлопнул за ними дверь.
Рейн снял цилиндр и промокнул лоб платком.
— Какие милые создания! Вот что значит не есть сутки напролет.
— Их кормит Ребель — друг отца. На следующей неделе он, кстати, обещал их забрать.
— Наверное, мило иметь заряженные огнестрелы на лапках, никто не сунется!
— Наверное… — хмыкнул я, ступая на лестницу. Рейн поспешно ринулся за мной. Перспектива остаться наедине с дверью, за которой грозно завывали, его явно не грела.
Поднявшись, я затворил за нами и поднял распластанный на проходе альбом.
— Наливай, Рейн, в бокалы… — тут вспомнил, что видел питьевые сосуды лишь внизу, в гостиной, где пребывали чёртовы фурии, смотреть на которых стало особенно противно. Я распахнул пару шкафов, одиноко стоящих по углам окна, но обнаружил там лишь книги.
— К черту бокалы, обойдемся без них, — заключил я, захлопнув шкафы обратно. Рейн пожал плечами и протянул мне открытую бутыль. Отхлебнув, я протянул ему обратно. Мы одновременно бухнулись в кресла друг напротив друга. Шлёпнув злосчастным альбомом по столу, я обхватил голову руками. Гнев ещё сжимал горло.
— Знаешь, есть в наших жизнях некие неоспоримые ценности. Они могут быть вещами материальными или нематериальными, поступками или же качествами, да и вообще, могут иметь облик всего вышеперечисленного.
С каждой фразой глотку теребило сильней, пришлось остановиться и прокашляться. Рейн передал вино. Промочив горло, я вернулся к мысли.
— И ценности эти — очень зависимая штука, верней, мы от неё сильно зависим… Вот так меня с самого детства приучали к незыблемости рода, к «чистоте» крови и бла-бла, помнишь такое?
— Как не помнить, — грустно улыбнулся Рейн. — Как не помнить мальчишке-гезелю, которому драли уши за каждое посещение юного юнкера. Наше общение было запретно, и тогда мне пришло понимание глупости делений, классовых предрассудков.
Я уставил свой взор в пол. Эту страницу из прошлого хотелось вырвать или хотя бы перечеркнуть. Мне до сих пор помнились вскрики бедного Рейна, а я ничего не мог поделать. Ничего.
— К стыду, признаюсь, я ощутил облегчение, когда твои родители расторгли брак, — спокойно продолжал Рейн. — Твоя матушка была лояльна и мила, в то время как твой отец со своей родней ревностно чтили чистоту кровей.
— Что ты, дружище, я был сам рад безмерно.
Но здесь я соврал, зная, что Рейн враньё не почует. Как и для любого ребенка, развод воспринимался болезненно. С течением времени поняв, что отец не просто ушел, а избрал другую, я рассердился, а узнав, какую женщину именно — обозлился окончательно. В связи с этим не составило труда убедить себя, что расставание с отцом — радостное событие, хотя это было не так.
— Да, отец задал такую фору всем родственникам, поправ всё то, что так сам почитал… Ни мать, ни я так и не знаем, почему он ушел к симиа.
Рейн поморщился, что вызвало во мне новый прилив раздражения. Я передёрнул плечами.
— Нас же порой именуют собаками, так почему мне не употребить «обезьяна»? — тут я вспомнил. — Извини, я запамятовал, что невеста твоя без нашей крови.
— Бони… — вздохнув, Рейн сделал глоток и поставил бутыль на стол. — Ты запутался, друг мой. Или ты наконец перестал предаваться теории павлистов о единой человеческой природе людей и кинокефалов?
— Нет, не перестал, — заскрипел я зубами. Зря я назвал эту женщину обезьяной.
— Но между тем ты сам употребляешь выражения для обозначения различий. Ты же не будешь употреблять «человек с собачьей головой»? Лучше же назвать кратко: «кинокефал», верно? И нарекать человека обезьяной, дабы отделить его от остальных «псевдолюдей» — кинокефалов, это как-то, по меньшей мере, нелепо. Если люди и кинокефалы могут скрещиваться и давать плодовитое потомство, как бы там не подводила официальная наука, то это не означает принадлежность к единому виду!
Как любит этот грамотей вставлять научные фразочки, третируя ими саму же науку. Если сами учёные, сам Петров Павел доказал принадлежность кинокефалов к людям, какие тут могут быть рассуждения и дебаты?
Вдруг лицо Рейна изменилось, видимо, решимость продолжить спор испарилась. Он молча пододвинул мне вино и облокотился локтем на стол, подперев голову рукой. Я инстинктивно расслабился и взялся за горло бутыли.
— Снова мы завели нашу песню. Ладно, Бони, ты хотел рассказать о некой ценности, то это, случаем, не этот альбом?
— Да, это было ценностью. Единственное, что я хотел забрать из этого дома, растерзано, попрано.
— Это твоя семейная летопись?
— Да, это была она. Знаешь, мне плевать на чистоту кровей, плевать на положение в обществе, вид головы, я — павлист. Но то, что тогда впечаталось, можно сказать, с молоком матери, это отношение к истории рода. Оно вызывает некий трепет перед осознанием, что несколько веков назад был тот, копией которого, возможно, ты являешься сейчас. С волнением разглядывать эти древние портреты, зачитывать имена… Тогда я, кстати, и выучил латынь.
Мои кулаки сжались так, что чуть не треснула бутыль.
— Полюбуйся, посредством чего отец изготовил этих химер.
Я указал пальцем в пол. Рейн раскрыл альбом. Глаза его постепенно расширились, а брови преобразились в дуги.
— Это… Он вёл записи своих опытов в вашей родовой книге?
— Не просто вёл! — рыкнул я. — Он ей следовал, выводил своих шавок по нашему роду! Смотри, — я придвинулся ближе, — со средних веков несколько знатных семей объединились в клановый союз. Вот, — открыл первую страницу, — семьи Алаго, Ланге, Тордфонратен имели разномастную внешность, но все же отец сумел подобрать похожие породы, — напротив рисунков были вклеены листовки со схожим с данным портретом изображением собак.
— Смотри-ка, что приписано к их родовым девизам, — Рейн ткнул в мелкие строчки слов, подписанных под латиницей.
— Мастиффы бесстрашно шли в бой, без колебаний атакуя противника… — зачитал он вслух, — дог готов умереть за хозяина… Пинчеры энергичны. С готовностью истребляют грызунов, могут преодолевать большие расстояния, сопровождая повозки… Знаешь, — Рейн посмотрел на меня, — можешь перевести девизы?
Я взял альбом к себе на колени.
— Где про мастиффов, то род алаго, их девиз прост: «Алаго — отвага». Над догами — род Ланге: «Преданность выше всякого ранга», а над надписью про пинчеров — род Тордфонратен: «Трудом ратен».
— Ты видишь закономерность, Бони?
— В чём? — вновь раздражался я.
— Твой отец не просто использовал в качестве основы рисунок, а ещё и следовал характеру! Вот посмотри, разве похожи члены семьи твоей матушки Тордфонратен на наших пинчеров? Едва ли, во внешности они скорее терьеры. Но вчитайся в фамилию: «торд фон ратен», слышишь?
— Смерть крыс.
— Именно! То, что и отметил в своих заметках сэр Доберман: «С готовностью истребляют грызунов». И еще: «пинчеры энергичны» и девиз: «трудом ратен», складывается картина?
— Складывается… — притупив гнев спиртным, я передал бутыль Рейну. — И для полного заверрршения ты не добавил еще одно.
Рейн в ожидании склонил голову.
— Что окрас у Тордфонратенов послужил основой для дальнейшего рода — чёрный подпалый. Такой, насколько я знаю, есть у пинчеров?
— Именно, друг мой, именно! — Рейн просиял, но его радость от открытия меня в восторг не привела. Наоборот. Вся эта завязь с характерами удручила ещё больше.
— Значит, — рыкнул я — вот к какому идеалу стремился отец?
Раскрыв альбом на последней странице, я чуть не тыкнул ею в лицо Рейну. На ней был изображен последний из рода Доберманов — я. Рядом также было вклеено фото Шарорта с пометками. Рейн зачитал записи вслух.
— Охранные качества — высокие, интеллектуальные способности — высокие, послушание — на высшем уровне (в спокойном состоянии). Возбудимость — высокая, терпимость к чужакам — на низком уровне, уровень агрессии — высокий, в порыве злобы управление возможно только силой. Идеален для эксплуатации: военной, охранной, розыскной служб. Требует жестких методов дрессуры. Лидером признает одного… Мдааа… — Рейн оторвался от чтения. — Кого-то это мне напоминает.
— Ясен день кого, это же характеристика Шарорта, — утвердил я, сам не веря в свои слова. Шерсть на загривке предательски поднялась.
— Мы с тобой всё прекрасно понимаем, — мягко сказал Рейн, — вопрос в другом: — Зачем затеял это твой отец, чего добился он?
— Не знаю, Рейн, не знаю.
Я правда не имел предположений. Казалось, это просто насмешка, горькая шутка. Желание показать, насколько он считал неважным весь наш кинокефальный род. Продемонстрировать, что вот мы, просто собаки, а он… А вот страницы с его именем я не обнаружил, хотя она безусловно была. Лицемер. Он воспевал чистоту крови, а в итоге: ушел от матери, прервав кинокефальную ветвь, женился на обезь… человечьей женщине, извратился над родовой летописью, вывел собак — копии Доберманов. А ведь мы — практически единственный род из кинокефалов, кто в результате вековой узости семейного круга приобрели весьма специфичную внешность, характерную только для нас.
Молчание затянулось. Растекались сумерки. Захотелось живого, светлого, захотелось огня. Камин с отделкой в стиле этак раннего ренессанса находился как раз напротив наших кресел. Как ни странно, он совсем не вписывался в обстановку кабинета и выглядел в нем аляповато.
Служащий, убирающий дом, исправно приносил дрова, складывая их в поленницу, и я без сложностей развел огонь. Дрова сладко затрещали, разнося лесной аромат и тёплый свет.
Рейн потягивал вино, щурясь на разгорающееся пламя.
— Это очень старый камин, — продолжая смотреть в огонь, протянул Рейн. — Его пришлось знатно переделать, чтоб использовать по теперешнему назначению. И ныне он смотрится нелепо, не находишь?
— Ты слышишь мои мысли, — согласно кивнул я. — Только что думал об этом.
Глаза друга просияли, но тут же их заволокло дымкой.
— Бони, представляешь, каких-то лет сто назад нам не пришлось, бы проводить столь отягощающие махинации с огнём. И камины раньше применялись совсем иначе, а не так… варварски.
— Да, после потопа ничего не уцелело, но мы возрождаемся.
Я попытался представить эпоху прошлых столетий, но не смог. Голограммы, дирижабли на эфире, трамваи без проводов… Все это было до невероятия дико, невозможно.
— Возрождаемся? Нет, Бони, — Рейн горько усмехнулся, — электричество — это не то.
Он в задумчивости уставился в огонь. Я не желал поднимать тему прошлого. В душе у меня все кипело от настоящего, и ворошить давно ушедшее не представляло никакого смысла.
— Это она? Фрау Катрин?
— Где? — я проследил за взглядом друга и только тут заметил портрет посреди каминной полки. Рамка сливалась с оформлением камина, составляя с ним единое целое.
Возможно, этот монолит портрета и камина служил памятью о его жене. Она словно присутствовала рядом. Будто в подтверждении моих мыслей, языки света выхватили из темноты её глаза, нежно-голубые, строгие, в то же время изящные черты лица. Я никогда не видел новую фрау Доберман и раскаялся, что называл ее симиа. Она была прекрасна.
— Да, — подтвердил я, — это она. Ничьего другого портрета здесь быть не может.
— А от чего она умерла, Бони? Когда это случилось?
— Около полутора лет назад. Она была в числе погибших пассажиров злополучного аэростата «Скрытая крепость».
— Вот, оказывается, как… — наморщил лоб Рейн. — Смертью своей завершить начало воздухоплавания… Печально.
— Отец, говорят, ушёл вслед за ней, не выдержало сердце.
Мы никогда не обсуждали отца и тем, с ним связанных, стараясь всячески их избегать. Но так уж сложилось в этот день, время пришло. Голубые огоньки фрау Катрин загадочно поблескивали. Рейн тяжело вздохнул.
— Бони, друг, что ни говори, а я теперь полностью понимаю старшего герр Добермана, — Рейн дружески тряхнул передо мной бутылью. — Любовь, Бони, это прекрасно, а вот выполнение сухих обязательств ни к чему иному, как к мукам, не приведёт.
Я нехотя взял вино.
— Вот моя Ют, — продолжал Рейн — истинное чудо! Она отказала двум сынкам зажиточных богатеев после пары наших бесед.
— Так ты сам говорил, что она — дочь владельца пекарни. Следовательно, может позволить себе роскошь выбирать, кого заблагорассудится.
— Ох, Бони, я не так выразился. Я о том, что люди притягивают свои половины, идентифицируют друг друга, складываясь в четкий узор симметричности… Но во мне есть часть кинокефала, и в связи с этим возникает небольшое «но».
— Она не видела твоих ушей? — осклабился я.
— Нет.
Рейн грустно и слегка обиженно покачал головой, и мне стало неловко. В своей грустной злобе, я часто говорил колкости, многие из которых приходились на бедного Рейна. В последнее время мы мало виделись, и я совсем ничего не знаю про Ют.
— Нет, я не такой, чтоб скрываться от своей половины, но вот отец её нравов иных. Он примет любой выбор своей дочери, только не метисов. Так что перед нашим с Ют бракосочетанием, дабы сохранить мое происхождение в секрете, я совершу тотальное купирование, что от кинокефальных ушей моих не останется почти ничего.
«Неужели, чтоб существовать в обществе, теперь не только носят отвратительные цилиндры, но и ложатся под нож? Безумие, Рейн, какое безумие!»
Я не выдержал.
— И когда же в людях исчезнет эта предосудительность и отсылка к звериному? — по хребту прошел нервный озноб. Рука моя с размаху швырнула опустошенный сосуд навстречу полу, разметав повсюду осколки. В чувство меня привёл тихий голос Рейна.
— Никогда, Бони. И битое стекло тому не поможет.
Пар я выпустил, впустив стыд, но ненадолго. Я ещё не совсем остыл.
— А дети? Что будет, если гены проявят себя в следующем поколении?
Рейн бросил на меня преисполненный печали взгляд.
— Ты знаешь, сколько в Киммерии осталось кинокефалов?
— Снова ты разделяешь! — нервно воскликнул я. — Понятия не имею, переписью не интересовался.
— Ладно, сколько в Киммерии людей с пёсьими головами?
— Ррейн! Это уже слишком! — я приподнялся, челюсть моя непроизвольно щелкнула.
— А как мне тогда выразить? Если ты не воспринимаешь ни первое, ни второе определения! — развел тот руками. — Бони, слушай… а сколько кинокефалов осталось здесь, в родном Штрумфе?
— Рейн, что за чушь! Ну мы с тобой и…
— И?
Я лихорадочно постарался вспомнить семьи, крепко дружные с моей. В детстве их было столько… Но в юношеском возрасте отношения сошли на нет, я окончательно прекратил связь с отцом, и тогда же появилась теория Петрова.
— Кляйны, — вспомнилось, наконец, — фрау Эрна и герр Адалард?
— Они уехали лет десять назад.
— Фрау Корина?
— Она вышла замуж за человека и родила девочку, лишенную кинокефальных признаков. Как ты помнишь, фрау Корина была метисом.
— Была?
— Она умерла при родах, оставив после себя чистое человеческое дитя.
— Откуда, — рык застрял в горле, смешавшись с кашлем, — откуда тебе всё это известно?
— Я наводил справки.
— Но зачем?
— Бони, из кинокефалов в Штрумфе остался только ты.
— Что?
Мне захотелось присесть, но тут понял, что уже утопаю в кресле.
— Я не в счёт, так как не чистый кинокефал, а помесь. Тем более, скрываю своё происхождение, в документах у меня нет буквы «К». У моих детей тоже не будет этой буквы, и не потому, что они предпочтут таиться, а потому что у них не будет никаких атавизмов вообще.
— Почемухрр… с чего такая уверенность? — кашель не отпускал.
— Потому, Бони… потому, что не увлекаешься ты современной наукой — медициной.
— И что же в этой «современной» науке нового?
— Генетика.
Вот уж удивил, читывали нечто подобное.
— Да, в газетах была публикация работ некого Корр… Коррсна.
— Корренса, — поправил Рейн, — и не только. Также работы по генетике вели Де Фриз и герр Чермак. Но это не суть. Я расскажу лишь про основной принцип, касающийся видоизменений кинокефальего рода. Бони, ты имеешь понятие, что представляет собой ген?
Понятие-то я имел, да вот до подкованного языка Рейна мне было ой как не близко.
— Это хмррр… в генах заключены черты родителей, они и передаются детям.
— В какой-то степени да, если не вдаваться в дебри комбинативной изменчивости, в результате которой родительские гены перегруппировываются, и создается новый организм. Но и это не важно, а главное то, что есть рецессивные и доминантные гены. Рецессивный ген подавляется доминантным, а проявиться он может только с таким же рецессивным геном.
— И к чему это всё? — после разгрома бутылки разум мой захмелел бредовой идеей движения. Хотелось выть и хорошенько потрепать Шарорта. И Рейна заодно, шибко умничает. Я не мог уловить ход его мыслей, оттого и чесались кулаки. Странно, выпили то мы совсем немного.
— А к тому, — хладнокровно продолжал Рейн, игнорируя мое нетерпение, — что ген, несущий признаки кинокефала и является рецессивным! А ген, несущий образ человечий — доминантным.
— Ты хочешь сказать, что кинокефал состоит полностью из рецессивного гена?
— Не полностью, — Рейн страдальчески наморщил лоб, — я слишком обобщил. Бони, пойми, кинокефалы исчезают, уходят в небытие.
— Но… — моё сознание начало приходить в себя, — но целый народ не может быть так запросто стёрт!
— Ещё как может.
Тень легла на лицо Рейна, и я, словно впервые, вгляделся в него. О Христофор великий! Никогда я не отдавал себе отчёта в том, насколько черты его очеловечены! Я всегда видел в нём… кинокефала? Нет, не кинокефала, кого-то другого…
— Ты утверждаешь, что кинокефалы с людьми составляют единую разновидность, что же в таком случае огорчило тебя?
Нет, Рейн не хотел задеть меня, его и вправду интересовало моё мнение. Почуяв то, я погасил рык.
— Но, Рейн! И киммериец, и cаксон — тоже единый вид, но совсем иная нация. А кинокефалы, это как… скиф, бореец, кинокефал — это раса! Мы тоже люди! Строение тела, органов идентичное с человеческим. И то, что наша раса растворяется в других — ужасно! Мы безвозвратно теряем свою культуру. Вот почему я расстроен, Рейн!
Он придвинулся ко мне ближе.
— Наша культура стала растворяться раньше своих носителей, начиная с эпохи Возрождения, когда «люди», — Рейн образно изобразил кавычки, — осознав, что мечом стереть с лица земли кинокефалье племя невозможно, прибегли к более изощренному способу — браку.
— Свершилось заключение мира. Кинокефалы официально стали членами общества и смогли владеть землей, — вставил я, но напрасно. Рейна было не остановить, в воздухе так и витало его гневное возбуждение.
— Смогли владеть землей? Славно, раньше мы будто звери ютились в пещере! Да они просто «позволили» нам владеть собственной землей! Знаешь, как порабощаются, а затем, изничтожаются целые народы? Вера, Бони! Для того придумана вера.
— Погоди, Рейн! Куда тебя занесло…
Ушам захотелось свернуться в трубку. Слушать становилось неприятно.
— Бони, меня занесло куда надо, — горькая усмешка скользнула по губам его. — Отголоски веры, словно аппендикс, сидят сейчас во всех, даже в тех, кто её порождает. А ведь вера — это жуткий коктейль из рабского повиновения и чистого света, пропущенного сквозь омерзительную призму о сущности вещей. Вера не терпит красок восприятия, делая всех одинаковыми. И когда в Послепотопном Веке, Родрик сложил с себя полномочия, заключив мир, и перенял веру людей, вся наша культура пошла крахом.
— Но…
Я не находил, чем аргументировать возражение, и Рейн продолжал:
— Твой род, Бони, ещё век назад, до этой чёртовой эпохи, объединил свои корни, и о чудо! Пронес свой генотип сквозь века геноцида в девственном состоянии, не осквернённый мешаниной крови. Ты, Бонифац, смею сказать, почти единственный в мире и единственный в Каллиопе представитель чистого облика кинокефалов!
— Рейн, ты перебрал.
Впервые за весь диалог, в голос мой вплелись мягкие нотки. От его заявления было жутко.
— Бони, друг, я не склонен к гротеску в выражениях.
«А я имел в виду не слов, а алкоголя», — вздохнул про себя.
— Каким образом эти «люди», — я тоже показал кавычки, — узнали о беспроигрышном действии брака?
— Бони, — шумно выдохнул Рейн, — это легко прослеживается, без углублений в фамильное древо. Мои дед с бабкой имели классический кинокефальный облик, и вуаля — внук уже человек. Да то и неважно, суть не в этом.
Нет, Рейн, суть именно в мелочах, потому что цепляться за них легче, чем переваривать общий смысл. И для лучшего усваивания необходимо было вино. Очень необходимо. Но о нем напоминали только поблескивающие осколки. Осколки. Я тоже чувствовал себя таким осколком.
— Бутылки уже нет.
Я не заметил, как озвучил часть мысли вслух. Рейн тут же среагировал, реализовав на столе еще одну бутыль. Хоть истинный смысл моей мысли был иной, я не стал раскрывать её Рейну. Это также было неважным. Я сделал пару глотков, но вопрос прямо-таки закупорил моё горло.
— Рейн, ты всегда увлекался историей, так почему никогда не говорил со мной об этом?
— Вся история была к слову. Я упоминал её, чтоб донести до тебя о тебе, прости мою тавтологию. Ранее мне не случалось поднимать справки, но нынче я беспокоюсь о тебе. История же так, прелюдия. Что было, то прошло.
— Постой, чего ради твое беспокойство? Остался я «один» и что с того?
— Бони, ты, как сказать… Меняешься, и причем далеко не в лучшую сторону.
— Рейн, это уже… — шерсть на загривке поднялась ежом. Уголки губ моих непроизвольно подергивались.
— Выслушай меня, Бонифац.
Голос его, внезапно став холодным и властным, окатил, точно ледяная вода, заметно поубавив мою горячность.
— Твой образ жизни, твоя служба разрушают тебя изнутри. Невозможно не терять чистоты духа, ежедневно вкалывая на живодерне. Конечно, не своими руками, но чужими, ты изничтожаешь собственный символ — собак!
— Если они размножатся по Штрумфу… — возражение мое потонуло.
— Бони! Я не о том, что будет с погостом, а о том, что происходит с тобой! Разве подобного желал пылкий юноша, мечтавший о доме у реки и о знании всех птиц, коих бы только не услышал?
Сердце моё ёкнуло.
— Ты помнишь наши разговоры? Бредни юных излияний?
— Это не бредни Бони. Это настоящий ты. Тебя, как и твоего отца, заперли под видом «оказания чести» начальником при живодёрне. А твоему отцу было ещё хуже, ему «вверили» и сбор налогов. Что может быть губительнее труда палача и инспектора? Нет, есть существа, рождённые для данных служб, но не кинокефалы, не ты.
— А с чего ты так уверен? — тихо спросил я.
Сгущался полумрак, поленья догорали, но желания подбодрить пламя не было.
— Потому что, — в тон моему тихому голосу ответствовал Рейн, — загнанный зверь теряет рассудок, а загнанный разум деградирует в звериный. Неужели ты сам не ощущаешь, сколько в тебе животного гнева? Эта ответная реакция на окружающее раздражение, следует сменить обстановку.
Рейн подошел к камину и подкинул поленьев. Весело затрещав, огонь возвестил о начале своей трапезы. Я тоже был бы не прочь отужинать. Проведя ладонью по лицу, я нервно засмеялся.
— Я точно зверь, если помышляю о еде в такой момент.
Рейн похлопал меня по плечу.
— Не самоедствуй излишне, мой друг. И я бы не отказался сейчас от съестного. Неподалеку здесь имелся неплохой ресторанчик.
Тут Рейн хлопнул себя по лбу.
— Бони, да я забыл поделиться необычной новостью! Ты же знаешь мой интерес к характерам?
— Да, медицина, история и различные личности — твоё незыблемое хобби.
— Вот. В связи с этим и с тем, что в них я провел свое детство, я не пренебрегаю трактирами. Там можно встретить таких, повидавших жизнь, что хоть с печатной машинкой ходи, рассказы записывать.
Смех схватил меня повторно, но уже менее нервный.
— Ты нашел великолепного рассказчика?
— Лучше, я познакомился с кинокефалом.
— Вот, а заливал, что я — единственный! — пришло расслабление. Казалось, Рейн перечеркнёт всё вышесказанное положительной нотой, но, увы, нет.
— Это был бродяга. По его повествованию, он уже пять лет путешествует по Каллиопе в поисках собратьев, ища их по облику, но попадаются очеловеченные помеси, как я.
— Рейн, неважно как ты выглядишь, важно кто ты в душе, — теперь я взял образ ветра на себя, пытаясь очистить его Солнце от туч, но Рейн взмахом руки прервал мои порывы.
— Киммериец может возомнить себя айном, а галл, полюбив сарматское, быть сарматом в душе, то возможно, ведь человеческие признаки и предпочтения шибко не связаны с его морфологией. Но никогда обезьяна не будет человеком, несмотря на официальный (но совершенно безосновательный) даркизм родственности сих. Никогда человеку, ни помеси не стать кинокефалом, так как внутренние черты кинокефала непосредственно связаны с его внешностью, как бы парадоксально то не звучало.
— То есть, чем больше ты кинокефал снаружи, тем больше внутри? Какой явный бред!
Но Рейн вновь ошеломил, подкрепив свою новость.
— Попросту сказать так. Это, кстати, опыт твоего дорогого Петрова. Но почему-то эту теорию не афишируют, как предыдущую, возможно, потому что она доказывает обратное, не находишь?
— А тебе-то откуда известно? — прохрипел я.
— Бони, я же медик. Мне удалось заиметь пару связей в академических кругах. Надо же как-то быть в курсе событий.
После минутной обмены напитком, я шуточным тоном уточнил:
— Значит вы, герр Рейн, киммериец?
— Точно так, герр Бонифац, хотя я еще не лишен дара слышать.
Усмешка вновь осклабила мой рот.
— Значит, вы считаете наличие кинокефальных атрибутов даром?
— Именно так! Тем даром, который надо раскрыть. Бони, ты видишь, чуешь, осязаешь иначе. Твои рецепторы в миллиард раз тоньше человечьих. Мироощущение твоё куда более хрупкое, и оно не должно быть замкнутым в бытовой клетке. В противном случае ты переполнишься и станешь… Тебе целебно движение, тебе необходимо уехать!
Внутри нечто тоненько отзывалось на слова Рейна, но остатки моего трезвого ума саркастически восприняли его идею.
— И куда же, Рейн? Отправиться вслед за бродягой в поисках родичей?
— Нет, Бони, — задумчиво протянул Рейн. — Имя бродяги — Рут, и у него своя цель, а у тебя своя. Тебе бы следовало побывать там, откуда он прибыл. В место между Татом и Аем, там осколки сосредоточия кинокефальных общин.
«Осколок, осколки, всюду осколки». От горловых спазмов жаждалось взвыть.
— Я не рассказал Руту о тебе, но если б он узнал, то предложил бы то же самое.
— Получается, хочешь сбагрить меня в горры?
Горловые спазмы преобразовались в рычание.
— Какие глупости, Бони, одумайся! Ты так и не понял меня?
Пьянящее желание вцепиться ему в горло вдарило в голову похлеще вина. Я понял. Это было уже плохо, очень плохо. Прижав голову к коленям, я обхватил её руками, стараясь дышать ровно и глубоко. Рейн в мгновение ока оценил ситуацию и замолчал. Если б не запах, я бы подумал, что Рейн испарился, до того его присутствие сделалось неслышным. Ощутив давление лишь собственных пальцев, выпрямился.
— Прости, — выдавил я и отвернулся к огню.
Взглянуть ему в глаза после происшедшего было больно, словно меж нами отсалютовала добрая ссора. Рейн видел меня прям-таки изнутри… Неужели отец в своей породе воссоздал меня? И его заметки — чистая правда обо мне? Нет! Не желаю!
Сам не ожидая такой прыти, резво вскочил с кресла, схватил альбом и бросил его в огонь. Красные языки жадно оплели новенькую кожу, древние страницы.
— Мне противно, что отец видел во мне это… — обернулся я к Рейну. — Пусть его записи горят. А я… Ты все правильно сказал.
Рейн осмелился подойти ко мне и встать рядом. Теперь мы вместе глядели в огонь.
— Бони, а ты не заметил, что твой летописный лист был вырван и наклеен поверх портрета отца?
— Что? — слова Рейна огорошили. Уже в который раз.
— Думаю, что данную характеристику отец писал на вас обоих. Он, возможно, делал свои выводы и на основе своей селекционной работы вывел то, во что вы могли бы превратиться. Это предостережение, адресованное тебе, Бони.
Мысли витали, как мушки. Собрать их в одно целое не представлялась возможным.
— Что ж он, старый лис, ни записки, ни письма не оставил?
— Скорее всего, он подразумевал, что альбом подействует на тебя безотказно и будет красноречивее всех слов.
Я покосился на Рейна.
— А может, ни о чем он не думал.
— Может быть, — легко согласился тот, — но не сердись на отца. Отпусти к нему своё негодование, не надо.
— Ничего обещать не могу, но постараюсь.
Я обнял друга за плечи.
— Мы выхлебали всё твоё противоядие, Рейн, где там твой ресторанчик?
Рейн улыбнулся, обнял меня ответно, и вместе мы зашагали из кабинета. Пламя угасало, оставляя после своей пирушки чёрные уголья.
Прежде чем покинуть последний приют отца, я щёткой вымел с ковра острые грани своего гнева. Осколки стекла исчезали в совке, пускай и эмоции, нахлынувшие на меня в этом доме, тоже исчезнут. Далее мы с Рейном спустились с лестницы и, будучи в коридоре, уловили стук собачьих когтей. Берта с Шарортом, надеялись, что их выпустят, но мы прошли мимо. Пусть с ними возится Ребель.
На выходе из дома я приостановил Рейна. Он вопрошающе вздернул подбородок.
— Прежде чем мы выйдем отсюда, я хотел бы попросить тебя не поднимать пока тем, обговоренных в этом доме.
Рейн согласно кивнул.
— И еще, Рейн, ответь правду, — я на мгновение замялся. Только в смеси с сейчас постигнувшим меня состоянием мозг мог озариться таким вопросом.
— Испытывая злость и раздражение, я был похож на этих тварей? Не бойся отвечать, я не укушу.
— Я никогда не боялся тебя, — серьезно ответствовал Рейн, — только за тебя.
Он отворил дверь.
— Но Рейн, — запротестовал я — ты увильнул от ответа!
Закрыв дверь, Рейн прошептал, причем его шёпот я бы услышал, находясь и на втором этаже, потому, верно, я и запомнил его тихие слова неимоверно громкими.
— Эта беседа бы не состоялась, если б ты не был похож.
Других слов и не требовалось.
Глава 2
Окно моего рабочего места выходило на стену старого кирпичного дома. Не спорю, кладка была чудесной, но архитектура вблизи, без просветов и зелени, никак не подбавляла положительного настроя. Проведя несколько лет в этом кабинете, я осознал это только сейчас. Наверное, во всем Штрумфе не было более удручающего вида, нежели у меня, у начальника живодерни, жизнь которого и так по виду деятельности была не сахар. Особенно сегодня. Сегодня замучили звонки с северного округа. Там видели компанию из двух среднего размера собак, с внешностью неопределенной породы, вроде как растерзавших мусорку и даже будто бы рычавших на дворника, а на улице Бротхиндиб пёс, похожий на шнауцера, вырвал из рук ребёнка булку и скрылся в неизвестном направлении. К тому же в печи какого-то чёрта в неурочный момент кончилось топливо, хотя по подсчетам его должно было хватить ещё на неделю. Как бы не начало смердеть… Людей же катастрофически не хватало, ушли в отпуска да на больничный, приходилось выкручиваться. Но самое отвратительное, что через полтора часа некий Шлюфлер из издания «Форвертс» придёт брать у меня интервью об отце.
Я откинулся на спинку стула, вновь созерцая красные камни.
«Нет, все эти проблемы — не причина моего раздражения», — стал нашёптывать себе я, — «во всём виновато окно».
Спустя полгода, после разговора с Рейном, стал стараться подмечать источники моего гнева. И вот ещё один — окно. Правда, в основном я был бессилен. Я не мог прекратить общение с некоторыми людьми, потому что сталкивался с ними по делам службы, не мог перебраться в пригород, ибо тогда уходила бы масса времени на дорогу до работы, не мог не впускать Шлюфлера, так как это может сказаться на моем статусе, и не мог в конце концов изменить вид из окна своего кабинета!
Моя рука непроизвольно потянулась к вазочке с вяленым мясом. Она появилась здесь вместе со мной и была полна неизменно. Я жить не мог без мяса. Оторвав от ломтя значительный кусок, почувствовал облегчение: заработал желудок.
«Хорошо. Я спокоен».
Подойдя к оконному проему, приоткрыл ставень и прикрыл глаза, упоённо вслушался в осенние запахи. Пахло листвой, дождём и жареными сосисками.
«Что ж, чёрт с этой зрительной красотой, пока раздаются хорошие запахи, не всё потеряно».
Мои думы прервал мерзкий звук телефона. Да, для меня он был резок, мерзок и громок, хватило бы и сотой части его тарахтения. Стараясь хоть как-то заглушить его, я поставил телефон на полку у дверей, подальше от стола и накидывал сверху шерстяной шарф. Обстановка сделалась не намного, но лучше, благо телефон звонил не часто. Сегодня же, как назло он разошёлся во всю.
Прикрыв окно, я поспешил ответить. Звонил мой рабочий Олаф Мейер с Линденберга. Шнауцера он поймал, но тут обрисовался хозяин, требуя собаку назад. Олаф заупрямился, так как документов на собаку у хозяина не было, вышел конфуз. Сердобольные прохожие подлили масла в огонь, встав по разные стороны спорщиков, у Олафа сдали нервы, и он не преминул посоветоваться с начальством, то есть со мной, словно я тут же прилечу и урегулирую ситуацию, вот дубина! Я постарался высказать всё своему дуболому без рыков, что было весьма трудно. Мейер был новичком и, похоже, не знал о понятии инициативность. Подобные пустяки решаются не мной. Вот у отца была работа, там…
Теперь мои мысли были прерваны стуком в дверь. Я инстинктивно посмотрел на часы. «Половина пятого! Как быстро пришло время мук».
Сорвав с телефона шарф, я быстро занял рабочее место. Дверь распахнулась. На пороге стояла низенькая хлипкая фигура. От неё исходил сигаретный смрад и словоблудие. Словоблудие я научился ощущать очень чётко, оно, как и враньё (что, в принципе, одно и тоже) смердело еле уловимым тонким ароматом серы и хмеля… С таким запахом интервью обещалось быть долгим.
— Бонифац Доберман? Можно войти?
Его голос был достоин его запаха. Подавив желание прижать уши, кивнул.
— Прошу вас. Вы герр Шлюфлер из газеты Форвертс?
— Именно так, — журналист просочился в кабинет. Его взгляд, пробежавшись по моему столу, по мне, остановился на глазах и так и застыл в них, обдав ледяной непроницаемостью. Терпеть не могу, когда безотрывно сосредотачивают внимание на глазах.
— Уютный у вас кабинет, герр Бонифац, как и все в этом чудесном городе Штрумфе. Бывать здесь раньше мне не случалось, поэтому я безмерно рад, что вы любезно согласились дать интервью о выведенной вашим отцом породе — об алеманском пинчере.
«В этих приветственных словах уже столько вранья, а это только начало», — вздохнул я, покосившись на окно, да на убранство голых стен.
— Садитесь, — указал на стул напротив стола. Шлюфлер тут же, до неприличия скоро, воспользовался предложением. Движения его были изворотливы и чрезмерно суетливы. Неприятное зрелище.
— Так, что вы знаете об отцовской породе? — журналист довольно вальяжно и непринужденно, насколько позволял стул, расположился на нем.
— Прошу прощения, герр Шлюфлер, но я упоминал, что могу рассказать лишь об отце, то немногое, что я о нём знал. Об алеманском пинчере мне неизвестно ничего, кроме того, что я передал отцовских собак его другу — герру Ребелю.
— Так что же вы можете рассказать об отце? — без колебаний переключился Шлюфлер.
— Об отце я знаю мало, так как наше общение имело периодичный характер. Отец всегда был очень целеустремленным человеком, поэтому не удивительно, что он добился нужных ему результатов.
— Извините, — глаза Шлюфлера превратились в гадкие щелки, — вы хотели сказать, кинокефалом?
— Нет, — в свою очередь сощурился, — я выразился, как и хотел.
— А ваш отец тоже называл себя человеком?
— Нет, — сильно скрипнул зубами, — он именовал себя кинокефалом, чтя корни и род.
— Насколько мне известно, — Шлюфлер откинулся на спинку стула, — почитающим род противопоказаны браки, вызывающие кровосмешение, а Луис Доберман между тем был женат на Энн Элизабет Шоль, не имевшей и признаков кинокефалов.
Шерсть вздыбилась на загривке, но у меня был высокий воротник, потому эта перемена осталась незаметна.
— Знаете, дела отца — это сугубо его дела, и ни я, ни тем более вы не смеем в них углубляться! Вам надо узнать о собаках? Хорошо, я расскажу своё единственное впечатление от встречи с ними. После смерти герр Добермана я единожды был в его доме и убедился в неуправляемости этих существ. Они злы, агрессивны и готовы накинуться на любого, вошедшего в их пространство. Не знаю, зачем отец их вывел, вероятно, для охранной службы. Для чего-то иного они совершенно не пригодны.
По мере моей тирады уголки губ Шлюфлера расплывались в еле заметную улыбку, и я понял, что наговорил явно лишнего.
— Знаете, от вас, как от ближайшего родственника, как от сына герр Добермана было интересно услышать мнение об отцовской породе так значительно набирающей популярность.
— У вашей газеты и в мыслях не было бы писать о каком-то алеманском пинчере, кабы он не был популярен, — согласился я, мысленно отдаляясь от этого неприятного типа.
— Вот только не пойму, в чем его популярность.
— Ну как же, герр Бонифац! — Шлюфлер постучал ручкой по толстому блокноту. Я даже не заметил, как эти предметы очутились перед моим носом. Очень скользкий тип.
— Люди оценили этих пинчеров за их охранные способности, за элегантный внешний вид, за… послушание, — здесь Шлюфлер начал акцентировать каждое слово, словно желал выцарапать их в моем мозгу, — за строгий, но порядочный нрав, их жалуют и на служебно-розыскной работе, также содержат в домах… Странно, что вы имеете несколько иное представления о данной породе.
— Геррр Шлюфлерр… — остатки подавленного рыка проскользнули в моём обращении, — я же изъяснял вам, что отец был скуп со мной на общение и отслеживать развитие его опытов и породы в целом мне не представлялось интересным. Что своими глазами увидел, то вам и рассказал.
— Вот как…
Шлюфлер отвел наконец от меня свой взгляд, переместив его в блокнот, но облегчения я не почувствовал. Вид подрагивающей ручки раздражал не меньше, чем бесцеремонные глаза этого нюхача. Чего же он там так застрочил?
— Вы же не против? Мне необходимо делать некоторые заметки, — не отрываясь от записей, вопрошающе бросил он.
— Разумеется, нет, — подражая его душевному тону, ответил я.
— Значит, — он снова окатил меня пустотой холодных дыр, — вы знакомы с герр Ребелем?
— Да, я отдал ему собак.
— Герр Ребель говорил, что герр Доберман вёл племенную книгу породы, и что она находится у вас, это правда?
«Что за абсурд! Чёртово интервью все больше катится к допросу».
— Герр Ребель спрашивал о книге, но я ничем не смог ему помочь, так как в доме отца таковой не оказалось. Герр Ребель сам не видел её, и наличие книги было его догадкой, впоследствии мы решили, что записей о породе нет вообще. Так что герр Ребель не мог указать местонахождение книги. Вы тоже беседовали с ним?
Я впрямь был ошеломлён заявлением Ребеля. Всё, что я сказал, являлось истиной, то есть наше решение с Ребелем о неведении отцом записей. Все же Ребель не мог такое сказать, скорее всего, интервью брал подобный «чуткий» журналист.
Скрестив руки в оборонительной позе, ждал ответа на вопрос.
— Я… — на мгновение Шлюфлер смешался, но этой заминки было достаточно для проникновения в мой нос хмеля и серы, — я же говорил, что впервые в Штрумфе. С Ребелем разговаривал мой коллега.
— Вы с вашими коллегами, похоже, переговорили со всеми друзьями и родственниками отца, — я невольно ухмыльнулся. — Вашей газете совсем не оставили тем, кроме как писать о собаках?
Шлюфлер покраснел. На его шее забилась жилка, но глаза сохраняли неподвижность.
— Появление всего того нового, что символизирует достойную часть Киммерии — Алеманию, всегда будет представляться событием важным. Пусть даже то будет появление новой породы.
«Ишь как выкрутился», — я немного воодушевился, в первый раз за весь диалог, насладившись словами Шлюфлера, но ненадолго. Чуя его насквозь, понял, что речь эта состояла из изворота, без вкладывания души и веры.
«Что ж, порой и какой-нибудь „Шлюфлер“ в своем словоблудии выразит нечто достойное. Правда, абсолютно случайным образом».
— Поэтому, — продолжал журналист, — наша задача собрать воедино все составляющие детали этого символа, определить, что подвигло на его создание…
Тут Шлюфлер так внезапно перескочил с высоких речей на низменный вопрос, что я не успел верно отреагировать.
— Герр Бонифац, что у вас в вазочке, собачий корм?
— Нет, это вяленое мясо…
— Для вас?
Я осознал, как здорово мерзавец подловил меня. Сушеное мясо безукоризненно напоминало собачью еду, в какой-то степени ею оно и было. Особенно здесь, в подобной обстановке, в которой, как, видимо, представил себе этот симиа: пса, сидящего за столом, напротив которого в вазочке его корм. Как унизительно. Противно. Главное — не зарычать. Шлюфлер, словно дав пощечину, поспешил вновь нанести удар, не дожидаясь ответа.
— А знаете, может, ваш отец хотел воспроизвести родное существо, подобное себе? Он ничего не говорил вам об этом? Ах да, простите, вы же почти не общались. Знаете, найти общий язык с собакой порой легче, чем с родными детьми…
— Вон.
Я начинал задыхаться. К вони серы и хмеля, заполнившей мой кабинет, примешался запах разложения. Вдобавок, я еле сдерживал себя, но если б прорвалось, то мерзавец был бы доволен. Его веселье омрачила бы только прокусанная шея, но мне не хотелось заходить так далеко. Совсем не хотелось.
— Извините, но время наше ещё не…
— Вон! — я повысил голос. — Интервью закончено, покиньте кабинет.
Шлюфлер поднялся. Сейчас его фигура почему-то не казалась хлипкой, как в начале, он даже приосанился. В дверях Шлюфлер обернулся. Опустошенность его взгляда сменилась презрением.
— И знаете ещё что, герр Бонифац? Отцом породы считают вовсе не герр Добермана, а герр Гоеллера. Вы, скорее всего, и не слышали о нём, так как даже не удосужились разузнать, где нашел применение труд вашего отца. Хотя, признаться, ещё вопрос — является ли алеманский пинчер творением герр Добермана. Записей ведь, как вы утверждаете, не осталось. Так и канет в лету имя вашего отца, после пары газетных строк, да в лучшем случае — пары лет упоминания. А спустя десятки лет напрочь забыто будет не только имя, но и голова ваша, так как печатать такое в газетах будет некорректно… До свидания, герр Доберман, благодарю за выделенное время.
Дверь легонько затворилась. Зазвучали торопливые шаги, и каждый шаг, казалось, вытаптывал изнутри. Я был осквернен, раздавлен. Зачем? В чем был смысл появления этого важного слизня, «победителя» кустов? Его подослала газета или он сам ярый обезьяний нацист? Этот взгляд, изучающий, холодный, преисполненный презрением. За что?
Волна, обуявшая меня, вконец вышла из берегов. Я позволил ей. Пальцы сжались в кулаки, с треском вмялись в стол.
«И зачем я не вгрызся в это надменное лицо, не вырвал эти глаза вместе с поганой ухмылкой?!»
— Герр Доберман…
В кабинет заглянул Генри Шварц — мой управляющий. Его растерянность моментально сменилась отчаянной решительностью. Ему случалось видеть моё гневное возбуждение, и он знал нужную модель поведения, наименее раздражающую.
— Герр Доберман, подвезли топливо, процесс возобновился. Допустить к уничтожению отложенную партию собак?
Я расслабил пальцы, сжал кулаки вновь.
— Да, допускайте.
Дверь затворилась. Я прорычал:
— Сожгите их к чёрту.
Темень сгущалась всё гуще и гуще, с каждым днём, отнимая у светового дня заветные несколько минут. В итоге, под конец октября, я возвращался домой уже под сенью фонарей. Отдавая предпочтение своим ногам, я, по возможности, передвигался пешком, благо расстояния Штрумфа позволяли. Шёл медленнее, чем обычно, под тяжестью мыслей.
Ветер порывами баюкал верхушки деревьев, и срывавшиеся листья каруселью проносились по пустым дорогам. В подобное время года, в подобный час людей не было совершенно, машин и всадников, разумеется, тоже. Я шёл один, лишь тень скользила следом. Меря улицу шагами, прокручивал в голове прошедшие события. Нет, я не отличался излишней впечатлительностью, зная, кто чего стоит, чьё мнение более веско, чьё менее, а чьё приравнено к нулю. Тщедушную сущность Шлюфлера моё обоняние определило сразу, но было нечто такое, что всерьёз зацепило меня в его словесном шлаке. Что-то такое, что ускользало от моего понимания, приливая злость ещё сильнее. Так что остаток служебного дня прошёл для меня в этом непонимании, но стоило выйти на воздух и глотнуть борея (вернее, северо-восточного ветра), ненадолго разлилось спокойствие. Теперь я ненавидел тихо. Я не мог не испытывать ненависти к человеку, наговорившему такое. Не мог.
Улица делала долгожданный поворот, последний квартал, и до дома рукой подать, но только я начал заворачивать за угол, как что-то тёмное выскочило на меня и чуть не сбило с ног. Я успел выставить руки в стороны и сбалансировать. Тёмный предмет тем временем встал как вкопанный, видно, приходил в себя, крепко приложившись о мои колени. Вглядевшись, узнал в существе обычную собаку. Это была типичная дворняга (по роду деятельности разбираться в породах было необходимостью). Размера среднего, с длинной грубой шерстью и массивным корпусом, придающим образ мясницкой собаки. Ошейника на ней не было, но тащить её в питомник я не собирался. Как только попытался обойти её, как она тут же встрепенулась, сделала пару шагов в обратном направлении и осторожно заглянула за угол. Создалось впечатление, что за ней гнались, и чтобы проверить наличие погони, дворняга осматривала местность.
— Собаки так себя не ведут… — пробормотал я себе под нос.
Дворняга моментально обернулась ко мне, вперив свои тёмные глаза в моё нутро. Шерсть моя невольно поднялась. Я не желал, что б кто-нибудь видел, что во мне творится. Тем более собака, которая явно всё увидела и поняла. Даже от людей не случалось мне испытывать подобного понимания, а здесь от одного взгляда, полувздоха… В её глазах я словно прочёл что-то новое о себе, заключённое в очень длинные страницы. Так долго собаки не смотрят. Почуяв мои мысли (что без сомнения было таковым), дворняга отвернула голову. Повернувшись ко мне боком, она прощупала воздух, втянув в себя информационные потоки… Тут я заметил, каким неимоверным красавцем был косматый незнакомец. Под чёрной лоснящейся шерстью играли мышцы, прямой костяк и крупная грудина, с широко расставленными прямыми лапами, говорили о силе и выносливости. Он словно спустился с гор самого Тая. С гор… Моя рука нырнула за пазуху, вынимая изъятое из вазочки сушеное лакомство. Я протянул аппетитные кусочки псу, но он оставил мой жест безо всякого внимания.
— Ешь, вендиго, возьми.
Пёс перестал обнюхивать воздух и покосился на меня. Я кинул заветные кусочки к его лапам, на что он, полностью повернувшись ко мне, откровенно вперился своим взглядом. Разочарованность, печаль, усталость попеременно отразились искрами. Затем, не притронувшись к еде, пёс растворился в тёмном запределье фонарного света. Обомлевший, я так и остался стоять.
Чтоб заставить себя функционировать, прибегнул к старому приёму — попробовал разозлиться, но бесполезно! Я пытался воззвать в себе очевидность того, что эта одинокая тварь свысока отказалась от моей помощи, и вяленое мясо пропало зазря, что данное обстоятельство заслуживает по меньшей мере негодования, но… тщетно.
Впоследствии мне удалось-таки вызвать в себе злобу, и я продолжил путь, но злился я не на дворнягу. Я ненавидел героя, коего увидел в длинных страницах собачьих глаз — себя.
Глава 3
Темень расширила границы своего влияния, накрыв беспросветностью вдобавок к вечеру и утро. Солнце не пробуждало, и вставать на работу стало утомительней. Отсутствие снега радовало, но убийственная влажность портила всё. Помимо отвратительной погоды, угнетал вскрытый вчера вечером конверт. В нем Рейн приглашал меня на свадьбу, на которую я, разумеется, не пойду. Неужели Рейн запамятовал, что я выдам его? Семья его невесты ведь не знает, что он — помесь, и я своим присутствием портить празднество не собирался. Перед уходом положил конверт на обеденный стол, на видное место, чтобы не забыть вечером связаться с ним.
На улице народу пребывало достаточно, и мне без труда удалось в едином порыве приступить к своим обязанностям, слиться с толпой. Я с неудовольствием вдыхал микроскопическую влагу, ощущая, как внутри становится сыро. Сыро было под ногами, сыро было наверху — капли дрожали на не успевших опасть листьях. Сумерки постепенно рассеивались, однако мне и в потёмках была видна серая желтизна крон. Внезапно в листве промелькнуло что-то особенно жёлтое. Я замедлил шаг, пытаясь уловить, что именно это было. С ветки на ветку над моей головой пронёсся трепет.
«Ага, это птица!»
Во мне пробудился орнитолог, а угрюмое настроение начало испаряться. В нетерпении стал чаще запрокидывать голову вверх, строить догадки.
«В ноябре вряд ли это перелётная птица, скорее какая-нибудь синица».
Подрагивание веток, хлопот крыльев уводили меня вперёд, и в своем охотничьем азарте я на квартал ушёл от места своей службы. Как только, с сожалением развернувшись, направился назад, вверху раздалось задорное: «фиу-лиу-ли!»
«Возможно ли подобное?!»
Я с открытым ртом созерцал полёт золотого, словно солнце, оriolus, родичи которого уже давным-давно, ещё в августе, откочевали к югу.
«Зачем ты до сих пор здесь?»
Провёл рукой по глазам, и жёлтая птица исчезла. В подтверждение тому, что она — не наваждение, вдалеке разнеслось гортанное «гигигигиги!»
Захотелось продолжить погоню, но я заставил себя идти к приюту.
«Вестником чего явился оriolus? Неужели дальнего пути?» — копошились мысли. В фолианте «Птицы в символике и геральдике», добытой мной в далёкие юные годы, чуть не на каждой странице птицы описывались в качестве вестников предстоящей дороги, потому неудивительно, что эта мысль первой пришла мне на ум. Вспомнился разговор с Рейном в отцовском доме, его нелепые предположения относительно моего будущего и рассказы о Таемском бродяге… Отчего-то припомнилась и произошедшая месяц назад встреча с дворнягой, которая по большей части сейчас казалась видением. Штрумф был небольшой, и если в течение короткого времени собака не покинула б его, то отголоски её появления непременно дошли бы до меня. А их не поступало, никаких.
«К чему эти воспоминания?»
С досады оскалился. Проходивший мимо меня дед испуганно отшатнулся в сторону, но зрительно я этого не увидел. Только почуял.
Зайдя в холл своего здания, коротко кивнул охраннику и поднялся к себе. У дверей моего кабинета ожидал человек. Я сразу распознал в нем посланника земельного комитета. Человек посапывал от недовольства, возмущенный моей задержкой. Имея важный вид, не замечая собственного сопения, он выглядел довольно комично, и я порадовался, что эмоции мои не читаются сразу.
Отсалютовав друг другу чины, я попросил его пройти в комнату, в которой последовал поразительный диалог. На приют выделялись средства! Я озадачено воспринял эту весть, так как в связи с последними экономическими событиями, всплывала нелогичность подобных вложений… Но после того, как герр Голтраген удалился, на меня навалилась приятная волнительная тяжесть. Похожее состояние неизменно накатывало при соприкосновении с капиталом, подобно болезни — золотой лихорадке. Золото… Я блаженно зажмурился.
«Так вот вестником чего была золотая птичка — вестником денежной подачки свыше».
Я слетел со стула и бережно спрятал квитанцию в глубине ящика стола. Щёлкнул замком. Мышцы налились перетекающей формой навязанного движения. Этому синдрому ниоткуда свалившейся прибыли сложно противиться, чего я делать не стал и, заперев дверь, отправился вниз. Я спускался на первый этаж (что делал как можно реже), для оправдания своего желания деятельности. Там находились клетки, и я напрямую мог проверить работу своих подчиненных. Но по мере приближения к цели, радость моя проходила. Служащие приюта, обычно учтиво произносившие приветствие при столкновении со мной, сейчас вели себя совершенно странно. Они избегали взгляда, опускали слова, довольствуясь одними кивками, а некоторые резко изменяли направление при моём появлении! Притом это был не страх перед начальством, а какое-то… отвращение. По телу волнами пробежала дрожь. Начиная злиться, я пошёл быстрее.
Комнаты собачьего заточения, иначе — передержницы, представляли собой длинные коридоры, прижатые с боков многочисленными клетками. Картина была удручающей, и при каждом посещении я ощущал себя в роли начальника тюрьмы, соизволившего самолично полюбоваться крепостью оков. Вдобавок угнетал бешеный вой, начинающийся при каждом моём появлении. Потому, морально готовясь войти, я притормозил в дверях. Собаки шумно повизгивали и потявкивали, переговаривались люди. Трое. Со своим чертовским слухом каждый звук я слышал прекрасно, хотя и не любил оказываться в роли подслушивающего, но как только рука легла на дверную ручку, донеслось моё имя.
— Говорю же вам, это сущая правда, и статья о герр Бонифаце — не выдумка! Мой дядя работает в публикации, и информация, туда попадающая, — очень достоверная!
По нагловатому тону с хвастливыми нотами я узнал новенького — Олафа Мейера. Неужели статейка с моим участием увидела свет? Как же я опрометчиво забросил Форвертс!
— Олаф, тише! Если будешь так орать, то голос твой дойдёт до его кабинета. Знаешь, какой у него чуткий слух?
А этот свистящий шёпот принадлежал Гуго Хунду. В общем-то, исполнительный малый, правда, порой чрезмерно.
— Да вы сами рассказывали, что он сюда не ходит! — оправдываясь, воскликнул тот. — У собак слуха-то такого нет!
— А у него есть… — гнусаво возразил тихоня Йенс Вебер.
Теперь личности собеседников стали ясны.
— Так-то он — настоящий пёс! — не унимался ни на йоту тише Олаф. — Такая жуткая внешность не может не подразумевать зачатки агрессии, так и оказалось!
— Бедняга журналист… — вздохнул Гуго. — Как, наверное, сложно было общаться с ним, брать у него интервью… Ведь иной раз и на расстоянии, сообщая результаты дел, говорить с герр Доберманом очень трудно, а тут ещё и ворошить личное…
— Так дядя мне пересказывал слова-то смельчака этого, что в разговоре герр Бонифац порыкивал, а в конце беседы чуть в горло не вцепился! Хорошо ноги успел унести, а не то бы…
— Прямо какие страсти… — я уловил, как Йенс покачал головой.
— Да нет, Йенс, не страсти. Помнишь, как он раскурочил городскую будку? Это из-за того, что ему диалог пришёлся не по душе, — вставил Гуго.
— А может, правда, что всё это из-за отношений с отцом, результат детской травмы и… как там в газете было?
Щелкнула зажигалка, помимо услышанного вдарил смрад. Йенс закашлялся.
— В газете, Йенс, была представлена причина неадекватности с человеческой точки зрения, в то время, когда все очевидней! Это зверь! С человеческим телом, некоторым разумом, но зверь!
— А как он собак ненавидит! — подхватил Гуго, тоже ставший высказываться довольно громко. — Так ненавидят только совсем отдалённых или близких созданий. В данном случае, разумеется, второе…
— Возможно, вы и правы, — вдруг тихо согласился Йенс. — Возможно правы…
В процессе перемывания моих костей, собаки разразились истошным воем. Подсознательно я знал, что гомон увеличивался по мере выплеска моих негативных мыслей, но каким образом это происходило, я не вникал, унимая собственный вырывавшийся рык.
— Да заткнитесь!
Донёсся звук, ударившей ноги по железу. В след полетело чертыхание.
— Да-а, разбушевались они сегодня, — растерянно протянул Гуго. — Проклятые пустобрехи! Неужели у самих башка не болит от собственного воя?
— Разумеется, нет. Как у пустых комков мяса может что-то болеть?
Олаф хмыкнул и сплюнул.
— Зачем ты так? Собаки — живые существа всё-таки.
— Ты еще скажи, что кинокефалы тоже люди.
Презрению Олафа не было предела, такой же смрад исходил и от Гуго, а вот Йенс ещё не окончательно пропитался смрадом. Он сомневался.
— Давно доказано всеми учёными-переучёными степенями мира, что допотопное мнение о живности, созданной для… как там было? Для кристаллизации души и воплощения конечного продукта в образе человека — выдумки. Зверьё — оно и есть зверьё и стоит особняком от человека. Вот, Йенс, ты можешь представить, чтоб душа твоя влачилась в этой твари?
Характерный визг и злобное рычание говорило о том, как дворнягу немилосердно пихнули ногой.
Уши плотно прилегли к моей голове, лоб покрылся морщинами.
— Я думаю, что нет, — растеряно промямлил Йенс.
— Именно! — раздалось ободряющее хлопанье по плечу.
— Представить невозможно, как учение это находило последователей так много веков, — подал голос затихший Гуго. — Все эти странные ритуалы по определению своих воплощений… Так бредово.
— Есть мнение, что их до сих пор проводят.
— А зачем?
— Ну как зачем? Приверженцев допотопного полным-полно, сейчас это даже стало входить в моду.
— Чёрт знает что творится на свете.
На этот раз сплюнул Йенс.
— Благо люди просыпаются и что-то делают. Освещают вещи в истинном свете.
Олаф потряс чем-то в воздухе. По отчетливому запаху чернил я узнал газету. Свежий выпуск.
Такие благородные люди, как этот журналист, не боятся поднимать темы, так тщательно избегаемые. Собачья голова — не показатель инородности, а бич общества, который надо искоренять!
— Да тише ты!
Злобный шёпот Гуго заткнул развернувшуюся тираду Олафа. На мгновение установилась тишина, разрываемая только собачьими криками.
— А как же помеси? Они тоже бич?
Тихий вопрос Йенса, казалось, застал врасплох, но язвительный Олаф не заставил себя долго ждать.
— Разумеется! Представь своё чадо с собачьими ушами. Отвратно!
Плевки прозвучали одновременно. Смрад стал нестерпимым, и мне стало невыносимо тошно. Я окончательно убрал руку с дверной ручки и зашагал в обратном направлении. Волной охватившая слабость сковала ноги, и они заплетались. Я еле доковылял до своего кабинета. Закрылся на ключ. В удушающей злобе опрокинул стол, но дыхание сбилось, стало прерывистым, и слабость от ног расползалась по телу, добралась до груди. Я сполз на пол, прислонившись спиной к стене. За что? Почему всё так устроено? Зачем эти люди так говорили? Почему они снова кажутся мне ненастоящими — очередными картинками? А если они ненастоящие, то почему так больно от их слов? Что же я делаю не так? Здесь вокруг есть хоть кто-нибудь настоящий?!
Холод приятно обжигал спину, но успокоения не приносил. Каждая клетка тела дрожала, вопила, и нервная дрожь не проходила. Я никак не мог успокоиться. Со мной не случалось таких истерик никогда. Выплёскивая злость, я лишь подогревал её. Голосом разума пытался говорить с собой, но с юности, накрываемые меня волны не уходили, а полнились, скапливались глубоко внутри, чтобы в один из моментов прорваться и окончательно потопить… Не об этом ли предупреждал меня Рейн?
В очередной раз я попытался глотнуть воздуха, выровнять дыхание, но тщетно. Тело не слушалось. Мысли начинали тускнеть, а пальцы, сжимающие переносицу, стали расплываться. Удивление эхом откликнулось в моем воспалённом мозгу. Пелена перед глазами невозможна, ведь я не мог плакать.
Секунды перешли в часы, пелена рассеялась, и способность дышать возвратилась.
Сумерки окутали стены моего кабинета, а на полу передо мной раскинулся свет фонаря. Часы били семь. Никого уже не было в приюте. Только тишина, одиночество и тихое поскуливание в глубине здания.
Вместе с разумом вернулась и сила. Ноги резко вспружинили, я поднялся. Все мышцы ломило. В голове никак не укладывался тот факт, что я просидел более шести часов. Словно переместившись или отключившись. Неужели никто не заходил ко мне?
Я подскочил к двери и увидел собственноручно вставленный в замок ключ. Теперь с этим ясно. Мой кабинет может быть заперт только в одном случае — если меня нет на месте, неудивительно, что меня не хватились. Правда, я обычно предупреждал Генри о своем отсутствии, но всякое бывало.
Повернув ключ, толкнул дверь. Темень и пустота. Мысль о том, что будто я так и остался в бессознательном, печально сдавила грудь, но я сдержался. Нельзя было позволить слабости одержать верх снова. Так и недолго с ума сойти. Надо двигаться, целенаправленно продолжать движение, надо…
Скулеж становился сильней, и я непроизвольно выбрал его своей целью. Ни в коем случае нельзя было позволять себе думать, иначе всё могло повториться. Тёмный коридор, мягко скрипящие половицы, гнетуще-напряженные запахи прошедшего трудового дня и… смерти. Они будут витать здесь в воздухе и завтра, и послезавтра. Ведь всё неизбежно повторяется. Всё.
Я передвигался по лестнице, не держась за стены, прекрасно видя в темноте. Правда, слово «видеть» здесь было не совсем уместно, так как ориентировался я больше тактильно, полагаясь на слух и осязание, рассчитывая в голове каждую ступень. Чтобы собственно «видеть» мне нужно время для перестройки зрения, а пока…
Скулёж чередовался с потявкиванием. Неужели собаки шумели и ночью? Нет, скорее, они не спали, потому что чуяли меня. Вот ещё пара шагов, ладонь моя обхватила злополучную дверную ручку, которую я ранее так и не решился повернуть. Скулёж перевоплотился в отчаяние, в плач… Мне никогда не было понятно, о чём говорят собаки, но сейчас с ужасающей отчетливостью их гам складывался в слова. Прислушавшись, я обомлел. Сформировалась цель, которая спасёт. Распахнув дверь в передержницу, я принялся открывать защелки, освобождать собак. Со стороны это выглядело полным сумасшествием, но я никогда не мыслил так ясно. Вскоре вокруг меня образовалась целая свора, и я с ужасом сообразил, что они могут потеряться, разбрестись по всему зданию, но собаки отчего-то не разбредались. Они крутились вокруг, были рядом, пока я не освободил последнего заключённого. Как только щёлкнула последняя задвижка, собаки как по команде двинулись по коридору. Они шли на голос, на вой. Это стало понятно после того, как псы потоком просочились через чёрный ход здания, и я увидел его. Им был тот самый лохматый бродяга, не так давно налетевший на меня в переулке. Он стоял посреди дороги, гордо запрокинув голову, и выл. Собаки послушно приближались к нему, вставали рядом, признавая в нем вожака. Они слышали его, но я… Я нет. Вибрации воя долетали до меня, но и звуки улицы тоже. Я не был глухим.
Чёрный пес прекратил свою песню и снова, как тогда, посмотрел на меня. Его взгляд осуждающе напомнил, к кому я всё же был глух. Да, я был глух к словам своего друга. Пропустил его опасения, остался в гадюшнике и чуть не поплатился.
Чёрный пёс слегка наклонил голову и, отвернувшись, повёл свою стаю вглубь домов. Я смотрел, пока конец хвоста последней собаки не скрылся за поворотом. Пусто. Ни одного человека. Настоящие только собаки. Смешок сорвался с моих губ. Только собаки.
Развернувшись, пошёл обратно в свой кабинет — там надо было забрать вещи. Я уезжал.
Глава 4
Письмо к Рейну
Здравствуй, дорогой друг!
Мои сердечные поздравления тебе и твоей невесте! К сожалению, я всё же не смогу посетить ваше торжество. Как это не прискорбно и не комично, когда ты будешь читать эти строки, я буду далеко от Штрумфа. Только не подумай, Рейн, что меня так страшит приглашение на твою свадьбу, в результате чего я наконец решил последовать твоим советам, нет! Твоё письмо по совпадению попало в водоворот событий, впоследствии толкнувших меня на подобное резкое решение. Хотя, возможно, зрело оно давно: или со времен поступления на службу, или с наших детских приключений в лесу, или после бесед в отцовском доме — не знаю и не могу сказать точно. Но решение назрело, и мне неловко говорить, каким образом, так как я сам не могу себе этого объяснить. Думаю, в обращении к тебе в письменном виде, это будет проще…
Прошедшей ночью я совершил очень абсурдный поступок. Я выпустил всех собак из клеток… Рейн, помнишь, ты говорил мне, что я занимаюсь делом губительным для себя? Возможно, ты был прав, потому что, открыв клетки, я ощутил облегчение. Я понял, что в этом гадюшнике сам был словно в клетке, и вышедшая заметка о «Алеманском пинчере» подтвердила мои догадки. Скорее всего, ты уже прочел её, но, если нет, настоятельно прошу тебя — не читай.
Рейн, я больше не вернусь в Штрумф. Сбережений у меня достаточно, чтобы путешествовать некоторое время, а там, вероятно, и осяду где-нибудь. Буду держать тебя в курсе своих похождений и, дорогой Рейн, я тебе очень признателен и рад, что мы бережно пронесли нашу дружбу с детства до сих лет… Жаль только, что я не всегда вовремя прислушивался к тебе. До встречи!
P.S. Прости, что не попрощался лично. Всё произошло так быстро и сумбурно, что я и не успел…
Еще раз прими мои поздравления!
Твой друг Бонифац
Я оторвался от пергамента и взглянул перед собой. Стремительно мелькавшие поля вперемешку с лесными рощами расслабляли, но и мешали сосредоточиться. Хорошо, что я не глядел в окно, пока писал. Стекло поезда оказалось запылено, однако виды за ним мелькали красивые. Несмотря на приближающуюся календарную зиму, было ещё тепло. У деревьев даже виднелись не пожелтевшие листья. Удивительная аномалия.
Бережно сложив письмо пополам, убрал в конверт. Надо будет отправить, когда прибуду в Убёнахтун — погост Богемии. Правда, это будет ещё не скоро. Когда я покинул Штрумф, прошло часов десять, и до вассальной Богемии оставалось еще часов пять. Решение поехать именно в Убёнахтун было принято из-за желания побродить по близ расположенным горам — по Картарам. В горах я никогда не был, а эти горы были самыми ближайшими к Штрумфу. Правда, я мог поехать в не менее живописные места и не так далеко — на курорт гранд-отеля «Империал», про который рассказывал мне мой дядя, но он был мне не по карману.
Проносившиеся мимо поля пестрели сочной зеленью. Я почти физически ощущал её свежесть, но не мог наслаждаться ею. Мои финансы были не столь высоки, как я предполагал, и то, что я не знаю точных затрат на цели, которые не чётко сформулированы, вгоняло в тоску. Порой у меня возникали сомнения: поступаю ли я правильно? Но всякий раз, когда они одолевали, я отгонял их, стараясь любоваться видами из окна. Письмо, лежащее во внутреннем кармане пальто, грело сердце. Смысл доехать, чтоб хотя бы отправить его. Надо добраться до Убёнахтуна.
Людей в вагоне было немного. Видно, мало охотников отправиться в путь по поздней осени. Даже по такой прекрасной и теплой. Сам поезд или, если быть точнее, паровоз, был достаточно нов, но не ухожен. То тут, то там виднелись пятна на обивке, внутри подлокотников диванов скопилась пыль, а на стекла я уже сетовал. Конечно, поезд у меня не королевского класса, но билет по меньшей мере был не из дешёвых. Могли бы уж и соблюдать банальную чистоту.
— Путь идущему!
Поезд сделал остановку, запустив новую волну пассажиров. Погрузившись в думы, я и не заметил, как ко мне приблизился незнакомец.
— Простите, я вас не понимаю.
— О, вы алеманин?
Незнакомец улыбнулся. Это был мужчина моих лет — не больше тридцати пяти. В детстве мой гувернёр научил меня безошибочно определять года, по запаху желёз корней волос. Он считал, что это умение важное и не раз пригодится в жизни, однако пользу знать возраст я так ни разу и не употребил. Так себе умение, разве что обоняние тренирует.
— Да, я алеманин.
— Можно я сяду рядом с вами?
— Разумеется, располагайтесь, — кивнул я.
Кроме запаха лет, от прибывшего ощущалась некая кислинка. Очень лёгкая, почти незаметная. Незнакомец водрузил свой саквояж на полку.
— Мое имя Лукас Эдер.
— Бонифац Доберман.
— Очень приятно, — Лукас Эдер улыбнулся снова, — только северянам незнакомо приветствие южан, вы из Северной Киммерии?
— Да, вы правы.
Я кивнул и отвернулся к окну. У меня не было настроения на повседневные беседы. Лукас Эдер, похоже, хотел что-то сказать, но передумал, молча сев напротив. Его каштановые волосы были растрепаны, глаза тёмные, задумчивые пару раз вопросительно смотрели на меня, но я упорно на взгляд не отвечал.
Деление Киммерии весьма простое — север да юг, и считается, что северяне более молчаливые, чем радушно открытые южане. Забавно, как на собственном примере проявлялась данная закономерность.
За окном небо наливалось свинцовыми красками, покрывая тьмой всё по ту сторону окна. Порой мне стало казаться, что поезд несётся прямо над пропастью — из темноты в темноту. Понадобилось добрых минут десять, чтобы глаза освоились и стали различать чёткие силуэты. Мешал свет внутри вагона. Раньше, я помнил ещё в моём детстве, вместо нестерпимого электрического света популярностью пользовались масляные коптилки. Они не раздражали глаза, зато изрядно раздражали обоняние. Все времена полны изъянов. Похоже, от них никуда не деться. Словно почуяв мои мысли, Лукас Эдер неожиданно подал голос:
— Какое прекрасное чудо изобретения, верно? Не находите?
— О чём вы? — еле заметно вздрогнул. Признаться, я уже запамятовал о соседе.
— Ну как же, об электричестве, конечно, — ехидно усмехнулся Лукас Эдер. Его гримаса мне совершенно не понравилась.
— Электричество изобретено достаточно давно, и оно до того проникло в повседневный обиход, что восхищаться им уже поздно.
— Напротив, человеческая жизнь до того скоротечна, что подобные изобретения надо чтить веками. Принимая во внимание то, что десятками тысячелетий целые народы прозябали в грязи.
Лукас Эдер парировал. Видно, ему доставляло большое удовольствие молоть языком. Слух неприятно прорезал его акцент на выражении «в грязи». На память пришли дискуссии с Рейном, огромные выставочные павильоны допотопных техник и колонки в старых научных статьях.
— С чего вы взяли, что именно в грязи? Дожившие до нас величественные сооружения говорят о противоположном.
— О, вы глубоко ошибаетесь! Знаете, как строили эти сооружения? Волоком, в большое количество рук, в поту и в пыли. И знаете, чем они смазывали приставленные друг к другу камни? Раствором глины, воды и песка — грязью!
— Да, строительство — это грязная работа, — уклончиво подтвердил я, всей душой желая опровергнуть колкие слова. — Но после, когда работа завершалась, и тот или иной замок был возведён, у его обитателей начиналась поистине великолепная жизнь.
От Лукаса Эдера разило пренебрежением, что не укрылось от моего чутья.
— Вы хоть немного знакомы с историей? Насколько напыщенные павлины древности были нечистоплотны? Они строили замки ради того, чтобы до неузнаваемости их загадить, распространяя вшей, нечистоты и, соответственно, болезни.
В моей душе всколыхнулась горечь. Да, я знал, что минувшие века были жестоки и отвратительны, но я никогда не увязывал тот быт и те события с фактом нынешнего наследия. Как те дикари, эти животные могли создать великолепие, которое наблюдаем мы сейчас? Зачем быть создателем, который не ценит свое творение? Нет, руины прошлого не могли быть делом рук, описанных в летописях дикарей.
— Нет, это не так.
— В смысле? — не понял упрямец. — Может, вы приведёте доказательства?
— Создаются сообщества исследователей допотопных технологий, по всему миру организуются выставки, куда свозят уцелевшую технику, да и сам факт потопа неопровержим.
— Напротив, — Лукас Эдер поджал губы, — он стал вызывать всё больше сомнений.
Я начинал закипать.
— А как же труд Пиранези? Гравюры разрухи после катастрофы? Какие тут сомнения?
— Вот вы говорите гравюры, а с помощью чего они были сделаны? Создать в те времена такой аппарат, который запечатлел бы местность в мельчайших подробностях на пластину, невозможно. Зато изобретены фотоаппараты. Почему в те допотопные века «великих технологий», — он изобразил кавычки, — не было фотоаппаратов? Где снимки прошлого? Почему ничего не уцелело?
— Да, фотографий нет, — нехотя признал я, — но то, что это гравюры с камеры обскура, не оставляет сомнений. Не нарисовал он это, в самом деле? Это невозможно… нелогично.
— Вы опираетесь на логику?
Объект моего раздражения рассмеялся. Его смех выбивал из колеи.
— История требует неопровержимых фактов! А логикой пусть занимаются теоретики. В мире нет ничего логичного, только беспорядочный хаос, который задокументирован в летописях с печатями.
— То есть, вы утверждаете, что вся мировая история — хаос, но если этот хаос заверен печатью, то это уже не хаос, а истина?
— Я не имел в виду хаос в значении лжи, — Лукас Эдер поморщился. — Я имел в виду, что верить можно только документам.
— Но… это же неправильно!
Я потерял нить разумных доводов. Было лишь возмущённое удивление тому, как же он не понимает?
Кровь моя вскипела, в нос ударил откровенный запах чего-то прокисшего, нараставший с начала нашей беседы и ставший невыносимым под конец. Вонь закостенелого спорщика. Я вскочил.
Лукас Эдер, сбитый с толку моей резкостью, в растерянности раскрыл рот. Его словесный зуд был в самом разгаре, но я не желал ему дальше потакать. Надо было вообще не заговаривать с ним.
— Что такое?
Вместо ответа я лязгнул зубами, развернулся и двинулся вперёд по вагону. Мне надо было уйти и от дурного запаха, и от желания вцепиться в него, в этого книжного червя. Даже не в книжного, в червя документного, который не видит, не слышит и даже не пытается анализировать! Он слепо продвигает кем-то придуманные истины, потому что так надо, потому что они «заверены печатью», крыса! Может, он и в прогремевшую эволюцию даркизма верит? Она ведь тоже задокументирована….
Поезд всё не кончался. Вагон следовал один за другим, и я уже начинал сомневаться, предусмотрен ли вообще в этом поезде ресторан. Как назло, все проводники куда-то чудесным образом испарились, и спросить было некого. Однако вскоре это не понадобилось. Мой нос явственно различил запахи приготовляемых шедевров, а до ушей донесся гул голосов и звуки кухни. Нос и уши привели меня в трапезный вагон. Народу здесь, в отличие от полупустых вагонов, было достаточно. Найдя-таки отдельный столик, заказал себе бефстроганов. Вслушиваясь в равномерный стук колес и предвкушая сытную пищу, я стал обретать покой и расслабление. Раздражение от отвратительной беседы сводилось на нет. Несмотря на многолюдность, обстановка вокруг была куда более приятная, чем та, которую я наблюдал. Чистые лакированные столы (без всяких тряпиц), тёплое освещение, темень за окном и вкусный запах жареного кофе делали нахождение в поезде уютным. Добавляли уюта и пожилой джентльмен за соседним столом, читающий газету, и девочка, с любовью кормящая своих кукол из серебряной ложечки.
В дремотном ожидании я прикрыл глаза. Мысленно заглушив царящие вокруг голоса, ещё раз вслушался в стук колес. Стук смешался с биением сердца, с биением времени. Надо во что бы то ни стало сделать собственные мгновения жизни наполненными и ценными. Логичными. Внести разумность хоть в собственную жизнь. Это, пожалуй, единственное, что я могу. Но есть ли в этом смысл? О каком покое и упорядоченности может идти речь, если вокруг настоящий назойливый хаос?
Я вдруг понял, что рассуждения закостенелого спорщика — Лукаса Эдера, прочно засели в моей голове. Мне раньше не приходили мысли, что неудобства, к коим я старался приспособиться, по сути своей — хаос. Казалось, если я привыкну к той или иной обстановке, найду подход к тем или иным людям, то жизнь моя обретет упокоение, однако покой не приходил. Вместо этого надо было приспосабливаться к новым перипетиям судьбы, ибо их поток бесконечен. И в данной ситуации, уехал ли я сам или череда событий заставили меня это сделать?
Переносицу зажгло, и я инстинктивно сдавил её. Неужели даже мое тело подсказывает о неразумности моих поступков? Неужели…
Тут я натолкнулся на взгляд внимательных зелёных глаз, и причина жжения в переносице стала ясна. Девочка, сидевшая за столиком напротив, перестала кормить своих кукол и бесцеремонно разглядывала меня. Увидев, что я тоже на нее смотрю, она сползла с кресла и подошла ко мне.
— Вы так похожи на дядюшку Годимира! Почему вы так на него похожи?
Очень открытый взгляд вперемешку с запахом детской наивности смутил меня. Я раньше никогда не имел бесед с детьми и, не зная, как себя повести, вместо ответа на вопрос отчего-то ляпнул:
— Как тебя зовут?
— Анна, — с готовностью ответил ребёнок, прижимая к груди свои игрушки.
— Какое красивое имя, — пробормотал я, с надеждой всматриваясь в лица людей за противоположным столом. Мои попытки оказались небезуспешными. Леди, ведущая активную беседу с пожилой дамой, заметила отсутствие девочки и подозвала её к себе. Ребёнок нехотя пошёл обратно, а я выдохнул. Что же мне нет и минуты покоя? Притягиваю собеседников как магнит!
— Ваш заказ, сэр.
На мой стол опустилась увесистая тарелка с ароматным сочащимся блюдом. Удовлетворительно кивнув официанту, я приступил к долгожданной трапезе. Наконец я ни о чём не думал. Шум паровоза и наполняющийся желудок — вот и всё, что сейчас было нужно.
Вид за окном стремительно наливался чёрными красками, вскоре окончательно свечерело. Возвращаться в купе не было ни малейшего желания, и весь остаток пути я просидел в вагоне-ресторане. Только в десять часов вечера, когда поезд остановился в Убёнахтуне, я зашёл в купе забрать свои вещи, и, к счастью, назойливого соседа уже не было. Сойдя с паровоза с чемоданом и саквояжем, огляделся в поисках выхода с платформы. Людей было совсем немного, потому, без труда увидев ступени, я спустился к колоннам вокзала. Здесь, как и ожидалось, толпились извозчики, так что через пару мгновений я уже трясся в повозке, везущей меня на ночёвку в гостиницу. Всё, теперь я покинул родину и оказался в подневольной стране Богемии. Здесь хоть и числился официальным языком киммерийский, но, насколько я понял из ломаного разговора с возницей, в ходу преобладал богемский, и надо быть готовым к недопониманию. Завтра же я планировал найти ямщика и отправиться в Диюй, а там и до гор рукой подать.
Морозный осенний воздух расслаблял, а равномерное покачивание повозки баюкало. Редкие фонари освещали дома, мостовые, деревья — всё как в Штрумфе, словно я и не уезжал никуда. В дремотной расслабленности вспомнились глаза девочки, её вопрос про похожего на меня дядюшку. Выходит, всё-таки я не один такой. И какого чёрта Рейн нагонял на меня страху?
Колесо повозки наехало на камень, хорошенько тряхнув меня. Я непроизвольно рыкнул, встряхнувшись и мыслями. Вспомнилась заметка о пинчере, Шлюфлер, гадкие лица работников. Нет, я точно не вернусь и сомневаться в решении отъезда больше не буду. Только вперёд.
Глава 5
Казалось, из повозки извозчика, я плавно переместился в дилижанс ямщика — настолько ночь и утро пролетели быстро. Найти ямщика, едущего в Диюй, оказалось совершенно просто — он ночевал тут же, и хозяин гостиницы запросто направил меня к нему. Однако отправлялся ямщик скоро, и сказал, что письмо Рейну (которое я планировал отослать в Убёнахтуне) придётся отправить по дороге — в погосте Постант. Это меня вполне устроило, всё складывалось удачно, несмотря на то, что дилижанс был, мягко сказать, не комфортабельный, а трястись в нём придётся до раннего вечера. Делать нечего. Вперёд и только вперёд.
Откинувшись на спинку, попытался потянуться. В дилижансе места было ничтожно мало, так как основное пространство занимали ящики. Что в ящиках могла находиться лишь почта, мне казалось сомнительным, так как письма не перевозят на пассажирских местах, да и не свойственно такое количество писем для маленьких поселений, коим был Диюй. Правда, извозчик выгрузится в Постанте, раз он согласился проехать через почтовое отделение, возможно… хоть ноги вытянуть можно будет. Мой возница представлял собой до отвращения угрюмого человека лет сорока трех. От него настолько несло чесноком, что при ответах на мои вопросы было неясно, имел ли место тонкий аромат хмеля. Всё же доверия у меня к нему не было. От его движений и манеры говорить (он изъяснялся на ломанном киммерийском) волосы на моем загривке вставали дыбом, а я привык полагаться на собственные ощущения.
Дилижанс тяжело подпрыгивал на рессорах, колеса мерно хлюпали в слякоти. Здесь, в низине, снега было немного, в отличие от перевала, который мы еле перевалили. Теперь лошади набрали хороший скоростной темп, и надежда на прибытие в Постант к обеду стала очень даже реальной. После тщетных попыток вздремнуть, я попытался понаблюдать окрестные виды, но окно было настолько грязным и запотевшим, что все за ним превращалось в убогую картину. Отвернувшись от окна, поискал глазами среди ящиков хоть какую-то тряпицу, чтоб его протереть, но тут взгляд мой наткнулся на чёрное пятно на боку ящика, находящегося в тени. Вот только это была не тень. Вскарабкавшись на один из ящиков, я изогнулся и приблизился к пятну, сформировавшемуся при моем приближении в отпечаток собачьей лапы.
«Что?»
Мой нос непроизвольно собрался в гармонь.
«Откуда это? Неужели то умудрилась запачкать собака?»
Я вдохнул отпечаток, потрогал рукой. Нет, это была не грязь, пахло краской. Это была печать. Дилижанс неожиданно дёрнулся, и я кубарем слетел с ящика, стукнувшись затылком о скамью. Одновременно с этим недоразумением раздался гомон и цокот копыт всадников. Потирая ушиб, я посмотрел в окно, убедившись, что мы, наконец, прибыли в Постант. Забыв про печать, я всматривался в людей, в дома, предвкушая свободу от тесной грохочущей клетки.
Преодолев небольшой участок дороги по городу до почты, мой возница успел поцапаться со встречными пешеходами, всадниками, извозчиками, благо их было немного, но он умудрился на своем «богемском» никого не обделить скверным вниманием. Почему именно «скверным» — было ясно из эмоциональной окраски говоривших. Ругань или радость ясна на любом языке. Удаляясь от очередной перепалки, дилижанс круто завернул за угол и, пройдя пару метров, остановился возле небольшого двухэтажного здания. На нём облупившимися буквами была выведена односложная надпись, по которой без труда угадывалось серьёзное назначение.
Я вылетел из коробки на колёсах, с наслаждением вытягиваясь в полный рост. Ямщик уже осматривал лошадей, всем своим видом показывая, что вытаскивать ящики он и не собирается. Поняв, что мне придётся провести в неудобном положении время аж до вечера, я осклабился и со злостью толкнул дверь. Колокольчик, висевший над ней, жалобно звякнул. Внутри оказалось абсолютно пусто. Аккуратно запустив письмо в зев старой, но освежённой лаком почтовой тары, я собирался осмотреться, дабы прикупить ещё марок, как тут натолкнулся на удивлённый взгляд почтового служащего. Он, видимо, вынырнул из неприметной дверцы за прилавком и уставился на меня как баран, словно никак не ожидал увидеть посетителя. Чтоб разбавить неловкую ситуацию я попробовал заговорить:
— Здравствуйте, я зашёл отправить письмо.
Сделал движение рукой в сторону почтового ящика. При этом я будто вдохнул в организм почтового работника жизнь. Он резко побледнел и беззвучно выдавив: «päta psa», скрылся за той же неприметной дверцей. Теперь, как баран, замер я. Часы, висевшие у меня за спиной, гулко стучали в висках.
«Неужели он… испугался меня?»
Дверной колокольчик забренчал ещё жалобнее. Я резко повернулся, это был возница.
— Пора, герр Бонифац. Пора ехать, — прохрипел он.
— Да, хорошо, — поднял взгляд на часы: было без четверти три.
Невыносимо укачивало, от часами не меняющейся позы гудели ноги, начинающие подмерзать руки не спасали даже перчатки, я начинал закипать. Моё настроение не спасала и загадочность этих чёртовых ящиков. После того, как мы выехали из Постанта, я внимательно изучил их, попробовал даже открыть, но ничего не дало результата. Кроме древесины они не пахли НИЧЕМ. Может, внутри перевозилось нечто деревянное, что тоже было навряд ли. Я чуял лишь верхнюю оболочку, что находилось внутри, было абсолютно неясно. Это огорчало, так как обоняние в себе я оценивал превыше всех органов чувств, и не одолеть преграду из досок с гвоздями — форменное бессилие. В придачу ещё этот баран со своим «päta psa»! И холод, этот собачий холод, когда даже собаки, сверкая пятками удирают в тепло, мы тащимся, продуваемые всеми бореями в самом сердце морозного разгула.
Свет уже еле просачивался сквозь грязное стекло. Солнце заходило, выпуская на волю стужу, а я мёрз и злился. Я злился на приют, на людей, которым достаточно промыть мозги газетой, и они перевернут своё сознание и отношение, особо не заботясь о том, как обстоит дело на самом деле. Злился на неудобство, на стужу, на то, что не пью кофе в уютной квартире в Штрумфе, а трясусь в развалюхе-дилижансе неизвестно где, и неизвестно сколько часов это будет продолжаться.
Чёрная печать в виде лапы в сумерках казалась чёрной дырой. Моя голова невольно откинулась назад, прислонившись к холодному стеклу. Так или иначе я прибуду в Диюй, а там горячая еда и постель. Раздражение рассосалось при мысли о дальнейшем плане действий, злость отпустила, и я понял, как сильно устал. Прикрыв глаза, засунул окоченевшие руки под мышки и, не чувствуя боли, не чувствуя стужи, забылся неспокойным сном.
Очнулся я от тошнотворного запаха чеснока и от того, что меня с силой трясли. Открыв глаза, я дёрнул плечом, сбросив бесцеремонно сотрясающую меня руку. Рука отдернулась, и фигура отпрянула в сторону. Возможно, я слишком резко проснулся.
— Мы на месте, герр Бонифац. В Диюйе, у гостиницы, — ломано изъяснился возница и вышел.
Я потер занемевшую шею, посмотрел на часы: было десять минут восьмого. Прислушался. Тикают. Странно. По путевым сноскам расстояние от Постанта до Диюйя никак не могло быть больше трех часов ходу, тем более что кони бежали резво. Неужели, как я заснул, он вёл их под уздцы? Не нравилось мне это.
Взяв свои пожитки, я протиснулся между ящиками, без сожаления покидая тесное пространство. Единственный свет на улице источали окна приземистого каменного сооружения, даже меньше небольшого здания почты, виденного накануне. Разумеется, я не тешил себя надеждами, что в крохотном поселении будет нечто стоящее (Штрумф тоже был отнюдь не мегапогост), но до чего надо докатиться погосту, чтоб вшивую таверну гордо именовать гостиницей? Я поежился. Вши-то там наверняка имелись.
Ко мне неслышно приблизился ямщик. Я молча протянул ему вторую половину его барыша, а он, так же молча приняв её, удалился к повозке. Жуткий тип. Единственное, о чём он меня спросил ещё в начале пути, это как ко мне обращаться, и бывал ли я в Диюйе до этого. Я же, в свою очередь, даже имени его не узнал. Впрочем, не хотелось, чтоб он лишний раз исторгал свои ароматы. Но теперь это было неважным, дилижанс с цокотом, переваливаясь с боку на бок, растворился во мраке. А меня ожидало тепло. Взобравшись по ступеням, я толкнул дверь таверны-гостиницы. С порога меня обдало жареным, пареным, духотой, потом, чесноком и хмелем. Причем хмель был не знаком лжи, а чисто пивным, отчего перед глазами у меня слегка поплыло, но собравшись, я присмотрелся к обстановке, в которую попал. Отнюдь немаленькое пространство первого этажа занимали столы и столики, почти все места были заняты посетителями, которые, между прочим, не обратили на меня никакого внимания, что настораживало ещё больше. Я не ощутил на себе ни единого взгляда, словно это поселение на краю мира каждый день посещают толпы туристов, и здешние жители берегли глаза от излишних мозолей. Правда, не совсем. Вот один отделился от толпы, направился ко мне, видно, хозяин…
— Аhoj! Chceli by ste zostať s nami?
Красная физиономия расплылась в приветственной улыбке, а я едва подавил позывы рвоты. О святой Христофор! За что мне эта чесночная кара?
— Извините, я — киммериец, не понимаю вас, — только и смог выдавить из себя.
— О! Киммерийцы в наших краях не редкость! Здравствуйте, меня зовут Петере, я — управляющий. Желаете остановиться у нас?
— Да, желаю, — я задержал дыхание, но чесночный дух выедал глаза. — Сколько стоит одна ночь?
— Десять крон и самая шикарная комната к вашим услугам.
Десять крон! Это было немыслимо для меня.
— Простите, но есть более экономный вариант?
Я не сумел подавить недовольство в голосе, но улыбка не сошла с щекастого лица Петере.
— Комната за две кроны вас устроит?
— Да, — выдохнул я, — вполне.
— Я вас провожу в вашу комнату, позвольте…
Его рука потянулась к моей поклаже. Я еле успел завести руку с чемоданом назад, и его пальцы пронеслись в сантиметре от моих. У этого человека была почти кошачья реакция.
— Вы очень любезны, но не стоит, я сам.
— Что ж, — продолжал улыбаться Петере, — следуйте за мной.
Пробираясь сквозь кучу столиков вглубь комнаты, где находилась лестница на второй этаж, я постиг истинный масштаб помещения. Гостиница была вытянута в длину, во внутрь двора, а с улицы казалась небольшим квадратом.
«Все-таки побольше, чем почта в Постанте», — усмехнулся я, затаскивая по лестнице свою ношу. Мой желудок умирал в коликах, но нос успокаивал и молил продержаться ещё немного. Мясные запахи были многообещающими.
— Вот ваша комната, герр… Простите, вы не представились.
— Герр Бонифац.
— Герр Бонифац, — бодро подхватил краснощёкий. — Вот ваш ключ. Располагайтесь и спускайтесь на ужин. Сегодня наш повар подает углярки и ростбиф с кнедликами, вставать из-за стола не захотите, как вкусно!
Он заговорщицки подмигнул, и я вымученно кивнул в ответ. Дверь за ним затворилась. Глаза у этого Петере были неживые, выдавая в нём набор автоматических действий, которые он повторяет регулярно и от которых, верно, уже устал. Устал от неестественного притока народа? Неужели, это всё местные? Ну, скорее, здесь и вправду хорошо готовят углярки всякие, отчего бы не быть народу?
Пока в моей голове прокручивались рваные мысли, я сам, словно кукла на ниточках, не вникая в свои действия, переодевался в чистое, сбрасывая скорлупу дорожных странствий. Тепло. Мои руки приникли к печной трубе, пронзающей насквозь мою маленькую комнату.
— Цивилизация.
Просмаковав слово, подобное куриному филе, я запер комнату и торопливо спустился вниз.
Отыскать пустое место оказалось нелёгким, но возможным. Маленький двухместный столик у окна — то что надо для моей истосковавшейся по пище плоти. Стоило только взгромоздиться на стул, как ко мне подлетела пышная фройлен, (хотя почему фройлен? Может, и фрау) и, мило улыбнувшись, поставила передо мной тарелку с чем-то аппетитно-волнующим.
— Извините, — удивленно вскинул голову, — я ещё ничего не заказывал, вы, вероятно, ошиблись.
Девица непонимающе похлопала ресницами. Я попытался всучить ей тарелку обратно, на что она, замахав руками, сказала:
— Nie nie! To vy. To je od Peter.
— Это мне от Петере? — услышал я знакомое имя.
— Peter, ano, ano! — девица просияла.
— Хорошо, — я кивнул в знак того, что понял, — спасибо.
Девица ещё раз улыбнулась и, шурша подолом цветастого платья, похожего на киммерийский дирндль, поспешила далее. Я уставился в тарелку, в которой будто родные алеманские колбаски, возлежали колбаски богемские, а другую половину тарелки делила жаренная картошка с клубившимися над нею ароматами сметаны и сала. По запаху проверив угощение на инородные ингредиенты и убедившись, что еда чиста, я, забыв обо всем, приступил к поглощению.
Как неумолимо играет свою роль в наших действиях голод. Он подчиняет себе наши чувства, не даёт сосредоточиться, терзает, но утолив его, мы вязнем еще больше, попадая под цепкое влияние опьяняющей нас сытости… Силён тот, чьи помыслы не зависят от пищи.
Оторвавшись от тарелки, отложил нож. Надо сегодня же переговорить с шибко доброжелательным Петере и узнать про проводника до Картар. Несмотря на вкусное угощение, чуялось неестественность гостеприимства, потому оставаться здесь хотелось как можно меньше.
Я оглядел забитые посетителями столы. Народ совершенно разношёрстный, одетый в основном в рабочие крестьянские рубахи. Верхние тулупы или жупаны были небрежно накинуты на спинки стульев. Попадались и пришлые — их спинки пустовали и одеты они были менее колоритно. Среди толпы я выцепил взглядом несколько людей-кинокефалов. Они сидели порознь, бойко разглагольствуя каждый в людских компаниях, что показывало отсутствие предрассудков в этих краях. В душе у меня потеплело. Появилось дикое желание глотнуть горячительного. И тут передо мной возник стеклянный пузатый графин. Стекло было тёмное, и цвет жидкости было не разобрать, но из горлышка тянулся стойкий дурман разнотравья. Я поднял взгляд выше. Графин держал пожилой джентльмен, одетый в потрепанную, хотя и не утратившую вида визитку, да в мешковатые чёрно-полосатые брюки. Назвать его не иначе как «джентльмен» — я не смог, так, как и внешность, и приятный пергаментный запах создавали образ тактичного, доброжелательного человека… кинокефала-человека.
— Прошу простить меня за беспокойство, но вы не против?
Он говорил на чистом киммерийском с каким-то неуловимым выговором.
— Да, разумеется, присаживайтесь, будьте любезны.
Я чуть не раскланялся с ним. Какое сильное влияние люди испытывают друг на друга, отражая собеседника подобно зеркалам. Я терпеть не мог избытка учтивости в речевых оборотах, но сейчас они сами собой срывались с языка.
Джентльмен сел, водрузил бутыль на стол, а другой рукой поставил две маленьких рюмки. Начал разливать, сопровождая действо добродушной речью.
— Прошу простить, сразу не представился. Имя моё Абель Тот.
Он закончил разливать и протянул мне руку. Рукопожатие как символ проявления высшего уважение и доверия, было явлением редким и совершалось только между очень близкими друзьями. Этот жест со стороны незнакомца обескуражил, тем не менее было в этом джентльмене нечто такое, что заставило меня с удовольствием пожать ему руку.
— Бонифац Доберман.
Глаза Абель Тота были небольшие, добрые, скрытые за толстым стеклом очков. Нехорошо уподоблять облик людей собакам, но я столько насмотрелся пёсьих морд, что ассоциации приходили ко мне мгновенно и сами. Так, лицо Абеля Тота до жути походило на уставшего бладхаунда. Морщины, спущенные уши, даже цвет почти такой же, песочный, правда, ближе к тёмно-коричневому… Сущим проклятьем было знать собачьи породы.
— Так, вы не возражаете угоститься, герр Доберман?
— Почту за честь, — улыбнулся я, беря рюмку.
— За наше знакомство? — предложил Абель Тот.
— За знакомство, — согласился я.
Чокнувшись, выпили. Трава вперемешку с мёдом заполнила рот, горячим потекло по гортани. Вкус мне не понравился, он был до специфичности ядрёным.
— Это местный ликер, называется демановка, — пояснил джентльмен, поправляя очки. — Целебный напиток, с многовековой историей. Правда, записей о нём никаких не осталось, но это и неважно, на деле она никогда не остается.
— Вы про записи? — не понял я.
— Про историю, — грустно улыбнулся герр Тот. — Истинная история стирается, и нам остаются лишь сказки. Но тем и интересней, ведь в таком случае имеет место всё, что угодно.
Повертев рюмку, я опустил её на стол.
— В чём-то вы правы. Но существуют же книги, манускрипты с подтверждённой древностью…
Я осёкся, вспомнив малоприятную беседу в поезде. Тот спорщик тоже утверждал подобное.
— Да, но штука в том, что и толковать их можно по-разному, — Абель Тот не заметил моей заминки. — А что имел в виду начертавший их человек, остается только за гранью понимания этого конкретного человека. Возможно, он по-своему истолковал ход событий, а на деле всё происходило совершенно иначе. Но я прошу простить мои навязчивые высказывания. Они совсем здесь ни к чему.
Герр Тот выдернул себя из собственных размышлений. Видно было, как ему неловко.
— Что вы, ваши высказывания, право, занятны, — возразил я. — Мне доводилось иметь подобные беседы с другом, и он утверждал то же самое, что и вы.
— Вот как… — герр Тот расслабился. — Вы с другом увлекаетесь историей?
— Скорее, больше мой друг ею интересуется. Меня как раз занимают, как вы выразились, «сказки» — мифы и легенды.
— О, так это же самое то, что вероятней всего и происходило! — оживился герр Тот. — Не затруднит ли вас рассказать о них? Мне интересно ваше мнение.
Теперь, в свою очередь, смутился я.
— Знаете, раньше меня очень занимали похождения Искандера Двурогого. Его деяния настолько окутаны тайной, что не разобрать, где правда, а где вымысел.
— Искандер… — нараспев протянул герр Тот. Первый царь, в воинских рядах которого появились кинокефалы, первый эллин, нога которого ступила на загадочные Солатча.
— Да, меня тогда тоже заинтересовал союз эллинов с жителями Гедросии, — во мне пронеслось ликование, что я не совсем позабыл излюбленную тему юности. Правда, какую местность имел в виду герр Тот под словом «Солатча», я не понял.
— Да что вы говорите! Какая Гедросия? — пылко удивился мой собеседник. — Это же пустыня! Кинокефалы никогда не были бедуинами. Вы же понимаете, нам с нашими органами чувств просто не выжить в жёстком засушливом климате.
— Но это же было…
Договаривать «в энциклопедии» я не стал, сконфужено вспомнив о начале беседы. Абель Тот, глядя на меня, покачал головой.
— Вы хотели сказать это было в историческом справочнике? Да, официально так и считают, что кинокефалы вступили в ряды гетайров, то бишь конницы Искандера в Гедросии. Хорошо, пусть эти кинокефалы проживали не в самой Гедросии, но почему же в округе её не обнаружено ни одного следа кинокефальной культуры? Причем отсутствие там кинокефальных общин официально подтверждено. А «менять» на бумаге уклад жизни народа и приписывать ему климат, к которому он не приспособлен, это, значит, логично?
Я вспомнил, как Рейн, ещё учась на медицинском, делился знаниями о принципиальном различии в строении людей-кинокефалов и людей. И что-то то ли в носовой полости, то ли даже в отделе мозга у людей-кинокефалов имеется, и это «что-то» препятствует нашему функционированию в засушливых условиях, а при длительном пребывании в таковых — приводит к летальному исходу. Тогда я не воспринял информацию Рейна, полагая, что в пустыне любой человек выживет с трудом. И без разницы, человек ли это или кинокефал-человек. Но теперь… почему я не приложил эту информацию, когда читал о путешествии Искандера в Гедросии? Почему слепо поверил книгам? Почему мы сомневаемся в людях, но при этом слепо верим записям? Они ведь написаны всё теми же людьми…
Я перевёл задумчивый взгляд от узорной скатерти на Абель Тота.
— Так, откуда, полагаете, взялись кинокефалы-гетайры?
Глаза герр Тота заблестели, а уши в волнении привстали.
— Я полагаю, это были алланиты, жители северной Солотчи.
— Так что вы подразумеваете под «Солотчой»? Это в Парсе? — не выдержал я.
— Нет, это старое название гор за морем Смород, там, где был прикован титан, помните миф?
Миф я не помнил, зато на ум пришёл образ лестницы в небо, мол, горы так высоки, что с них по лестнице можно добраться до небес. Почему-то такая ассоциация возникла у меня с этими горами.
— Я помню о горах Кох- Каф за Смородом, но с чего вы это взяли? И с чего вы взяли, что Искандер там бывал?
— А вот тут самое интересное! — усмехнулся герр Тот, снова поправляя съехавшие очки. — Здесь заключена самая мифическая часть похода великого полководца, в которую книжные историки не верят, но которая по логике вещей, несомненно, происходила. Более того, оно было целью похода — путешествие к Арте!
Я забарабанил пальцами по столу, отвлекая от произведенного мной глубокого вдоха, но вранья в виде хмеля и серы не ощущалось. Старик действительно верил в бредятину. Допускать существование Арты немыслимо даже для обывателей, что уж говорить о научных кругах.
— Герр Доберман, что вы! Зачем мне обманывать вас?
От Абеля Тота не укрылось моё недвусмысленное движение, и я пожалел о нём. Это было в высшей степени бестактно.
— Герр Доберман, — с добродушием, без обиды продолжал тот, — я вправду держал в руках записи Трисмегиста о походах своего воспитанника, и знаете, да, я не верю бумаге, но доверяю своему носу!
Герр Тот щелкнул пальцем по своей переносице, и его привставшие уши, словно по команде, опустились. Это выглядело до того забавным, что я чуть не выпустил нить беседы, так старательно сплетённой моим собеседником. Но опомнившись, я запоздало приподнял брови.
— Вам удалось прочесть такой древний артефакт, как записи великого мыслителя?
— Именно! И я прошу, не спрашивайте какими путями мне удалось добраться до этих записей, я стремился к ним всю жизнь…
Герр Тот достал платок и промокнул им вспотевший нос. Затем, убрав платок, ошеломил меня вопросом:
— Вы знаете, как пахнут века?
В голове всплыла летопись. В старом переплете, с дубовыми, но нежными, как крылья бабочки, страницами. И аромат свечей, еле уловимый запах пыли, причём непростой пыли. Запах источали все пылинки, передавая каждая своё время, когда она была ветром до того, как осесть и уснуть. Эти пылинки ощущались на вещах, возрастом не менее в сотню лет, и с годами концентрация их росла. Летопись была буквально пропитана пылью, будто состояла из неё, и я с трудом мог вообразить, какой же запах могли источать записи на сотни веков ранее. Записи Трисмегиста.
— Мне доводилось сталкиваться с древностью… — глухо сказал я, постукивая себя кулаком по груди. Отчего-то сильно запершило в горле.
Абель Тот позвал официантку, и та, выслушав его торопливую речь, метнулась обратно, чтоб через мгновенье возвратиться со стаканом приятно свежей воды. В порыве приступов кашля я уловил, что просьба, высказанная герр Тотом, была произнесена на местном языке и звучала чисто, словно язык этот был ему родной. Это вызвало во мне отторжение. Хоть Абель Тот и произвёл на меня впечатления очень близкого человека, но на деле он был чужак. Зачем он говорит со мной так открыто? Зачем подсел ко мне? И что ему, в конце концов, от меня надо?
Благодарно кивнув, я принял стакан из рук девицы и залпом опустошил его. Спазмы прекратились.
— Вам лучше? — герр Тот участливо заглянул мне в лицо.
— Да, намного, благодарю.
Я поставил стакан на стол, и вновь бессознательно моё внимание привлек узор. Он троился, переплетался, занимая всю середину стола, ярким пятном выделяясь на белоснежной скатерти. Но я отвлекся. Надо было сворачивать мутную беседу.
— Хорошо, герр Тот, значит, Искандер все-таки побывал в… Арте?
— Дело в том, — Абель Тот, в который раз поправил, съехавшие очки. Этот жест начал меня порядком утомлять, — что в самом описании похода проскальзывают такие детали, как: снега, ветер, мороз, явно нехарактерные для жаркого климата Бхарата. Вдобавок столпы Искандера на картах, в месте изначального пути к Арте — на северной Солотче, ныне — Кох-Кафе. Не с пустого же места браться таким сооружениям? Это нечто вроде отправной точки, и там же войско пополнилось алланитами — нашими родичами — кинокефалами.
— Да, я читал про миф, от которого и камня на камне не осталось.
Вспомнилась засмотренная до дыр копия старой карты с таинственным Colomne Iskander. Тогда я действительно верил в их существование и игнорировал данные о тотальном разрушении или вовсе не существовании этих столпов. Хотел верить.
— Да, от них не осталось даже обломков… — посетовал герр Тот, — но тем не менее это самое разумное начало похода великого царя! И вы знали, что с Бхарата Искандер Двурогий привёз алмазы? И не только алмазы, но и знания по их обработке? Но какие в Бхарате алмазы! Добыть их можно только севернее Кох-Кафа, а там… Одному Дэву известно, что там. Так что да, я думаю, Искандер побывал в Арте.
Абель Тот взялся за горлышко демановки, и я решился задать один из мучивших меня вопросов:
— Знаете, когда мы перешли на разговор об Искандере, то угодили в тему вашего исследования?
— Неет, — герр Тот улыбнулся, — мы с таким же успехом могли поговорить о Карле Великом, о шумерском Гильгамеше, о богине Эмма Ван и о бхаратском Тсоона. Я заведовал кафедрой в историческом университете в Одоре, занимаясь разносторонним изучением.
Только тут я распознал своеобразные нотки выговора у Абель Тота. Ну разумеется, Одор — дальний Киммерский юг.
— Что же привело вас сюда?
Герр Тот на мгновенье замешкался. Обхватил узловатыми пальцами наполненную рюмку.
— Мне понадобились годы для понимания того, что истинная история происходит у нас под носом, а прошедшее — не более как занимательные сказки. Несмотря на это, без сказок мы попросту не вырастем, они тоже нам нужны, но жить ими не надо.
Абель Тот вздохнул, и его очки вновь покатились к носу, но он не стал их поправлять.
— И в один прекрасный день я бросил корпеть над докторской и отправился вживую знакомиться с тем, что мне так близко — с полузабытой культурой кинокефалов. В Одоре я увидел не так много, как предполагал, но мне повезло, что моя матушка родом отсюда. Она передала мне язык этих мест с коим я могу прочувствовать здешние, наиболее сохранившиеся обычаи народа. Кинокефального народа.
Он поднял рюмку.
— Что ж, каждый народ индивидуален и неповторим, но все мы — люди, едины, — подытожил я, подводя свою рюмку к его.
— Вы сторонник единой нации? — при этих словах герр Тот как-то по-отечески, с сожалением посмотрел на меня.
— Да, я павлист.
Я ответил грубо, с напором, намереваясь парировать нападки на своё убеждение, но их не последовало. Чтоб смягчить ответ, добавил:
— Я не приверженец чёткой павлистической структуры. Конечно, традиции и уклад, свойственные тем или иным общностям, должны сохраняться, но в то же время без уклона в национализм.
Морщинки печали на переносице Абель Тота разгладились. Его уши снова приподнялись.
— У вас очень хорошая позиция. Наш мир был бы добрее с личностями такой позиции, — с этими словами он стукнул борт своей стопки о борт моей. — За мир!
— За сказки! — в тон отозвался я.
Герр Тот, обрадованный моим тостом, зажмурился, а я был польщён неожиданной похвалой. Довольные друг другом, мы опрокинули стопки. Тепло, разлившееся вторично, заполнило не утомлением, но бодростью. Я по-новому взглянул на помещение, представляя перед внутренним взором длинную вереницу воинов, чёткими шеренгами преодолевающих горный перевал. Далеко вперед, разведывая дорогу, будто слитые со своими конями (или, может, машинами) в единое целое, уносились разведчики… это были… как же их… алланиты.
— Герр Доберман, я вам благодарен за приятную беседу, освежившую в моей памяти сказку о великом полководце.
Я улыбнулся. Сказки… похоже, я скоро сам начну называть прошедшее ничем иным, как сказками.
— И я хочу вам признаться в том, что сподвигло меня нарушить ваше уединение своим присутствием. Я, знаете… — он подался вперед, перейдя на шепот. — Вы только не держите обиду… вы напомнили мне бога…
Мои уши из расслабленного положения перешли в удивленную стойку.
— Я имею в виду Эгиптоского бога. Бога Анубиса.
— Герр Тот…
Я не смог сдержать порывистых смешков. Теперь этот человек был отрадно для меня понятен. Историк до мозга костей! Не типичный, но все-таки историк. Поехал за мечтой, сорвался с места, и это (если меня не подводит чутье) в шестьдесят пять лет? С годами намного сложней менять закоренелый образ жизни, а тут, без двух дней доктор наук, бросает всё и срывается в глушь, немыслимо! Надо иметь поистине мечту и тягу к странствиям. Но, позвольте, я ведь тоже здесь? И у меня есть цель, только вот какая?
С усилием перевёл свои мысленные стрелки с себя обратно на Абель Тота. Теперь я глядел на него тепло, без опаски.
— Я столько наговорил, но так и не полюбопытствовал, что вас-то привело на край Богемии?
Абель Тот потянулся к демановке, с любопытством взглянув на меня поверх своих роговых очков.
— Я прибыл сюда, в Диюй, прогуляться по Картарским горам.
— В Диюй? — рука герр Тота дрогнула, и напиток прилично пролился на скатерть, расплываясь по ней тёмным пятном.
— Но герр Доберман! Вы немного дальше Диюйя, вы в Асфоделе!
— Что?
В голове всплыли подозрительные события дня: и чудом подвернувшийся возница, и подобострастная учтивость Петере, и ужас в глазах почтовика в Постанте… и что же он сказал?
— Возможно, ваш ямщик не понял вас, такое бывает сплошь и рядом, вы не огор…
Добрый Абель Тот пытался подбодрить меня, но я бесцеремонно перебил его.
— Герр Тот вы можете перевести слова? Как же это… päta psa. Что это значит?
Он в недоумении уставился на меня.
— Это пята собаки, отпечаток лапы.
— Отпечаток лапы…
Я опустил взгляд на стол и чуть не подпрыгнул от увиденного, шерсть на загривке вздыбилась. И как я не заметил раньше?! На скатерти переплетения сложного узора складывались во всё тот же гигантский отпечаток лапы! Пролитая герр Тотом демановка сделала узор чётче, и отпечаток стал более видным, наглядным, угрожающим…
— Что с вами?
Абель Тот обеспокоенно глядел на меня, а я пытался успокоиться. От него исходило лишь волнение, значит, герр Тот не в курсе. Его тоже заманили сюда. Я огляделся одними глазами. Гомон и суета были по-прежнему, но теперь я прочувствовал царивший над всем этим запах. Запах чеснока. Чеснок! Ну конечно! Чеснок перекрывает хмель и серу, перебивает вранье. Вот я дубина! Единственные, кто не источали чеснок в этом лживом заведении, были мы с Абель Тотом.
— Герр Тот, — голос мой предательски подрагивал, — вам сказали, что здесь сосредоточие кинокефальных общин, и поэтому вы здесь?
— Да, мне сказали об этом в Люге, — Абель Тот нервно поправил очки, — когда я уже собирался обратно в Одор. Знаете, я долго не мог отыскать сказителей, и тут в последний момент выясняется, что здесь, в Асфоделе, живет один. Я сдал билеты на поезд, а мой спаситель, рассказавший мне о сказителе, был до того любезен, что лично отвёз меня на своем авто, представляете?
Тон Абель Тота был посредственный, чего нельзя было сказать о его виде. До него тоже дошло понимание того, что события редко складываются так гладко.
— Герр Тот, вас привезли сегодня? — Абель Тот только кивнул. — Хорошо, думаю, нам стоит…
Тут я ощутил зуд в переносице и, словно обжёгшись, повернулся на его источник. На меня в упор смотрели колкие глаза молчаливого ямщика. Он стоял у стойки в дальнем конце зала и без отрыва прожигал меня. Я не отвёл взгляда, стараясь испепелить его ответно. Рука возницы со стаканом потянулась к губам, замерев на полпути. В его глазах я прочёл, что он понял, что понял я, и медленно, поставив стакан, его фигура стала ретироваться к выходу. Вскочив, я, как заколдованный, последовал за ним.
— Герр Доберман, вы куда? Подождите!
— Прошу, не ходить за мной, герр Тот, — бросил я и, пробравшись к выходу, выскочил за дверь.
На улице был глубокий предночной вечер, под козырьком светился болтавшийся от ветра фонарь. Но темнота была мне нипочём. Сосредоточившись, я прекрасно увидел силуэт, удалявшийся во мраке. Кричать мне показалось бесполезным, легче догнать и выяснить. Выяснить, на кой чёрт сюда завозят людей.
Как только я перешёл на бег, то с такой же скоростью возница рванул от меня. Но нет, ты от меня не уйдешь! Не может быть, что б кто-то бегал быстрее!
На мне была лишь лёгкая рубашка, но кровь забилась в жилах, и, разгорячившись, я перестал ощущать холод зимнего ветра.
Вдруг возница резко скрылся между двумя домами, а я, разогнавшись, пролетел мимо.
— Он завернул туда!
Развернувшись, я увидел неугомонного профессора, бежавшего всё это время следом. Опершись руками о колени, он старался привести в норму свое отяжелевшее дыхание. В отличие от меня, он успел накинуть верхнюю одежду, и полы его пальто нервно трепыхались на ветру.
Заглянув в проход, куда нырнул возница, я убедился в отсутствии тупика. Смысла догонять не было. С умением бегать резвее, чем собственный дилижанс, он вполне мог быть уже в Диюйе.
Я повернулся к историку и с ужасом увидел, как его голову поглотил мешок. Тут же чьи-то руки накинули мешок на меня, но я сумел увернуться, и мешок заграбастал воздух. Я схватил за горло, стоявшего сзади меня, и хорошенько приложил его затылком к стене. Его руки обмякли, выпустили смердящую тряпку. Разжав пальцы, я бросился к Тоту. Его уже бездыханное тело волочили по земле. Коротко рыкнув, я подскочил к бандиту и с размаха заехал ему в челюсть. Тот взвыл, но Абеля не выпустил. К нему подскочил второй, третий, и оба они кинулись на меня. В руках их были дубинки, лица скрыты капюшонами, и они… не пахли! Отступив от них, я уже нацелился вырубить правого и прорваться к Тоту, как тонкий свист прорезал слух, обдав уши ветром, а затылок резкой болью. В глазах заплавали круги, превращая серую очерченную тьму, одобрительные возгласы «dobra praca Petera!», ноги, руки — всего меня в непроницаемый мрак.
Глава 6
Чернота вокруг была кромешной. Она обволакивала не только снаружи, но и пронзала изнутри. Я барахтался, стараясь выбраться из неё, хоть и не чувствовал своих конечностей. Я барахтался сознанием, пока страшная дума не пронзила меня, и я не оставил бесполезные попытки выбраться.
«А может, я уже сам стал частью окружающего мрака?»
Эта мысль была настолько невыносимой, что я принялся прорываться сквозь тьму с новой силой, пытаясь прочувствовать хоть что-то, помимо сгустка мысленных переплетений. Наконец веки мои дрогнули, и я с трудом приоткрыл глаза, перед которыми предстала очередная тьма. Но чернота эта являлась во много раз менее мучительной, чем предыдущая, так как она не могла поглотить меня, а была вызвана мешком, до сих пор надетым на мою голову. Нос мой был переполнен затхлостью мешковины, и я почти задыхался, но то оказалось малой мукой. Придя в себя, я ощутил, как жар жгучей болью разрывает затылок.
Я лежал на боку, и пульсация крови от затылка к вискам с каждым ударом сердца становилась острее. Я попробовал привстать, но не смог. Руки и ноги были стянуты ремнями настолько, что функционировать ими стало невозможно. Стиснув зубы, я перевернулся на живот. Давление на виски прекратилось, дав минимум облегчения для дальнейшей возможности соображать, чтобы восстановить картину произошедших событий. Значит, я погнался за извозчиком, для того, чтоб узнать, с какой целью он привёз меня сюда. Затем на меня напали… на меня и на профессора! Возможно, он где-то рядом, надо позвать его.
— Профессор, вы здесь? — моя нижняя губа была разбита, и я с трудом разлепил спёкшийся кровью рот.
— Профессор, отзовитесь!
Ответом мне стала тишина, если не считать оживлённых звуков бурной деятельности. Напрягшись, игнорируя оглушающую боль, я прислушался. Звуки напоминали шум развернувшегося лагеря и доходили до моих ушей, как из бочки. Из этого следовал вывод, что я находился в помещении, а шум исходил с улицы. При этом холод не ощущался совершенно, слава Христофору. Я был в помещении совсем один, в непосредственной близости не доносилось даже сопения. Я прикрыл глаза. Боль была настолько нестерпимой, что захотелось провалиться во тьму снова. В опустошающем мраке хоть не было боли. Но… что это?
Тихий полувздох-полустон вывел меня из пагубного оцепенения. Я приподнял голову, насколько то оказалось возможным.
— Это вы, профессор?
Стон стал отчётливей, переформировываясь в слова: — Да, это я… как вы, герр Бонифац? У вас тоже темно перед глазами?
— Да, это мешок. Вы не ранены? — прохрипел я в волнении. Если бы профессор мог передвигаться, то совместно, посредством своей природы мы легко б высвободились. Достаточно только стянуть мешки.
— Нет, я цел, но… руки и ноги мои настолько стянуты веревкой, что онемели… Я… я чую вашу кровь. Вас так сильно ранили? Как вы себя…
Вопрос профессора перебила резко распахнувшаяся дверь. Чистый морозный воздух, удушливый дым костров, свежий запах древесины за короткий миг просочились в меня сквозь поры тканевой тюрьмы. Мгновения этого было достаточно, чтоб вообразить наше местонахождение. Нас завезли в лес, причём высокогорный.
Раздался натянуто бодрый голос, без нот враждебности. Затем некто приблизился к моей голове, встав напротив. Второй (их вошло двое), я так полагал, проделал тот же маневр по направлению к Тоту. Голос зазвучал снова. Он говорил по-богемски, и я его не понимал. С последующей тирадой слов с меня сорвали тряпичный плен, и я зажмурился, чтобы уберечь глаза от внезапного перепада, которого, правда, не последовало. В помещении было чёрно, как в колодце. Окон не было. Справа раздался тяжкий вздох — Абеля тоже высвободили от вонючей тряпки. Я попытался перевернуться на бок, чтоб избавиться от глупого положения и взглянуть пленителям в глаза, но мой жест предотвратили, оставив находиться в прежней позе. Жёсткая, как прутья, рука скользнула к моей гудящей ране, заставив полурыкнуть-полуругнуться. Рука при этом не отдернулась, а участливо потрепала моё плечо.
В голосе послышались нотки сожаления. Он словно извинялся за причинённое мне, мягко сказать, «неудобство». Чёрт… В мою голову тут же пришло понимание того, как именно животные воспринимают человеческую речь. Вспомнилось с какой лаской в голосе собакам говорили о предстоящей кончине собачники. Как псины с робкой радостью виляли хвостами, питали надежду… Теперь же в подобном обстоятельстве находился и я. Насколько омерзительно быть в чужой шкуре!
В горле заклокотало и лихорадочное бешенство чуть не лишило последних сил. Меня перевернули, принялись затягивать рану. Наконец я разглядел говорившего кинокефала-человека. То, что в комнату вошли именно люди-кинокефалы, было ясно даже через затхлую мешковину, но отчетливо понять — знакомый запах или нет, чуял ли я их в таверне или нет, у меня не вышло. Теперь, когда один из них склонился надо мной и глаза наши пересеклись, обоняние безапелляционно дало понять, что серебристо-серую голову с короткими стоячими ушами я вижу впервые. Перевязав рану льняной тряпицей, он закончил фразой, обращенной ко мне, а затем, повернувшись, обратился с вопросом к профессору. Я увидел, как Тот мелко потряс головой в знак согласия и повернулся в мою сторону.
— Герр Бонифац, нас просят сохранять спокойствие. Только в этом случае нас освободят.
— Пусть сделают это как можно скорей, — тихо проворчал я. Конечно, мне хотелось вступить в бой, но я не мог. Пальцы ног чувствовались едва, а вот руки пугающе не подавали признаков жизни совсем. Серый, цепко наблюдавший за моей реакцией, удовлетворённо кивнул и, дав утвердительный знак приятелю, склонился над моими путами. Я до последнего ожидал, что он достанет нож или хотя бы нечто острое, но вместо того этот богемец варварски разорвал ремни зубами. Мои руки, обмякнув, даже не думали слушаться. Вслед за руками свободу получили ноги. Острые челюсти Серого орудовали не хуже охотничьего ножа. Кинокефалы, подтачивающие и владеющие своими зубами, назывались колоссами. Вживую данного умения я никогда не видел и считал, что это невозможно. Во всяком случае, раньше считал.
Закончив, Серый на всякий случай отдалился от меня, но моей прыти хватило только на то, чтобы с трудом принять вертикальное положение. То, что ранее служило мне руками, бесполезными плетьми осталось за спиной. Опершись плечом о бревенчатые стены, я осмотрелся. Избушка представляла собой небольшую полупустую комнату, в глубине которой коптила печка. Как странно, звуки горящих поленьев стали для меня различимы лишь после увиденного источника этих самых звуков. Ранее я, казалось, пребывал в абсолютной тишине. Мой взгляд переместился на второго человека-кинокефала. Он таким же способом освободил Тота (это было видно по рванным лоскуткам ремней) и теперь стоял рядом со своим товарищем. В отличие от короткошерстного Серого, лицо второго было безобразно лохматым. Рыжие космы плотно скрывали его глаза, и это настораживало. С людьми без доступа в окно внутреннего мира следует еще более держать ухо востро.
Состояние профессора было функциональней моего. Размяв затекшие руки, он, не обращая внимания на пленителей, тут же направился ко мне. Задерживать его не стали, чему я был удивлен. Ноги его слегка заплетались, но он сумел преодолеть преграду из мешков и, взгромоздившись на один из них, оказался рядом со мной.
— О Бонифац, ваши руки… — голос его дрожал, но страха в глазах не было. — Сейчас, сейчас мы разработаем их.
Тот принялся всячески растирать мои конечности.
— Герр Тот, вы не обязаны… — пробормотал я, глядя на усердные старания старика, но он лишь строго посмотрел на меня, ничего не сказав. И зачем же он не остался в тёплом трактире, а рванул следом? Зачем, превозмогая боль в своих руках, оживляет мои?
Первое ощущение при знакомстве меня не обмануло. Герр Тот действительно свой человек. Я знал, он не подведет и не бросит. И знакомы то мы от силы часа полтора, но уверенность в том, что Абель Тот не из тех, кто может оставить на произвол судьбы, окрепла во мне непоколебимо.
В то время, как профессор снимал оцепенение с моих рук, разливая колкое тепло по жилам, Серый отдал распоряжение космачу, и тот вышел. Оставшись с нами один на один, он облокотился о противоположную стену хижины, молча наблюдая за действиями Тота. Во взгляде, да и во всей позе было нечто очень неестественное, и я никак не мог понять, что именно. Серый с косматым не источали опасности, но тем не менее они её представляли, однако чутьё зачем-то подводило меня, и я не ощущал ледяных колебаний, исходящих при угрозе. Это несоответствие между явью и ощущениями напрягало ещё больше. Следовало разрешить эти чёртовы непонятности.
— Очень признателен вам, профессор, мне намного лучше, — самостоятельно согнув руку в локте и прочувствовав блаженство тысячи иголок, я опустил ладонь на плечо Тота. — Нам надо прояснить, какого дьявола нас сюда затащили.
Утвердительно кивнув, профессор обратился к пленителю, словно забывшему о нас (настолько тот казался отрешённым). Я с удовлетворением отметил отсутствие дрожащих нот в голосе профессора. Интонации его были спокойны и полны непоколебимости добиться ответа, но Серый, не дрогнув и мускулом, бросил лишь короткую фразу, указывая рукой на выход. Дверь в то же мгновение распахнулась, и в проёме возникла фигура космача. Его непримечательный запах сплёлся со свежестью и очаровательным дурманом, от которого по стенкам желудка разлился сок. Косматый держал в руках два тесанных сука, на которых теплились здоровенные куски жаренного мяса. Космач по-животному встряхнул головой, избавляясь от снега, челка его разметалась, но глаз его я так и не увидел. Отряхнувшись, он шагнул в нашу сторону, протягивая нам эти сучковатые шампура. Тот взял протянутое нам мясо и передал один шампур мне. Мои ослабленные руки еле справились с ношей. На такой «палочке», казалось, было навешано порядка четырёх килограммов мяса. Оно было ещё тёплым, из пор сочился сок, а корочка приятно золотилась на свету. Я с досадой ощутил, как во мне вновь восстает звериная сущность. Острую боль в затылке перекрыло желание зверя погрузить клыки в нежное расслоение волокон. Но это был глупый зверь. Разумный не принял бы подачку из вражеских рук. Я отставил шампур в сторону и, прислонившись к сучковатым выступам в стене, выпрямился. Еда меня одурманила, но и придала сил. Профессора жене терзали муки вожделения. Он сразу отложил мясо, пытаясь объясниться с Серым, но не выходило — тот настаивал, чтобы мы поели. Суть его упрямства наблюдалась и без перевода, и это было уже слишком. Мало того, что наносят увечье, держат помимо воли, а теперь, чтобы загладить «недоразумение», пытаются отпотчевать? А может мясо отравлено? Хотя нет, это невозможно. Кинокефалий нюх распознает любую отраву… Но все же, какая чертовщина здесь творится?!
Поднявшись в полный рост, я, не отрывая взгляда от Серого, слегка подался вперёд. Косматый моментально ощетинился и издал долгий гортанный звук, но я не повёл на него даже ухом. Главного здесь олицетворял пройдоха с волчьей мордой, и своё внимание я нацелил только на него.
— Мы не будем есть. На кой чёрт мы вам сдались?
Светлые радужки Серого блеснули.
Не отводя от меня взгляда, он обратился к профессору, что, «мол, сейчас все объяснит» — так пересказал Тот. Серый, не меняя полуразвалившейся на бревнах позы, начал свою неспешную булькающую речь. Профессор знакомым жестом поправил чудом уцелевшие очки и, вздёрнув полными внимательности ушами, пустил во след перевод.
— Вы — проезжие, и вас мало интересует (если интересует вообще) нынешнее положение дел живущего здесь народа. Всех больше завораживает история, но не реальность, — выдержав паузу, плут лирики продолжил: — А реальное положение дел таково, что честно трудящийся народ вытесняют со своей родной земли. Оттесняют в наиболее горную местность, непригодную для пастбищ нашего скота. Но земля наша — не золото, чтоб на неё с такой активностью зарились. Нас вытесняют не столько из-за земли, сколько из-за нашего этнического состава. Мы — вольные кинокефалы. И потому Богемии нет до нас никакого дела. Им удобней, чтоб нас не было, нежели восстанавливать справедливость. Людское племя — тары, веками совершали набеги на наши сёла, грабили их и сжигали. Так обстоят дела и сейчас, несмотря на вступление мира в науку и цивилизованность, но здесь, увы, глушь со своими неизменными законами…
Речь его мне показалась неправдоподобно складной, правда, ни запаха вранья, ни глушащего вранье чеснока я не почувствовал.
— И раз законным путем возвратить украденное не получится, — в неторопливом ритме повествовал Серый, — придётся сделать это силой.
— Так, а причем здесь мы? — не выдержал я. — Вы решили отыграться, как вы выразились, на приезжих? На тех, кому нет до вас дела?
Блеснув укоризной из-под очков, профессор перевёл моё негодование заметно короче. Выслушав вопрос, Серый приложил руку к сердцу.
— Нам пришлось прибегнуть к помощи бандитов. Мне жаль, что с вами обошлись так грубо. Мы не успели проконтролировать действия этого неотёсанного сброда. На деле мы хотели мирно доставить вас сюда на разговор, так как в таверне поднимать подобные беседы небезопасно.
— Небезопасно?! — я не заметил, как мышцы мои напружинились от негодования, расходясь по телу напряжёнными волнами. — Так вы сами заманили меня и профессора в эту треклятую таверну! В таверну, которая кишит вашими знаками и вашими сообщниками!
Я намеренно подчеркнуто выразил слово «знаками». Мне очень хотелось увидеть реакцию непроницаемой серой морды на мою наблюдательность. Вспомнив, что переводом руководит Тот, я тут же схватил его за плечо и полупрося-полутребуя прохрипел:
— Переведите в точности.
Тот кивнул и продолжил извлекать булькающие звуки нелепого говора. С каждой фразой его я злорадно подмечал растерянность Серого, перерастающее в раздражение. Теперь передо мной будто находилось моё отражение — такое же угрюмое и злое, такие же подрагивающие уголки губ… Он понял, что я ему не поверю, и смысла дальше разыгрывать любезность нет. Но капитулировать и открывать все карты Серый не желал.
— Хорошо. Мы не собирались просить вас о помощи, но вы поможете нам — хотите вы этого или нет. Кинокефалы довольно редки в округе, и массу для запугивания таров мы набираем со стороны. Вы будете просто толпой на марше, после окончания которого можете убираться восвояси.
Серый кивком показал косматому на дверь, и тот попятился к ней, не отрывая от нас настороженной физиономии. Серый двинулся следом. Я уже сделал шаг, намереваясь загородить похитителям проход, но профессор ухватил меня за пояс, насильно усадив рядом на мешок.
Дверь захлопнулась, заскрежетал замок. Удаляющийся хруст снега вскоре потерялся, смешиваясь с какофонией лагерных звуков. Мы с Тотом истуканами остались на месте. В душе смятение и боль вытеснило раздражение. Жуткий человек-кинокефал послужил инициатором негодования. Вот именно! Не ситуация, в которой открылась перспектива для пленников, подогрела во мне злобу, не те подонки, чуть не раскроившие мне череп. Нет, до исступления меня довёл этот серый лицемер, столько раз акцентирующийся в своих трогательных речах на слове «наше», что становилось тошно. Мол, мы — кинокефалы, а то, нечто иное, люди…
Со мной происходила внутренняя трансформация. Хотелось рвать, метать, крушить и задушить Тота за то, что остановил меня.
— Что с вами?
Профессор взял меня за локоть, но я вырвал руку и сдавлено рыча, охватил голову руками, сжав затылок так, что в глазах потемнело. Тот схватил меня за запястья и отодрал руки от черепа.
— Что с вами? Вы сходите с ума?
Боль быстро привела меня в чувство, так что стать безумным крушителем я не успел. В этот самый миг замок заскрипел. Дверь отворилась, и из проёма повалила целая толпа ног. Моему обзору доступны были только ноги, так как голова моя до сих пор пребывала в висячем состоянии между коленями и полом. Как только ноги заполнили всё пространство вокруг, дверь захлопнулась, и замок скрипнул вновь. Похоже, это тоже были пленники. Убедившись после пары глубоких вздохов, что от пожара злости остался лишь жар в затылке, я выпрямился. Вся небольшая избушка была битком набита людьми-кинокефалами. На лицах их отпечатались напряженность и волнение, никак не вяжущееся с тем, что у каждого, словно у ребёнка — мороженое, был шампур с мясом. Точно такой же, как принесли нам с профессором. Представшая предо мной картина была до того неестественно комична, что мне пришлось приложить усилие, чтобы сохранить уши в строгом положении, а не распустить их по бокам. Изнутри меня сотрясал смех, видимо, у меня начиналась истерика. Рядом с нами на мешки плюхнулся небольшой щупленький паренек. Полголовы у него было обмотано в тряпицу, настолько побуревшую и задубевшую от крови, что перевязка больше смахивала на маску. Беглым взглядом я определил, что у этого молодого человека было самое тяжкое увечье из всех плененных. Но, несмотря на это, у него было и самое бодрое расположение духа. Посмотрев, в свою очередь, на мою перевязку, он по-простому обратился ко мне, пыша задорной молодостью. На помощь в переводе поспешил профессор.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.