
Бесплатный фрагмент - Кино в меняющемся мире
Часть первая

« [Возможности кино] заключаются в его уникальной способности выражать волшебное, чудесное, сверхъестественное естественными средствами и с несравненной убедительностью»
Ганс Абель
Редакторское введение
Сборник статей «Кино в меняющемся мире» его авторы, сотрудники Государственного института искусствознания, изначально предполагали выпустить в 2016 году, который в России идет под знаком «Года кино». Мы не могли не присоединиться к данной идее — и выпускаем в свет этот сборник, чтобы каждый читатель смог найти в нем интересное именно ему и открыть мир кинематографа для себя с новой стороны.
Все авторы сборника являются не только учеными, но и практиками, увлеченными, помимо кино, каждый своей сферой (подробно о каждом авторе вы сможете прочитать во вступлении перед их статьями). Когда авторы прислали нам свои материалы, мы поняли, что одной книжки будет недостаточно. Именно по этой причине сборник разделен на две части по тематическо-временному принципу.
В первой части, которую вы сейчас открыли, мы разместили статьи, посвящённые взаимоотношениям отечественной культуры (кино) с властью. А именно: вопросам регулирования, цензуры и кризисам непонимания. Помимо этого, в данную часть вошли исследования об истоках отечественного и мирового кинематографа. В них раскрываются такие темы как: взаимосвязь Льва Толстого с кино, появление и укоренение образов монстров в фильмах, а также приёмы монтажа знаменитого режиссера-документалиста Дзиги Вертова.
Первый раздел «Власть культуры и культура власти» представлен тремя статьями, рассматривающими кинематограф (и не только) через призму политики.
Анри Вартанов в своей статье «Власть, художник, фильм» обращается к изданному четверть века назад сборнику сектора «Художник и власть». Автор рассказывает, приводя в качестве иллюстраций множество документов, о поворотном кризисном моменте в истории отечественной культуры ХХ века (и кинематографа в том числе) — об Октябрьской революции 1917 года и о первых годах становления советской власти.
Юрий Богомолов развивает начатую коллегой тему и в статье «Смены вех» проходится уже по всей истории советского кинематографа, опираясь на три ключевые точки: революцию, «оттепель» и «перестройку», используя в качестве примеров большое разнообразие художественного материала.
Завершающий этот раздел Владимир Мукусев делится с читателями своим личным опытом работы в кино и на телевидении. На счету автора — подготовка фильма про Афганистан в период войны, а также проведение телемостов между СССР и США. В статье «Две полки общего вагона» анализируется цензура, складывавшая на полки кино- и телепроизведения, определяются особенности чиновничьего контроля в этих двух сферах экранного искусства.
Второй раздел с говорящим названием «Возвращаясь к истокам» также вмещает в себя три статьи, которые повествуют о первой вехе кинотворчества.
Людмила Сараскина открывает этот раздел статьей про классика русской литературы и его различные связи с зарождающимся в те годы кинематографом. «Лев Толстой в раннем российском кинематографе» раскрывает несколько линий: Толстой как герой одних из первых документальных фильмов, Толстой как возможный первый литератор-сценарист, Толстой как зритель и, конечно, Толстой как вдохновитель на создание лучших фильмов.
Следующая статья «ХХ век начинается. Образ „монстра“ и „монструозности“ в западном кино» погружает нас в совсем иную тематику, которая может быть понятна и интересна даже очень молодым читателям. Ее автор Екатерина Сальникова использует подробный обзор кинофильмов, чтобы показать, как появились и эволюционировали различные мифические и фантастические существа на экране.
Заключительная в этом разделе и первой части статья Виолетты Эвалльё «Полиэкран в фильмах Дзиги Вертова» раскрывает понятия и принципы использования такого необычного в то время приема монтажа. Автор привлекает в качестве материала исследования работы классика отечественного и мирового документального кинематографа Дзиги Вертова, чей фильм «Человек с киноаппаратом» признаётся многими лучшим в своем жанре.
Кино, как лакмусовая бумажка истории, проявляет на кинопленке то, что происходит в стране и мире, что меняется, а что остается неизменным. Пополнить свои знания и представления о кинематографе вы сможете, прочитав первую часть данной книги. Не менее увлекательные статьи ждут вас и во второй части.
За помощь в создании этой книги мы благодарим Анну Новикову, Дарью Журкову (они также являются авторами, материалы которых представлены во второй части) и Юлию Бернштейн за консультацию в сфере авторских прав.
Приятного чтения!
I. Власть культуры и культура власти
Анри Вартанов
•
Власть, художник, фильм

Об авторе
Сфера интересов: специфика отдельных видов искусства: кино, телевидение, фотография, их выразительные средства, взаимоотношения друг с другом.
«Оказавшись вместо ВГИКа, о котором мечталось, на журфаке МГУ, я случайно, во время Недели итальянского кино, которая проходила в „Ударнике“, увидел новый фильм „Дорога“ неизвестного у нас Феллини. Потрясли не только актеры и история, ими разыгранная, но и мощно проведенная в ленте фаталистическая идея веры, построенной на христианском приятии сущего. Для моего комсомольско-атеистического сознания это стало форменным шоком. Выйдя после сеанса на улицу, я долго бродил под порывами мокрого снега и никак не мог пойти домой. Хотя „Ударник“ находился в нашем доме, и мой подъезд соседствовал с его кассами».
Ключевые слова: #СССР #контроль #искусство #культура #кинематограф #цензура #Луначарский
Осенью 1991 года, вскоре после того, как в СССР была подавлена попытка государственного переворота членами ГКЧП, началась более энергичная, нежели прежде, декоммунизация страны. Тогда она, прежде всего, выглядела в форме десталинизации, начатой в стране еще в 1956-м, на XX съезде КПСС, но затем довольно быстро свернутой в связи с переменами в политическом руководстве страны.
В те дни в коллективе сектора Художественных проблем средств массовой коммуникации Государственного института искусствознания (тогда в течение очень короткого времени он носил название Российского института искусствознания) возник замысел сборника статей, который был создан очень быстро, и уже в следующем, 1992-м, увидел свет.
Сборник назывался «Художник и власть», он был опубликован в Институте, тиражом всего в 100 экземпляров, без каких-либо внешних свидетельств того, что это — полноценное издание, имеющее свои права и данные, позволяющие ему присутствовать и в Книжной палате страны, и в Государственной библиотеке, и в других крупных книжных собраниях, — наших и иностранных. Говоря иными словами, труд сектора был опубликован, фактически, на правах рукописи, посему и не стал в ту пору фактом нашей профессиональной, искусствоведческой, и, шире, художественной жизни. Хотя, казалось бы, по заключенному в нем историко-теоретическому материалу и уровню анализа сложных культурных и художественных процессов имел на это все основания.
Хотелось бы тут, прежде всего, вспомнить и по достоинству оценить труд участников вышедшего в свет четверть века назад сборника. Прежде всего, инициатора всего издания, редактора-составителя книги покойного А. И. Липкова, ушедших из жизни его авторов В. М. Жидкова, В. И. Михалковича, А. А. Шереля, а также ныне, к счастью, здравствующих, бывших и нынешних сотрудников сектора Медийных искусств Государственного института искусствознания (так он теперь называется) Ю. А. Богомолова, М. А. Кушнировича, В. Т. Стигнеева, нашего коллегу из тогдашнего сектора эстетики (теперь он представляет сектор массовых видов искусства) Н. А. Хренова.
Вспоминаем об этом труде потому, что тематика его продолжает быть актуальной, она выглядит далеко не исчерпанной одной книгой, тем более, оказавшейся в положении, когда она стала, фактически, недоступной сколько-нибудь широкому кругу читателей. Наш сборник, яркий не только по составу авторов, но и по представленному в нем, подчас уникальному, материалу (архивные публикации, тексты из недавнего спецхрана, готовящиеся к изданию рукописи, малоизвестные книги зарубежных исследователей, мемуары участников реальных событий и др.), всерьез претендовал на то, чтоб стать началом откровенного разговора о самых сложных и больных проблемах отечественного искусства минувшего, двадцатого века.
Он без всяких обиняков, с искренними чувствами авторов, где каждый ощущал себя не только исследователем, но и гражданином, рассказывал о кричащих, сложнейших противоречиях развития искусства в годы советской власти. Забегая вперед, скажем, что разговор о трагических аспектах развития отечественной художественной культуры ХХ века, столь необходимый для судеб нашего искусства прошлого и настоящего, по существу, по причине целого комплекса разных обстоятельств, о которых тут нет возможности говорить в подробностях, — у нас, не только в секторе, но и в институте (и, рискну добавить, в нашей искусствоведческой науке, в целом), к большому сожалению, так и не состоялся.
Особое место в книге занимали вопросы цензуры. Авторы статей, специально посвященных ей (А. Шерель «Не должно сметь… Из истории советской цензуры»; В. Жидков «К истории театральной цензуры в СССР»), в подробностях показывали и анализировали не только политическую природу советской/партийной цензуры, но и ее повседневную практику в разных видах искусства. Приводимые в их работах факты производят сильное впечатление. Не только, полагаем, потому, что уже в ходе перестройки, которая началась в стране с середины 1980-х, цензура постепенно отмирала, — сначала в прессе (вспомним публикации тех лет в журнале «Огонек» и газете «Московские новости»), а затем и во всех видах художественного творчества. На подходе, к тому же, в ту пору уже был новый, немыслимый прежде, российский Закон о печати, где принципиальный запрет на любую цензуру был записан, как основополагающий, в специальной статье.
Еще одной сквозной темой, поставленной и исследованной в сборнике, — в отличие от цензуры, о ней мало что можно найти в отечественной искусствоведческой науке, — стала деятельность творческих союзов отдельных видов искусства, создаваемых властью в стране, начиная с 1930-х годов, когда, вслед за образованием союзов архитекторов (1932) и композиторов (1932) был с размахом проведен Первый, учредительный, съезд Советских писателей (1934), объявивший о главной цели всех форм творчества, — о методе социалистического реализма.
На примере одного из последних по времени появления в стране творческих союзов — Союза кинематографистов СССР (1957) — в сборнике, в статье А. Липкова, выразительно названной «Испытание пряником», проведен подробный анализ тех средств, которые, на примере кинематографического союза, использовались властью для того, чтоб во всех этих творческих объединений руками представителей самих творцов, руководителей союза, достигались угодные ей чуждые истинным идеалам искусства политические цели.
В книге, в отличие от принятых в науке щадящих правил, говорится не только о людях, покинувших наш мир, и не только о давних, ставших уже далекой историей, событиях. В ней называются также некоторые имена здравствующих в дни выхода издания в свет видных кинематографистов, еще недавно занимавших руководящие должности в кинематографическом творческом союзе, резко переменившем свой политический облик после V съезда Союза кинематографистов СССР, прошедшего в столице весной 1985-го года. И приводятся конкретные факты их неблаговидной деятельности, далеко не самой полезной для коллег и, шире, для отечественной художественной культуры.
Кому-то подобная беспощадная откровенность может показаться не слишком лояльной, возможно даже жестокой по отношению к конкретным людям, тем более, продолжающим жить на этом свете, — но, как говорится, истина дороже. Для того чтобы общество (и, в особенности, будущие его поколения) знало своих «героев» поименно, чтобы могло по достоинству оценить их деяния, нужна полная, исчерпывающая честность в осмыслении и оценке поступков функционеров в области советской художественной культуры, — даже, если они «по совместительству» были не лишенными творческих способностей, а то и настоящего таланта, являлись порой авторами ставших всенародно признанных, обретших статус отечественной киноклассикой произведений искусства.
Значительно меньше внимания в сборнике уделено такой важной стороне взаимоотношений власти с людьми искусства, как создание первой правил и узаконений, касающихся для вторых условий в процессе художественного творчества. Декларируемые как воплощение заботы об искусстве, подавляющее большинство законов, постановлений, решений и т. д., на самом деле, становились очередной удавкой на шее авторов, очевидным ущемлением их творческой свободы. Власть в подобного рода документах от года к году, от одного документа к другому, задавала деятелям искусства все более строгие, подчас даже невероятно жесткие правила игры, а проверять их соблюдение и беспощадно реагировать в тех случаях, когда они исполнялись не так, как было ей угодно, поручалось чиновникам от литературы и искусства. Те, будучи почти всегда не слишком компетентными в творческих вопросах людьми, с удивительной легкостью и жестокостью выполняли, как тогда принято было говорить, «указания партии и правительства».
Советская власть за годы своего существования создала разветвленную по положенной в ее основу структуре уникальную вертикаль руководства художественной культурой, не озаботившись всерьез подготовкой достаточно квалифицированных кадров для подобной непростой работы. Впрочем, в этом тоже можно узреть далеко идущий замысел: несведущему в творческих вопросах человеку легче совершать расправу над художником, нежели тому, кто хоть немного понимает, что такое искусство. Наряду с правительственными и государственными органами (народные комиссариаты, позже министерства, а также отделы в составе Советов всех уровней, начиная с самого низкого, районного и кончая Верховным Советом страны), в нее входила не менее, а, на деле, даже, гораздо более влиятельная, столь же разветвленная, универсальная, пронизывающая все территориальные образования от самых небольших поселков до крупных городов, от райцентров до столиц союзных республик, — система партийной, коммунистической власти.
Поначалу литература и искусство входили в структуру партийных органов в качестве части (секторов, подотделов и т. д.) отделов агитационно-пропагандистской работы. Позже художественная культура удостоилась чести быть представленной в структуре Центрального Комитета КПСС специальным Отделом культуры. Разные виды искусства имели внутри этих подразделений партийной власти своих ответственных руководителей-кураторов, которые не только наблюдали за тем, что происходит в творческой среде, но и регулярно выдавали свои настойчивые, обязательные для неукоснительному исполнению рекомендации, — не только устные, но и письменные, от обычных циркуляров до специальных Постановлений партийных органов разных уровней, вплоть до ЦК ВКП (б) — КПСС, — используя для их продвижения в жизнь подчиненные им партийные структуры, имеющиеся не только во всех учреждениях культуры, но и в творческих организациях (театры, киностудии, филармонии, союзы и т. д.), а также даже в высших государственных или правительственных институтах, — вроде Наркомпроса или Минкульта.
Разные виды искусства пользовались не одинаковым вниманием со стороны власти. Она выстраивала не прокламируемый открыто, но достаточно очевидный ранжир в зависимости от влияния вида искусства на массовую аудиторию. Его возможности формирования сознания миллионов людей, агитационной и пропагандистской силы. Кинематограф очень скоро занял лидирующее положение среди муз: донесенная до нас первым Наркомом просвещения ленинская формула «из всех искусств для нас важнейшим является кино» на долгие годы стала определяющей в деле построения и развития партийной и государственной политики в области художественной культуры.
Нынешние исследователи отечественное культуры нередко объясняют особое положение киноискусства в новейшей истории нашей страны, в особенности, в 1930–1940-е годы, тем, что к этому виду искусства питал очевидную слабость Иосиф Сталин. Немало написано о том, как отец народов повседневно следил за развитием этого вида творчества, уделял ему особое, ни с чем не сравнимое внимание, — не только по много раз пересматривая во время ночных сеансов любимые ленты, но и активно участвуя в их создании, начиная от рекомендаций при составлении тематических планов производства будущих кинокартин и кончая въедливыми редакторскими замечаниями и конкретными поправками (естественно, безропотно принимаемыми авторами) по готовым фильмам.

«Чапаев», 1934. Авторы: режиссеры и сценаристы Георгий и Сергей Васильевы; сценаристы Анна Фурманова, Дмитрий Фурманов; композитор Гавриил Попов
Именно при Сталине — и, кажется, по образцу, им представленному — сложилась система редакторского сопровождения каждого снимающегося на советских киностудиях произведения. В аппарате не только каждой из киностудий, но и Госкино (или киноглавка, когда кинопроизводство входило в структуру Министерства культуры СССР) был немалый штат редакторов, которые курировали производство каждой ленты, — от темплана до чистового монтажа готового фильма, осуществляя, наряду с профессиональными функциями, откровенно-цензурные, позволяющие не пропустить сквозь сито требований и замечаний что-либо, похожее на инакомыслие.
Поэтому, наверное, взаимодействие власти и творчества в области кинематографа стало наиболее показательным для той проблемы, которой посвящена нынешняя коллективная работа сектора Медийных искусств, обратившегося к исследованию проблем киноискусства.
Вместе с этим, через четверть века, снова встает непростая тема: Художник и Власть.
Художник и власть
Уже в первые дни после переворота большевики выпустили Декрет об учреждении Государственной комиссии по просвещению. Он был опубликован 12 ноября 1917-го в «Газете Временного Рабочего и Крестьянского Правительства» и подписан Народным комиссаром по просвещению Анатолием Луначарским, Председателем Совнаркома Владимиром Ульяновым (Лениным) и Секретарем Совета Николаем Горбуновым. Имена подписавших документ, что немаловажно, стояли именно в таком порядке. Кроме того, в нем указывалось на временный характер Декрета, действующего «впредь до Учредительного Собрания». Предполагалось, что «текущие дела должны пока идти своим чередом через Министерство народного просвещения», существующее, как нетрудно догадаться по названию, в составе Временного правительства, сформированного сразу же после недавней Февральской революции.
Характерно, что в Декрете львиная доля внимания уделена просвещению и школе, ликвидации неграмотности населения. Отдел искусств, единственный, представляющий там всю художественную культуру страны, записан в нем среди пятнадцати, наравне, скажем, с отделом школьной медицины и гигиены. В документе, носящем откровенно предварительный характер, специально указывалось, что «лишь Учредительное собрание установит детальный порядок государственной и общественной жизни в нашей стране».
В Декрете, вместе с тем, содержится попытка перехода дела руководства культурой в руки представителей новой власти. Совет Народных Комиссаров брал на себя не только назначение руководителей всех пятнадцати отделов, но и определял уже существующему в стране в составе правительства Министерству народного просвещения «роль исполнительного аппарата при Государственной комиссии по народному просвещению».
Любопытно представление авторов Декрета о будущем составе Государственной комиссии по народному просвещению. В ней отдается численное предпочтение (по два представителя по сравнению с другими, скажем, с Всероссийским союзом городов или Всероссийским Земским Союзом, которым предполагалось предоставить по одному мандату) людям от Исполкомов Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов. Последние получили по два голоса. Это вполне понятно: новая власть с первых же дней старалась закрепить за собой ведущую роль в деле руководства всеми сторонами российской жизни, в том числе и художественной культурой.
Вместе с тем, в Декрете можно обнаружить некоторые положения противоположного характера — о довольно значительной децентрализации процесса:
«Государственная Комиссия по Народному Образованию отнюдь не является центральной властью, управляющей учебными и образовательными учреждениями. Наоборот, все школьное дело должно быть передано органам местного самоуправления».
В этих словах, написанных в стилистике, весьма далекой от привычной, казенной, можно предположить, без особого шанса ошибиться, руку Луначарского. Его авторство, нам кажется, нетрудно угадать еще и в том, что в этом документе предполагалось также дать мандаты представителям «от Всероссийской организации художников (как только она возникнет)» и «от Всероссийского Студенческого Союза (когда таковой образуется)».
В тексте документа можно обнаружить следы российского интеллигентского прекраснодушия, вряд ли уместного в директивных текстах людей, пришедших к власти в результате вооруженного переворота. Ссылаясь на главенствующую роль будущего Учредительного Собрания, авторы Декрета (снова здесь откровенно слышится голос Луначарского) пишут:
«Не предрешая его воли, народное Правительство считает себя вправе …проводить в жизнь ряд мероприятий, имеющих целью обогатить и осветить как можно скорее духовную жизнь страны».
Про термин «духовная жизнь страны» можно сказать, не боясь ошибиться, что он больше ни разу за все годы существования большевистской власти в стране не употреблялся ни в партийных, ни даже в государственных документах, посвященных вопросам литературы, искусства, другим аспектам советской художественной культуры. Здесь он оказался рудиментом прежней, либеральной, фразеологии, которая была вполне уместной в преддверии будущего Учредительного Собрания.
Для нашей темы приведенный выше Декрет интересен сразу в нескольких отношениях. Первое, что привлекает внимание, в нем нет даже упоминания о кинематографе. Да и искусство в целом присутствует там недифференцированно, лишь в названии одного из отделов, а также в обозначении будущей организации художников. Заметим: не писателей или музыкантов, не даже театральных деятелей, хотя, как известно, Всероссийское театральное общество, созданное еще в 1877 году, к тому времени насчитывало немалое число членов и славную, выходящую за пределы страны, историю.
Совершенно очевидно, что в документе главный упор сделан на самых начальных этапах просвещения, связанных, прежде всего, с борьбой с неграмотностью, которая была в стране в ту пору массовой, в особенности в российской глубинке, вдали от больших городов. Кинематограф той поры, напротив, был детищем городской культуры, он не успел еще (да и не мог, при всем желании этого сделать) преодолеть необъятные пространства страны, раскинувшейся на двух континентах.
Второе связано с обстоятельствами создания ранних документов новой власти. Сегодня они, нередко, производят впечатление недостаточной последовательности и определенности. Чувствуется, что многие материалы готовились тогда в понятной спешке горячих дней, подчас даже впопыхах, импровизационно, причем, частенько, людьми, не обладающими, в полной мере, необходимыми для создания документов подобного жанра, знаниями предмета.
Это в особой степени проявилось в том, что потом в нашей искусствоведческой литературе получило название ленинского плана монументальной пропаганды. В составлении списка исторических деятелей, которым предполагалось поставить в столице памятники, ощущались не только спешка, но и очевидная случайность в подборе имен. Так, в категории «Философы и ученые», названо всего три имени: Сковорода, Ломоносов и Менделеев (авторы списка ни в одном случае не сообщают не только национальной принадлежности, но и инициалов, имен-отчеств, своих избранников, — А. В.). Еще более случайной и куцей выглядит тройка представленных композиторов: Мусоргский, Скрябин, Шопен. Раздел зрелищных искусств (театр и кино ограничены лишь одной категорией — «Артисты») и вовсе удивляет своей скудостью и необъяснимостью выбора. Всего два имени: Комиссаржевская и Мочалов.
Но и этот, вызывающий немало справедливых вопросов список, исправлялся специальным Постановлением СНК от 30 июля 1918 года за подписью В. Ленина, В. Бонч-Бруевича и Н. Горбунова, где оттуда исключался Владимир Соловьев и был добавлен Гейне с необязательной, нарушающей логику других разделов, формулировкой: «внести в список писателей и поэтов наиболее великих иностранцев, например, Гейне».
Становилось, в-третьих, очевидным, что у новой власти сразу же начались немалые финансовые затруднения. Те немногие средства, что были, уходили на самые неотложные нужды. На культуру, как с тех пор стало в советском государстве непреложным правилом, деньги выделялись по остаточному принципу. Пожалуй, этим, а не только приверженностью принципу децентрализации власти, от которого большевики отказались очень скоро — и навсегда! — объясняются некоторые послабления или попытки центра передать на места заботы (а заодно и траты) о развитии школьного дела.
Отсутствие упоминания кинематографа в документах первых дней и месяцев новой власти также далеко не случайно. Оно вполне объяснимо в ситуации, когда даже самое скромное существование этого вида искусства требовало немалых трат в твердой валюте, которой у советской России не было. Кинопленку в те годы в нашей стране не производили, ее нужно было закупать за кордоном. Препятствием тут, кроме отсутствия валюты, становилась, о чем не следует ни в коем случае забывать, еще и экономическая блокада, объявленная странами Антанты большевистскому правительству.
Поэтому, наверное, новая власть, несмотря на очевидные потенции кинематографа, как могучего средства агитации и пропаганды, не спешила с его национализацией. В сентябре 1918-го была национализирована Третьяковская галерея, в это же время перешли в ведение Народного Комиссариата Просвещения московская и петроградская консерватории, месяцем позже художественная галерея Щукина, в декабре того же года — художественные собрания А. И. Морозова, И. С. Остроухова, В. А. Морозова, нотные, музыкальные магазины и нотоиздательства и т. д., — не самые крупные и славные сегменты отечественной художественной культуры.
До кинематографа дело дошло много позже — лишь в конце августа следующего, 1919-го года. Декрет СНК «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного Комиссариата Просвещения», подписанный В. Лениным, В. Бонч-Бруевичем и Л. Фотиевой назавтра после Декрета «Об объединении театрального дела», где в числе авторов, что немаловажно, присутствует еще и Нарком просвещения Луначарский, выглядит, по сравнению с последним, не только в разы более лаконичным, но и лишенным каких-либо организационных и творческих подробностей.
Мало того, объединение в одном документе кино и фотографии, где в них подчеркнуто не столько творческое, сколько торговое и промышленное начала, объективно лило воду на мельницу тех многих, кто в ту пору считал и светопись, и «живую фотографию» (или «сфотографированный театр», как нередко называли в те годы кинематограф) явлениями, весьма далекими от подлинного, высокого искусства.
Кинематограф как новая Муза
Так, или почти так, оно и было. В это как раз время в мире, в разных странах, в работах молодых, ищущих кинематографистов постепенно, шаг за шагом складывался своеобразный художественный язык, позволяющий неприхотливому зрелищу, каким считался (да и был) синематограф в первые годы существования, претендовать на звание новой Музы. Процесс обретения кинематографом творческой самостоятельности в разных странах был несхожим.
Впрочем, их, этих стран, было совсем немного: Франция, где родилось кино. США, в которых оно раньше других получило довольно широкое распространение, а также финансовую силу. И Россия, — тут молодые кинематографисты, лишенные необходимых средств и какой-либо поддержки со стороны государства или большого бизнеса (впрочем, о бизнесе в нашей стране на рубеже 1910–1920-х говорить невозможно), на свой страх и риск вели эксперименты в области экранной, кинематографической выразительности.
Объективные обстоятельства первых революционных лет всячески препятствовали нормальному творчеству. В это время, по понятным причинам, кинематографическое производство в стране резко сократилось, продюсеры и киноавторы, в большинстве своем, либо эмигрировали из страны, охваченной гражданской войной, а после того находящейся в разрухе, либо сидели без дела. Совершенно понятно было всем, что в эту пору ни о каком производстве кинематографических лент не может быть и речи. У новой власти средств, да и то в результате строжайшей экономии, хватало лишь на то, чтоб начать производство кратких выпусков кинохроники.
Весьма характерны слова из воспоминаний Луначарского о Ленине:
«Владимир Ильич сказал мне, что производство новых фильм, проникнутых коммунистическими идеями, отражающими советскую действительность, надо начинать с хроники…»
Все остальное оказывалось, фактически, вне пристального внимания большевиков. Вероятно, не только из-за условий гражданской войны и проблем выживания новой власти, но и вынужденно — из-за экономических обстоятельств, требующих при скудных средствах выбора самого необходимого. Возможно, сознательно, потому что агитационные и пропагандистские цели в тот момент оказывались важнее, конечно же, всех остальных, а они, как известно, скорее и очевиднее воплощались в ту пору именно в публицистических жанрах.
Характер развития разных информационных и художественных форм в первые годы после октябрьского переворота зависел, нередко, от факторов, весьма далеких от узко профессиональных. К примеру, несмотря на то, что печать традиционно была одним из самых важных средств агитации и пропаганды в теории и практике большевиков, пока они вели подпольную работу в дореволюционные годы становления и развития партии, — реальные обстоятельства страны, в которой они захватили власть, заставили их переставить акценты и приоритеты.
В условиях, когда к 1920-м году в стране среди населения старше восьми лет были 68% неграмотных, возможности прессы, как реального средства воздействия на массы, резко сокращалась. Ей были подвержены, фактически, лишь те немногие образованные граждане, которые принадлежали к культурным слоям общества, да и к немногочисленному партийному активу. Основная же многомиллионная часть населения страны оказывалась не охваченной идеологической работой. Нужны были какие-то иные средства, способные воздействовать на неграмотных. Таковыми становилось нарождающееся радио и уже существующая кинохроника, способные оказывать влияние на аудиторию, не умеющую читать, но способную видеть и слышать.
Особенностью названных средств, кроме того, что они не нуждались в аудитории, способной читать, было еще и такое важное для власти качество, как возможность контролировать контент (все выпуски кинохроники или радиосообщения) на стадии, предшествующей их выходу к публике. В условиях, когда государственные и партийные органы ставили перед собой цель как можно более жестко контролировать все, что происходит в идеологической сфере, такие формы оказывались идеальными по эффективности.
В первые годы после октябрьских событий в документальном кинематографе работали мастера, в которых естественно сочетались качества активного приятия происходящих в стране перемен со стремлением найти новые пути развития своей музы. Среди них, конечно, самой яркой фигурой был Дзига Вертов, который сначала в теоретических манифестах и статьях, а затем в скромных регулярных выпусках кинохроники предложил неведомую прежде модель документального искусства.
Вертов и его коллеги в начале и середине 1920-х были в первых рядах представителей «левого» искусства, активными соратниками В. Маяковского, влюбленными в революцию, смело крушащими многие замшелые правила и понятия в области творчества. На примере его пути нетрудно заметить перемены власти в отношениях с кинематографистами. Поначалу руководители студии кинохроники благосклонно относились к поискам Вертова и его команды. Вернее даже, не вмешивалась в них, наблюдая за успехами, подчас триумфальными, — тем, что стало затем основанием для всемирной славы вертовских лент. Впрочем, уже во второй половине десятилетия начались проблемы, которые стоили режиссеру не только переживаний, но и, фактически, всей его судьбы в искусстве. Не формулируя впрямую своих претензий, кинематографическое начальство последовательно и неотступно, шаг за шагом, отлучало Вертова от работы.
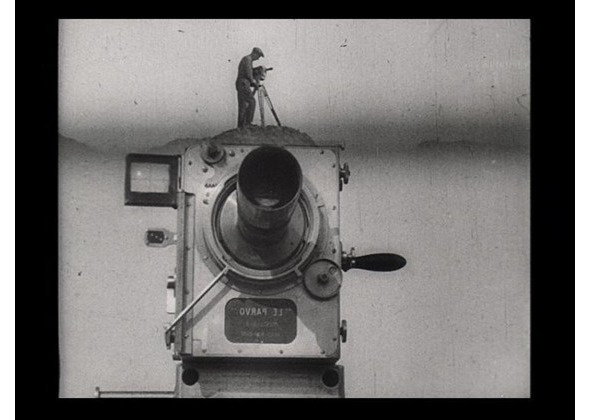
Так или иначе, но в первые годы советской власти игровое кино, в отличие от документального, оказалось вне пристального внимания руководителей культуры. Художественными лентами занимались мало кому известные люди, не замеченные прежде в отечественном кинематографе. Лев Кулешов со своими единомышленниками и студентами в Государственном техникуме кинематографии создавал/«снимал» ставшие позже знаменитыми «фильмы без пленки». Ведь, как мы говорили выше, с пленкой были серьезные проблемы, и даже просьба Ленина, датированная июлем 1920 года, к Наркомздраву поделиться с кинематографистами своими дореволюционными богатствами, «передать хотя бы часть вашего запаса в Фото-кинематографический отдел Наркомпроса», осталась без удовлетворения.
Опыты Кулешова, фактически, были тем, что во ВГИКе, ставшем преемником ГТК, значительно позже получило название актерских этюдов. В тех случаях, когда в его распоряжении оказывалась пленка (подчас даже бракованная, с истекшим сроком годности, посему дающая серовато-тусклое, не пригодное для демонстрации на большом экране качество изображения), он снимал отдельные кадры, ставшие доказательством его представлений о кинематографическом монтаже, о том, что позже в мировой кинематографической теории было названо «эффектом Кулешова». Открытия режиссера в области монтажа, как и его фильмы, снятые в 1920-е годы, выглядели прорывом в области эстетики кино.
Коллеги Кулешова по профессии совершили очередной шаг на открытом им пути. Они прежде неведомые выразительные возможности кинематографического монтажа, позже в мировой кинематографической теории получившего название «русского монтажа», соединили с новым, революционным, содержанием. Фильмы Сергея Эйзенштейна «Стачка» (1924) и «Броненосец „Потемкин“» (1925), Всеволода Пудовкина «Мать» (1926) открыто обратились к неведомым прежде темам недавней русской революции.
Они сделали это сознательно, не как профессионалы, исполняющие волю продюсера, снимающие свои картины на собранные тем деньги, по купленному им сценарию, строго выполняя записанные драматургом указания. Их ленты стали тем, что позже получило название авторского кино. Режиссеры принесли молодому советскому кино мировую славу, став надолго символом революционного прорыва в кинематографическом искусстве. Фильмы, названные выше, как и некоторые другие, созданные в 1920-х годах, снимались без назойливого надзора и ценных указаний со стороны власти.

Даже в том случае, когда, казалось, за созданием ленты в честь двадцатилетия революции 1905 года на разных стадиях наблюдала государственная юбилейная комиссия, Эйзенштейн (а речь идет о его «Потемкине») позволил себе немало вольностей, начиная с резкого сокращения утвержденного ранее сценария, непредставления комиссии не только предварительных, черновых материалов ленты, но и ее в целом. Широко известна описанная самим автором история первого показа фильма, который проходил в Большом театре, где в тот вечер состоялось торжественное юбилейное собрание. Режиссер, не успевая с монтажом ленты к сроку, завершал склейку последних кадров в то время, когда собрание в Большом театре уже началось. Тут, понятно, не могло быть и речи о каком-либо давлении власти (хотя бы той же госкомиссии) или о политической цензуре.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить очевидную сегодня закономерность. Произведения многих авангардистов, российских авторов 1920-х годов — не только кинорежиссеров, но и живописцев, деятелей театра, архитекторов, писателей, — стали классикой мировой художественной культуры. Они создавались в условиях, когда новая российская власть находилась в сложном положении, и у нее, практически, руки не доходили до художественной культуры. Та на какое-то время оказалась вне пристального внимания государственных и партийных органов. Не получала не только должной финансовой поддержки, но и назойливой опеки. Развивалась, как и должно быть в подлинной культуре, по своим собственным, спонтанным законам.
Впрочем, такая вольница длилась не долго, меньше десяти лет. Пройдя через гражданскую войну, послевоенную разруху, краткий всплеск нэпа, расцвет многочисленных художественных группировок со своими шумными, эффектными манифестами, — власть обратила более пристальное внимание на положение в художественной культуре. Решила, что та развивается не так, как следует.
Немалую роль в подобной оценке послужила эстетическая «глухота» подавляющего большинства партийных и государственных функционеров. Луначарский оказался первым и, кажется, единственным руководителем культуры в стране, способным профессионально судить о ее произведениях. (Впрочем, его заменили на посту наркома народного образования в конце 1920-х.) Обычно кадровые решения в области художественной культуры принимались, исходя из партийного прошлого кандидата на должность. Подобным образом, кстати, случилось и со сменщиком Луначарского.
Для многих такие назначения в сфере культуры становились результатом провала на предыдущем месте работы. Невозможно было бы ожидать от подобных людей искреннего восторга перед талантами и открытиями художников-новаторов, даже когда тематически их произведения напрямую относились к революционной проблематике и не вызывали сомнений в идейной чистоте.
Недооценке их творческих достижений властью способствовало, в какой-то степени, и то, что подавляющее большинство тех произведений искусства, которые сегодня во всем мире признают бесспорной и недостижимой классикой, во время их появления на свет не пользовалось в стране сколько-нибудь устойчивым успехом у широкой, массовой аудитории. Не стоит, кроме того, забывать, что большевистские лидеры, любящие при каждом удобном случае поговорить об особой ценности произведений, наделенных высокими идейными качествами, уделяли немалое внимание кинематографу, как высокодоходной части государственного бюджета. Недаром, в докладе на XIII съезде партии (1924) Сталин сообщал не без гордости делегатам о том, что кино в стране стоит на втором месте по доходности после торговли водкой.
О том, что наши кинематографические революционные шедевры не получили должного понимания на своей родине, советские киноведы долгие годы предпочитали не вспоминать, снова и снова приводя восторженные отзывы зарубежных коллег о несравненных достоинствах фильмов отечественных мастеров кино 1920-х годов. Впрочем, и в зарубежном прокате, где голосовали монетой не интеллектуалы-критики, а рядовые западные обыватели, наши замечательные ленты не пользовались выдающимся, достойным их в полной мере финансовым успехом, не становились тем, что позже получило название блокбастеров.
Не следует забывать, что и восторженные рецензии в прессе, и первые места в мировых рейтингах лучших фильмов всех времен и народов, и призы на появившихся в мире международных кинофестивалях, — всегда были плодом высказываний и оценок профессионалов, наделенных знанием того, что происходило и происходит в культуре, обладающих высокими эстетическими вкусами, понимающих то, что выходило далеко за пределы потребностей массовой аудитории.
Об этом много позже писала в таком же, изданном сектором в количестве 100 экземпляров ротапринтном сборнике, наша коллега Н. М. Зоркая:
«… решительно все ныне классические шедевры авангарда, за редкими исключениями, имели прокатный провал. В том числе и „Броненосец „Потемкин““. О том, что даже на экспорт наш великий фильм №1 всех времен и народов — „Потемкин“ — продавался с меньшей выгодой, чем „Коллежский регистратор“ или „Медвежья свадьба“, — об этом свидетельствуют годовые киносправочники, выпускавшиеся „Теа-Кино-Печатью“ в 1926—1929 годах и далее прекратившие свое существование, по видимому, именно в силу все уменьшавшейся гласности и начавшегося всеобщего засекречивания».
Под крылом Луначарского
Сравнивая то, что демонстрировала власть в начале и в конце 1920-х годов, можно достаточно легко обнаружить совершенно очевидную эволюцию от сравнительно мягких, во всяком случае на словах, способов ее воздействия на художественно-культурный процесс, до гораздо более грубых и определенных. Многое тут зависело от личности первого Народного комиссара по просвещению Луначарского, настоящего русского интеллигента, драматурга, теоретика искусств, который исполнял эту должность с ноября 1917-го по октябрь 1929-го года. Он был убежденным коммунистом, членом партии с 1895 года, соратником Ленина по революции, пользовался особым доверием последнего, в особенности, когда вопрос касался новейших направлений в литературе и искусстве.
Тут вождь революции, не стесняясь признать свою некомпетентность в непростой эстетической сфере, отсылал собеседников (или оппонентов) к Наркому. Предоставлял ему сформулировать позицию новой власти по отношению к тому, что позже получило название художественного авангарда в разных видах творчества.
Историки советской художественной культуры, а также, в особенности, деятели искусства послевоенной поры, имеющие дело с очередным ее не очень компетентным руководителем, постоянно вспоминали и вспоминают Луначарского как идеального наркома/министра, наделенного пониманием изнутри самой природы художественного творчества. Это действительно так: никогда после его отставки в нашей стране не стоял во главе культуры человек такого масштаба — интеллектуального, политического, а, главное, эстетического, творческого.
Впрочем, вряд ли стоит идеализировать эту фигуру, теша себя надеждами, будто не он проводил в течение двенадцати первых лет революции линию партии в области культуры. Мы отмечали выше, цитируя официальные документы новой власти, касающиеся литературы и искусства, что Луначарский, как человек высочайшей культуры, обширных знаний, блестящего ораторского дарования, многочисленных личных связей с выдающимися деятелями отечественной творческой элиты, на первых порах выглядел белой вороной на фоне большевистских руководителей — «братишек в кожаных тужурках», «комиссаров в пыльных шлемах» и других не в меру рьяных деятелей революции, весьма далеких от сферы изящного. Он, к тому же, пытался оседлать естественное для большой части творческих работников стремление к радикальным переменам в искусстве, которое, с их точки зрения, оказалось прежде опошленным от того, что в пору раннего российского капитализма попало в руки толстосумов.
Дружба с «леваками» и, главное, понимание сути их непростого для профана искусства, давала Луначарскому очевидную фору по отношению к другим политическим деятелям, прикасающимся к этой сфере в первые годы после Октябрьской революции Сам Луначарский вспоминая то время, приводит слова Ленина, которого попросили как-то высказаться о выставленных для обозрения проектах памятников, сделанных в авангардистской, футуристической манере. Ленин ответил:
«Я тут ничего не понимаю, спросите Луначарского».
Долголетию пребывания Луначарского на посту Наркома по просвещению, кроме его давней дружбы с Лениным, в какой-то степени способствовало и положение в стране. Сначала необходимость говорить о грядущем заседании Учредительного Собрания, затем несколько лет НЭПа в середине 1920-х в значительной мере притормозили радикальные меры большевиков по введению унификации в художественной сфере. Именно на середину десятилетия выпадает, в основном, чрезвычайное, до пестроты, разнообразие творческих группировок, школ, стилей, бурных, непримиримых дискуссий, ярких открытий в искусстве, — то, что для всего мира стало феноменом удивительного художественного прорыва, совершенного в России в бурные 1920-е годы представителями разных видов искусства, не только кинематографа.
Впрочем, НЭП, как известно, был довольно быстро свернут, — не успев по-настоящему расцвести и принести все ожидаемые от него плоды. В связи с этим, снова подняли голову самые радикальные элементы в среде большевистских ортодоксов, для которых свобода и разнообразие в творчестве (даже, если по содержанию своих произведений оно было вполне лояльным по отношении к политическим лозунгам дня) выглядели неприемлемыми. Разнообразие мнений, которое, на первых порах, допускалось в какой-то степени даже внутри партии (где были, как известно, отдельные платформы, направления, оппозиции и т. д.), стало довольно быстро меняться на единомыслие. Понятно, что художественная мысль не могла в этом процессе стать исключением.
Нетрудно заметить, что вторая половина десятилетия (скорее даже, его 3–4 последние года) оказалась, при внимательном ее сравнении с тем, что было на рубеже 1910-х и 1920-х, разительно отличающейся в понимании властью своих задач в деле руководства культурой. Если в первые месяцы и годы после переворота преобладало стремление что-то сразу же запретить или, напротив, внедрить, — исходя из сиюминутных классовых интересов победителей, — то спустя десять лет стали обнаруживаться новые аспекты, свидетельствующие о намерении власти сформировать и обозначить некую стратегическую линию.
С этим обстоятельством связаны многочисленные перестановки кадров в сфере идеологии, множество реорганизаций, закрытие одних и открытие других учреждений, которые сегодня, спустя много лет, кажутся, подчас, дублирующими друг друга. Видимо, власть искала и не сразу находила наиболее эффективные методы управления художественной культуры, отличные от прежних, показавшихся ей слишком либеральными. Главное направление, по которому шло развитие, — состояло в предельной централизации развития всех форм культуры, тотального подчинения учреждений культуры, а, вслед за тем и отдельных авторов и произведений искусства идеологическим лозунгам дня.
«Вторая половина 20-х годов в СССР — время перелома в управлении искусством», — читаем мы в книге известного социолога художественной культуры. И, в самом деле, — в помощь Наркомпросу, который явно не справляется со всем объемом идеологической работы в области искусства, начинают возникать разного рода структуры. Или уже существующим организациям вменяются новые, более серьезные обязанности, а заодно им даются большие, нежели прежде, полномочия.
Так случилось в конце 1925 года с существующим в составе Наркомпроса Главным политико-просветительным комитетом (Главполитпросвет). Наряду с руководством борьбой с неграмотностью он стал отвечать еще и за руководство работой массовых художественных учреждений. А входящее в состав Наркомпроса Главное управление научными, музейными и научно-художественными учреждениями (Главнаука) получило дополнительную обязанность — руководить еще и государственными академическими театрами и музыкальными учреждениями.
Ведомство Луначарского продолжали расширять и загружать все новыми и новыми задачами. В апреле 1928-го года в составе Наркомпроса появилось еще одно, очень важное для нашего повествования, подразделение — Главное управление по делам художественной литературы и искусства (Главискусство). В качестве цели создания этого органа Совнарком прямо указывал на необходимость «усиления со стороны государства идеологического и организационного руководства в отношении литературы и искусства».
Начальником нового Главного управления был назначен человек, до того состоявший членом коллегии Рабоче-крестьянской инспекции, а затем поработавший какое-то время заместителем Наркома земледелия. Хоть он и был, как сообщают исторические источники, по своему революционному прошлому хорошо знаком с Луначарским, — все же, для руководства такой тонкой материей, какой является искусство, хотелось бы видеть другого человека.
Впрочем, уже в следующем году руководитель Главискусства был отправлен на дипломатическую работу в Латвию, а само ведомство оказалось в очередной раз реорганизовано в Совет по делам художественной литературы и искусства с сохранением за ним всех тех задач, которые вменялись Главискусству. «Существенным шагом в направлении все более жесткой централизации управления искусством стала предусмотренная тем же постановлением организация при краевых, областных и окружных отделах народного образования советов по вопросам искусства. Это означало, что на местах впервые должны были появиться органы, призванные в комплексе обеспечивать контроль и руководство всей сферой искусства».
Все эти новации и реорганизации, при том что никто не решался оценивать в ту пору их эффективности и, тем более, сокровенного смысла, свидетельствовали о том, что власть существенно закручивала гайки в художественной жизни страны. И — не только в ней. В этих условиях Луначарский оказался слишком мягкотелым и интеллигентным человеком. Его, поскольку уже пять лет как не было в живых его друга и защитника, осенью 1929-го заменили на посту Наркома на человека, который до того возглавлял Отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП (б), а затем в течение последних пяти лет стоял во главе политуправления Красной Армии. Полагаем, подобный послужной список достаточно красноречиво обозначает смысл нового назначения.
Уже к лету следующего года в Наркомпросе были проведены очередные радикальные перемены. Вместо главков появились сектора, одним из которых теперь стал еще недавний Совет по делам литературы и искусства. Возглавил старый/новый сектор революционер-подпольщик Феликс Кон, имевший, в отличие от наркома, пусть не в таком масштабе, как Луначарский, но все же некоторое отношение к творческой сфере, — до этого назначения он редактировал крупные газеты.
Но самым, пожалуй, существенным в произошедших переменах стало то, что «внимание сектора в еще большей мере концентрировалось вокруг двух центральных задач: „идеологическое руководство, обеспечивающее интересы диктатуры пролетариата и марксистско-ленинской методологии во всех областях искусства“ и „проведение политико-идеологического контроля над репертуаром всех театральных, кинематографических и музыкальных предприятий, а также над выставочной деятельностью изохудожественных предприятий“. Другими словами, по сути речь шла об усилении унификации советского искусства».
Становилось ясным, что литература и искусство в эти годы выдвигаются на передние фронтовые рубежи в идеологической битве за чистоту классовых принципов. Все, что происходило во второй половине 1920-х годов в сфере художественной культуры страны, шаг за шагом, постепенно, но неумолимо вело к рубежному апрельскому (1932) Постановлению ЦК ВКП (б), положившему конец всем творческим поискам в литературе и искусстве, порожденным 1920-ми годами, эстетическому многообразию, принесшему отечественному художественному творчеству всемирную славу.
Кинематограф и цензура
Кинематограф, по сравнению с другими видами искусства, всегда имел целый ряд существенных отличий. Для своего функционирования он требовал устройства системы проката, которая, традиционно, была связана с сетью стационарных кинотеатров. В Европе и Америке, где структура населения свидетельствовала уже в ту пору о превалировании горожан над селянами, проблема строительства залов для показа фильмов была решена довольно быстро. В нашей же стране в середине 1920-х городского населения было совсем еще немного. Всего 101 город насчитывал более 50 тысяч жителей: видимо, с этого числа можно говорить о рентабельности строительства специального кинотеатра. Городов, превышающих этот размер, от 100 до 500 тысяч проживающих, было 28, и лишь три города в стране превышали цифру в 500 тысяч.
Сельское население в стране было не только преобладающим в числе, но и — в этом состояла особенность территории самой большой страны мира — рассредоточенным на огромных расстояниях от культурных центров. Решение непростой проблемы обеспечения сельского зрителя фильмами находилось на пути развития передвижной кинопрокатной сети. Кинопроекционный аппарат, механик, его обслуживающий, коробки с пленкой фильма, — все это погружалось сначала на телегу, затем на автомобиль, а много позже, возможно даже, и на вертолет (вспомним кадры из фильма «Мимино»), чтобы добраться до своего зрителя.
При том что такой вариант функционирования «самого важного из искусств» кажется явно не соответствующим его общественному престижу, тем не менее, на многие годы он стал преобладающим в нашей стране. Для нашей темы тут есть одна немаловажная особенность: при таком способе обеспечения населения фильмами у власти возникает уникальная возможность тотального контроля над репертуаром: ведь в каждую отдельную деревню или село доброхоты из ближайшей (областной или, чаще, районной конторы кинопроката) привозят только один фильм, причем, как нетрудно догадаться, по выбору тех, кто привозит.
А выбирали они всегда одну ленту из той не очень большой коллекции, которая прошла немало самых тщательных проверок на идеологическую безупречность. Таким вот простым, а, на самом деле, весьма хитрым и эффективным способом государство не только осуществляло цензурные цели, но и, заодно, обеспечивало воспитание трудящихся сельских масс в нужном направлении.
Впрочем, использование безграничных цензурных возможностей, таящихся в том, что в статистических отчетах скромно, в отличие от стационарных кинотеатров, называлось «передвижными киноустановками», выглядело самым простым и, главное, локальным, решением вопроса. Оно подходило для тех случаев, когда речь заходила о необходимости выбора из уже существующего, прошедшего все инстанции, набора лент, находящегося в прокатной сети.
А перед властью с самого начала стояла другая, гораздо более амбициозная задача: сделать так, чтобы все, без исключения, произведения искусства, рассчитанные на массовую аудиторию, полностью соответствовали догмам большевистской теории и сиюминутным установкам партии. Как ни странно, в достижении этой цели, своего рода программы максимум, нельзя было полагаться только на цензуру, пусть даже самую строгую.
Ведь в цензуре, по определению, устанавливаются запреты для художников («что нельзя»), в то время как в ней не указывается, да и, пожалуй, не может быть указано в исчерпывающей мере, желаемое властью («что можно» и «что нужно»). Власть чаще всего предпочитает не только обороняться от нежелательных произведений искусства, но и активно способствовать появлению и распространению тех художественных опусов, которые работают на нее. Возникает явление, которое много позже, уже в новое время, получило название госзаказа.
В самом деле, известно, что время от времени любая власть — начиная с египетских фараонов и кончая нынешними демократическими лидерами, — высказывает мастерам того или иного вида искусства свои пожелания: о чем бы им хотелось прочитать (если речь идет о литературе), услышать (музыка), увидеть (изобразительные и зрелищные искусства). Сильные мира сего — монархи, церковные иерархи, богачи всех мастей, — всегда были заказчиками произведений искусства, подчас становящимися затем, как это было с живописью и скульптурой, заказанными Папами Римскими гениям Итальянского Возрождения, нетленной классикой на все времена.
В отечественной истории было немало примеров подобного рода. Новая, северная столица государства — «Петра творенье» — была построена по единому плану императора, решившего создать новый город на берегу Финского залива, приглашенными из-за границы архитекторами. Нередко вспоминают о том, что климатические условия в том месте, которое Петр Великий выбрал для строительства города, оказались не самыми лучшими. От постоянных наводнений страдали и страдают его жители. Да и в погожие дни, которых здесь намного меньше, чем в столице южной, прежней и нынешней, — дышится легко тут далеко не каждому.
Петрову столицу, при всем желании, трудно назвать городом, который расположен к своим жителям, к отдельному человеку. Это, конечно, имперская столица, восхищающая и подавляющая одновременно. Как и следует выглядеть столице настоящей империи. Цельность и грандиозность архитектурного замысла, гениальность творческих решений отдельных зданий и целых ансамблей — все в этом городе производит сильнейшее впечатление.
Два с лишним века спустя, созидая новую, советскую империю, большевики пытались было найти, подобно Петру, яркое архитектурное воплощение своего времени. Талантливые зодчие, вдохновленные идеей строительства общества светлого будущего, устремились, выполняя госзаказ, по пути создания проектов совершенно необычной архитектуры. Однако, она, почти вся, за редчайшими исключениями, осталась на бумаге, в качестве чертежей и эскизов, так как у страны тогда не только не хватало средства, но еще не было новейших технологий, открытых человечеством в ХХ веке, на которые была рассчитана фантазия авторов.
В результате, социальный заказ государства оказался не выполнен. Вместо легкой, устремленной в будущее архитектуры, какой она была в замыслах и чертежах новаторов, — от периода истории советского зодчества остались тяжеловесно-помпезные «сталинские» высотки, ставшие чем-то средним между неуклюжим подражанием башням московского Кремля и архаичным стремлением обозначить величие эпохи внешними средствами, — рекордными для своего времени высотами и объемами возводимых зданий. История замысла и последующего отказа от работ над созданием грандиозного Дворца Советов рядом с Кремлем стала чувствительным ударом по присущей власти гигантомании и уверенности в своих безграничных силах.
Несмотря на отдельные неудачи и проколы, практика госзаказа в области искусства надолго, вплоть до наших дней, вошла в практику государства. Она, чаще всего, связана с какими-то важными историческими датами, отдельными выдающимися лицами, а то и целыми жанрами или тематическими направлениями. Обычно среди профессионалов заранее объявляется конкурс, объявляются сроки представления работ, назначается авторитетная конкурсная комиссия, которая называет победителей заявок, которые затем получают финансирование и т. д., — все это хорошо известно и не раз обкатано на практике. Важно тут то, что при госзаказе ведомство, представляющее власть, берет на себя все расходы. Ну, и, понятно, кто платит, тот и заказывает музыку.
Особенностью развития разных видов искусства в нашей стране было то, что, после их национализации в первые годы советской власти, все они, в основном, финансировались из госбюджета на сто процентов. Говоря другими словами, ситуация, подобная госзаказу, была (во всяком случае, для кинематографа, о котором здесь идет речь) повсеместной. Такая практика всегда вызывала нескрываемую зависть у зарубежных коллег-кинематографистов, постоянно озабоченных необходимостью выискивать средства для воплощения своих творческих замыслов.
В нашей стране уже в 1930-е годы были созданы крупные государственные киностудии (тогда их называли кинофабриками) по производству игровых (документальных, научно-популярных и мультипликационных) фильмов. В них сразу же начали работать сценарные отделы: популярность киноискусства была в ту пору в стране так велика, что в каждую студию шел поток заявок, а то и уже написанных сценариев от множества непрофессионалов, дерзающих на поприще своей мечты, — и нужно было их читать, составлять внятные отзывы, отсылать авторам и т. д., и т. п.
В предвоенные десятилетия не было еще обыкновения тщательного, покадрового редактирования создаваемых фильмов. Замысел и сценарий обсуждались довольно подробно, но, чаще всего, внимание обращалось на самое общее: идейное содержание, соответствие сочиненного драматургом произведения политическим установкам дня. При том что в стране процветала шпиономания (повсюду искали «вредителей» и часто находили их, — об этом рассказывалось в подробностях в сюжетах многих лент), у руководства студий не было опасений, что в процессе съемок, которые традиционно длились в течение многих месяцев, будут какие-то злонамеренные отступления от принятого и запущенного в производство сценария.
Термин «аллюзии», четыре категории в оценке качества принимаемой ленты, «полка», на которой можно оказаться в случае решительного неприятия со стороны кинематографического начальства, — все это появилось много позже, уже в постсталинское время. А при нем, как известно, судьбу немногих фильмов, которые снимались тогда в стране, решал лично вождь. Ему, по сложившейся традиции, руководитель ведомства — Шумяцкий, Дукельский, Большаков — привозили в Кремль готовую ленту, где во время ночного просмотра и решалась ее судьба.
У Сталина не было обыкновения придираться к отдельным сценам или, тем более, репликам. Он принимал или не принимал кинофильм в целом. Подчас даже не досматривал картину до конца, прекращая просмотр и не высказав своего вердикта, что для присутствующего тут же киноруководителя, неплохо знающего вкусы вождя, становилось определенным сигналом к последующему решению судьбы произведения и его авторов на уровне ведомства.
Жертвами кинематографических вкусов вождя становились не только слабые ленты не очень талантливых авторов, но и произведения тех, кто по праву считался к тому времени классиками советского и мирового кино. Александр Довженко получал незаслуженные упреки в украинском национализме, Всеволода Пудовкина, как приготовишку, разнесли за фильм, снятый по сценарию Александра Ржешевского, Эйзенштейна сначала унизили, запретив его «Бежин луг» и заставив его каяться в допущенных там мнимых ошибках, а затем довели до инфаркта, ставшего для него роковым, объявив вторую серию «Грозного» грубой политической ошибкой, удостоенной разносного Постановления ЦК партии.

В позднесталинское время кинематограф страны, задушенный отеческой заботой вождя, переживал худшее время в своей истории. Фильмов стали снимать совсем немного, и большинство из них выглядело скучными и выхолощенными партийными прописями на разные темы, в основном, касающимися прошлого. Спасением кинопроката, хотя и далеко не бесспорным, стали фильмы-спектакли, составлявшие на рубеже 1940–1950-х годов значительную часть репертуара.
С середины 1950-х начались резкие перемены в нашем кинематографе. Выросло количество снимаемых лент, стало другим их качество. Время, названное «оттепелью», оказалось весьма плодотворным. Что касается нашей темы, то тут, пожалуй, был самый счастливый, хоть и очень короткий, период в истории отечественного кино. Период, когда первостепенной задачей всех имеющих к этому отношение инстанций, в том числе и властных, стало обеспечение после времени малокартинья притока в кинопроизводство новых творческих кадров, решительного увеличения снимаемых в стране фильмов.

Тогда именно были созданы Высшие курсы режиссеров и сценаристов, где одаренные люди разных не-кинематографических специальностей осваивали знания в области кино. Курсы должны были выступить в помощь ВГИКу, прежних мощностей которого явно не хватало для новых нужд развивающейся кинематографии. Впрочем, эти же нужды побудили создать кинофакультеты во многих, в особенности, местных, театральных и художественных вузах.
Конечно, общий уровень киноподготовки от такого расширения довольно заметно упал, но на первых порах работы хватало всем, учитывая, тем более, что, наряду с кинематографом, предназначенным для зального проката, в стране родилось и бурно развивалось телевизионное кино. Правда, уже на следующем этапе развития в стране возникло немало школ, курсов, даже вузов, специализирующихся на подготовке телеспециалистов, что, в свою очередь, привело к очередному, далеко не последнему, падению уровня профессионализма.
В итоге, подобно тому, что в стране много позже, уже в 2000-е годы, обнаружилось явное перепроизводство юристов и экономистов, — в 1970–1980-е сходное явление, пусть, конечно, меньшее по масштабам, можно было наблюдать в подготовке кинематографистов. Им довольно скоро перестало хватать мест в художественном производстве. И, казалось бы, грозила жестокая безработица, если б не одно обстоятельство.
Оно состояло в том, что именно в это время в стране не только на всех производящих киностудиях, но и, прежде всего, в местах сосредоточения кинематографической власти (это государственные союзно-республиканские органы, Комитеты по кинематографии Совета министров СССР и, соответственно, Совминов всех пятнадцати союзных республик) пышным цветом расцвел кинематографический редакторат. На эти именно, редакторские, должности приходили работать в те годы, в основном, выпускники ВГИКа и других кинематографических вузов.
Несостоявшиеся (или, может быть, ненужные, в связи с перепроизводством) сценаристы и критики, а подчас и режиссеры оказались весьма компетентными редакторами, неплохо знающими кухню творчества. Но, главное, — во всем послушными воле начальства. Они по малейшему намеку могли найти в любом, самом совершенном произведении (заявке, сценарии, уже снятом фильме) сколько угодно изъянов. И грамотно написать иезуитский документ/заключение, категорически требующий от авторов тех или иных поправок. Или вовсе произносящий их опусу смертельный приговор.
Три десятилетия отечественного кино — с середины 1950-х по середину 1980-х — стали торжеством редакторских придирок. Трудно найти хоть сколько-нибудь заметный по своим эстетическим качествам фильм той поры, который бы не носил на своем теле множество шрамов от ран, нанесенных ему редакторами. Каждое их замечание, безоговорочно поддержанное руководством разного уровня — от начальника сценарного отдела до директора студии, или, бери выше, самого киноминистра — не обсуждалось, являясь прямым руководством к действию.
В зависимости от уровня кинохудожника — одно дело, дебютант, получивший счастливую возможность выступить с самостоятельным фильмом, другое — народный артист, лауреат Сталинских (позже Государственных) премий, у которого за спиной десяток прославленных лент, — редакторские требования выражались по-разному. Но разница эта заключалась, фактически, не в сути приговора, а лишь в тоне, каким высказаны замечания.
Скажем, Юлию Райзману и его сценаристу Евгению Габриловичу, авторам фильма «Коммунист», после того как он был сдан руководству «Мосфильма», последовали замечания тогдашнего министра культуры Николая Михайлова. Тому показалось недостойным творческим решением, что Ленин, когда тому сообщают о гибели Василия Губанова, простого кладовщика на строительстве одной из первых послереволюционных ГЭС, с которым он когда-то встречался, когда тот дошел до Кремля в поисках необходимых для стройки гвоздей, — признается, что не может вспомнить этого человека.
У читателя сценария «Кладовщик» (так он назывался в первой, авторской редакции) и у зрителей, видевших фильм в первозданном виде, возникало не только доверие к происходящему, но и ощущение массы людей, которые со своими нуждами проходили в те годы через Кремль. Они понимали, что запомнить каждого из них нет никакой возможности даже для человека с феноменальной памятью. И гибель безвестного кладовщика от этого обретала для зрителей, наделенных вкусом, эстетически более впечатляющее звучание.
Министр, лишенный, видимо, элементарного эстетического чувства, требовал от художников выполнить его указание. Для тех, понятно, сделать то, что сделали бы другие, менее именитые художники, — переснять сцену так, чтобы Ленин, прежде не вспомнивший Губанова, вдруг сразу же вспомнил его, было неприемлемо. Сошлись на том, что вождь в ответ на сообщенную ему новость произнесет (по телефону) политическую речь, длинную тираду, обличающую «господ империалистов», которые «просчитались…». Получилась грубая, антихудожественная заплата, с которой лента пошла в широкий прокат.
В тех случаях, когда замечания касались не самых главных сцен фильма, отдельных реплик или даже слов, подчас удавалось, при готовности авторов к уступкам, выйти из положения. Широко известна история с «Бриллиантовой рукой», где редакторов напугала фраза героини Нонны Мордюковой «Он посещает синагогу…». Тогда остро стоял вопрос с невыпуском в Израиль советских евреев, о чем шумела западная пресса, — и, видимо, начальство решило не касаться, пусть в проброшенной фразе, скользкой темы. К счастью, Леонид Гайдай не стоял на смерть, что, возможно, грозило бы судьбе ленты, он ограничился переозвучанием одного слова, заменив его на другое, сходное по числу слогов. Подавляющее большинство зрителей не обратило внимание на алогичность текста героини: жанр кинокомедии такие казусы если не предполагает, то, во всяком случае, допускает.
Киноредакторы прекрасно знали психологию большинства авторов лент, которые готовы спасти свое детище, по возможности, малой кровью, — лишь бы оно дошло до зрителей. Правда, дистанция между «малой» и «большой» кровью редакторами всячески минимизировалась, они всякий раз убеждали авторов, что предложенные им поправки и переделки лишь улучшат созданное ими произведение. Во всяком случае, не нанесут ему особого ущерба.
В нашей книге в статье В. Мукусева можно в подробностях прочитать о том, с какой изощренной жестокостью, смешанной с откровенной демагогией и подменой политических тезисов выступала редактура против фильма выпускника Высших режиссерских курсов Александра Аскольдова «Комиссар». Тогда авторы, не увенчанные званиями народных и госпремиями, стояли на своем, и лента оказалась под запретом, где она находилась в течение много лет, совершенно случайно сохранившаяся для зрителей.
Иногда, по прошествии времени, кинематографисты признаются в той слабине, которую они давали, не выдержав давления редактуры. В недавнем газетном интервью известного режиссера Владимира Бортко можно прочитать:
«Помню наш разговор с Мироновым и автором сценария „Блондинки“ Сашей Червинским в „Астории“. Сидели, решали, что нам делать, вносить ли цензурные поправки, которые от нас требовали. Если не вносить, фильм сразу положат на полку, и все. Но очень хотелось, чтобы фильм вышел, вот и пошли на уступки. Это было наше общее решение всех троих».
Многое в судьбе ленты зависело от разного рода обстоятельств и форм решения, уготовленного произведению властью. Иногда, как это случилось с «Заставой Ильича» Марлена Хуциева, ту же эстетическую «глухоту» проявил не министр, как в случае с лентой Райзмана, а всесильный партийный лидер. И режиссеру, в ту пору еще не вошедшему в число живых классиков, пришлось смириться с экзекуцией, приведшей к искажению его творческого замысла. К счастью, Хуциев дожил до той поры, наступившей после V съезда Союза кинематографистов, когда было снято с «полки» немало запрещенных лент, в том числе и «Комиссар», а другим, вынужденно исковерканным их авторами, как это случилось с «Заставой Ильича», позволил обрести свой первоначальный облик…
Хэппи энд, который с легкой руки мастеров Голливуда стал законом кинодраматургии, оказался применим и к той драматической истории советского кино, которая длилась все семьдесят с лишним лет советской власти. Жертвами социального эксперимента, как показала практика, стали самые талантливые, ищущие кинематографисты. Некоторые из них не дожили до дня, когда, наконец, их произведения обрели свободу и заняли достойное их место в отечественной художественной культуре.
Юрий Богомолов
•
Смены вех

Об авторе
Кинокритик, телеобозреватель, ведущий на радио «Свобода». Автор статей в газетах и журналах: «Советская культура», «Литературная газета», «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки».
Книги: «Курьеры муз», «Между мифом и искусством», «Хроника пикирующего телевидения», «Затянувшееся прощание. Российское кино и телевидение в меняющемся мире».
«Фильм, после которого, я сам не знаю почему, заинтересовался кино как искусством, — „Урок жизни“ Юлия Райзмана».
Ключевые слова: #мифократический режим #идеократический режим #мифомир #киносталиниана #мыслепреступление #душепреступление #Эйзенштейн #Вертов #Булгаков #Оттепель #Шпаликов #Сокуров #Балабанов.
Отдельный интерес к художественной культуре вызывают те исторические моменты, когда одна социально-политическая эпоха сменяется другой. В ХХ веке дважды радикально менялось направление развития страны. Один — в начале ХХ века, под ударами двух революций в 17-м году. Другой — в конце века — вследствие крушения так называемой Красной империи. Был, правда, еще один разлом, не столь травматичный. Имя ему — Оттепель. Это случилось аккуратно в середине века.
Всякий раз культура, так или иначе, более заметно или менее очевидно, таясь и взрываясь, реагировала на них — и сожалениями о былом, и прогнозами на завтра. Такого рода исторические мгновения примечательны тем, что кризисы в развитии художественной культуры почти одновременны с ее подъемом. Тому есть объяснения. О них ниже.
Мы — не люди?..
Некоторые культурологические основания для исследователей этих явлений дают две такие коллективные работы, как «Вехи» (1909) и «Смена вех» (1921). Первая написана после поражения революции 1905-го, вторая — после торжества Октября 17-го. Вилка — в десять лет. В нее втиснулось сразу несколько гуманитарных катастроф: Первая Мировая война, две революции и еще одна мясорубка под названием Гражданская война. Неудивительно поэтому, что культура тогда стала с ног на голову, а затем — на колени. Некоторые из ее мастеров — на четвереньки.
Но еще до того, как она оказалась униженной и утилизированной советским режимом, один из авторов «Вех» Михаил Гершензон поставил довольно точный диагноз культурной элите, находящейся в подавленном, депрессивном состоянии после кровавого воскресения 1905-го года:
«Нет, я не скажу русскому интеллигенту: «верь», как говорят проповедники нового христианства, и не скажу также: «люби», как говорит Толстой. Что пользы в том, что под влиянием проповедей люди в лучшем случае созна́ют необходимость любви и веры? Чтобы возлюбить или поверить, те, кто не любит и не верит, должны внутренне обновиться, — а в этом деле сознание бессильно. Для этого должна переродиться самая ткань духовного существа человека, должен совершиться некоторый органический процесс в такой сфере, где действуют стихийные силы, — в сфере воли.
Одно, что мы можем и должны сказать русскому интеллигенту, это — постарайся стать человеком. Став человеком, он без нас поймёт, что ему нужно: любить или верить, и как именно.
Потому что мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть, русских интеллигентов, и уродство наше — даже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное. Мы калеки потому, что наша личность раздвоена, что мы утратили способность естественного развития, где сознание растёт заодно с волею, что наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко и мчится впустую, оставив втуне нашу чувственно-волевую жизнь. Русский интеллигент — это, прежде всего, человек, с юных лет живущий вне себя, в буквальном смысле слова, т. е. признающий единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто, лежащее вне его личности — народ, общество, государство».
Об уродствах, как случайных, так и насильственных, о невольной или сознательной раздвоенности русского интеллигента, о сознании то и дело, отрывающемся от чувственно-волевой жизни и уносящемся в заоблачные выси, будем помнить, исследуя процессы и эксцессы художественного развития в отечественной культуре.
…В феврале 17-го попытка поставить Государство под контроль гражданского Общества закончилась переворотом в Октябре, увенчавшимся после победоносной для большевиков гражданской войной и тотальным господством советского режима над индивидуумом.
Режим провозгласил курс на коллективизацию. Большим, единым колхозом и большим единым заводом обязана была стать страна.
До этого на пути к сталинской репрессивной системе случился краткий миг демократической вольницы. То был миг иллюзий относительно роли Культуры в новом государстве. Предполагалось, что именно она займет командную высоту. И что именно она будет определять стиль и образ жизни нового человека, именно она станет регламентировать общественные отношения. Даром что ли Велемир Хлебников назначил себя Председателем Земного Шара. Несколько позже правопреемник старой культуры Максим Горький тешил себя надеждой, что по возвращении из Сорренто он на пару с Отцом народов будет править коммунистическим раем.
Авангардистская культура до какой-то черты дружила с политикой. Другими словами, сохраняла с ней тесные партнерские отношения. В первые годы советской власти в стране господствовал так называемый идеократический режим. Это как раз случай по Гершензону, когда «наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко (в коммуне остановка предполагалась) и мчится впустую, оставив втуне нашу «чувственно-волевую жизнь». Тогда и были созданы великие авангардистские картины Эйзенштейна, Вертова, Довженко, Калатозова, Козинцева и Трауберга…
Параллельно те же процессы шли и в поэзии, и в прозе, и в театре.
Тот «паровоз», правда, мчался не совсем впустую. Его энергия впоследствии в редуцированном виде пригодилась на следующих витках развития киноискусства.
Тут надо сказать об одном из самых важных источников энергии идеократии как в политике, так и в художественной культуре. Это энергия заблуждения. (Формулировка Льва Толстого). В начале ХХ века таковой стала коммунистическая утопия. Она и питала вместе с политическим художественный авангардизм. Заблуждение было огромным и энергия отчаянной.
На ней мы могли далеко уехать. Как далеко, объяснил Евгений Замятин в своем романе «Мы».
Бессонница разума
Когда роман Евгения Замятина «Мы» вместе с другими созданиями писателя на легальных основаниях объявился в Советском Союзе, Виктор Шкловский написал:
«Трудно входить в литературу большому писателю. Еще труднее — возвращаться».
А возвращаться замятинскому роману в 1988-м было особенно трудно, поскольку в том же году был в России легализован и роман-антиутопия «1984». Но оруэлловская антиутопия пришла к нам в ореоле самиздатовской и тамиздатовской славы. Да и специздание ее в 1959-м тиражом в 200 экземпляров по спецзаданию Свыше и под контролем КГБ тоже кое-что сделало для обострения широкого интереса именно к ней.
Замятин невольно оказался в тени Оруэлла.
Невольно казалось, что «Мы» писаны под впечатлением «1984», хотя на самом деле, если кто-то у кого-то что-то и позаимствовал, то скорее Оруэлл — у Замятина, поскольку первый, как пригвоздил автора один из партийных критиков, «изрыгнул грязную клевету на мир социализма» на 25 лет позже второго.
Больший читательский успех сопутствовал Оруэллу еще и потому, что тоталитарная матрица, описанная им, не воспринималась как нечто инопланетное. Все сюжетные перипетии «1984» считывались как реальные, только несколько утрированные. Словно мы все это с той или иной степенью подобия уже проходили: и новояз, и двоемыслие, и министерство изобилия, и министерство правды, и мыслепреступление. И эти слоганы, подтвержденные практикой советской действительности: «Свобода — это рабство», «Мир — это война», «Незнание — сила», к коим я бы добавил еще один: «Тоталитаризм — это демократия». И вроде бы разоблаченный культ личности Большого Брата остался позади.
Словом, тогда в 1988-м советский читатель в разгаре перестройки и гласности читал антиутопию Оруэлла, как своего рода сатирический постскриптум к уходящей на наших глазах натуре.
Тогда, как все излагаемое в «Мы», воспринималось как научно-фантастический проект, то ли реализованный в другой галактике, то ли возможный на Земле, но в очень отдаленном будущем.
Сегодня, соотнося обе антиутопии, приходишь к пониманию, что Замятин, пожалуй, глубже проник в подноготную тоталитарной системы, нежели это сделал Оруэлл.
Если империя Большого Брата еще только на пути к торжеству идеи социал-националистического государства, то империя Отца народов это уже — торжество.
Главная угроза империи Большого Брата — способность человека самостоятельно думать. Собственная мысль — это и есть мыслепреступление. Наиболее эффективная репрессия в борьбе с ним — лоботомия с последующим умственным рабством, результатом которого и становится то, что граждане не способны различить крайности, то есть отделить в своем сознании свободу от рабства, знание от незнания, демократию от тоталитаризма и т. д.
Инакомыслящий господин Уинстон болен склонностью к рефлексии и потому подвергается насильственному врачеванию.
Оруэлл заканчивает свою антиутопию словами: «…Все хорошо, теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он любил Старшего Брата». Полюбить-то он полюбил, как это ни было трудно. А разлюбить этого Брата (или Отца) оказалось еще труднее, в чем многие из нас имели возможность убедиться на собственной шкуре.
У героев «Мы» уже нет имен, фамилий и тем более отчеств; у них только нумера. В этом царстве-государстве другая болезнь считается смертельно опасной — наличие в теле нумера души.
Опасна она и для отдельного человека, и для всего Единого Государства.
Ее наличие есть уже душепреступление, заключающееся в измене разуму. Стало быть, вопрос поставлен ребром: душа или разум? Что-то срединное невозможно.
Вот в чем откровение Замятина: и революция и гражданская война — это не самые существенные коллизии. Самая фундаментальное противоборство — битва между рацио и природным инстинктом. Дикие, стихийные люди осаждают город машинных людей.
Роман кончается словами: «В городе сконструирована временная стена из высоковольтных волн. Я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить».
Замятину довелось своими глазами увидеть сражение Стихии с Разумом. Оно шло с переменным успехом. Война стала перманентной. Но до сих пор неясно, кто в ней победил. Ясно только то, что полная и окончательная победа одной из сторон добром кончиться не может.
Эпилогом к роману Замятина «Мы» следовало бы рассматривать фильм Александра Сокурова «Телец» (2000) о последних днях Ленина.

Ленин в «Тельце» на краю своей бренной жизни не знает никаких нравственных мук и угрызений совести; его мука и отчаяние от того, что его оставил рассудок. Тот самый, что был стержнем его деятельного реформаторства. Того самого, которому он пытался подчинить весь мир.
Его рассудок призван был заменить и совесть, и мораль, и любовь. Что целесообразно, то и свято. Что логично, то и неизбежно. Рационализм превыше всего. На этом, по Сокурову и Арабову, и основан ленинский глобализм. Неважно, какое он имел отношение к реальному историческому персонажу.
Важно, что это та реальность, которую ХХ век переварил и которую XXI еще долго будет отрыгивать.
Изумленные
Что правда, то правда: сон разума рождает чудовищ. Впрочем, перманентная бессонница разума способна вызвать к жизни такое, что не может и присниться.
Не многим мог в самых страшных снах присниться 37-й год и то, что стало явью для свободных художников, под прессом мифократического режима.
«Но в тот вечер, — засвидетельствовала Надежда Яковлевна Мандельштам, — под конвоем трех солдат, в темном вагоне, куда меня так комфортабельно доставили, я потеряла все, даже отчаяние. Есть момент, когда люди переходят через какую-то грань и застывают в удивлении: так вот, оказывается, где и с кем я живу! Так вот на что способны те, с кем я живу! Так вот куда я попал! Удивление так парализует нас, что мы теряем даже способность выть. Не это ли удивление, предшественник полного ступора и, следовательно, пропажи всех мер и норм, всех наших ценностей, охватывало людей, когда они, попав „внутрь“, вдруг узнавали, где и с кем живут и каково подлинное лицо современности. Одними физическими мучениями и страхом не объяснить того, что происходило там с людьми — что они подписывали, что делали, в чем признавались, кого губили вместе с собой. Все это было возможно только „за гранью“, только в безумии, когда кажется, что время остановилось, мир кончился, все рухнуло и никогда не вернется. Крушение всех представлений — это тоже конец мира».
Ведь это написано не об ужасе физических пыток и моральных унижений; это сказано об ужасе прозрения перед лицом фантастической реальности.
И еще одно было отмечено: наступление иррациональной стихии, следствием чего стало изменение самой психики:
«Многие из нас поверили в неизбежность, а другие в целесообразность происходящего. Всех охватило сознание, что возврата нет. Это чувство было обусловлено опытом прошлого, предчувствием будущего и гипнозом настоящего. Я утверждаю, что все мы, город в большей степени, чем деревня, находились в состоянии, близком к гипнотическому сну. Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру и нам остается только подчиниться исторической необходимости, которая, кстати, совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье. Проповедь исторического детерминизма лишила нас воли и свободного суждения. Тем, кто еще сомневался, мы смеялись в глаза и сами довершали дело газет, повторяя сакраментальные формулы и слухи об очередной расправе — вот чем кончается пассивное сопротивление! — и подбирая оправдания для существующего».
Мир перевернулся именно в силу того, что на смену идеократическому режиму пришел режим мифократический, подчинивший себе культуру и поставивший ее себе на службу.
На общественную авансцену вышли традиционалисты. Те годы прошли для мастеров культуры под знаком мифотворчества. За рубежом, в среде русской либеральной эмиграции возникло так называемое движение сменовеховства, то есть примиренчества с советской властью.
В самой России происходило ее обожествление.
Валтасар смотрит кино
Мастера культуры с разной степенью успеха и неуспеха адаптировались к требованиям нового миропорядка.
Плоды мифотворчества: «Ленин в Октябре» (1937) и «Ленин в 1918 году» (1939), «Чапаев» (1934), «Трилогия о Максиме», «Депутат Балтики» (1936), «Валерий Чкалов» (1941), «Щорс» (1939), «Великий гражданин» (1937) и т. д.
Разумеется, и на одном этапе и на другом возникали драматические коллизии, связанные с «генеральной линией партии». Мастера культуры нет-нет, да и позволяли себе отклонения от нее. Или того хуже — переоценку ее. Кто-то «от изумления» стрелялся (Маяковский), кто-то вешался (Есенин). Кого-то расстреливали (Гумилев, Мейерхольд), кого-то милостиво сажали (Заболоцкий, Шаламов, Эрдман).
Были и опыты художественной рефлексии. И довольно дерзкие. Проза Замятина, Белого, Платонова, Булгакова, Мандельштама, Эрдмана. С ними режиму приходилось считаться. В том числе и громовержцу Сталину.
Известно, как он любил кинематограф, сколько уделял ему внимания. Ночами не спал — смотрел и пересматривал понравившиеся ему фильмы. На сей счет сохранилось выразительное свидетельство его дочери Светланы: «Кинозал был устроен в Кремле, — вспоминает она, — в помещении бывшего зимнего сада, соединенного переходами со старым кремлевским дворцом. Отправлялись туда после обеда, т. е. часов в девять вечера. Это, конечно, было поздно для меня, но я так умоляла, что отец не мог отказывать и со смехом говорил, выталкивая меня вперед: «Ну, веди нас, веди, хозяйка, а то мы собьемся с дороги без руководителя!». И я шествовала впереди длинной процессии, в другой конец безлюдного Кремля, а позади ползли гуськом тяжелые бронированные машины и шагала бесчисленная охрана… Кино заканчивалось поздно, часа в два ночи: смотрели по две картины, или даже больше. Меня отсылали домой спать, — мне надо было в семь часов утра вставать и идти в школу. Гувернантка моя, Лидия Георгиевна, возмущалась и требовала от меня отказываться, когда приглашали в кино так поздно, но разве можно было отказаться? Сколько чудных фильмов начинали свое шествие по экранам именно с этого маленького экрана в Кремле! «Чапаев, «Трилогия о Максиме», фильмы о Петре I (1937, 1938), «Цирк» (1936) и «Волга-Волга» (1938), — все лучшие ленты советского кинематографа делали свой первый шаг в этом кремлевском зале. Фильмы «представлял» правительству сначала Б. 3. Шумяцкий, потом, недолго, Дукельский, потом — долгие годы И. Г. Большаков».

Следы тех просмотров сохранились в архиве Бориса Шумяцкого, тогдашнего руководителя советской киноиндустрии. В двух номерах «Киноведческих записок» (№61, 62) его записи, сделанные по горячим следам, были опубликованы. Датируются они 1934 — 1937 годами.
В них нет ничего нового с точки зрения представлений о вкусах и пристрастиях кремлевского Хозяина. Но обширность приведенного документального материала уже сама по себе впечатляет и заставляет предположить, что кино для Сталина было чем-то большим, нежели важнейшим из искусств. Возможно, оно было важнейшей из «действительностей».
Борис Захарович Шумяцкий в этой публикации предстает сказительницей Шахерезадой, что ублажает своего всесильного повелителя занимательными киноисториями. Он исправно в течение почти четырех лет (с 1934-го по 1937-й) таскал в будку кремлевского кинозала коробки с позитивным целлулоидом. На дворе как раз в эту пору с каждым днем все сильнее обострялась классовая борьба, везде зрели заговоры, кулаков приходилось раскулачивать, бедняков коллективизировать, пролетариев воспитывать, интеллигенцию перевоспитывать, а врагов народа убивать. И собственных друзей — тоже.
Можно представить, как утомлялись сердцем и рукой кремлевские сидельцы, визируя многочисленные расстрельные списки. В дневное время они утомлялись, а по вечерам и ночам расслаблялись. В том числе и посредством просмотров фильмов. Сеансы начинались в районе 11 вечера, а заканчивались в 2—3, иногда в 4 ночи.
Два слова о тех, кто доставлял удовольствие вождям, то есть о мастерах кино. Они не были рыцарями кино без страха, но работали на совесть и почти всегда — по велению сердца. Последнее, надо признать, вожди понимали и ценили. При этом самих мастеров уважали не так чтобы очень.
Компания, в которой Валтасар коротал ночи перед киноэкраном, была подвижной по составу по причинам естественной и неестественной убыли. В ней в разное время перебывали Киров, Енукидзе, Постышев, Жемчужина, Куйбышев, Лакоба, Сванидзе, Чубарь, Ежов, Булганин, Калинин, Керженцев, Жданов, Эйхе, Хрущев, сын Вася, дочка Света. Наиболее постоянными зрителями были помимо Сталина Ворошилов, Молотов и Каганович.
По ходу сеансов солировал Сталин. Посмотрев в первый раз картину в узком составе, он любил комментировать сюжет, пересматривая ее с другими товарищами. Так он разъяснял своим соратникам «Чапаева», «Юность Максима», «Веселых ребят» (1934). В один из теплых июльских вечеров 34-го Шумяцкий предложил кремлевским товарищам посмотреть немую фильму «Пышка» (1934). «Не по Мопассану ли?» — встрепенулся тов. Сталин. (Начитанным он был человеком, в отличие от соратников). По ходу просмотра этой ленты, по свидетельству Шумяцкого, вождь пересказывал содержание новеллы Мопассана. В том же месте, где Пышка бьет демократа за приставание и где нет в ленте о том надписи, воспроизвел ее реплики и выразил желание, чтобы была дана яркая поясняющая надпись.
И до публикации в «Записках» было известно, как вождь любил кино и сколько он уделял ему времени. Но это были только предания, апокрифы. А вот, когда читаешь одну запись за другой, когда сопоставляешь даты, когда вспоминаешь исторический контекст, тогда…
В 1934-м, до того, как ему в первый раз показали «Чапаева», он упивался хроникально-документальными лентами. Это всевозможные съемки парадов и демонстраций трудящихся. Отдельное удовольствие — «Челюскин» (1934), картина о спасении научной экспедиции, застрявшей во льдах Северного Ледовитого океана. Затем его внимание привлекают «Веселые ребята». Эту комедию он смотрит в неоконченном виде и приходит в восторг. И с нетерпением ждет завершения. Едва первая копия отпечатана, ее сразу доставляют в Кремль. Коба, по свидетельству того же Шумяцкого, «заразительно смеялся». Особенно вождю понравились сцены переклички животных и драки музыкантов. Когда зажегся свет, вождь, поглаживая усы, усмехнулся: «Хорошо. Точно после выходного дня».
А в ноябре того же года начинается страда просмотров «Чапаева». 4 ноября — первый раз, 7-го — второй, на следующий день — третий. В декабре уже насчитывалось 16 просмотров. А вообще при жизни Шумяцкого (а жизнь его оборвалась в Лубянском подвале в начале 1938-го) тов. Коба посмотрел «Чапаева» 38 раз! Может, он ждал (как и легендарные мальчишки), что Чапай в конце концов выплывет… Другая любимая картина Сталина в эти годы — «Юность Максима». Ее он тоже отсмотрел несчетное число раз. И по ходу просмотров не однажды пытался объяснить герою, что он делает правильно, а что — неверно. Случалось, что вождь вместе с товарищами, увлекшись сюжетом, начинал подпевать экранным персонажам.
Что-то непосредственно-детское было в его общении с фильмами. У палачей это бывает. Как ни удивительно, идеологически он был не так уж и ревностен. Но однажды заметил то, что все цензоры пропустили. По поводу вертовской картины «Три песни о Ленине» (1934) Сталин сказал, что Ильич в ней показан как «вождь азиатов». Наверное, потому что таковым себя ощущал в глубине души. Видимо, собственные комплексы значили для него больше, чем идеологические клише.
Еще более ярким подтверждением этой догадки может послужить известная реакция на вторую серию «Ивана Грозного» (1945). Вообще надо сказать, что публикация поминаемых здесь архивных документов позволяет с большой степенью вероятности предположить:
а) кино для него было не надстройкой, а базисом;
б) образы казались ему реальнее прототипов;
в) сознание и его киноотражения были чем-то первичным, а материя действительности — вторичной.
Материалист Сталин на самом деле оказался оголтелым идеалистом.
Наконец, самое главное, почему он так благоволил кинематографу: целлулоидная пленка для него была той реальностью, которую можно было сочинять, перестраивать на свой вкус и резать по живому, монтировать, перемонтировать, а все лишнее, с его точки зрения, выкидывать в корзину, то бишь в могилу, провернув через мясорубку ГУЛАГа. Или не проворачивая…
С этой стороны примечательна еще одна запись Шумяцкого. Вождь напряженно отсматривал хронику похорон Кирова. В кадре мелькнула, сидящая у гроба печальная женщина. «Кто это? — сурово спросил лучший друг Кирова. «Это вдова Сергея Мироновича», — быстро пояснил нарком. «Ее надо пересадить отсюда», — повелел вождь.
Когда шахерезада Шумяцкий наскучил своему повелителю, он и его отправил в корзину, а сказки на сон грядущий ему рассказывали уже другие шахерезады — Дукельский и Большаков, которые, к сожалению, не оставили нам свидетельств о духовных пирах состарившегося Валтасара.
Следы его интереса к зарубежному кино можно найти в Белых Столбах. Там есть большой корпус трофейных фильмов, четко оттитрованных. Вождь не любил смотреть иностранные картины с синхронным переводчиком. Поэтому для него нижнюю треть кадра выбеливали и заполняли ее надписями. Старожилы Госфильмофонда рассказывали, что любимой его голливудской картиной была «Судьба солдата в Америке» (1939) с Джеймсом Кэгни в главной роли. Это история хорошего солдата, который стал хорошим гангстером.
…При внимательном чтении архивных документов, становится понятно, что для Сталина кино было окном не в реальность, а в другой мир.
Именно в эти годы создается золотой фонд сталинской киноклассики. Создается своего рода альтернативная действительность, в рамках которой существовали не только простые граждане, но их вожди. И все вместе они жили в перевернутом мире, где надстройка (кино, литература, театр, живопись) являлась базисом, а прочее (быт, работа, исторические обстоятельства, исторические герои, наши старшие современники) — материалом, из которого и созидался придуманный мифомир. Именно в этом состоял великий эксперимент товарища Сталина.
Он конструировал структуру восприятия. Для него, стало быть, самый процесс кинопроизводства являлся моделью жизнеустройства. Потому в меру способностей старался вникнуть в механику самого кинодела.
Из этого следует, что ночи, проведенные Сталиным со своими соратниками у киноэкрана в кремлевском зале, — своего рода ключ к пониманию природы этого все еще загадочного персонажа и собственно того времени.
Вождь понятно, почему был пристрастен к кинематографу. В частности, потому, что он был самым эффективным средством оформления мифа о Себе, о своих делах, об эпохе имени Себя. Об эпохе мифократии в полуграмотной и в полубессознательной стране.
Подмена
Мифы по мотивам истории не редко спорят и даже ссорятся с историей. Зона компромисса — беллетристика. Но только в том случае, если последняя высоко и глубоко художественна. Тогда мы прощаем фактологические неточности «Капитанской дочки» (1958) или «Моцарта и Сальери» (1962). Или «Войны и мира» (1965). Тогда нам кажутся вымыслы и домыслы художников их промыслами. В противном случае — спекуляция, коей нет конца.
В советскую пору свои права на верховное положение в обществе предъявила тень истории — Мифология. На нее поработала в течение 70 лет вся отечественная культура, и тень заместила собой отбрасывающую ее реальность. Потому, в частности, ее позиции оказались особенно сильными, и никакие усилия ученых-историографов вкупе с кинодокументалистами не смогли сколько-нибудь серьезно поколебать в подсознании миллионов краеугольные камни мифологического фундамента нашего ближнего прошлого.
И душегубская коллективизация нам не аргумент, и ледяной ГУЛАГ нам нипочем, и кровавое палачество Сталина нам не впрок. Вернее, по мифологической версии, как раз впрок.
В ХХ веке до политиков дошло: кто владеет СМИ, тот контролирует власть в стране. Постепенно до наших госмужей дошло: упрочению власти ничто так не способствует, как управление историей задним числом, для чего и надобен жесткий контроль над ней.
Сталин, будучи главным мифотворцем, позаботился о сотворении мифа о себе не из одной склонности к нарциссизму.
Он ведь был не просто заказчиком, но и соавтором своих киноролей. Самые выразительные из них — те, что явлены в фильмах «Клятва» (1946) и «Падение Берлина» (1949). Обе картины сняты после войны. До войны были «Ленин в 1918 году» (1939), «Человек с ружьем» (1938), «Выборгская сторона» (1938). Из прочих картин, где встречается персонаж по фамилии «Сталин», стоит вспомнить «Оборону Царицына» (1942), «Джамбул» (1952), «Донецкие шахтеры» (1951), «Валерий Чкалов», «Третий удар» (1948), «Сталинградская битва» (1949).
Что примечательно, вождь ни в одном из созданных про него фильмов не был главным действующим лицом (чего не скажешь о кинолениниане), но всегда оставался лицом, определяющим движение жизни, истории, цивилизации…
Еще одна примечательная черта киносталинианы; в ней мы не найдем ни одного биографического фильма, то есть такого фильма, в котором бы характер героя давался в становлении, в развитии. Хотя, наверное, стоило вождю только мигнуть, как охотников запечатлеть этот процесс отыскалось видимо-невидимо. Но он не только не мигал, а, скорее всего, прямо запрещал. Хотел, возможно, сделать исключение для Булгакова, но в последний момент передумал. И не потому, что драматург отыскал нечто компрометирующее великого Сталина, как намекают некоторые исследователи.
Просто, как нам кажется, вождь не то, чтобы понимал, или сознавал, как биографическое повествование на порядок снижает его неземной образ, но чуял это. И был прав, поскольку действительно, как только у тебя появляется биография, или даже элементарная хронография, значит ты сразу оказываешься у времени в плену, в его власти. А Сталин себя чувствовал не Хроносом, а Зевсом, победившем Хроноса, то есть Время. Под это самоощущение он и организовал мифологическое пространство с помощью кинематографа.
…Сталин довольно быстро сориентировался в иерархии искусств, отличив среди них кино.
Ленин свое отношение к кинематографу исчерпывающе выразил в известной формуле: «Важнейшим из искусств для нас является кино». Ее толковали достаточно широко, а вождь имел в виду вполне конкретную отрасль киноиндустрии — хронику и просветительские фильмы. И мотив этого тезиса был вполне прагматический — в полуграмотной стране, какой была Россия в начале минувшего века, «картинка» как средство массовой информации имела определенное предпочтение перед письменным словом.
Для Сталина важнейшей из мифологий — музыкальной, литературной, изобразительной, кинематографической — оказалась последняя.
В этом отношении, к слову сказать, он оказался дальновиднее и практичнее своего современника — германского фюрера. Гитлер сделал ставку в первую очередь на собственное ораторское искусство с его эффектом сиюминутности, и во вторую — на архитектуру, которая должна была бы обеспечить вождю Третьего Рейха память в веках.
Сталин же задействовал беллетристический потенциал кино. И не прогадал.
Для понимания логики это процесса необходима оговорка общего характера.
Республика Советов в 20-е годы была такой тиранией, при которой идея «коммунистического завтра» овладела массами, стала руководящей и направляющей их силой.
Ленин и Сталин стали краеугольными мифами о совершенно новом и абсолютно необыкновенном мире. И получилось очень складно.
Краеугольные мифы
Тот Ленин, что на экране («Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году»), — действующее лицо: кем-то руководит, кому-то дает указания, кого-то поучает, от кого-то скрывается. В фильме Эйзенштейна «Октябрь» (1927) он взят только в одном ракурсе — как исключительно харизматический персонаж. В последующих картинах очевидно стремление психологизации самого человечного человека. Что же касается Сталина, то в самых первых историко-революционных картинах, он предстает тенью великого Ленина. Но тенью загадочной и могущественной. В трудные и поворотные моменты гражданской войны вождь номер один обращается за советом или с поручением к вождю номер два.
В «Незабываемом 1919-ом году» (1951) мы видим совсем уж карикатурные сцены. Владимир Ильич неприлично суетлив, а Иосиф Виссарионович таинственно спокоен. В кульминационную минуту он говорит: «Без паники, товарищ Ленин». Есть там и другая смешная сцена, где Ленин и Калинин оспаривают друг у друга право вручить Сталину награду за героическую оборону Петрограда. Сцена эта по просьбе вождя номер два была вырезана.
Но в принципе их мифологические функции оказались разведенными. Ленин — это некое звено в переходе от старого дореволюционного мира к новому. Потому Ильичу дозволены присущие каждому смертному человеческие свойства. Он может колебаться, сомневаться, проявлять гнев, несдержанность, отдаваться безудержному смеху и т. д. Более того, ему позволено иметь семью — мать, сестра, жена. Он мог стареть, болеть и даже умереть.
Виссарионыч оказался выше всего этого. Он был уже абсолютным небожителем. А образ живого Ленина являлся для него постаментом, как образ мертвого Ленина в Мавзолее стал для него трибуной.
В военных фильмах «Падение Берлина», «Сталинградская битва», «Третий удар» небожительский статус Сталина приобрел абсолютно законченную форму. Его снисхождение с небесной высоты на землю поверженной Германии («Падение Берлина») — сцена наиболее с этой стороны показательная. Он здесь все: солнце, свет, мир, счастье и т. д. К нему бегут навстречу ликующие толпы солдат, офицеров, узников фашистских концлагерей и благоговейно останавливаются на почтительном от него расстоянии. У подножия белоснежного генералиссимуса находят потерявшие друг друга солдат Иванов и его девушка Наташа.
Девушка попросила у Сталина разрешения поцеловать его, и после согласия отважилась чмокнуть вождя, туда, где цепляется орден.
Мифологическая жизнь Сталину вполне удалась. В том числе и благодаря кино. Этим отчасти и можно объяснить его столь долгую жизнь после смерти. Гитлер бы ему позавидовал. Ленин, впрочем, тоже.
Его всерьез считали бессмертным. От того, наверное, его смерть была воспринята народами Советского Союза как откровение, как чудо, и толпы устремились к Колонному залу, чтобы его лично лицезреть.
Вот в чем отличие коммунистической религиозности. Здесь кульминационным пунктом явилось не чудо рождения, а чудо смерти.
К слову, таким же чудом смерти стала в 24-ом году кончина Ленина. Именно тогда и возникла традиция с сакрализацией смерти Вождя.
Смерть как выдача мандата на Бессмертие.
В 1930-м году, начинающий грузинский кинематографист, Михаил Калатозов снял «Соль Сванетии» (1930), картину, ставшую классикой Великого Немого. Картина вроде бы сугубо этнографическая, но насыщенная выразительными смыслами. На забытом богом в горах клочке земли угнездилась община сванов. Живут они замкнуто, лишь изредка спускаясь с гор, чтобы вернуться с мешками соли. Это замкнутый, доисторический мир. Здесь движущие противоречия — природные. Пресные реки, питаемые ледниками, промывают землю, оставляя ее без соли. Соль для сванов — не приправа к пище, а Суть и Смысл самой жизни. Община перекрывает дорогу и нуждается в ней. Община, как всякий живой организм не может не расти. А рост для нее гибелен. Поэтому в Сванетии рождение и все, что с ним связано, отмечено ужасом проклятия. А смерть и похороны — праздник.
Государственными праздниками в советской стране надолго становятся кончины вождей.
Государственным праздником советской Руси, между прочим, стала дата смерти Пушкина. По иронии судьбы в 37-ом году на пике Большого террора, страна отмечала его с невиданным размахом.
…После крушения советского режима отечественные кинематографисты сняли несколько историко-контрреволюционных фильмов: иносказательное «Покаяние» (1984), жанровые «Пиры Валтасара» (1989)…
После обожествления вождя пришла пора его дьяволизации. Миф решили вышибать мифом. Но не тут-то было. Он не просто в сознании укоренился, он в подсознание въелся.
Валтасар и золотые рыбки
В начале мифотворчества, надо признать, стояла литература.
Литературный сериал «Сталин и писатели» проницательного историка отечественной литературы Бенедикта Сарнова обнимает предмет достаточно широко и проникает в суть его гораздо глубже многих как документальных исследований, так и беллетристических сочинений.
Фабула бесхитростна. Автор дает один за другим очерки взаимоотношений вождя с советскими писателями первого ряда: Горьким, Маяковским, Пастернаком, Мандельштамом, Булгаковым, Толстым, Ахматовой, Бедным, Шолоховым, Платоновым и другими.
Однотипна конструкция каждого из них: сначала на стол выкладываются все относящиеся к делу документы (письма фигурантов, партийные постановления, донесения осведомителей, свидетельства очевидцев), затем тщательно прописываются явные и скрытые изломы судьбы художника, оказавшегося волею обстоятельств в поле внимания Великого Инквизитора.
Перед читателем — роман со множеством сюжетных разветвлений, каждое из которых представляет собой своего рода повесть о барахтающейся в садке вождя Золотой рыбке. Иногда, впрочем, не столько золотой, сколько позолоченной. Но это не меняет смысловой направленности всей эпопеи.
Она о том, с какими трудностями сталкивался «рыбак», заставляя невольниц, наделенных волшебными способностями, служить у себя на посылках. Ни одна из «рыбок» не ускользнула физически, если не считать Евгения Замятина. Но ни одну из них он не сломил до конца, если не считать Демьяна Бедного и Михаила Шолохова.
Как ни странно, едва ли ни самой несчастной у Сарнова выглядит участь не самого одаренного мастера слова — Демьяна Бедного, человека не слишком умного, но вполне простодушного. (Уж не прототип ли он безумного Ивана Бездомного из «Мастера и Маргариты»? ).
Было время, когда два псевдонима — Бедный и Сталин — приятельствовали, о чем свидетельствуют письма, приведенные Сарновым. Есть в них намеки на какие-то совместные гулянки. Демьян — Иосифу: «…Приезжайте! А потом мы будем «на Типлис гулялся». В ответ Иосиф — Демьяну: «Не могу, потому что некогда. Советую Вам устроить «на Баку гулялся».
По письмам видно, как увеличивалась год от года дистанция между «приятелями». Видно, как все льстивее и льстивее становились интонации одного, как холоднее и казеннее делался тон другого; менялась форма обращения к вождю — от: «Родной», «Ясная вы голова», «Нежный человек», «И я Вас крепко люблю», «Крепко Вас любящий» — до вполне официального «Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович». 12
Подписи под письмами, адресованными отцу народов, тоже пришлось несколько оказенить. Сначала: «Ваш Демьян». Затем — «Демьян Бедный».
Все это особенно показательно, поскольку долгое время поэт и царь были соседями «по лестничной площадке», то есть оба жили за Кремлевской стеной.
Что важно, и что отмечено у Сарнова, стихотворцем Бедный был не бездарным; агитатором и пропагандистом был искренним, и режиму, его идеологии был «без лести предан», хотя льстить власти готов был в любых обстоятельствах, при любых ее кульбитах, а итог его жизни оказался не просто трагическим, но жалким. Его судьба — это судьба «верного Руслана», без корысти преданной хозяину собаки из одноименной повести Георгия Владимова.
С Демьяном Бедным Хозяину было проще всего «работать». Он попользовался его пропагандистским даром, а затем без сожаления выбросил на помойку истории, не удостоив своего бывшего соседа «по коммуналке» мученического креста. Его не арестовали, не пытали, не расстреляли; его просто исключили из партии, и этого стало достаточно, чтобы просто уничтожить человека. Ну, а как поэта он его убил много раньше.
Труднее Сталину было разбираться с публикой другого разряда, с теми мастерами, чей талант был от Бога — с Булгаковым, Мандельштамом, Пастернаком, Зощенко, Ахматовой… Или с теми, чей литературный авторитет имел мировое признание — Горький, Маяковский, Алексей Толстой, Эренбург…
Тут ведь многое зависело от утилитарной нужды в каждом из них.
Горький ему нужен был как правофланговый пролетарской литературы. Еще — как видный фигурант его свиты. И было у Сталина потаенное желание удостоиться очерка о себе. Такого, каким посмертно был увенчан Ленин.
Маяковский был посмертно награжден званием «величайшего поэта советской эпохи». То есть, назначен правофланговым поэтом, на которого всем прочим стихотворцам надлежало равняться. С ним у товарища Сталина вообще проблем не было, поскольку тот рано застрелился.
Эренбургу генералиссимус отвел роль правофлангового еврея, который по мере надобности наводил мосты с левыми интеллектуалами на Западе.
Толстой пригодился, чтобы мифологизировать фигуру Петра I, который бы оправдал его, сталинскую тиранию.
С Булгаковым, видимо, связывались некоторые надежды на очеловечивание его, сталинского имиджа. Потому вышло высочайшее разрешение писать «Батум». Но потом герой пьесы передумал по не очень ясным причинам, и вышло высочайшее запрещение.
Что же касается поэтов Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, то он их держал «на сладкое». Они ему нужны были для экспериментов.
С Мандельштамом вождь произвел самый жестокий эксперимент. Поэт бросил «рябому черту» вызов, на который никто из его коллег не осмелился. Последовало высочайшее указание: «изолировать, но сохранить».
«Изолировать» — понятно. Хотя было бы еще понятнее для всех сведущих граждан Советской России (включая самого Мандельштама) — «расстрелять». Но отчего: «сохранить»? А главное: для чего «сохранить»? Его сохраняли пять лет. И умирание его было мучительно.
На счет задержки с приведением приговора в исполнение есть несколько предположений. Одно из них (оно принадлежит Фазилю Искандеру): стих понравился герою, поскольку «выражал ужас и неодолимую силу Сталина». А это было, по мнению Искандера, именно тем, что он хотел внушить стране.
Другая версия принадлежит Бенедикту Сарнову. С его точки зрения царь тянул с казнью поэта, ожидая от него оды во славу своей исторической миссии. Он ее дождался, но, видимо, она не показалась ему достаточно искренней, естественной и органичной. Было видно, что автор не полюбил Отца народов так, как это посчастливилось господину Уинстону в отношении Старшего Брата.
Сталин при всей избалованности безмерной лестью был, все-таки, разборчив к подлинности эмоций. Известно, что «Светлый путь» (1940) вождю не показался; он распознал натужность режиссерского энтузиазма в изъявлении советского патриотизма, о чем и не постеснялся сказать Григорию Александрову:
«Вы уж слишком „вылизываете“ в „Светлом пути“ советскую действительность и стелетесь перед ней. Раньше вы нас развлекали, а теперь угождаете».
Лесть, впрочем, даже самая грубая лесть, ненаказуема. Не удостоился режиссер очередной Сталинской премии — это все наказание, которое последовало за недостаточно искренний подхалимаж режиму.
Мандельштам — совсем другой случай. Мандельштам был внутренне свободным человеком. Да еще не убоявшимся того, кто играл «услугами полу-людей». Да еще угадавшим склонность сверхчеловека к кровавому сладострастию: «Что ни казнь у него — то малина».
Сталину ведь было мало физической подневольности внутренне независимого человека и даже того, чем удовлетворился Старший Брат — мыслепослушания; ему потребно было душевное раболепие; ему надобно было его духовное рабство. Так же, как ему мало было убить своего политического соперника; самая желанная для него малина — загубить душу своей жертвы.
Душегубство было для него в радость, было его страстью, а смертоубийство — частностью, приложением к набору других инструментов в его арсенале. Он предпочитал не убивать человека морально не сломленного, человека с гордо поднятой головой или просто безразличного к своей участи; он предпочитал предварительно его морально размазать так, чтобы тот перестал себя ощущать человеком.
Игра в кошки с придушенной мышкой — то была любимая забава вождя. Он ею в полной мере и насладился, убивая Мандельштама медленно, с толком, с чувством, с расстановкой. То ссылка, то поселение… И что б никакой работы… И чтобы звука от него не было слышно. Но иногда жертве подавался знак надежды… И тут же отнимался.
И Мандельштам в какой-то момент то ли сдался на милость вождя, то ли рискнул притвориться сдавшимся. Он выдавил из себя «Оду» душегубу, где есть такие строчки:
Художник, береги и охраняй бойца:
в рост окружи его сырым и синим бором
вниманья влажного. Не огорчить отца
недобрым образом иль мыслей недобором.
Художник, помоги тому, кто весь с тобой,
кто мыслит, чувствует и строит.
Владимир Набоков так оценил «Оду»:
«Возможно, одним из самых печальных случаев был случай Осипа Мандельштама — восхитительного поэта, лучшего поэта из пытавшихся выжить в России при Советах, — эта скотская и тупая власть подвергла его гонениям и в конце концов загубила в одном из далеких концентрационных лагерей. Стихи, которые он героически продолжал писать, пока безумие не затмило его ясный дар, — это изумительные образчики того, на что способен человеческий разум в его глубочайших и высших проявлениях. Чтение их усиливает здоровое презрение к советской дикости…».
Тем временем, как заметил Виктор Шкловский: «Масса шла, как сельдь или вобла, мечущая икру, повинуясь инстинкту».
Инстинкту выживания — можно было бы добавить.
Будущее, по версии Николая Эрдмана, выглядело устрашающе смешным:
Егорушка. Может так получиться, что только приучишься, хвать
— наступит социализм, а при социализме вина не будет. Вот как хочешь тогда и выкручивайся.
Маргарита Ивановна. Только рюмку, всего лишь, одну лишь, за дам.
Егорушка. Между прочим, при социализме и дам не будет.
Пугачев. Ерунда-с. Человеку без дамочки не прожить.
Егорушка. Между прочим, при социализме и человека не будет.
Виктор Викторович. Как не будет? А что же будет?
Егорушка. Массы, массы и массы. Огромная масса масс.
Оказаться выброшенным из нереста — тяжелое испытание. А жить вне истории, вне «массы масс», да еще быть преследуемым за это — испытание невыносимое.
Насколько невыносимое и ужасное, как ни удивительно, описал именно Шкловский еще в 1924-ом году:
«…Оно бывает тогда, когда человека мучают долго, так что он уже „изумлен“, то есть уже „ушел из ума“, — так об изумлении говорили при пытке дыбой, — и вот мучается человек, и кругом холодное и жесткое дерево, а руки палача или его помощника, хотя и жесткие, но теплые и человеческие. И щекой ласкается человек к теплым рукам, которые его держат, чтобы мучить. Это — мой кошмар».
И Мандельштам на дыбе отыскал в своем мучителе нечто человеческое.
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему, — вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.
Он еще нашел оправдание и себе: «Если народ вне истины, пусть лучше я буду не с истиной, а с народом».
Впрочем, в «Оде», где поэт присоединился к мечущему икру народу и, более того, поставил своего героя на античный пьедестал, внимательные эксперты нашли зашифрованные нонконформистские «кукиши». Самуил Лурье, полагал, что именно рецензия-донос разобравшегося в «кукишах» эксперта Петра Павленко на стих Мандельштама послужила непосредственной причиной гибели поэта. С ним согласился и Бенедикт Сарнов.
Но не исключено другое: Сталин воспринял оду как акт безоговорочной капитуляции бунтовщика, а прочие тонкости, касающиеся истолкований тех или иных образов, его уже мало интересовали. Сказано в стихе, что он «Прометей — скалы подспорье и пособье». А кто уж там «коршун желтоглазый», да еще с «когтями, летящими исподлобья»?.. Пусть разбираются высоколобые. Дальше ему уже было неинтересно, и он санкционировал убийство полузадушенного Мастера.
Полузадушенный Мастер умирал медленно. «И ничего нет страшнее, — записала Надежда Яковлевна Мандельштам, — медленной смерти».
Да еще в состоянии безумия, о котором известно точно. Это все равно, что быть заживо погребенным.
Как он кончил свои дни, точно неизвестно. Есть две версии. Одна — недостоверная, но более или менее пристойная: будто от инфаркта на больничной койке тюремного лазарета. Другая — унизительная: на пересылке замучен был белыми вшами, заболел тифом, повели в баню на санобработку, велели раздеться до гола, перевели в холодное помещение, где пахло серой и дымом, потерял сознание, тело облили сулемой и перенесли в ординаторскую палатку, где накапливались трупы, и откуда их партиями вывозили и сбрасывали в общий ров.
«Закапывать было тяжело», — закончил свое письмо, выживший зек Ю. Моисеенко.
Художественным послесловием к описанной выше реальности могла бы послужить повесть нашего современника Леонида Зорина «Юпитер» (2002), которая была опубликована вслед за другой его повестью «Кнут» (2001).
Не сразу понятно, что их сблизило. Пожалуй, вот что. В обоих вещах речь идет о фантомах. В «Кнуте» мы имеем дело с ненаписанным литературным произведением, но о котором все говорят, которое у всех на устах, как если бы оно было начертано огненными буквами на каких-нибудь священных скрижалях. Во втором — к нам явился призрак хорошо знакомого, многим памятного персонажа, которого одно время почитали как Отца народов, потом — как Палача народов. Теперь этот двуликий и двуличный призрак бродит по России. И нельзя сказать, что как неприкаянный. И что все нормальные люди ему говорят: «Чур меня».
Зорин оставляет в стороне современный политический контекст, как, впрочем, и контекст исторический. У автора личные счеты к призраку, но счеты эти достаточно велики. Не в том смысле, что автор сам или кто-то из его родственников стал жертвой сталинских репрессий. В том смысле, что у художника не личных счетов к своим героям не бывает.
…Донат Ворохов, актер масштаба Иннокентия Смоктуновского или Михаила Ульянова, должен сыграть Сталина в пьесе драматурга масштаба… Не в фамилии дело.
Пьеса представляет собой монтаж цитат и обрывков документов. Такого рода литературный продукт одно время был в моде и довольно обиходным. Ненависть автора пьесы к своему герою, помноженная на скверное литературное качество самой пьесы, приводит требовательного артиста в неистовое раздражение. «Нечего играть», — резюмирует Ворохов. Но тут жена подсказывает прием. И он после некоторого колебания соглашается. Актер заводит дневник своего героя, в котором Юпитер рефлексирует по поводу своих отношений с мастерами культуры — Мандельштамом, Булгаковым и Пастернаком. Личная жизнь актера тем временем идет параллельным курсом (ссора с другом, расставание с женой, расставание с любовницей, озлобление на все и вся), но неожиданно она начинает сближаться с судьбой товарища Сталина. Тот же опустошающий деспотизм в отношении к себе и близким, что и у Юпитера. А 5-го марта (не важно, какого года), в день смерти бессмертного, эти две параллели пересекаются в одной точке. Актер в этот день встрял в драку между сталинистом и антисталинистом, получил чем-то тяжелым по голове и тоже умер. Скончался он в больнице после непродолжительного забытья, в состоянии которого так и не смог уже отлепить себя от роли.
Жил как артист, умер как тиран.
Если бы само повествование свелось к морали на предмет того, сколь небезопасно нормальному человеку погружаться во внутренний мир этого монстра, то и говорить было бы больше не о чем. Но Леонид Зорин имеет в виду нечто иное. В «Кнуте» речь главным образом шла о механике рождения фантома. Откуда, мол, что берется. О том, как из ничего, из пустоты явилось Нечто. «Юпитер» про то, как фантом берет власть над людьми. Притом над людьми, что называется, штучными. Не над толпой. Над толпой, что… Для толпы довольно харизмы. А тут подневольными Юпитера становятся все сплошь «золотые рыбки»: Мандельштам, Булгаков, Пастернак. Может, они все и не прочь послужить у вождя на посылках, да не могут… И Юпитер это понимает. Он просто, как это говорится сегодня, «ловит кайф» от того, что эти вольные творческие рыбешки барахтаются у него в садке. На них он смотрит свысока, поскольку чувствует себя на такой головокружительной высоте, на которой готов вступить в диалог с Господом о Ветхом и Новом заветах. Сталину уже мало быть владычицей морскою. И его больше не прельщает статус Великого Инквизитора, то есть наместника Иисуса на Земле.
У Достоевского Инквизитор противостоит Иисусу.
В «Юпитере» Иосиф сам хотел бы стать Иисусом. Новым Иисусом, сказавшим: «Я — путь».
«Путь» этот столь обильно полит кровью и так глубоко пропитан ею, что продолжает гипнотизировать. Уже во прахе лежит идеология коммунизма, а призрак самозваного Иисуса живее многих живых. Тут зоринский персонаж не ошибся, когда, умирая, сказал (цитируем по памяти): «Я останусь. И не только в учебниках. Меня не стереть из памяти улицы…». Потому, как мы сегодня знаем, этому человеку удалось отменить на шестой части Земли исключительность как класс. Исключение из этого правила он сделал одно — для себя. А Природа не сделала. Только этого оказалось недостаточно. По крайней мере, пока.
Легко ли оставаться идеалистом до старости
Насколько тяжелым было бремя мифократии можно судить и по судьбам тех идеалистов-романтиков, кто остался верным идеалам Октября, кто отделил идеалы от практики.
Словно про них мимоходом бросил несколько язвительных строчек Пастернак:
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.
Михаил Светлов, «писавший и печатавший плакаты», сумел сохранить дистанцию по отношению к большевистской власти и сполна прочувствовал горечь своего заката.
Ему — вопрос:
— Как поживаете, Михаил Аркадьевич?
Его — ответ:
— Да так. Меняю гнев на милость и с этого живу.
Тут весь Светлов. Тут вся его жизнь и вся правда о его сожительстве с советской властью, при которой он родился как поэт, а кончил свои дни как философ.
Получилось почти по Сократу: «Попадется хорошая жена — будешь счастлив. Плохая — станешь философом».
Хорошему поэту попалась плохая власть, и он стал мудрецом.
Не так уж часто случалась подобная перемена участи с советскими художниками.
Перебирая стихи Михаила Светлова, трудно избавиться от впечатления, что перед тобой рыцарь без страха и упрека коммунистической утопии, преданный ей всей душой, всем своим дарованием…
Ладно, не будем вспоминать такие его поэтические визитные карточки, как «Песню о Каховке» (1935) и «Гренаду» (1926). Но вот его будничный стих, вполне себе служебный. Называется он «Над страницами коммунистического манифеста»:
Страницы столетие шевелит —
Сто долгих лет борьбы и славы!
Не призрак бродит, а солдат стоит
У стен коммунистической державы.
Понятно, что и автор себя числил и солдатом, и барабанщиком, и часовым Коммунистической державы.
Понятно, что «Коммунистическая держава» для него не была ограничена территорией Союза. Он имел в виду Вселенную. По крайней мере, Земной шар.
Вот еще декларативные строчки:
И горит во всю
Над Комсомолом
Солнце,
Под которым мы росли.
«Солнцем» для него в молодые годы были помимо Комсомола, и Революция, и романтика Гражданской войны, и Героика новостроек, и, разумеется, Поэзия… Все это он так или иначе одушевлял. Но ему доставало дара одушевлять все живое и неживое.
У него часы «стонут». А потом «разводят руками, показывая четверть десятого». «Улицу сон ночным нападеньем взял». И даже «фонарь не смог спастись от черных гусениц мглы».
Он одушевлял понятия: «Как преступник среди бела дня, горизонт уходит от меня».
И сам он стал душой поколения людей 20-х — 30-х годов. Тех людей, разумеется, что были соблазнены и обмануты Коммунистической Утопией.
«Душа поколения» — это не ранг, не должность. «Первый Поэт» — не звание. «Голос Эпохи» — не «Наше Все».
«Душа поколения» — это отдельный статус. Как его формализовать? Кто в силах его заключить в тиски рационального определения. Можно только судить о нем по аналогии. Булат Окуджава считается душой того поколения, что зовется «шестидесятническим», или «оттепельным». И считается так по праву.
Высоцкий стал душой людей послеоттепельной поры. Но не лирической, как «дежурный по апрелю» Булат, а трагической, надрывной: «Парус! Порвали парус…».
Есть ли в нынешнем поколении поэт, способный претендовать на это пока вакантное место, не знаем. Подозреваем, что нет. Нынешнее общество атомизировано по интересам, по воспитанию, по образованию, по отношению к прошлому, по ожиданиям будущего. А проблема теперь в том, что горизонт-преступник совсем близко, на расстоянии протянутой руки. Живем, как говорится, одним днем, и нет у нас «завтра», есть бесконечное «сегодня». И задача, стало быть, не в том, чтобы догнать убегающий горизонт великодержавного будущего, а в том, чтобы от него ускользнуть.
В 30-е и далее в прочие сталинские годы тоже была у мастеров культуры проблема «ускользнуть» от режима-волкодава. Были и убежища, укрытия. Не слишком надежные, но все-таки… Для кого-то монастырем становилась детская поэзия, для кого-то — пейзажная лирика, для кого-то — работа над переводами мировой поэзии, кто-то проваливался в запой, который, впрочем, служил лекарством на все случаи раздвоения личности. Прочие могли выбирать между тем, чтобы быть затравленными, покалеченными, замученными, и тем, чтобы оказаться верными псами сталинского режима.
Светлов бежал в романтику. Ее предметом были идеалы революции и близкой к ним Гражданской войны, где «комиссары в пыльных шлемах» казались мифологическими покровителями и благосклонными патронами.
Поэт довольно рано почувствовал душевный дискомфорт. В стихотворении «Старушка», датированном 1927-м годом, он как бы извиняется за свой барабанный пафос:
Товарищ! Певец наступлений и пушек,
Ваятель красных человеческих статуй,
Простите меня, — я жалею старушек,
Но это единственный мой недостаток.
Был, впрочем, у поэта-романтика и другой «недостаток». «Ваятель красных человеческий статуй» почувствовал еще в ранние годы склонность к рефлексии, вследствие чего в 1927-м к нему явился Призрак («Призрак»), которому он, несмотря на свои материалистические убеждения, открыл дверь, выслушал его печальную повесть, потом выставил его, потом пожалел:
Теперь вспоминаю ночною порой
О встрече такой необычной,
Должно быть, на каменной мостовой
Бедняга скончался вторично.
Уже после войны автор «Гренады» посочувствовал первому красногвардейцу-часовому. Он ему: «Дай я у штаба подежурю, пойди немного отдохни!..».
Подежурив, прощается: «Тебе — в легенду. Мне — домой».
С советским режимом он попрощался устно. И не однажды. Об одном из них сигнализировал сотрудник НКВД в справке для товарища Сталина: «Красную книжечку коммуниста, партбилет превратили в хлебную карточку… пребывание в партии превратилось в тягость, там все ложь, лицемерие и ненависть друг к другу, но уйти из партии нельзя».
Слава богу, из партии ему не пришлось выходить по той простой причине, что он в ней не состоял.
Слава богу, что он вообще не попал в мясорубку «№37». А возможностей для того у него было более чем достаточно: троцкистское прошлое, помогал семьям репрессированных и к тому же — острый язык, с которого слетали соображения, тянувшие на тяжелые политические статьи. Например, вот это: «У наших вождей высшее образование без среднего».
Он расстался с иллюзиями, но не с идеалами. И ему довелось однажды пересечься с поэтом, прошедшим ад ГУЛАГа — Варламом Шаламовым. Прощаясь с ним, Светлов сказал:
«Я, может быть, плохой поэт, но я никогда, ни на кого не донес, ни на кого ничего не написал».
Бывший зек про себя подумал, что «для тех лет — это не малая заслуга — потрудней, пожалуй, чем написать «Гренаду». А вслух сказал:
«Острота хорошая, Михаил Аркадьевич. Да вы и не такой плохой поэт».
В тот вечер, когда они расстались, случилась новость: застрелился Александр Фадеев.
Светлов прокомментировал его предсмертное письмо: «Он всегда считал себя часовым партии, а сейчас выяснилось, что он стоял на часах у сортира».
Самоубийство Маяковского он назвал «выстрелом назад».
Самоубийство Фадеева — «выстрелом вперед». Выстрелом в послеоттепельное будущее. А скорее всего и дальше, в убегавший от нас горизонт.
В метафорическом смысле можно назвать «выстрелами вперед» летучие афоризмы самого Михаила Аркадьевича Светлова. Некоторые из них долетели до нас.
Вот этот к примеру: «Я боюсь не министра культуры, а культуры министра».
Или: «Жизнь — это густо населенная пустыня».
А также: «В наши дни порядочным человеком считается уже тот, кто делает пакости без удовольствия».
Еще: «Что я люблю писать более всего? Сумму прописью».
В каком-то доме отдыха почитательница светловской поэзии, смущаясь, спросила:
— Михаил Аркадьевич, а вы что, на самом деле, еврей?
— Ну что вы, голубушка… Просто я сегодня плохо выгляжу.
Об одном поэте:
— Он — как кружка пива. Прежде чем выпить, надо сдуть пену.
Речь зашла о поэте, который погиб в автокатастрофе в 1935 году. Светлов грустно сказал:
— А ведь человек мог бы жить ещё два года…
После больницы:
— Михаил Аркадьевич, как вы себя чувствуете?
— Как ангел, приехавший в ломбард за своими крыльями…
Просто так, от нечего думать:
«Один атом ругался матом. За это его исключили из молекулы».
Добивала его болезнь. Он и над ней пошутил: попросив пива, добавил: «К раку».
На пороге смерти подмигнул живым и мертвым:
«Смерть — это присоединение к большинству».
После того, как присоединился к большинству, стало понятно, что своими остротами он отстреливался от тех советских реалий, что его обступили со всех сторон, от той романтики, что когда-то бодрила его дарование. Уже не тачанка-растачанка — его подруга и оружие, а ирония. С той оговоркой, что первая — на страницах поэтических сборников, а вторая — на устах родных и друзей, на выкупленных из ломбарда крыльях устной молвы.
***
С авторами Вождь так или иначе разбирался:
Как подковы кует за указом указ —
Кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в глаз.
От мыслепреступления к душепреступлению.
Трудности у хозяина были с произведениями лояльных авторов, среди которых больше всего его раздражали сочинения Зощенко и Платонова. Наверное, потому, что именно эти два писателя в масках своих простодушных героев добрались до сути и бессмыслицы того мифомира, что строил товарищ Сталин, и что, в конце концов, рухнул под собственной тяжестью.
Они-то и догадались, и выразили в художественной форме, что он и не мог не рухнуть. И что было кремлевскому горцу с проницательными произведениями делать? Можно арестовать, но они, сволочи, более живучи, чем их авторы. Можно попробовать их сжечь, но ведь ему еще до Булгакова стало известно, что рукописи не горят, а талантливые книги долговечнее их авторов.
С фильмами вроде было разобраться проще — пленка у тебя под контролем. Хотя и здесь у Хозяина случались проблемы. Самой огорчительной оказалась та, что была связана с замыслом и воплощением «Ивана Грозного».
Верховный мифотворец с большим удовлетворением отсмотрел первую серию фильма. Ту, где молодой, энергичный царь, не ведая сомнений и колебаний, не советуясь с совестью, утверждался на престоле ценой беспримерной жестокости.

Первая серия была награждена. Вторая серия, где Иван Грозный почувствовал себя обреченным на душевные муки, привела главного кинозрителя в неистовую ярость. Картина была репрессирована, а режиссер оказался в опале до самой смерти.
Громовержец Сталин уличил своего прототипа громовержца Грозного в «душепреступлении» и обвинил в попустительстве таковому кинорежиссера Сергея Эйзенштейна.
Сталин, ожесточаясь и обесчеловечиваясь, еще до начала Отечественной войны, прошел точку невозврата. А народ и культура не потеряли надежду сохранить себя.
За вход в Мифоздание платишь одну страшную цену — жертвоприношениями по ходу Революции, Гражданской войны, коллективизации, индустриализации. За выход из него приходится платить реками крови в борьбе с гитлеровской машиной. И это еще не вся цена. Увы, слишком много осталось мастеров культуры, «запроданных рябому черту на три поколения вперед».
Если бы только мастеров культуры… А то к ним пристегнуто оказалось еще где-то около 50% населения шестой части суши.
Оттепель надежды нашей
Важная перемена блюд случилась после смерти Сталина с началом
деколлективизации колхоза по имени СССР и эмансипации индивидуального «я» от коллективизированного «мы». Называлось это «Оттепелью».
История оттепельного кино поучительна как в пору его расцвета, так и затем, когда в общественно-политической жизни страны наступили заморозки.
Два фактора, способствовавших наступившей во второй половине ХХ века общественно-политической Оттепели следует выделить.
Первый: кончина Сталина и сопутствующие ей ослабление идеологического ошейника на горле общественности и удлинение для граждан административного поводка.
Второй, как ни неожиданно: Отечественная война. Точнее: память о ней. Именно кровопролитная, страшная по своим последствиям война и стала самой существенной, сущностной предпосылкой размораживания личностного начала в отношениях Общества с Государством, а вовсе не ХХ съезд с обличительным докладом Хрущева.
Доклад о культе личности Сталина всего лишь санкционировал Оттепель. Правильнее сказать: легитимировал ее на государственном уровне.
Был еще один фактор, на который следовало бы обратить внимание. Это оживление художественной критики. Имеются в виду статьи и рецензии Инны Соловьевой, Майи Туровской, Веры Шитовой, Юрия Ханютина, Неи Зоркой… Именно они обеспечили важную интеллектуальную поддержку мастерам кинематографа той поры. Их тексты явились своего рода идейно-теоретическим обоснованием обновлявшейся кинематографической, как сегодня стало принято говорить, антропоморфной практики.
Наступательным идеологическим оружием Оттепели стал культ мифа о Ленине как о великом демократе в борьбе с мифом о Сталине-вожде, как о кровавом тиране.
Миф о Ленине, как о демократе во второй половине ХХ века стал главной «новинкой сезона». Потому не грех вспомнить «каким он парнем был» до этого, при жизни Отца Народов.
Революция в силу своей природы не может не отменить прошлое и традицию. Но какая-то компенсация народу нужна. Ему нужно некое благоволение от имени Вечности. Забальзамированный и мифологизированный Ленин таковым и явился для «ширнармасс».
Самому же Сталину Ленин более всего был потребен не как вождь и отец революции, но как ее дедушка. Потому, надо думать, у него и не могла вызвать энтузиазма картина Эйзенштейна «Октябрь», где основоположник представлен харизматическим оратором.
Другое дело роммовская дилогия «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Тут главный герой выглядит не таким публицистичным, более опрозаиченным, даже одомашненным. Хотя время от времени он и демонстрирует свои гипнотические способности. Но это как бы не главное в обоих фильмах. Это общее место. Главное и эксклюзивное — его личные контакты то с соратниками, то с трудящимися, то с писателем Горьким…
Если сравнивать мифологические образы Ленина и Сталина, то не может не броситься в глаза вызывающая партикулярность первого на фоне военизированности второго.
Он крайне надобен был Отцу народов. Кажется, в 38-м году на приеме в Кремле по какому-то случаю живой Сталин поднял тост за здоровье забальзамированного Ленина. Надо думать, сделал он это вполне искренне. Живой труп ему был необходим в качестве «идеологического покойника», каковым в свое время оказался назначенным товарищ Подсекальников, герой драматурга Эрдмана, в свою очередь отправленном в края не столь отдаленные, как Магадан…
Создатели художественных произведений о Ленине упирали на исповедуемые им демократические нормы и принципы, которые Сталиным оказались попранными в силу субъективных качеств характера последнего.
Именно так воспринимались спектакли, поставленные в «Современнике» по пьесам Михаила Шатрова, роман «Дети Арбата» Рыбакова, а затем — в Ленкоме и во МХАТе: «Большевики», «Так победим», «Диктатура совести». Так читалась книга Эммануила Казакевича «Синяя тетрадь». Так смотрелись фильмы «Рассказы о Ленине» (1957), «Ленин в Польше» (1965), «Ленин в Париже» (1981), «Апассионата», «6 июля» (1968), экранизация «Синей тетради» (1963).
Вождь мирового пролетариата в годы оттепели (да и застоя тоже) являлся миру как своего рода укор отцу народов. А заодно и примером для нового поколения советской бюрократии.
«Новое поколение» партийной номенклатуры не без неприязни воспринимало осторожные поучения художников-демократов, ловко прикрывавшимся ленинскими образами и их привлекательными чертами. То он самый человечный человек. То — образцово-показательный интеллигент. То — глубокий мыслитель… И все это в противовес Сталину и, понятное дело, прочим генсекам.
В пору горбачевской перестройки Ильич стал ее, можно сказать, идеологическим прикрытием. На его труды ссылались, цитатами из него клали на лопатки чванливых коммунистов, окостеневших демагогов. Ленин на сцену и на экран являлся с ревизией практики развитого социализма.
С Лениным, надо признать, можно было легко оправдывать как закручивание гаек, так и их откручивание. Практиковалось то и другое в зависимости от политического момента. В 80-е годы Ленина авторы фильмов и спектаклей представляли как адепта демократии и гуманизма без всяких оговорок. Зрителям давали понять, что если бы он остался у руля страны еще десяток — другой лет, то невозможен был бы Большой террор и прочие перегибы в развитии.
Впрочем, тогдашняя советская номенклатура не без оснований подозревала, что антисталинизм тех спектаклей и фильмов был направлен острием и против нее. С этим и были связаны трудности их встречи со зрителями.
И вот тут рядом с беллетристическим Лениным объявился Ленин исторический. И у Владимира Солоухина — «Моя лениниана», и у Александра Солженицына — «Ленин в Цюрихе» (1975). А ведь еще жила и обновлялась фольклорная Лениниана. То есть анекдотическая Лениниана.
Дедушка-вождь в глазах народов перестал значиться как нечто противоположное отцу народов. Усыпальница Ленина по праву была и трибуной для Сталина, и постаментом для его славы и величия.
Сталин — персонаж безбытный, неотягощенный семейными узами. (К слову сказать, точно так же себя «подавал» и Гитлер). Он как бы явился внезапно и взялся ниоткуда. Неслучайно в советские годы его биография совсем не разрабатывалась в кино и изобразительном искусстве. Ее почти не касался театр. Попытка «прикосновения» к ней со стороны Михаила Булгакова кончилась для театра ничем. И дело здесь не в том, что сама биография вождя оказалась слишком темной — разве трудно было ее, переписав, высветлить… Дело в смысловой нагрузке мифологического образа. В соответствии с последней Сталин — вневременной персонаж. Это Зевс, который превзошел Кроноса, но не низверг его в Тартар.
Ленин — герой, которому в новом мифоздании дозволено иметь жену, сестру, мать, эстетические пристрастия, университетское образование, интеллигентские привычки и воспоминания о прошлом. Это потому, что он — согласно старо-новому завету — человек, еще достаточно тесно связанный с прошлым. Неважно, что поднявший восстание против него. Он всем пример и путеводная звезда, потому что произвел революционное преобразование в себе и над собой. Он, если угодно, первое и исчерпывающее доказательство святости, заваренной большевиками кровавой каши.
Таков был в общих чертах социальный заказ Сталина на мифический образ Ленина, и творческая интеллигенция с честью и усердием его выполнила. Но сама с течением времени стала утилизировать эту фигуру уже, разумеется, в своих, можно сказать эгоистических, целях. А можно предположить, что и в общечеловеческих интересах.
В новой общественной ситуации авторы фильмов о Ленине напирают на его интеллигентность, образованность, вежливость, культурность и даже на способность к рефлексии, колебаниям и сомнениям. При этом никто не вспоминает о его харизматичности. И все — о его личной скромности и порядочности.
Контуры нового мифа отвечают уже более актуальному велению времени. Ленин в первую голову — антипод Сталина, позитив с известного негатива. Кроме того, утепленный, либерализированный Ильич преподносился общественности как укор и урок тогдашним «царям».
Наконец, для интеллигентов-шестидесятников, детей Оттепели и Арбата, он становится чем-то вроде нравственного камертона. Как в картине Марлена Хуциева и Геннадия Шпаликова «Застава Ильича» (1964), где один из героев обращается к тому, кто в Мавзолее, с громогласными стихами Маяковского, но произносит их конфиденциально, вполголоса:
«…Я вам докладываю не по службе, а по душе…».
Самое драматичное здесь, что такая сердечная интимность — не конъюнктура, не средство для того, чтобы повысить коэффициент «проходимости», а действительно нечто идущее от души.
Психологи уже обратили внимание на особые парадоксальные доверительно-родственные чувства, что возникают между террористами и захваченными ими заложниками.
Практика заложничества, получившая широкое распространение в наше время, была, как стало известно сравнительно недавно, широко внедрена в жизнь все тем же В. И. Лениным. Это он еще в 1919 году сочинил постановление, по которому велено было числить заложниками членов семей мобилизованных в армию офицеров. И далее, выполнение всякой хозяйственной задачи (и военной тоже) — от уборки снега до продразверстки и обороны Царицына — сопровождалось превентивными арестами и расстрелами.
Когда революция вошла в мирные берега, инструментом заложничества стала культура. Именно она более, чем что-либо другое, более, чем репрессии, обеспечила духовно-политическое единство палачей и жертв.
Советская культура создала миф о Ленине, заложницей которого сама и стала. Им потом было трудно друг без друга. По революционным праздникам мы их всегда видели вместе.
Разумеется, противопоставление то было в историческом отношении заблуждением. Но, как мы знаем, заблуждение обладает некоторым количеством энергии, питающей художника.
Понятно, что ее ресурс в начале прошлого века был несравнимо более значительным. Той энергии и был в основном обязан взлет советского кино 20-х—30-х годов. Ею питалась художественная мощь фильмов Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, Калатозова, Райзмана, Юткевича, братьев Васильевых, Эрмлера, Вертова и т. д.
С этой точки зрения заблуждения во второй половине 50-х годов относительно идеалов былой революции и высоких целей ожидаемого рая на Земле оказались уже не столь сильными. Да и не столь щедрыми, заметно ограниченными… Может быть, поэтому оттепель не дожила до весны.
У Надежды Мандельштам соображение:
«Ель гибнет на границе климатических зон, где морозы слабее, но оттепели, и она гибнет от отчаяния несбывшихся чаяний».
Брежнев убивал последние надежды, вызванные оттепелью. Как мы затем убивали надежды, вызванные крушением режима.
***
Если мифический Ленин стал оружием шестидесятников, то душой этого поколения стала лирика, которая, впрочем, была не только состоянием, но и мировоззрением. В этом будет сила шестидесятнического движения в начале его пути. Это окажется впоследствии его слабостью.
Все сошлось в фильме «Застава Ильича».
Ильич — как точка опора, посредством которой можно, как показалось некогда, перевернуть, если не весь мир, то сознание советского человека, пережившего сталинизм.
Лирическая поэзия в Политехническом музее — как своего рода монастырь, в котором находят укрытие и утешение, и освобождение великие граждане страны Советов. Здесь люди разных поколений спасаются хотя бы ненадолго от их преследующих высокопарной казенщины, от патриотической фальши, от государственного цинизма… Здесь торжествует единение свободных, душевно раскрепощенных граждан, взявшихся за руки по рекомендации Окуджавы…
Наконец, здесь же бродит призрак минувшей войны — вернувшийся с нее мертвым отец молодого человека.
Отец моложе своего сына; он ничему не может научить того, кто живет после войны. Но важно то, что рефлексирующее поколение накрыла тень беспощадной войны.
Война для оттепельного кинематографа — это ведь тоже застава. Точка опоры. Шкала моральных ценностей. Она важна и ценна своей подлинностью. С ее началом спала пелена мнимостей: мнимых врагов, мнимых героев, мнимых достижений, мнимых идеалов… Человек вернулся в реальность. И вот, наконец, все увидели четкую линию фронта между подлинно своими и подлинно чужими.
Война для шестидесятников спустя десятилетие стала своего рода спасительным тылом.
На этот счет есть убедительное свидетельство поэта, обрадовавшегося началу войны.
В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят…
Быть может, нас сейчас завалит,
Кругом о бомбах говорят…
…Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была.
(1941)
Это из поэтического дневника Ольги Бергольц. Какая пропасть между реальностью и настроением…
В ту пору многие идеалисты с началом войны испытали психологическое облегчение: вот она — внешняя угроза — нацистская Германия. Вот он — внешний враг — Гитлер. И вместе с этим — душевный подъем. Позади угнетенное состояние, связанное с раздвоением сознания. Позади публичная риторика, казнящая троцкизм, зиновьевско-бухаринскую банду и прочих внутренних, мифологических злодеев.
Перед лицом внешнего врага все едины, что должно было означать конец гражданской войны. На деле-то она продолжалась. Она продолжалась с зеками, густо заселившими архипелаг ГУЛАГ.
Оттуда дошли до нас другие стихотворные строчки:
Я хотел бы так немного!
Я хотел бы быть обрубком,
Человеческим обрубком…
Отмороженные руки,
Отмороженные ноги…
Жить бы стало очень смело
Укороченное тело.
Я б собрал слюну во рту,
Я бы плюнул в красоту,
В омерзительную рожу.
На ее подобье Божье
Не молился б человек,
Помнящий лицо калек…
Это своего рода акт самоотречения. К тому же отречения от Красоты, от Бога. Строчки принадлежат узнику ГУЛАГа Варламу Шаламову. Написаны они примерно в тоже время, что и строчки Бергольц.
На одном крае нашей страны ужас обездушевления и обесчеловечивания. На другом — восторг вочеловечивания и одушевления. Вот он-то и согрел почву, на которой и произросла Оттепель, спустя десятилетие.
Конечно, оттепель раньше всего обнаружилась в литературе: во «Временах года» (1953) Пановой и в эренбурговской «Оттепели» (1954). Затем последовал Дудинцев с «Не хлебом единым» (1956).
В кино «Застава Ильича» сегодня смотрится как квинтэссенция оттепельных мотивов. Но одна из первых ласточек перемены общественно-политической погоды стала комедия Михаила Калатозова «Верные друзья» (1954).
Друзья имениты, знатны и при чинах, но сильно не молоды. Они отпускники. Они сами себе предоставлены. Их путешествие на плоту вниз по вольной реке — сюжет оттаивания лирических чувств. Лирика — главная героиня картины, а сатира про бюрократа Неходу в ней сбоку.
Никогда в таком почете не были лирики, как в пору оттепели.
Глазами младенцев Лирик смотрел на мир: «Человек идет за солнцем» (1961), устами младенцев глаголил истины: «Сережа» (1960), «Два Федора» (1958).
Сменив короткие штанишки на брюки, он чужие беды разводил руками. Лучше всего и нагляднее всего это получилось в «Я шагаю по Москве» (1963).
Условия и обстоятельства могли быть разными. Лирик попадал в переплет Гражданской войны — «Тревожная молодость» (1954). Он объявлялся в детективном сюжете — «Дело Румянцева» (1955). Он оказывался мобилизованным и призванным на Великую Отечественную. («Баллада о солдате» (1959), «Летят журавли» (1957), «Дом в котором я живу» (1957). Он встречался в школе и на заводе («Весна на Заречной улице» (1956)).
Лиризм порождал иллюзию, что все моральные заповеди и гуманистические ценности способны уместиться на ладони лирика. Довольно быстро выяснилось, что это не так. Хуциев уже через два года после «Заставы», вызвавшей энтузиазм у шестидесятников, снимает «Июльский дождь» (1966), который стал прохладным душем для энтузиастов.
Время Оттепели было временем надежд и печали по мере их убывания.
«Застава Ильича» стала кульминационной точкой наших упований, а уже следующий фильм Хуциева «Июльский дождь» — началом их оплакивания. Стоит обратить внимание на две ключевые сцены.
Одна — когда компания друзей весело и непринужденно общается: шутки, прибаутки, подначивания, подтрунивания, бардовская песня…
Другая — после теплых летних дождей, выезд на пленэр; на дворе — осень, герои поеживаются… Холодно стало и в отношениях друзей, и в чувствах влюбленных — Лены и Володи. Гитара в прошлый раз душевно сближала друзей, а теперь у костра ее почему-то не хочется слушать. Не хочется искусственного, натужного единения… Что-то разладилось. И, кажется, что необратимо. Герои в растерянности
Это картина о кризисе лирического мироощущения, о его тупике. И то, что в финале героиня со стороны издали наблюдает улыбки и объятия фронтовиков, воспринимается искусственной добавкой. Получается, что минувшая война, списывает уже современную некоммуникабельность.
Впрочем, еще прежде о разрыве романтических устремлений с реальностью криком прокричал Михаил Калатозов в фильме «Неотправленное письмо» (1959), снятом спустя два года после «Журавлей». Потом он же попытался взбодрить романтические эмоции, отправившись на остров Свободы, и привезя оттуда «отправленное письмо» — «Я — Куба» (1964).
Письмо отправленное, но непрочитанное. Или точнее: непонятое.
Оттепель к концу 60- годов свернулась, сдулась… Невелик оказался ресурс энергии заблуждения. Несравнимым с тем, что питал монтажный кинематограф 20-х — начала 30-х годов.
А что же сталось с подснежниками оттепельной поры? Одни увяли как Хуциев, Ордынский, Таланкин… Другие — обратились к классике (Хейфиц, Зархи, Кулиджанов). Кто-то погрузился в Лениниану (Юткевич).
Трагическая участь постигла самого задушевного лирика — Геннадия Шпаликова. О ней надо сказать отдельно.
Долгая короткая счастливая жизнь
Его так давно нет. Более 40 лет. Ему в 2017-м исполнилось бы всего 80.
Он родился осенью. Он ушел осенью. Он прожил свою жизнь длиною в 38 лет от листопада до листопада. И, кажется, что другого времени года так и не отведал.
Так, по крайней мере, кажется, когда заглядываешь в его дневниковые строчки стихов.
Его стихи — заметки на полях его жизни.
Называлось место: Плес,
Начиналась осень, кто меня туда занес,
Одного забросил?
Место, где он оборвал свою жизнь, называлось: «Переделкино». Из петли его вынимал доктор Гриша Горин, которого все знают, как писателя, и которого нет с нами тоже довольно много лет.
Листаем стихотворные строки. Будто нарочно попадаются печальные, осенние: «Хоронят писателей мертвых, Живые идут в коридор…». И в конце стиха — просьба: «Ровесники, не умирайте».
Ровесники, увы, умирали и умирают.
В такие мгновения зло берет на судьбу: зачем она щедро дарит то, что потом безжалостно отнимает.
«Долгая счастливая жизнь» (1966) — авторский фильм лирика; он и сценарист, и режиссер его. Это — автобиография души, что у лириков отдельна от тела. Она-то и жива по сию пору; и будет еще долго и счастливо жить.
…Он вступил во взрослую жизнь, когда казалось, что, если что и спасет мир, так это лирика. И только она. То было время, когда начали оттаивать простые человеческие чувства, и в какой-то момент они стали брать верх над идеологическими схемами. Сначала — по праздникам («Карнавальная ночь» (1956)), потом — в отпускную пору («Верные друзья»).
В картине Михаила Калатозова лирический герой — человек в возрасте. Его «лирические отступления» — это припоминание себя живого, это удивление себе, живому. «Что так сердце, что так сердце растревожилось?..». То была жизнь сердцем. А молодая лирическая пара осталась на периферии сюжета.
Молодой лирический герой не номинально, а реально оказался в центре повествования у Шпаликова.
Он написал сценарий почти бессюжетный, к которому и название трудно было придумать. Чем можно обнять череду забавных происшествий, случайных знакомств, нечаянных размолвок, чаемых примирений? Только местом действия и самим собой. Получилось: «Я шагаю по Москве».
Лирический герой, у которого все нравственные истины уживаются на ладони, шагал по Москве и чужие беды разводил руками: мирил влюбленных, помог молодому писателю, влюбил приятеля в девушку, в которую сам вроде влюбился и под занавес поднял настроение заскучавшей в метро молодой женщине. И уже, когда экран перечеркнула строка «Конец фильма», и в зале зажегся свет, оказалось, что он ободрил и зрителей — они улыбались.
…Вот только жизнь не улыбалась. И не только лирикам. Оттепель затянулась, а лета Шпаликов так и не дождался.
Хотя в какой-то момент могло показаться, что судьба отныне благоволит физикам. Впечатление было обманчивым, чему свидетельством стал фильм Михаила Ромма «9 дней одного года» (1961). Да и сам Шпаликов довольно быстро прочувствовал это на собственной шкуре, которая у лириков обыкновенно бывает очень чувствительной к перемене общественно-политического климата.

Еще не вышел фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», а уже случился памятный скандал с картиной Марлена Хуциева «Застава Ильича»: Прошлое догнало Настоящее. Картина не понравилась Никите Сергеевичу Хрущеву. Он почувствовал себя лично обиженным: как это так, поколение отцов пасует перед вопросами своих взрослых детей…
Картину отредактировали и выпустили под названием «Мне 20 лет». То есть Ильича, который в то время был священной коровой не только для партийных функционеров, но и для творческой (как сегодня бы сказали креативной) интеллигенции, решили не примешивать к внутренним исканиям современной молодежи. За «искания» сняли ответственность с вождя мирового пролетариата и переложили ее на плечи все того же лирического героя в рамках одного фильма.
С высоты сегодняшнего дня понимаешь, что драма была не только в контрнаступлении партийной бюрократии с идеологическими клише на перевес. Драма состояла еще в том, что жизнь не только цензурировалась, но и усложнялась. Межличностные дружеские отношения отступали на второй…, на десятый план. Поэзия солидарности самодостаточных индивидов, столь ярко демонстрировавшаяся в Политехническом, на глазах стала размываться, истаивать под напором житейщины, служебных обстоятельств, карьерных соображений. И уже следующий фильм Марлена Хуциева (по сценарию Анатолия Гребнева) очень четко отделил одну эпоху от другой. Как у Пушкина: «Лета к суровой прозе клонят».
…А Шпаликов не сдавался, не мог сдаться по существу своей натуры, по призванию своего дарования. Он сопротивлялся, как мог, убийственной прозе, полинявшей у нас на глазах действительности. Написал сценарий-сказку для мультипликационного фильма Андрея Хржановского «Стеклянная гармоника» (1968) о музыканте, преобразующем силой своего дара уродливую действительность в мир прекрасных гармоничных образов, который снова и снова разрушается до основания. Сказка — ложь, да ее намек дошел до идеологических вертухаев. Картина была положена на полку, до лучших времен.
А «Долгая счастливая жизнь» о молодых людях, что случайно встретились, легко сблизились, а на утро расстались, словно и не было того, что они вчера почувствовали.
Сегодня этот фильм смотрится как предсмертная записка Геннадия Шпаликова. Лирическое мироощущение к общему сожалению оказалось не универсальным.
…Сегодня многие стихотворные строки читаются как предсмертные записки.
Хотя бы вот эта: «Страна не пожалеет обо мне, Но обо мне товарищи заплачут» (1961).
Так оно и было в 1974-м, когда его не стало. Товарищи, провожая его, плакали.
В 2012-м, когда покойному лирику исполнилось 75 лет, страна не то, что не пожалела о нем, но и не вспомнила про него. Едва ли вспомнит о нем и в 2017-м, когда ему исполнится 80. Страна предпочтет славить 100- летие Великого Октября
Летальные исходы мастеров культуры в какой-то исторический момент перестали осознаваться как события.
***
«Оттепель» (2013) Валерия Тодоровского истерзали на предмет исторической подлинности. Покрой одежды не тот, и сама одежда не та, и вешалка, что в прихожей у Хрусталева — из Икеи. Курили, мол, не так дымно, пили не столь интенсивно. Герои не похожи на своих прототипов. И так далее.
В претензии — не только отцы с детьми, но и внуки, которым бы хотелось гордиться своими дедами и дядьями, а гордиться вроде бы и не получается: все они какие-то ущербные.
Даже очень взрослые люди с гуманитарным образованием не всегда могут смириться с условностью художественного изображения. У одних не получается психологически преодолеть рампу, другие ни в какую не соглашаются с ее иллюзорностью.
Оператору Вите Хрусталеву в «Оттепели» 36 лет, а его бывшей жене 33 года. А 33 ей для того, чтобы она могла полноценно комплексовать по поводу своего возраста: она уже не так молода, а ничего славного и стоящего не сделано, ролей в кино нет и не предвидится, и личная жизнь не складывается.
И правы те из блогеров, что замечают: герои — все одногодки, все родились в 1961-м году. То есть в пору Оттепели. Они и есть шестидесятники.
Оттепель — их колыбель. То есть не их непосредственно, а их морали, их чувств… В том числе, и гражданских чувств.
Авторы заперли своих персонажей в 1961-м и наблюдают за тем, что за поколение варится в соку мосфильмовской студии.
Кино для них — купель, в которой происходит непонятное таинство приобщения к каким-то более высоким и более живым радостям.
***
Что еще бросается в глаза: жизнь за кадром была артистам, да и всей съемочной группе, в удовольствие. И, возможно, в какой-то степени стала для них наукой. Недаром все рабочие моменты съемок и последующего времяпровождения сняты с такой теплотой и даже, я бы сказал, с нежностью.
Они хорошо относились друг к другу. Еще лучше — к кино. А пуще всего возлюбили его кухню.
Новое поколение артистов, — Анна Чиповская, Виктория Исакова, Яна Сексте, Евгений Цыганов, Светлана Колпакова, Александр Яценко, — всматривается в старое поколение персонажей, героев не нашего времени, с противоречивыми, я думаю, чувствами.
…Вроде бы сериал не носит ярко выраженного идеологического характера, что по обыкновению становится раздражающим фактором и повышает градус нервного отношения к увиденному. Здесь нет Сталина, Берии и Хрущева. Нет их жен и детей, их любовниц, нет персонажей, за которыми бы тенью стояли памятные исторические прототипы.
Прошлое обозначено, датировано, но не документировано, то есть не оснащено отсылками к известным событиям того времени типа — выступления поэтов в Политехническом, фестивалями всемирной молодежи или всемирного кино. Герои чем-то и как-то напоминают того или иного кинематографиста, но неясно, не очевидно, не до конца. И все равно и фильм, и его герои подкупают… А кого-то раздражают… И понятно — почему.
Раздражают недостаточно четко выраженной идейной позицией по отношению к советской бюрократии. Демонстративной аполитичностью раздражают и «гениальный» оператор Витя Хрусталев (Евгений Цыганов), и подающий надежды молодой режиссер Егор Мячин (Александр Яценко), и даже лауреат Сталинской премии товарищ Кривицкий (Михаил Ефремов). Никого из них не тошнит от той показушной колхозной действительности, что они лепят на экране. Так в советское время ответственных функционеров возмущала гражданская пассивность киногероев из фильмов Петра Тодоровского, Марлена Хуциева, Георгия Данелии…
Очень отчетливо помню, сколько моих друзей с обостренным чувством недовольства советским режимом, были огорчены фильмом «Мимино» (1977), поскольку в нем не нашли ни одной ноты протеста против торжествующей советской идеологии.
Просто милая, теплая, лиричная комедия и ни одной фиги в кармане, если не считать того эпизода, где герой, попав за границу, звонит соотечественнику в город Телави, а попадает в Тель-Авив. Но ведь и его же вырезали на премьерном показе. Потом, правда, восстановили.
Понятие «оттепель» в нашем сознании прежде всего — определенный отрезок времени в послевоенной истории. Но не только. Это еще и душевное состояние, некогда пережитое. И пережитое не однажды. И всякий раз с наступлением лютой стужи мы ждем нового ослабления морозов и очередной оттепели.
Советская стужа была по-своему уникальной. Люди укрывались от коммунистического официоза в частной жизни. Людям искусства приходилось особенно трудно. Им ничего не оставалось другого, как бежать в искусное ремесло. И просто — в мастерство.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.