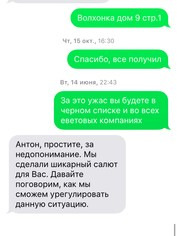Бесплатный фрагмент - Кавполк
Рассказы из дембельского альбома
Тридцатилетию призыва
в Советскую армию посвящается
Илья Смирнов-Гукер
Как меня назначали комиссаром эскадрона
1. Наказание честью
Месяца через два после начала службы в эскадроне вызывает меня замполит капитан Харакоз. Сам весь лощёный такой, с усиками, сапоги до блеска начищены, галифе задницу обтягивает. Ну чисто поручик царской армии.
Вежливо присесть приглашает. Сажусь. А сам думаю, как бы ему диван не испачкать. Меня ж прямо из столовой вызвали, с наряда по кухне. А в наряде по кухне, как известно, весь картофан молодые чистят, ибо старослужащим не положено по сроку службы. Так что сам я в дерьме, руки чёрные от картофана, да и сапоги не лучше. Сижу, ноги под диван засовываю, чтобы наряд вне очереди не схватить по случаю.
Замполит же тем временем чаёк из узорной чашечки попивает и дело моё личное листает. Вижу, настроение у него вроде ничего. Хорошее настроение. «Да, да…» — всё под усами приговаривает, а время от времени даже улыбается. Чего, думаю, ему там в моём деле так понравилось? Как бы в стройбат не отправили или ещё куда поинтереснее.
А замполит покивал-покивал, дело моё отложил и ласково так смотрит на меня с ленинским прищуром. Тут я вспомнил, что утром воротничок чистый не подшил, поскольку подшивал воротничок дедушке Советской армии рядовому Карачарову. Думаю — всё, три наряда вне очереди по конюшне обеспечены как пить дать. И голова моя сама втягивается в туловище, как у черепахи в минуту опасности.
Тут замполит мне говорит:
— Так вы, рядовой Смирнов, в университете до армии учились, не так ли?
А сам всё улыбается, скорпион.
— Так точно, товарищ капитан, — кричу, — учился, пока в армию не загребли!
Как будто в моём деле не написано, откуда меня призвали. Аттракцион. Феерия. Пир духа.
Но внешне ничего не показываю, в армии умных не привечают. Вид делаю этакий дурашливый и несколько залихватский, поскольку военное начальство это жуть как любит.
— Ну, зачем же так — «загребли», — искренне огорчается капитан.–Призвали, рядовой Смирнов, призвали. Отдать свой гражданский, так сказать, долг.
И это «призвали» в его устах звучит как статья Уголовного кодекса в устах следователя. Мол, всё, дружок, отпрыгался. Но мы тебе, мол, поможем встать на путь исправления, не волнуйся. Поможем вернуться, так сказать, на путь истинный.
— Так точно, долг! — кричу, а сам вспоминаю, что намедни у Волкова из третьего взвода ваксу занял, чтобы было чем дедушкам обувь чистить. Скоро срок отдавать, а мать приехать не может — приболела. Видимо, по сусалам получать придётся. Эх-х-х, долги наши тяжкие…
— Хорошо, — говорит замполит, — а как у тебя с комсомолом?
Вот, думаю, идиот, кто же меня в университет бы принял, если бы у меня с комсомолом были нелады? Да меня к университету на пушечный выстрел не подпустили бы. Спросить у него, что ли, в ответ, кто у нас министр обороны, чтобы он понял весь идиотизм своих вопросов?
— Отлично, — ору, — товарищ капитан! Полное понимание и взаимопроникновение!
Последнее слово я зря ввернул: замполит завис на некоторое время, и на его лице отразилась напряжённая работа мысли. Он даже улыбаться на время перестал.
Но ничего, справился с интеллектуальным пожаром. Не первый день в звёздочках. Следующий фортель выдаёт: вдруг поднимается из-за стола во весь рост, одергивает свой френчик, надевает фуражку. Я тоже, естественно, вскакиваю, как подорванный. Ну, думаю, сапоги заметил, сейчас три наряда вкатит, к бабке не ходи…
— Командованием нашей части вам оказана высокая честь, рядовой Смирнов. Хочу вам предложить стать комиссаром эскадрона.
И смотрит на мой реакцию, как змея, впрыснувшая яд в жертву. Ну вот, думаю, приехали. Комиссар — это такой солдат, который помогает запмолиту эскадрона выявлять нарушения дисциплины в подразделении. Короче, комсомольский актив во всей красе.
Ну, попал. Как кур в ощип. Москалей и так в Кабарде (так наш эскадрон называли) не любят, а комсомольского прихвостня и подавно зачморят не по-детски.
— Садитесь, рядовой, садитесь, — ласково так говорит капитан. А сам по кабинету маячить начинает.
— Боюсь, не справлюсь, товарищ капитан, — кричу. — Нет авторитета среди товарищей!
Но капитан свою линию гнёт, сволочь. Только ус подкручивает.
— С авторитетом мы тебе поможем, боец. В армии авторитет в звёздочках да в лычках измеряется. Вот ефрейтора тебе дадим — сразу авторитет и появится.
А сам улыбается иезуитски, гнида замполитская.
Да, думаю, спасибо тебе, господин капитан. Одна сопля на погоне — это мощный авторитет. Чудовищный, я бы сказал. Солдаты говорят: лучше иметь дочь-проститутку, чем сына-ефрейтора. Удружил, канцелярская гадина.
Ну, думаю, помирать — так с музыкой.
— Товарищ капитан, — ору, — ефрейтора — это хорошо, это правильно! Ефрейтор — он же отличный солдат! А отличный солдат — он простых солдат точно за собой вести сможет! Но вот как он сержантский состав эскадрона вести будет?! Сомнения некоторые имею на этот счёт!
— Во Москва, во даёт жару! — восхищается Харакоз. — Поэтому вы и доите всю Россию, как тёлку, что хитрожопые вы все, москали. Ладно, поговорю по поводу младшего сержанта с начальством. Но смотри, сукин сын, ежели что не так, лично будешь отвечать по всей строгости воинского Устава и комсомольской совести. Идите, рядовой Смирнов, и готовьтесь к новой жизни, прекрасной, как пик Коммунизма!
2. Рядовой Балаянов
Прошло несколько дней с того момента, как наш замполит сделал мне предложение стать комиссаром эскадрона.
Утро началось как самое обычное, и ничто не предвещало грозы. По команде сержанта Сидоренко я подорвался с койки и оделся за-тридцать-секунд-времени, после чего быстро застелил свою койку, а также койку дедушки Советской армии рядового Карачарова.
После этого я мухой метнулся в туалет умываться, пока старослужащие не закончили одеваться и не отправились туда же.
Умывшись, я сел подшивать воротничок сначала Карачарову, а потом себе (если успею). И тут меня позвал дедушка Советской армии рядовой Балаянов.
— Слышь, ты, кацапская морда, в начальники настроился? — Балаянов сдвинул сросшиеся брови, хотя и без этого вид у него был как у гоблина.
— Никак нет, дедушка Советской армии, никуда не настроился, — решил я сразу идти в несознанку, чтобы выиграть время и выработать тактику поведения.
— Ты чё, за дурака меня считаешь? — задал свой коронный вопрос рядовой Балаянов, хотя и ежу было понятно, что считать его за дурака мог только мазохист-самоубийца, решивший проститься с жизнью самым изощренным образом.
— Никак нет! И в мыслях не было! — на лице я попытался изобразить такой первобытный ужас, будто только что уронил в кальсоны гранату без чеки.
— Ты, может, мной командовать хочешь, душара? — рядовой Балаянов сам порадовался своей шутке, и его лицо исказила гримаса, которая у него означала улыбку.
Представить себя командиром Балаянова я бы не смог даже в самых страшных и безумных снах. Дрессировщиком с пистолетом и горящим факелом — ну это ещё туда-сюда. Но Балаянов при этом должен быть в клетке. И в наручниках.
— Никак нет, дедушка Советской армии, духам не положено командовать старослужащими солдатами по сроку службы, — решил я продемонстрировать знание армейских законов. Мне казалось, что так можно закончить этот ужасный разговор.
— А может, ты соплю на погоны решил заработать, кацапура?
Я представил, как капитан Харакоз перед строем пришивает мне лычки на погоны, и мне стало дурно. Строй безмолвствовал, а из заднего ряда злобно сверкали два мохнатых глаза Балаянова.
— Никак нет, дедушка Советской армии! — отрапортовал я.
Чем меньше говоришь, тем меньше шансов сказать что-нибудь не то.
— Ну смотри, дух бесплотный, если обманул — конец тебе. Урою падлу. Свободен.
Было видно, что Балаянов не врёт. Уроет. Впрочем, возможно, он вообще не умел врать, ибо враньё — функция интеллектуальная.
«Пронесло пока», — подумал я и бодро зашагал на построение. Впереди меня, видимо, ждали удивительные приключения.
3. Совещание в коровнике
День пролетел незаметно: чистка лошадей, конная подготовка, строевая, чистка лошадей, обед, политзанятия, чистка лошадей, ужин.
После ужина, проспав с открытыми глазами политинформацию, которую вёл капитан Харакоз, я решил с толком использовать свободное время, выделяющееся солдатам и сержантам до просмотра программы «Время».
Я отправился в коровник к своему другу Лёхе Яценко по кличке Яцик. Лёха занимал одно из самых блатных мест в полку: он был телятником. И это неудивительно, ведь его папа был ни много ни мало главным ветеринарным врачом Московского ипподрома.
Лёха был на призыв старше меня, но для москвичей это не имело, как правило, никакого значения. Кроме того, Лёха, как и я, призвался из универа и сразу почувствовал во мне родственную душу. Мне же такая дружба давала как интеллектуальную отдушину, так и вполне материальные выгоды. Лёха угощал меня парным молоком, что в армии являлось неслыханной роскошью.
Лёха был высок, худ, с большим римским носом. Свою нескладность он искупал вечно смущённой улыбкой. Ещё он картавил, но это придавало ему некоторый интеллигентский шарм. В Кабарде он бы не выжил.
Лёха как раз закончил вечернюю дойку, вытер большие жилистые руки о фартук и протянул мне кружку парного молока.
— Как дела, кацапушка?
В устах какого-нибудь Балаянова это звучало бы как оскорбление и обвинение в принадлежности к низшей касте москалей, Лёха же этим прозвищем ласково констатировал наше тайное сообщество москвичей.
Тут дверь открылась, и в коровник ввалился с мороза Сашка Жданов, наш дружок из второго эскадрона. Лёха и его одарил кружкой тёплого парного молока. Жданов был вечный самовольщик и залётчик. Мало кто мог в полку сравниться с ним по числу дней, проведённых на гауптвахте.
— Братцы, я попал, — сказал я и рассказал про предложение замполита и беседу со страшным Балаяновым.
— И что собираешься делать? — весело спросил Жданов.
— Ситуация макабрическая, — уныло откликнулся я.
— Да, брат, ещё не известно, что хуже, — сказал Лёха и закурил. — Поругаешься с замполитом — он исключение из комсомола может устроить. Не комсомольца хрен восстановят в универе после армии. А обманешь Балаянова — тут даже страшно подумать, что может с тобой произойти.
— Может, закосить в санчасть? — предложил Жданов. — А там, глядишь, кого-нибудь вместо тебя назначат.
— В нашу санчасть кладут только с кардинальными проблемами, а на членовредительство я не пойду, — сказал я.
— Может, в другой эскадрон перевестись?
— Харакоз не даст, он уже, сволочь, на меня ставку сделал.
Все задумались и накатили ещё по кружке парного молока.
— Я знаю, что делать! — вдруг вскочил Жданов и заходил по коровнику.
Мы с интересом на него посмотрели.
Наконец он остановился посреди коровника и выкинул вперёд руку с грязным пальцем. Палец, как пистолет, был направлен мне в грудь.
— Тебе надо устроить ЗАЛЁТ!!!
4. Уроки залётного мастерства
После своего ослепительного озарения Жданов взгромоздился на какой-то насест под потолком и менторским тоном начал излагать свою идею.
— Залётов бывает три типа: лёгкий, средней тяжести и тяжёлый. Ещё, правда, бывает особо тяжёлый залёт, но это в военное время. Поскольку войны на дворе нет, его мы рассматривать не будем.
Лёгкий залёт — это мелкий проступок. Нечищеная бляха, шерстяные носочки в тумбочке, сон в наряде. За лёгкий залёт много не дают. Три — пять нарядов вне очереди. В общем, ерунда на постном масле.
Средний по тяжести залёт — это уже интереснее. Тут надо серьезно отличиться. Например, сюда можно отнести самоволки различной степени длительности и географии, распитие спиртных напитков в расположении части и за её пределами, ненормативную лексику в адрес офицерского состава, ну и прочие удовольствия. Тут, товарищи, светит… — Жданов мечтательно задумался, — от трёх до пяти дней губы! А в случае особого цинизма или последствий — и до десяти, не поверите ли, доходит!
Что же касается тяжёлых залётов, это уже трибуналом пахнет. Фокусы с потерей боевого оружия. Неуставное применение этого самого оружия, повлёкшее серьёзные последствия. Неуставные взаимоотношения с применением физического воздействия. Шутки с боевым знаменем полка, которые заканчиваются при удачном исходе расформированием части. Всё это уже воинские преступления, и тут дисбата, братцы, не избежать.
— Спасибо, друг, — сказал я, — особенно за последнюю часть — с дисбатом…
— Дисбат нам не подходит, — сказал Лёха.– Расформирование части, конечно, навсегда решит твою проблему, но способ решения неоптимальный. Мелкие проступки тоже не катят. Не помешают они Харакозу назначить тебя комиссаром. К бабке не ходи — отмажет. Остаются средние по тяжести безобразия с последующим отбытием на гауптвахту. Не припомню, чтобы кому-то прибывшему с губы присваивали следующие воинские звания и назначали на ответственные должности.
— Я на губу не хочу, — задумчиво сказал я.
— А придётся, — уверенно ответил Жданов. — Если ты, конечно, не наметил уже место для лычек на погонах.
— Не наметил, — грустно сказал я и вспомнил поросшее чёрным мхом лицо Балаянова.
— Теперь осталось выбрать залёт так, чтобы никого из дедушек не подставить. Иначе и до губы доехать не успеешь. А это не входит в наши планы.
Тут дверь коровника широко распахнулась, и в коровник ввалился прапорщик Беспалько, начальник ветеринарной службы полка. Он был толст, как все прапорщики Советской армии, жаден и имел смешную привычку ежесекундно теребить свои уши. За это он получил кличку Заяц.
— Та-а-ак, что здесь происходит? — тонким, писклявым голосом завизжал Заяц с порога.
От неожиданности Жданов сверзился со своего насеста и оказался верхом на корове, правда, задом наперёд. Мы с Яциком вытянулись во фронт.
— Я спрашиваю, почему посторонние в помещении? — орал Заяц, глядя прямо на Жданова.
Жданов неторопливо слез с коровы, застегнул воротничок и, спокойно глядя на прапорщика, сказал:
— Разрабатываем новые тактические приёмы конной подготовки, товарищ прапорщик!
Заяц от такой наглости покрылся пятнами, изо рта его пошла пена, и он зашипел:
— Вон отсюда!!!
Мы со Ждановым выскочили на улицу и помчались по своим эскадронам. А Яцик остался разбираться с пятнистым Зайцем.
5. Залёт
План, на котором мы остановились, был прост, как всё гениальное. Мы решили, что я поставлю в свою тумбочку спиртное. Утром командир взвода или ещё какой-нибудь офицер проверяет тумбочки, находит бухло, и я гарантированно отправляюсь на гауптвахту, отсиживаю свои суток пять, вопрос с моим комиссарством естественным образом снимается, все довольны — все смеются.
Проблема была только одна: в Кабарде молодым нельзя было ходить в самоволки. Не положено по сроку службы. В других эскадронах дедушки не наказывали за это, а в Кабарде за такое можно было огрести по полной.
Решили, что вместо меня пойдёт Жданов, как опытный самовольщик.
После ужина Жданов рванул в посёлок Калининец, расположенный неподалёку, а я в нервном ожидании сел за клубом: через забор сигали в дальнем углу части, подальше от офицерских глаз.
Жданова не было довольно долго, и я здорово замёрз. Наконец над забором показалась его голова, а потом и он сам.
— Держи, — хрипло сказал он и перевалил через забор пакет с чем-то довольно объёмным и тяжёлым.
Я принял пакет и опустил его на траву. В пакете было явно больше двух бутылок, о которых мы договаривались.
— Жданчик, ты чего, решил напоить весь эскадрон?! — изумился я.
— Ничего не было, кроме пива, — тяжело дыша, сказал Жданов.– Пришлось взять ящик. Для солидности.
В цветастом пакете нести пиво через часть было немыслимо, поэтому я сбегал в расположение и принёс вещмешок. Мы перегрузили пиво, и я без приключений доставил его к месту назначения.
Улучив момент, когда все стали спускаться на вечернюю поверку, я быстро поставил пиво в свою тумбочку и вышел на плац строиться.
После поверки все разбрелись по своим кроватям готовиться ко сну. Мне было как-то радостно и тревожно одновременно. В моей тумбочке тикала настоящая бомба!
— Эй, душара, у тебя ручка есть?
Я поднял глаза и увидел нависшего надо мной рядового Балаянова.
— Нет… — промямлил я и стал лихорадочно думать, зачем ему ручка. Неужели он умеет писать?
— Нет? — удивился гоблин, и кусты над его глазами начали сдвигаться. — Да ладно, ты ж у нас профессор?
И чудовище потянулось к моей тумбочке.
— Я могу за ручкой в Ленинскую комнату сбегать, — пролепетал я, загораживая тумбочку всем своим тщедушным телом.
— Сбегаешь, когда надо будет, — с угрозой сказал гоблин, отодвинул меня, как отодвигают коробку или этажерку, чтобы освободить путь, и открыл тумбочку.
Вы видели когда-нибудь реакцию девушки, которой ведущий сообщает, что она признана мисс Вселенной? Вот она ждёт, звук выплывает изо рта ведущего, плывёт по воздуху, останавливается в задумчивости перед рядом стройных девушек, пауза, затем звук, наконец, определяется, направляется к победительнице, подплывает к её уху и осторожно погружается внутрь чудесной головки.
Далее он нежно колеблет розовую барабанную перепонку и превращается в ещё более эфемерный сигнал нейронов, который с невероятной скоростью несётся в мозг, где уже всё готово, всё в напряжении, всё ждет его. И вот — он пришёл.
Сразу всё приходит в движение: руки, губы, ресницы. Взрыв эмоций, буря страстей, весь мир опрокинулся прямо в милое создание и наполнил его яркими красками…
…Весь мир опрокинулся в рядового Балаянова и наполнил его яркими красками. Огромные уши его порозовели, глаза округлились, как два блюдца, и он издал полузвериный вздох:
— Йэх-х-х…
Прокачав немного кислорода через лёгкие, Балаянов пришёл в себя и выдохнул:
— Ты чё, совсем оборзел, дух?
Я молчал. А что я мог сказать?
Балаянов ещё посопел, несильно толкнул меня в плечо (я отлетел в сторону и рухнул на койку), забрал, сколько смог, пива и паучьей походкой удалился в каптёрку. Остальное пиво забрал через минуту молодой солдат из первого взвода, примчавшийся по приказу Балаянова.
Потерев ушибленное плечо, я лёг на койку и стал смотреть на пружины кровати второго этажа. В голове моей было пусто и просторно. Ни одной мысли не наблюдалось на горизонте.
И тут раздался крик дневального:
— Смирно! Дежурный, на выход!
И скрипучий голос командира эскадрона капитана Сметанина:
— Вольно, занимайтесь.
Через пару минут я услышал какой-то шум со стороны каптёрки. Я выглянул из-за ряда коек. По проходу к кабинету Сметанина шёл рядовой Балаянов и нёс несколько бутылок пива, за ним вышагивал каптёр, тоже с батареей пива в руках. Завершал процессию довольный Сметанин, дающий время от времени пинка то Балаянову, то каптёру. Процессия продефилировала до канцелярии, где обычно обитал Сметанин, и скрылась за дверью.
Наутро рядовой Балаянов отбыл на губу на трое суток, а я стал думать, что делать дальше.
6. Приплыли
На следующий день, вызывает меня после завтрака к себе опять замполит. Довольный весь такой.
— Ну что, рядовой Смирнов, как служится?
А сам чай в кружечке помешивает. Сапоги начищены, сам подтянутый такой, ну прямо гусар на выданье.
— Нормально, — говорю, — служится, товарищ капитан.
А без твоих идей, идиот, ещё лучше бы служилось — думаю.
— А что в эскадроне происходит? — начинает раскручивать замполит.
О, думаю, дорогой товарищ, да ты стукачка из меня решил сделать, особист недоделанный…
— Только завтрак закончился, на занятия по химической защите побежали, — докладываю.
— Ну, ты это, дурочку-то не валяй. Какие настроения? Кто чего говорит?
— Осуждают поступок рядового Балаянова, — говорю.
Я давно заметил, что если с идиотами разговаривать на их родном идиотском языке, то они от этого приходят в хорошее настроение и перестают быть агрессивными.
— Это правильно, — задумчиво говорит Харакоз, а потом невинно так, как бы между делом, интересуется: — А не знаешь ли ты, дорогой товарищ, где он пиво-то взял?
Еще как знаю, придурок, — думаю. Тебе расскажи — ты чаем поперхнёшься.
— Не знаю, товарищ капитан, — говорю и делаю лицо египетской девственницы.
— Плохо, — огорчается капитан. — Ну ты поспрошай там народ, может, кто видел чего.
— Есть, товарищ капитан! — отдаю я честь. — Разрешите идти?
Жутко мне весь этот разговор не нравится. И замполит этот лощёный со своими подходами прямо тошноту вызывает. Смертельно хочется ему между глаз пепельницей заехать.
— Подожди, рядовой, — ворчливо замечает замполит, — военный билет давай сюда.
Вытаскиваю билет и отдаю в руки командования. Надо было потерять его к чертям собачьим, как я раньше не догадался…
— Идите, рядовой Смирнов, зайдёте ко мне после обеда!
— Есть, товарищ капитан…
Весь день не шёл у меня из головы этот военный билет. Зачем он ему понадобился? Еле дождался обеда. После обеда захожу к замполиту.
— Товарищ капитан, рядовой Смирнов по вашему приказанию явился!
— Является, рядовой Смирнов, Господь Бог, и то — избранным, а военнослужащие прибывают, — говорит Харакоз.
Поднимается из-за стола и надевает фуражку.
— Поздравляю, рядовой Смирнов, вам присвоено звание младшего сержанта.
— Служу Советскому Союзу, — отвечаю.
Та-а-ак, думаю, приплыли. То-то Балаянов обрадуется, когда с губы возвернётся…
7. Лычки
Прошло два дня.
В четверг я, как ни в чём не бывало, утром вышел вместе со всеми на утреннюю поверку. Обычно поверку проводит старшина эскадрона, но в этот раз заявился сам замполит. Неужели ради меня припёрся — думаю? После переклички он отодвинул старшину и скомандовал:
— Младший сержант Смирнов, выйти из строя.
Пришлось выходить. Я отпечатал три строевых шага.
— В казарму бегом марш, приведите погоны в соответствие с присвоенным званием и доложите мне лично.
— Есть, товарищ капитан!
Я побежал наверх, а эскадрон отправился на конюшню чистить лошадей.
Чёрт его знает, как пришивать эти лычки. Поразмыслив, я решил пришить посередине, по крайней мере, у других они вроде бы были пришиты так.
Закончив работу, я спустился вниз, в курилку. Она была заполнена моими сослуживцами, вернувшимися с чистки лошадей. Жёлтые лычки на моих погонах горели ослепительными солнцами. Мне казалось, что все смотрят только на них.
Это было совершенно особое чувство. Несмотря на халявный характер получения, лычки были зримым, фактическим отличием. Теперь меня нельзя было ставить дневальным в наряд, только дежурным, то есть старшим в наряде. Рядовые должны были первыми отдавать мне честь. В случае неуставных взаимоотношений про меня напишут, что был избит старший по званию, а это уже другая статья. Тут я вспомнил про Балаянова, сидящего на губе, и приуныл.
— Эй, военный, тебе за что лычки дали?! — дедушка Советской армии рядовой Карачаров с изумлением воззрился на меня.
— За подвиг, — внушительно сказал я.
— За какой подвиг, ду-ша-ра? — Карачаров делал ударение на каждом слоге, и речь его напоминала падение чугунных шаров.
— За героический подвиг. Замполита из огня спас.
— Из какого огня? — все интеллектуальные ресурсы Карачарова ушли на мимику, выражающую крайнюю степень удивления, поэтому его речь перестала нести умственную нагрузку.
— Из Вечного огня, — сказал я.
Тут, к счастью, дали команду строиться на завтрак, и вся мощь моего сарказма не успела дойти до небольшого мозга Карачарова.
После завтрака я сел в расположении пришивать оторвавшуюся пуговицу.
— Эва… — вдруг услышал я над собой и поднял голову.
Надо мной нависла косматая голова Балаянова.
8. Заключение
— Ты что, дух?! — Балаянов не находил нужных слов, которых у него и вообще-то было в лексиконе не очень много. На лице его одни эмоции поглощались другими, удивление мешалось с возмущением, гнев окрашивался ненавистью. Он стал похож на одержимого, внутри которого несколько демонов пытаются овладеть материальной оболочкой.
И тут во мне взыграла вся кацапская гордость, вся обида за многие поколения москвичей, над которыми измывалась вся эта горская братия. Я поднялся во весь свой невеликий рост и, глядя прямо в переносицу Балаянову, спокойно произнёс:
— Ты как со старшим по званию разговариваешь, солдат? И почему БЛЯХА НЕ ЧИЩЕНА?
Балаянов как-то сразу стух, скукожился, бархатные его ресницы захлопали маленькими мотыльками, и он промямлил что-то невразумительное.
На самом деле всё, конечно, было не так. Это я на вопрос Балаянова промямлил что-то невразумительное типа «так получилось». И попытался стать маленьким, незаметным мотыльком.
— Ну, душара, пойдём, буду жизни тебя учить.
Балаянов потащил меня в туалет, подальше от посторонних глаз. Было очевидно, что моё ближайшее будущее крайне печально, а возможно, и трагично.
Смешно, но во мне даже неожиданно проснулся стокгольмский синдром. «Правильно, — думал я, — ведь я же обманул Балаянова, значит, должен быть наказан».
Покорно приплёлся я, попинываемый Балаяновым, в белое кафельное помещение сортира, напомнившее мне в этот момент больничные стены.
— Ты чё, душара, припух? Чё, совсем оборзел, кацап? Страх потерял, да?
Балаянов распалял себя, разжигал в себе обиду и ненависть ко всем москвичам и вообще всему официальному, а значит, русскому.
Ко всему тому, что выдернуло его из родного села, оторвало от душистого самогона, весёлых тёмных ночей, тёплых аульских девок и родного дома. Всему, что заставило надеть эти дурацкие неудобные сапоги, кургузую форму, заставило есть отвратительную еду и выполнять идиотские приказы придурков со звёздочками на погонах.
Я в его глазах сконцентрировал в себе всё лживое, всё искусственное, всё фальшивое, что было в этой сегодняшней его жизни, такой непохожей на нормальную, человеческую жизнь. Я — проклятый москаль, кацап, дух, душара…
Я понял, что он сейчас ударит меня, и зажмурился.
И тут я услышал голос замполита:
— Эт-то что такое? Рядовой Балаянов, вы что это себе позволяете? В дисбат хотите загреметь? Так я вам это быстро устрою! Оглянуться не успеете, как будете маршировать в полосатой робе! Шагом марш в расположение и доложите командиру эскадрона о своём поведении, он примет решение, что с вами делать. А если я ещё хоть раз увижу или услышу хоть ма-а-аленькое словечко про то, что вы угрожаете младшему сержанту Смирнову, я сам, лично оформлю вас к прокурору! Свободен, солдат!
Пыхтя, Балаянов выскочил из туалета. Больше он ко мне не приставал: в дисбат ему не хотелось.
А я таки остался служить младшим сержантом. Правда, из комиссаров меня скоро попёрли, поскольку я отказался стучать на товарищей. Впрочем, стук в Кабарде был бы самоубийством, поэтому хвастаться тут в общем-то нечем.
Мой самый день рождения
Я тихо плыл по ментоловой глади моря в сказочной бухточке, окружённой пальмами и другими диковинными растениями. Ветерок лениво овевал моё упругое загорелое тело. Вода была настолько прозрачной, что, казалось, мой надувной матрас парит в воздухе над поверхностью дна. Где-то вдалеке негромко кричали чайки.
И вдруг кто-то окатил меня из ведра ледяной водой. Из сна я выскочил стремительно, сознание как будто переключило экран, и я оказался весь мокрый ночью в товарном вагоне, среди лошадей и сена, среди паровозных гудков и железнодорожного едкого запаха. В освещённом проёме двери вагона стояла тёмная фигура с широко расставленными ногами. Черт лица не было видно. Контровый свет создавал подобие свечения вокруг этого страшного человека. Да и человек ли это был? В тот момент я не был в этом уверен.
Я вскочил на ноги и закричал.
— Чё орешь, придурок? — спокойно спросил майор Сметанин. — Доложи по форме, воин, а то придётся приложить тебя ещё и ведром, чтобы ты в себя пришёл.
— Дневальный по вагону младший сержант Смирнов, — доложил я, запинаясь и стуча зубами от холода.
— Почему спишь в наряде, младший сержант? — скучным тоном спросил Сметанин и как бы невзначай заглянул в вещмешок, валяющийся у двери. Не обнаружив ничего интересного, Сметанин поднял взгляд на меня.
— Ну… я… так не моя очередь дежурить… — промямлил я, лихорадочно соображая, что случилось, где мой напарник и почему я весь мокрый.
— Да мне всё равно, чья очередь, воин, — чётко выговаривая слова, сказал Сметанин. — Ты старшОй по званию, наряд спит, какие вопросы? Три наряда вне очереди, младший сержант! — и добавил без паузы: — Не слышу ответа?
— Есть три наряда вне очереди, — сказал я.
Я набросил мокрую пилотку на голову и отдал честь. С пилотки закапало за шиворот, и я быстро опустил руку.
— Если до рассвета ещё раз увижу спящим, пойдёшь на губу, — сказал Сметанин и ловко спрыгнул на насыпь.
— Есть, товарищ капитан, — ответил я.
Это было утро после моего дня рождения.
Мы ехали со съёмок фильма «Султан Бейбарс» из Бухары в место нашей постоянной дислокации — подмосковное село Голицыно. Наш эшелон медленно тащился через полстраны, увлекая за собой лошадей, солдат и амуницию. Наступала осень, и по ночам начинало примораживать. Летняя форма одежды уже не согревала, и деды начали собирать по молодым солдатам гражданку.
Я был лыс, как коленка, но не по природной прихоти, а по армейским обычаям, поскольку сто дней до приказа миновало и я, как и всякий дедушка Советской тогда ещё армии, постригся наголо.
Одиннадцатый отдельный кавалерийский полк следовал обычным товарным эшелоном, к которому были прицеплены пять пассажирских вагонов. Товарных вагонов насчитывалось двенадцать — ровно столько, сколько было необходимо для перевозки сводного кавалерийского эскадрона. Лошади ехали по восемь в вагоне, в импровизированных стойлах — четыре слева и четыре справа. Между ними у двери был проход, где стояли две бочки с водой, для того чтобы поить лошадей, и лежал запас сена, на котором обычно валялись двое дневальных. Остальные солдаты, не занятые в наряде, а также офицеры, призванные солдатами командовать, следовали в пассажирских вагонах.
Для тех, кто незнаком с устройством наших обычных товарных вагонов, замечу, что проходов между этими вагонами не существует. Вследствие этого обстоятельства дневальные, заступавшие на сутки, имели только один способ получить еду. Когда эшелон останавливался, один из них бежал в вагон, где располагалась походная кухня, и получал еду для обоих.
Накануне два дня подряд эшелон шёл без остановок. Короче, хочешь — сено жуй, а хочешь — воду пей из конских бочек.
Едем. Холодно. Вдруг поезд замедляет ход под Оренбургом. И надо же, прямо напротив нашего вагона — станционный магазин. Я прыгаю из вагона и бегу туда. А надо сказать, что шёл голодный 1988 год. Забегаю. На полках только виноградный сок в трёхлитровых банках и плавленые сырки с луком. Для супа.
Ничего вкуснее я не ел в своей жизни.
В том наряде моим напарником был Миша Дудыдра — хохол из-под Львова. Несмотря на то, что разница в сроке службы у нас была полгода, я его особо не гонял, и отношения у нас сложились обоюдочеловеческие.
Съев мои сырки и узнав, что у меня день рождения, Миша Дудыдра сказал: «Спи, друже, я за тебя ночью постою». Ну я, понятное дело, разомлел от такой доброты, соорудил в сене нору и быстро захрапел.
И вот теперь я просыпаюсь от ведра ледяной воды в три часа ночи… Мама мия!
Я подошёл к Мише и ткнул его сапогом поддых.
— А, шо? Шо такэ? — захлопал мягкими ресницами Миша.
— Вставай, зёма, твоя очередь стоять, воин…
Рядовой Мидов
Служил в третьем кавалерийском эскадроне рядовой по фамилии Мидов. Был он родом из Кабардино-Балкарии, а уж был он кабардинцем или балкарцем, я не знаю. Невысокого роста, крепкий, с несколько кривыми ногами, с хитрой крестьянской смекалкой нёс он службу. Перед начальством не выслуживался, старался не высовываться, но и лишней работы на себя не брал, делал только необходимое согласно сроку службы. А был рядовой Мидов уже дедушкой Советской армии, и многое уже ему в Советской армии было не положено делать.
И вот однажды заступил рядовой Мидов в наряд по конюшне. Молодых послал убирать территорию, организовал раздачу сена лошадям, а сам смастерил ловушку и принялся ловить голубей по своему горскому обычаю.
Тем временем в часть из Москвы прибыла высокая комиссия из Политотдела спецчастей Московского округа. Генералов, конечно, тепло встретили и по старинной армейской привычке провели сразу в штаб, где уже был накрыт богатый стол с яствами и различными алкогольными напитками. Изрядно приняв на грудь и выслушав множественные хвалебные речи, главный в комиссии (генерал-полковник, между прочим) выразил желание осмотреть часть, в основном чтобы подышать свежим воздухом. Ну и сделать свои генеральские выводы по состоянию дел в осматриваемом полку. Между тем в части запахло не свежим воздухом, а совсем даже наоборот — капитальным залётом.
Тут необходимо немного пояснить, что такое генерал-полковник. Генерал-полковник — это даже уже и не начальник для простого командира полка. Это — бог, вершитель и основа всего мироздания. Это существо, способное вознести на вершины существования и низвергнуть в пучины ада. Это всемогущий Ктулху, мысли которого непознаваемы, действия не обсуждаемы, а желания подлежат настолько быстрому удовлетворению, насколько это позволяют действующие физические законы Вселенной. Что касается простого рядового, для него генерал-полковник является вообще инопланетянином и не подлежит разумению.
Время шло, и, не теряя этого времени попусту, рядовой Мидов поймал голубя, умело свернул ему шею и принялся споро ощипывать птицу, покрывая окружающее пространство весёлым пухом и перьями. Во дворе конюшни за пристройкой молодые воины на костре уже разогрели лист железа, на котором Мидов предполагал готовить своё шикарное блюдо. В голове его лениво переваливалась мысль, звать или не звать младшего сержанта Усманова на планируемый пир. С одной стороны, голубь был небольшой, и мяса в нём и на одного было не слишком много. С другой стороны, Усманов был земляк и полезный человек — заместитель командира взвода. Поделиться с ним было бы мудро.
Между тем высокая комиссия во главе с генерал-полковником осмотрела первый эскадрон, батарею, пулемётный взвод и неотвратимо приближалась к третьему эскадрону.
И вот генерал-полковник во главе большой делегации, в числе которой все высшие офицеры полка и высокопоставленные военные из Политотдела, заходит в третий эскадрон и начинает продвигаться по проходу между станками лошадей. Рядовой Мидов, видя каких-то офицеров в своей конюшне, наскоро вытирает руки о бушлат, делает несколько карикатурных строевых шагов и с сильным нерусским акцентом докладывает:
— Товарищ генерал, — в званиях он не особо разбирался, поэтому всех людей с лампасами звал просто генералами, — дневальный по конюшне третьего эскадрона рядовой Мидов.
Половину букв он проглатывает, и у него получается не «товарищ», а несколько по-свойски «та-а-ищ», что придаёт беседе слегка приятельский характер.
Генерал-полковник смотрит на рядового Мидова и видит, что у того в буквальном смысле руки по локоть в крови. А сам он весь в пуху и перьях.
— Сынок, что случилось, ты где поранился?! — спрашивает в ужасе генерал-полковник.
Командир полка позади генерал-полковника белеет лицом.
— Ничего не случилось, товарищ генерал, — радостно кричит Мидов, чистыми голубыми глазами глядя в тревожное лицо генерал-полковника.
— А почему у тебя руки в крови, сынок? — удивлённо спрашивает генерал-полковник и поднимает одну свою генеральскую бровь.
— Голубя добыл! — радостно рапортует рядовой Мидов. И лицо его светится от счастья.
Командир полка позади медленно зеленеет.
— А зачем тебе голубь, сынок? — генерал-полковник все ещё надеется на какой-то логичный и понятный выход из неожиданной ситуации.
— Да вот, товарищ генерал, сейчас жарить буду.
Командир полка синеет, глаза его начинают закатываться, кадык нервно ходит по шее вверх-вниз.
— Тебя что, в столовой плохо кормят? — отечески спрашивает генерал-полковник. Слуга царю, отец солдатам. Все генералы становятся такими, достигнув высокого звания, с высоты которого уже не видны грязь в казармах и ужасы неуставных взаимоотношений.
— Хорошо кормят, просто отлично, товарищ генерал, — орёт Мидов, — но мало!
— Снять с наряда, отмыть и накормить бойца, — строгим тоном даёт указание генерал-полковник и медленно выходит из конюшни, делая свои генеральские выводы. За ним семенит поседевший командир полка, успевший шепнуть командиру эскадрона несколько слов на ухо.
Мидова помыли ледяной водой из шланга, накормили холодной перловкой и отправили на отдых. На гауптвахту на десять суток, куда же ещё.
Гамлет
Когда я пришёл служить в кавалерийский полк, мне выдали коня. Коня звали поэтически — Гамлет. Это был чёрный кабардос с армянским носом и шикарной гривой. Армянским у коня был не только нос, но и характер. Я очень скоро испытал это на себе. Дело было вот в чём.
При прыжках через препятствия Гамлет сперва скакал, как настоящий конь: грива развевалась, стройные ноги мелькали, морда была задрана к небу. Я чувствовал себя бравым кавалеристом, в голове мелькал образ Аркадия Гайдара. Однако перед самым препятствием Гамлет резко останавливался сразу четырьмя ногами, как вкопанный, и нагибал к земле голову. Влекомый бездушной силой инерции, я плавно отделялся от седла и прыгал через препятствие один, без коня.
Запутавшись несколько раз в препятствиях и едва не поломав тщедушные в то время конечности, я понял, что речь идёт о выживании. О выживании вида под названием «московский студент» в условиях лошадиной хитрости и патологической лени.
Тогда я выработал следующую тактику. Прямо перед препятствием, когда эта сволочь собиралась выкинуть свой излюбленный фортель, я резко натягивал повод, не давая ему опускать голову, и давал хороший шенкель пятками в бока. Гамлет изумлялся и прыгал вперёд, преодолевая препятствие.
Так мы стали прыгать через препятствия вместе. А уже через полгода я пересел на спокойного Зайсана, а Гамлета передал следующему молодому солдату. Ведь проблемы в армии планомерно убывают по сроку службы.
Белов
— Сколько? — спросил высокий тощий узбек с запавшими внутрь головы равнодушными глазами.
— А сколько дашь? — спросил Белов и пнул небольшой камешек носком начищенного до блеска сапога.
— Ты — продавец, ты и цену назначай, — сказал безразлично узбек и посмотрел куда-то вдаль.
— Сколько такой мешок на базаре стоит?
— На базаре я и без тебя могу купить, — длинный улыбнулся, полез в карман, вытащил небольшой мешочек с насом, бросил щепоть под язык и снова стал смотреть вдаль.
— Ты это, говори, сколько дашь, и разбежались, — встрял угрюмый Карачаров, — нам тут торчать совсем нет резона.
Длинный помолчал, достал платок, высморкался и выдавил:
— Три.
— Литра? — уточнил Белов.
— Бутылки, — сказал узбек.
— Шутишь? — недобро улыбнулся Белов.
— Да где ты за три бутылки мешок овса купишь? — крикнул Карачаров. — Ты чё, урюк, за лохов нас держишь?
Узбек молча смотрел вдаль.
— Пошли, — на скулах Белова заиграли желваки.
Он зашагал в сторону эшелона. Карачаров растерянно посмотрел на спину Белова, потом на узбека, взвалил мешок на спину и двинулся за Беловым.
— Четыре, — негромко сказал узбек. Ровно настолько, чтобы услышал Белов.
— Пять, — весело крикнул Белов, не замедляя шага, и, не оборачиваясь, выбросил в небо растопыренную пятерню.
— Идёт, — сказал узбек и неспешно пошёл к машине, сунув руки в карманы цветастого халата.
Карачаров погрузил мешок в багажник машины узбека. Белов принял от узбека бутылки и бережно уложил в вещмешок.
— Будет ещё– возьму, — безразлично сказал узбек.
— Посмотрим, — сказал Белов и ушёл в ночь, не попрощавшись. За ним нырнул в ночь и Карачаров.
***
Мы были в командировке на съёмках в Узбекистане. Наш эшелон стоял на запасном пути станции Бухара-товарная. Шёл второй месяц нашего пребывания в Средней Азии.
Когда они добрались до своего вагона, стол был накрыт. Отсвечивали розовые ломтики конской колбасы, матовым светом переливались открытые консервы, свежестью и каплями воды кучерявилась зелень.
Их обступили.
— Принесли?
— Сколько?
— Не палёная?
Белов молча достал бутылки и поставил на стол. Все радостно засуетились. Водку разлили по алюминиевым кружкам.
— Братва, ну, за дембель!
— Вздрогнули!
— Все там будем!
Все выпили.
Маленький Сысоев скривился, отщипнул кусочек чёрного хлеба, положил на него кружок лука и смачно зажевал. По лицу его разлилось неземное блаженство.
— Дембель в мае — про..ли, в декабре — не про..бем! — продекламировал он и откинулся на лавку.
— Так, у кого тут уже дембель? — в дверном проёме неожиданно появился дежурный по эшелону капитан Груздев.
Его сильно штормило. Чтобы не упасть, он ухватился за край койки. Возникла немая сцена. Груздев застыл с немигающим взглядом, ошарашено оглядывая застолье. Взгляд его упёрся в бутылки. Такое выражение лица бывает у пьяницы, уронившего на асфальт бутылку водки, с хрустальным звоном разлетевшуюся на миллион бриллиантовых брызг. Сознание категорически отказывается воспринимать полученную информацию. Зрительный образ есть, а мозг его не обрабатывает. Однако множественные бутылки на столе не оставляли Груздеву шансов.
— Встать! — Груздев наконец очнулся и включил голосовую сирену. — Встать, ублюдки!
Все нехотя поднялись. Стоять с откинутыми полками было неудобно, и солдаты были похожи на знаки вопроса. Остался сидеть один Белов. Он с интересом, не мигая, смотрел на Груздева.
— Товарищ сержант, а вас команда офицера не касается?! — Груздев воззрился на Белова и неожиданно икнул.
Все заржали. Это привело капитана в бешенство.
— Отставить смех! — заорал Груздев. — Сержант Белов, встать!
Белов ухмыльнулся, посмотрел в окно, потом повернулся к капитану и, тщательно выговаривая слова, спокойно сказал:
— Товарищ капитан, мне кажется, вы отдаёте команду не по уставу.
Лицо Груздева побелело от охватившего его гнева.
— Ты что, бл…, щенок, будешь учить меня приказы отдавать?! В штрафбат захотел? Да я тебя на губе сгною, ты у меня в параше утонешь, да я тебя…
Белов отвернулся и спокойно смотрел в окно. За окном расстилалась безразличная пустыня.
— Ах ты, сука! — Груздев оттолкнул ближайшего солдата, подскочил к Белову и рывком поднял его на ноги, держа за грудки. Тонкий, стройный Белов смотрелся в могучих руках Груздева как изящный фужер с шампанским. Вот только держал его капитан не так бережно, как держат шампанское.
— Руки отпустил, — прохрипел Белов. Лицо его было спокойным, что придавало картине некую абсурдность. Только на виске часто-часто пульсировала жилка.
— Ублюдок, я тебя заставлю родину любить, — Груздев отшвырнул Белова в угол полки, схватил початую бутылку водки и стал лить на голову, лицо и грудь Белова, приговаривая при этом: — Пей, мразь, свою водку, пей, мало тебе, вот тебе ещё, вот ещё, ещё…
И тут произошло нечто удивительное. В первый момент никто даже не понял, что случилось. Впоследствии Сысоев утверждал, что видел искры, но его версию никто не поддержал. На самом деле никто просто ничего не успел увидеть.
Массивный Груздев, как в замедленном кино, вдруг неуклюже выгнулся назад, на мгновение завис в неудобной позе, попытался что-то поймать в воздухе, после чего закатил глаза и тяжело рухнул навзничь в проход между полками. Худенький, изящный Белов встал, брезгливо отряхнул форму, потер руку, перешагнул через валяющегося капитана и вышел вон.
***
Потом всё было не так кинематографично. Белова поймали несколько офицеров, хотя он никуда и не убегал, а сидел на ступеньках вагона и курил. Его били. Особенно старался Груздев с огромным синим фингалом под глазом. Он был очень сильно пьян и уже почти не мог стоять на ногах, товарищи по оружию держали его, чтобы он мог дотянуться до Белова. Потом Белов сидел на губе, устроенной в одном из тамбуров поезда. Сидел десять суток. На хлебе и воде. Но каждый день у него были белый хлеб, масло, сахар, колбаса.
Потом командировка кончилась, и все вернулись в полк.
А Груздев осенью сгорел от водки. Причём в буквальном смысле. Напился в постели и не потушил бычок. Когда командир полка объявил минуту молчания перед строем в память о трагически погибшем офицере, Белов громко чихнул. До дембеля ему оставалось двенадцать дней.
Два года спустя я наткнулся в вечерней газете на заметку в несколько строк. Взгляд выхватил фразу: «В. Белов признан лучшим наездником Московского ипподрома за 1990 год».
Смерть Корвета
Мы стояли на окраине Бухары в железнодорожном тупике. Три кавалерийских эскадрона, артиллерийская батарея и пулемётный эскадрон одиннадцатого отдельного кавалерийского полка летом 1988 года прибыли на съёмки фильма «Султан Бейбарс». Фильм должен был повествовать о судьбе реально существовавшей исторической личности — египетского султана Бейбарса, в XIII веке прошедшего путь от унизительного рабства до верховной власти, на фоне походов крестоносцев и татаро-монгольских орд в страны Востока, восстания мамлюков и захвата ими власти в Египте.
Стояло жаркое узбекское лето, температура в тени зашкаливала за сорок. Бухара — город каменный, улицы в основном вымощены булыжником, зелени мало. Сниматься приходилось в тяжёлых средневековых одеяниях. Воздух был раскалён до предела. В общем — мрак, даже лошади падали от перегрева в обморок, что уж говорить о людях.
Естественно, солдаты старались любыми путями увильнуть от съёмок и остаться в эшелоне. Понятное дело, лежать в теньке или охлаждаться в бочке с водой гораздо предпочтительнее, чем жариться в пекле каменного города. Поскольку я в то время был уже дедушкой Советской армии и мне уже было многое делать не положено, мне частенько удавалось отлынивать от съёмок. Так было и на этот раз. Только меня назначили не просто дневальным, а личным дневальным по жеребцу капитана эскадрона Баранова, который в тот день не поехал на съёмки, а уехал в город по каким-то своим командирским надобностям.
Надо сказать, что командирские лошади в полку сильно отличались от «кашлатых», как мы называли наших лошадей. Жеребец Корвет, на котором ездил Баранов, был красивым, стройным ахалтекинцем изабелловой масти с грациозной шеей, длинными точёными ногами и раскосыми глазами азиатской красавицы. Был он довольно горяч, с места брал в карьер и летел как стрела, гордо неся утончённую голову, раздувая ноздри и прижав длинные тонкие уши.
Вот за таким жеребцом и был я оставлен присматривать в отсутствие его хозяина. И, поверьте, это была немалая ответственность. Достаточно сказать, что в обычное время за Корветом ухаживал специальный боец — рядовой Мидов, кабардинец, который родился и вырос среди лошадей. Только ему доверял Баранов своего жеребца. Но за несколько дней до описываемых событий Мидов слёг с ангиной, и теперь эта честь выпала мне.
Покормив Корвета сеном, я завалился с книжкой в тенёк и провел прекрасные несколько часов за увлекательным чтением. В обед я дал жеребцу овса и, прежде чем сходить за водой и напоить его, прилёг на пару минут подремать в теньке под вагоном. За водой надо было идти на водокачку, а потом переть оттуда по жаре два тяжеленных ведра. К сожалению, все молодые солдаты были на съёмках, и послать было некого. Было тихо и спокойно, негромко щебетали птички, тихий прохладный ветерок гулял между вагонами. Незаметно я провалился в сон.
Когда через пару часов я проснулся, ужас обуял меня. Дело в том, что наши полковые лошади были приучены всегда пить после овса. Если такую лошадь не напоить после кормления, то у неё на фоне нервов могут развиться колики. А это очень опасно.
Я побежал к Корвету. Он чувствовал себя плохо, храпел, и его покачивало. Я бросился за водой. Напоил его. Пил он с трудом, и один раз его вырвало. Я отвязал чомбур и стал прогуливать его по кругу, всем своим существом надеясь на чудо. Уморить любимого жеребца командира эскадрона — это, я вам доложу, история посильнее даже потери знамени полка. Реакция Баранова непредсказуема, и если я останусь жив, то уж дисбат мне светит определённо.
Кроме того, мне было жутко жалко этого красавца. Бедный Корвет качался, и ему было очень худо. Слёзы текли из моих глаз. Мне казалось, жеребец с мольбой смотрит на меня своими чудесными глазами и спрашивает: за что…
И тут появился Баранов. Он невнимательно выслушал мои оправдания и начал кричать. Он кричал так, что, я думал, голова моя разлетится, как глиняный горшок от пения Джельсомино. Я услышал много нового про себя, свою жизнь и своё незавидное будущее. Прооравшись, Баранов приказал мне водить Корвета всю ночь и сказал, что если жеребец сдохнет, то он мне не завидует.
Корвет умер в половине четвёртого утра. Он просто встал на месте, покачнулся и рухнул. Глаза его закатились. Никогда, никогда ещё я не был так близок к помешательству, как в ту ночь. Я был совершенно уверен, что жизнь моя кончилась и меня как минимум расстреляют, а как максимум расстреляют ещё два раза. Кроме того, сердце моё разрывалось от жалости к жеребцу, которого я фактически убил своим бездействием.
Могилу Корвету я копал на следующий день на глазах всего эшелона. Копал один, а в офицерском вагоне метался Баранов, не зная, как меня уничтожить. В лазарете плакал рядовой Мидов.
Меня посадили на губу, устроенную в тамбуре офицерского вагона. Там я сидел восемь суток в жаре, без воздуха, практически на одной воде. Иногда давали к воде хлеб, и тогда это был маленький праздник. Я чувствовал себя натуральным раком в кипятке. Много раз я думал, что окончательно сварюсь, но человек — чрезвычайно выносливая сволочь. Я не представлял, что со мной будет дальше, и это было самое страшное. Неизвестность убивает быстрее приговора.
Через восемь дней пришёл Баранов и повёл меня в солдатский вагон.
— На расстрел, товарищ капитан? — спросил я.
— Нет, — с сожалением сказал он.
Он привёл меня в спальный вагон и приказал мыть пол. И это был натуральный кошмар, поскольку мыть пол я не мог ни при каких обстоятельствах, и он прекрасно знал об этом. Я был уже дедушка, и мне было не положено мыть пол. Пол всегда мыли духи — молодые солдаты. Если бы я вымыл пол, то немедленно стал бы из дедушки духом, и меня бы всем эскадроном чморили всё оставшееся до дембеля время. Таковы порядки дедовщины в нашей армии.
Но и не мыть пол я не мог. Это натурально грозило дисбатом, поскольку было открытым неповиновением офицеру, невыполнением его приказа. За это реально можно было угодить под суд.
Теперь, по прошествии многих лет, я прекрасно понимаю, что из-за отказа мыть пол никто и никогда не отдал бы меня под суд. Это было бы просто смешно, никому не нужно было такое нарушение, это испортило бы все показатели полка, и офицеры на это никогда не пошли бы. Но тогда нас столь часто заставляли читать устав воинской службы, что такая перспектива казалась всем вполне реальной.
Баранов кричал, угрожал, оскорблял, но никак не мог добиться выполнения приказа. Что касается меня, выполнение его приказа для меня было подобно смерти. Но и отступить он не мог — в этом случае он навсегда потерял бы авторитет перед солдатами. Ситуация была тупиковая, и я был близок к помешательству.
Наконец кто-то из дедушек, моих друзей, шепнул мне: «сделай вид». Я взял тряпку и немного повозил ею по проходу. Я не мыл реально, я делал вид, а это уже было другое дело. Это была другая история. Кроме того, что важно, это была не моя инициатива. Мне как бы «разрешили» мои однопризывники. Баранову тоже, видимо, надо было как-то выходить из ситуации. Он понимал, что я скорее сдохну, чем буду на самом деле мыть пол. Он ещё поорал немного и ушёл, формально приказав мне домыть до конца.
Немедленно после его ухода были вызваны духи, и под неусыпным контролем всего дедушкиного состава пол был быстро и чисто вымыт. Так закончился один из самых страшных дней моей армии.
Жизнь иногда интересная штука. Через некоторое время всё это забылось, тем более что мы отправились в Капчагай, под Алма-Ату, а перемена мест здорово способствует заживлению ран.
Корвета мне до сих пор безумно жалко. Иногда мне снится его изящная морда с грустными миндалевидными глазами.
Халаты, вино и овёс
Мы были на съёмках фильма «Султан Бейбарс» в долине реки Или, недалеко от Алма-Аты. Было огненное лето 1988 года.
Наш третий эскадрон по прозванию «Кабарда» расположился в больших армейских палатках на дне каньона реки, недалеко от воды. Река Или в этом месте довольно широкая, и посреди неё находятся большие и не очень острова, заросшие разнообразной растительностью.
Как обычно, нас, солдат, использовали в основном в массовке, а на первом плане снимались и выполняли конные трюки казахские каскадёры. Как и мы, они жили в палатках, метрах в пятистах от нашего лагеря.
Тянулась череда беспокойных будней, и вот однажды дружок мой Сашка Жданов, забубённый залётчик и самовольщик, мне говорит:
— Давай ночью сходим к казахам за халатами. Махнём не глядя.
Дело в том, что у нас съёмочная форма была так себе — рвань да дрань, а у казахов были настоящие вельветовые халаты, расшитые цветными полосами и восточными узорами. Красота восточная, неописуемая.
«Зачем солдатам срочной службы халаты?» — спросите вы недоуменно. После бани не наденешь, в расположении не походишь, утром в туалет не отправишься. Представляю, что было бы, если бы наш старшина Сидоренко — человек, безраздельно преданный тумбочке дневального, — вдруг обнаружил солдата, выруливавшего из армейского туалета в расшитом казахском халате. Определённо, он бы немедленно повредился рассудком от такого зрелища.
Однако только человек, никогда не бывавший в шкуре московского студента, призванного на службу в Советскую армию, может так рассуждать. Срок службы не вечен, скоро отправляться на дембель. И привезти домой из армии шикарный расшитый восточный халат со съёмок вместо клоунской парадки с аксельбантами — это было бы правильно. Это было бы очень по-университетски, по-студенчески. А надо сказать, что мы — призванные в армию московские студенты — очень старались в то время не превратиться в быдло, не заразиться примитивом армейских реалий, не стать жертвой разноцветных солдатских бирюлек. В условиях несвободы чрезвычайно важно иметь что-то своё, личное, собственное.
В общем, я согласился, хотя по природе я человек, склонный, скорее к порядку и выполнению правил, из-за чего часто, как ни странно, страдал в армейском коллективе, морально настроенном на всяческие нарушения и безобразия.
После отбоя мы примерно с часик подождали, пока все угомонятся и погрузятся в тяжёлый армейский сон. Когда украинский паренёк Миша Дудыдра огласил палатку мощным храпом в басовом ключе, а рядовой Мидов тонко засвистел носом и ртом попеременно, мы выбрались наружу.
На улице висела густая южная ночь. Казалось, темноту можно резать кусками. И только небо выглядело дуршлагом, просеивающим некрупный свет звёзд.
На юге вообще тёмные ночи, а в каньоне реки темнота особенная, густая. Мы двинулись в сторону казахских палаток, осторожно нащупывая ровные участки. Тихий прохладный ветерок гулял по степи. На реке кричали пеликаны. Сама река тихо несла свои воды мимо островов и песчаных кос. Кочки и саксаулы бросались нам под ноги, сильно затрудняя движение.
Минут через двадцать непрерывного спотыкания и чертыхания мы наконец добрели до казахских палаток. Мы надеялись, что утомившиеся на съёмках актеры спят без задних ног и нам легко удастся похитить вожделенные одеяния.
Тихонько подобравшись ко входу, стали обсуждать, идти нам вдвоём внутрь или кто-то должен остаться на шухере.
И тут неожиданно полог палатки откинулся, и из неё вывалился огромный человек в меховой шкуре. Глаза его сверкали в темноте, окладистая борода закрывала пол-лица. От него разило алкоголем, жареным мясом и безудержным весельем.
Наткнувшись на нас и слегка отступив от неожиданности, человек-гора недоуменно воззрился на нас и задал нетривиальный вопрос:
— О, а вы кто?
Тут Жданов не растерялся и ловко срезал казахского героя:
— Мы — солдаты!
— А, солдаты, — обрадовался великан. — Ну так заходите же, сол-да-ты!
И засмеялся густым, клокочущим смехом.
Он облапил нас огромными ручищами и потащил внутрь шатра-палатки. При этом он шутовски маршировал и выкрикивал армейские команды.
Спустя несколько минут мы сидели на полу, застеленном коврами, пили из пиал терпкое казахское вино и слушали рассказы про съёмочные приключения наших новых друзей.
— Помню, снимались мы под Ашхабадом, — рассказывал невысокий крепкий казах с лысым черепом, — и надо было снять эпизод со взрывом, вроде как около каскадёра петарда разрывается. А пиротехник наш дядя Митя очень любил выпить, причём предпочитал это делать с утра, чтобы рабочий день казался не таким тяжёлым. И вот у него в одной руке спички, а в другой — коробок, он чиркает спичкой о коробок, поджигает петарду и бросает в кадр. Один дубль сняли, второй, третий. У дяди Мити рука устала. Он и поменял петарду со спичками. Чиркнул спичкой, поджёг петарду и бросил коробок в кадр. А петарда прямо в руке у него взорвалась. Но ничего, отделался лёгким ожогом.
Все посмеялись, хотя смешного на самом деле было мало.
— А что, сол-да-ты, есть ли у вас овёс? — через некоторое время спросил великан и заговорщицки подмигнул.
— Есть, как не быть. Лошадей-то кормим…
— А не согласитесь ли вы поменять его на что-нибудь? Мы бы потом его на вино сменяли у местных… — великан мечтательно закатил глаза.
— Можно подумать, — значительно сказал я, отхлёбывая из пиалы.
— Например, на ваши халаты можно, — сказал Жданов.
— Идёт! Притаскивайте, завтра поменяем! — обрадовались казахи и стали подливать нам вино и подкладывать дымящиеся куски мяса.
Возвращались мы под утро, сытые и довольные, неся подмышкой по шикарному расшитому халату, которые нам дали в качестве аванса. Нас слегка покачивало. Было ещё темно, рассвет только планировал окрасить края каньона реки. Цикады оглашали округу заунывным пением. Неожиданно темноту прорезал острый, как нож, луч фонарика.
— Стоять, военные!
Мы встали как вкопанные. Бежать было глупо: кругом степь, спрятаться негде. С фонарём нас быстро догонят, и будет ещё хуже. Халаты Жданов выкинул куда-то в сторону, в ночь.
Из темноты вышли два офицера. Это были командир моего эскадрона капитан Баранов и дежурный по полку лейтенант Лапшин.
— Откуда путь держим, военные?
— Гуляли, — хмуро проговорил Жданов.
— Ну что ж, гуляки, поздравляю с залётом! Залёт — это не премия, мимо не проскочит. Из какого эскадрона? — Баранов задал вопрос Жданову. Меня он прекрасно знал.
— Из второго.
— Товарищ капитан.
— Из второго, товарищ капитан.
— Фамилия?
— Жданов.
— Утром доложите майору Жукову о нашей встрече. А сейчас — бегом в расположение. Отбой. Ну а ты, боец, пойдём со мной…
Это у офицеров такая манера — не называть людей по фамилиям. Солдат, боец, воин. Мол, ты — частичка безымянная, вошь, винтик. Одинаковая чушка среди многих других. Ты — никто и звать тебя никак. Делай, что велено, и не рассуждай, поскольку мнение твоё никого не волнует.
Я поплёлся за Барановым. Пришли на конюшню — навес, покрытый соломой, под которым на привязи стояли лошади.
— Видишь три бочки для воды, солдат? Бери вёдра, и чтобы до утра бочки были полными. Сделаешь раньше — успеешь поспать. Выполнять!
— Есть, товарищ капитан, — говорю.
Бочки были двухсотлитровыми. До реки было метров двести. Успеть до рассвета было нереально.
Баранов ушёл, и я принялся рассуждать, что делать. Воду таскать не хотелось, зато очень хотелось спать. Поразмыслив, я взял три бочки, связал их верёвкой, запряг своего Зайсана и привязал бочки к его седлу. Таким странным гужевым транспортом мы и направились к реке.
У реки, быстро наполнив бочки водой, я плотно завинтил их крышками, и дружище Зайсан быстро привёз их на конюшню. Дело было сделано, и я завалился спать в стог сена, стоявший неподалёку.
Прошло время, неизбежный дембель постучался и в мои распахнутые ворота. Расшитый халат я всё-таки из армии привёз. Однако оказалось, что носить его невозможно. Это же съёмочная одежда. Без подкладки вышивка царапает тело. Так и пропылился он в шкафу, пока не был пущен на какие-то хозяйственные нужды.
Дневничок
Через три дня пребывания в Советской армии я простудился. Подъём в шесть, бег в одном кителе на конюшню на чистку лошадей. В дождь, снег, ветер и град. Мой организм бывшего московского студентика не выдержал такого температурного режима, и у меня поднялась температура. Я получил разрешение у командира взвода и поплёлся в санчасть.
В санчасти никакого разделения, как в карантине, не было: только что призванные солдаты лежали вместе со старослужащими. Так что я сразу заступил на мытьё сортиров и обслуживание дедушек Советской армии. Моя температура была никому не интересна.
Душевное моё состояние было, честно сказать, ниже среднего. Я, весь такой из себя недавний студент физфака МГУ, должен был мыть толчки, драить полы и вообще выполнять все поручения дедушек. И, чтобы как-то поддержать своё психическое здоровье, я решил писать дневник. Подробный такой дневничок про всё, что со мной происходит. Так сказать, армия глазами московского студента. Если бы я знал, чем это обернётся для новоиспечённого солдата…
И вот пребываю я в санчасти, днём толчки драю, ночами дневник пишу, а жизнь полка идёт своим чередом. И в один прекрасный день в санчасть заявляется капитан Сметанин, бывший дежурным по части в тот день. Через несколько лет после моего увольнения он погибнет от алкоголизма, как и многие офицеры нашей части. А сейчас, вполне себе такой бодрый, вышагивал он по санчасти, высматривая что-нибудь для себя интересное.
Вообще, в полку он славился выдумкой и своеобразным чувством юмора. Например, ездил ночью по конюшне на велосипеде в целях бесшумности и внезапности своего появления. Ещё он любил ночью поднять по тревоге полковой оркестр, выстроить на плацу в полной боевой оркестровой выкладке, с трубами, барабанами и тарелками, и заставить его бежать кросс в десять километров. При этом он приговаривал: «Давайте, лентяи полковые, растрясите хоть немного свой жирок, это вам не в дудки дудеть…»
Капитан Сметанин прошёлся по санчасти, к своему огорчению, не обнаружил никаких нарушений и принялся шерстить тумбочки бойцов. Как известно, солдатские тумбочки — традиционный кладезь ценных и полезных вещей для офицеров, а также для дачи нарядов вне очереди. Тут-то он и обнаружил настоящий подарок для себя — мой дневничок.
— Это что, солдат? — радостно спросил он.
— Мой дневник, — пролепетал я.
И протянул руку, желая забрать свой литературный труд.
— Интересно, — задумчиво проговорил Сметанин. — Я, пожалуй, возьму почитать.
И, не дожидаясь моего разрешения (какое там разрешение…) вышел из санчасти.
В то время я был настолько зелёным, что зеленее была только краска, которой солдаты красили траву перед приездом начальства. Так что это происшествие расстроило меня только с точки зрения потери моих литературных опытов. Я и предположить не мог, что произойдёт дальше. А дальше произошло вот что.
На следующий день прибегает ко мне мой друг Саша Кочубей (фельдшер нашего эскадрона) с крайне обеспокоенным лицом и рассказывает следующую историю. Зашёл он к начальнику санчасти в кабинет, а того не было на месте. Кочубею нужны были какие-то бинты, и он прошёл в кладовку, примыкавшую к кабинету и занавешенную клеёнкой. Сидит он, бинты подбирает, а в это время в кабинет заходят начальник санчасти майор Зайцев и капитан Сметанин. И Кочубей слышит следующий диалог.
— Так что ты подумай, майор, что для тебя важнее…
— Сметана, дай посмотреть, может, там и нет ничего такого?
— Есть. Ещё как есть. Очень подробно твой московский студент описывает санчасть. И про методы лечения у тебя в санчасти, и про то, как над молодыми солдатами издеваются, и про питание. Настоящая ядерная бомба, товарищ майор. И стоит эта бомба ровно пять тысяч долларов. Впрочем, если нет на неё покупателей, то улетит эта бомба прямиком в политотдел спецчастей Московского округа. И не видать тебе тогда ни должности, ни пенсии, ни продвижения по службе. А при удачном стечении обстоятельств и под суд можно загреметь. Так что решай, майор, сроку тебе — до пятницы.
— Гнида ты, Сметанин.
— Да я-то здесь причём? Я, что ли, этот дневник писал? Странный ты человек. Я, наоборот, помочь тебе хочу. Освободить от тяжести неизвестности. А был бы сволочью — отправил бы в политотдел, и пиши пропало.
— Ладно, пойдём покажешь, капитан.
— Но только из моих рук, учти.
— Идём уже…
После их ухода Кочубей выбрался из своего укрытия и рванул ко мне.
— В общем, спасаться тебе надо, рвать когти из санчасти, иначе Зайцев крепко отыграется на тебе!
В тот же день я выписался из санчасти. С температурой, больным горлом и лихорадкой. Лечиться пришлось таблетками, которые таскал Саша из санчасти. При этом мне пришлось со всеми бегать на зарядку, заниматься строевой и чистить лошадей, а один раз даже бежать кросс в десять километров. Как я не двинул кони — ума не приложу. Каким-то образом, однако, выздоровел в тот раз, не загнулся.
Все два года в армии вход в санчасть мне был заказан, и я лечился подручными средствами. За это время были у меня и ангина, и воспаление лёгких, и травмы разные. Но лечиться приходилось самому. В санчасть я не рисковал больше обращаться.
А дневничок мой майор Зайцев всё-таки купил, как мне рассказывали. За сумасшедшие для советского офицера деньги — пять тысяч долларов. Но должность и пенсия — дороже…
Визит дамы
Я был уже черпак, и мне уже не положено было по сроку службы раздавать овёс лошадям. Так я и сказал сержанту Сидоренко.
Сержант Сидоренко был огромным рыжим хохлом одного со мной призыва. Рыжий ёжик волос топорщился над огромным лбом, поросячьи глазки слегка косили в разные стороны, массивный подбородок был похож на немецкий дзот.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.