
Бесплатный фрагмент - Как служить Слову? Манифесты
Опыт реминисцентной прозы

ПРЕДВАРЕНИЕ К РОМАНУ
«БАЙКАЛ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
«Я из космоса узнавал Байкал сразу»
Мой великий современник, лучший тюменский прозаик Александр Мищенко своего читателя — первое, что приходит на ум — честно не жалеет. Пишет солидно, фундаментально. Это классическая традиция: не очень задумывались о читателе Генри Филдинг, Уильям Теккерей, Марсель Пруст и Дж. Джойс. Да тот же Лев Толстой. У Мищенко превосходные предшественники. О себе и о том, что делал и делает он в литературе, Александр заявляет бесхитростно: я просто стал на плечи классиков и глянул немного дальше, и вся недолга. Да и то сказать, что он старше их на целое столетие, и немудрено, что увидел больше.
В своем новом романе писатель опускает читателя на глубоководных аппаратах на дно Байкала. Поднимает читателя на горные хребты. Вот Хамар-Дабан. Здесь хочется глядеть вверх только… Это магия гор, где удается подышать атмосферой поднебесья. Баргузинский хребет. Гольцы и блистающие, на солнце особенно, до рези в глазах, снега. Финал иерархии высот — небо, выше гор и хрустальных сфер только Бог. С хребта, где стоял автор, дул баргузин, на Байкал. Пошевеливались в его сознании лермонтовские стихи о демоне. Можно понять космонавта Виктора Горбатко: «Я из космоса узнавал Байкал сразу. Из космоса он красивее самого себя».
Веками люди мечтали и мечтают, парить в атмосферах, как птицы. Полеты во снах будят нечто древнее в них, генную способность летать. Мы же помним, что полярную Гиперборею населяли северяне, умеющие летать.
Роман усложненный, не просто воспринять этот архипелаг из островов, озёр, течений и ветров, многих солнц и дерзких философий, что пронзают его пространства. И так образно можно увидеть Текст: есть море (Байкал, скажем прямо), есть береговая линия и фиорды чередой с заливами и заливчиками. А сие что есть? Писал Максимилиан Волошин: «…вся душа моя в твоих заливах, о, Киммерии тёмная страна…» Будто о Мищенко написала Вирджиния Вулф в заметке о Дэвиде Лоуренсе (1928), что открыли ему мир по — новому. Многозначительность — генетическое свойство романа Лоуренса. Это именно можно сказать и о романе «Байкал: новое измерение».
Текст как бы слегка колышется и переливается, будто составленный из блестящих природных хрусталей, которые беспрерывно перемещаются, мелькают. Есть антураж, есть характеры, есть и сеть ощущений, объединяющая действующих лиц; но все это не играет самодовлеющей роли, как у Пруста. За этим есть дальний прицел. Романный мир находится в процессе непрерывного сцепления и распада. И магнитом, стягивающим разные части, — прекрасный, полный жизненных сил Мищенковский космос. О «байкальском» романе можно сказать, что он будоражит, раздражает, движется, меняется, бурлит, млеет, томится по недостижимому. Автора не интересует литература сама по себе. Все, что он пишет, — не самоцель, а исполнено многозначительности. У него нет ни единого слова, выбранного за красоту или для улучшения общей архитектоники. Правда повседневности, высокая и низкая — отличительная черта повествования…
Автор покушается, как заявлено в аннотации, на новую картину Мироздания. Натуралист Александр Мищенко сформулировал основополагащую триаду вселенских законов, взглянув на Вселенную научно-художественно, он приоткрывает для читателей наших механику вселенской жизни, взаимосвязи звезд, планет и мирового эфира, рождающих все сущее. Глава «Я считываю из космоса» — беседа Автора с выдающимся ученым современности тюменцем Робертом Бембелем. Читаются эти куски повествования захватывающе. Собеседники ведут речь о мерзлом Солнце. Бембель вывел, что так называемая гипероновая оболочка на всех больших планетах, включая Солнце, рыхлая и малоплотная. В ней может существовать жизнь и даже высокая цивилизация. Можно строить города, которые защищены от жары и от холода. Автор строит город на Солнце.
Изложение научно-философского взгляда на мир в «Гипотезе Умова» — не сухой трактат. В книге представлен институт экспертов. На вопрос «Как воспринимается «Гипотеза Умова»? Автору отвечает эксперт, молодой читатель из Ишима Саша Фешков:
«Дядя Саша, хотелось перевернуть страницу и дальше жить в твоём тексте. Не в натяжку, как обычно, легко читалось. Мне понравилось».
Понравилось и мне, привередливому оценщику новой прозы Александра Мищенко. Глубоко, мудро. Принципиально определился Автор в двухэтажной структуре человеческой личности, выделив в ней два начала. Одно — хомо сапиенс как начало животное и хомо криенс homo criens — начало искательное, творческое.
В романе затронуты болевые проблемы России. Главное: то, что она остается страной невостребованного интеллекта…
Сквозная сюжетная линия байкальского повествования — о героях нашего времени. Их целая когорта, начиная с известного руководителя фирмы «ТОИР» В. П. Федотова. Герой России В. И. Шарпатов, совершивший с экипажем «Побег из Кандагара», на встрече с шестиклассниками школы №21 Тюмени сказал о Федотове: это чудесный человек и предприниматель, который трудится, руководя заводом по производству мобильных зданий, не для того, чтобы набить мошну, он страдает за всеобщее людское счастье.
Где герои, там не без драм. Так было в плену у Шарпатова. Знаково в романе противоборство в Байкальском заповеднике лесоведа Гурия Монтигомова и охотоведа Александра Субботина. Яркий случай наблюдал однажды Александр Субботин. Ястреб спикировал и вонзил когти в птицу-юнчика. На Байкале Автор вел писательское расследование убийства на утиной охоте Субботина. И если у Вампилова — предохота, у Мищенко то, что мог вытворить духовно дичающий Зилов. У него параллель — друг-охотовед с Хамар-Дабана Саша Субботин (Соколиный глаз), директор заповедника, погибший 27 лет назад, и его антипод Монтигомов (Ястребиный коготь).
Достойное состояние общества зависит от каждого. А это в немалой степени зависит от того, как говорим и мыслим: все ж мы родиной из Слова. Поэтому и о нем тревожится писатель (манифест «Как служить Слову?»), о том, что литература и искусство у нас многое утрачивают. Исчез из его сферы труд…
Роман представлен вниманию читательской аудитории. Его нужно, но сложно читать. Я скажу одно: «В добрый час, наберись мужества, читатель!» Пройди его фиорды, не пожалеешь…
Анатолий Омельчук,
лауреат Всероссийской литературной премии Д. Н. Мамина-Сибиряка и премии златошвея сибирского сказа Ивана Ермакова
Жизнь мемориальна, как мемориальны планета наша, галактика, сонмы звезд, и воскрешай минувшее все, как телеэкранную версию, проживай вновь и вновь: по случаю ж пребываешь ты в подлунном мире, где все свято до секунды в прошлом, настоящем и будущем. Жить на белом свете и не быть благодарным Провидению за то, что ты осчастливлен пребыванием на Земле, в доме под звездами, не быть благодарным всем тем, кто помог тебе на твоем жизненном пути, поддержал сердечно и от души, когда ты нуждался в этом, — форменное, я считаю, свинство. Неблагодарный человек, как и сытый лентяй на откорме, возлежащий, по Питеру Брейгелю, в обилии жратвы и бегающих вокруг розовеньких, жизнерадостных недоеденных поросят — чудовище, анахронизм древнекаменного века, когда жизнь превращается в некое подобие конвейера на скотобойнях Чикаго. Поступает туда индивид человеком. А на выходе это уже некая колбаса духа. Вообще-то давно бы надо понять, что хрюкающие свиноподобные существа — те рудиментарные предки человека, на которых ну, никак нет смысла равняться нам, пытаясь повернуть эволюцию вспять (в среде крутяка молодого воскликнули б, на хрен, мол, нам антиквариат такой!). У насекомых из гусеницы получается бабочка, а у людей наоборот: из бабочки гусеница. А. П. Чехов. Записная книжка. Как нет резона уподобляться глотающим камни стадным камаразаврам из травоядных. Эдак мы и в мышевидные сиганем. Описал же в Средние века весьма знаменитый и удачливый ученый ван Гельмонт эксперимент, в котором он за три недели, якобы, создал мышей. Для этого нужны были грязная рубашка, темный шкаф и горсть пшеницы. Активным началом мыши Ван Гельмонт считал человеческий пот. Гипертрофия? Самая ординарная. Но — сказка ложь, да в ней намек. И уж в ХХ1-ом-то веке осознать нам все это нужно на всю прочувствованную глубину. И творить каждый новый день на полный штык деяний, свершая непрерывную деконструкцию бытию своему, так жить, чтобы, умирая, мог сказать: жизнь отдана борьбе за самое светлое — за каждодневное обновление, за творение, созидание в себе Человека, за мир с самим собой и сущим всем во Вселенной. Чтоб текла Гераклитова река жизни каждого человека руслом счастья и радости. Воспомним библейское: никогда твоя ненависть не будет лучше мира в душе твоей.
АВТОР
Правда по Чехову
— Дядя Саша, — спрашивал меня пытливый один мальчонка, — вы на правдок работаете или как? Отвечал я: чтобы дать людям проект новой жизни и не из головы выдумывать книгу, на правдок нужно работать. И флагом тут для меня Антон Павлович Чехов. На Рождество пришел проведать меня инженер Зернового союза дерзающий тюменский письменник Владимир Герасимов. Заявил он:
— Мучаюсь я над своей прозой, все время в поисках.
Я подарил ему в качестве новогоднего подарка этот электронный Урок беспощадной правды.
ЭНЦИКЛОПУДИЯ ЧЕХОВА могучего даже в крохотках
Записная книжки А. П. Чехова, отдельные его записи — истинная энциклопудия в крохотках даже. Читайте, громадьяне, дабы убедиться в том самолично.
В русских трактирах воняет чистыми скатертями. Где ныне те трактиры!
От зависти становится косым. Корежит человека она.
У дьяконского сына собака называлась Синтаксис. Начитанная.
Старики прожорливы. Как майские воробьи
Я чувствую, как в моем мозгу бьет пульс.
Вообще купцы любят быть начальниками.
Какая он рубаха? Он просто старая тряпка из бабьей юбки.
Был счастлив только раз в жизни — под зонтиком.
Пословица: попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Бесхвостым хоть репку пой.
Мы всё только говорим и читаем о любви, но сами мало любим. (выделения здесь и ниже — А. М.).
Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. Истинно так. Почувствовал себя раз виноватым, когда нечаянно раздавил мураша. Йота-событие вроде бы, ноль, но оно можеть быть фактом большого искусства. В Москву, как сообщают афиши, приезжает с театром марионеток Резо Габриадзе со спектаклями, которые предпочитает называть видениями: зритель приходит и видит сон. В этом сне плачущая над погибшей под солдатским сапогом дочерью мама-муравьиха, ангел, оживляющий убитого коня, который так мечтал увидеть возлюбленную, грузовичок, едущий по бездорожью, просто песок, который, просыпаясь между пальцами актрисы, превращается то в дорогу, то в бархан, то в домик, то в поле битвы, то в могилу погибшего под Сталинградом солдата, становятся символом того, чего сегодня нам всем так не хватает.
…«То, что тебе казалось любовью, — совсем по-человечески объясняет ломовой конь Алеша своей возлюбленной, с которой ему позволил попрощаться ангел, — было ненавистью».
«Любовь и ненависть, они так похожи друг на друга. Иногда подумаешь, ни одно ли это? Где найти в круге начало? Если б я мог это проверить…", — вздыхает Алеша, земной путь которого уже закончен.
Но жизнь героям сказочных снов Тбилисского театра марионеток вновь и вновь дают человеческие руки, настоящие, мягкие, ловкие человеческие руки. Они превращают ведро в поезд, лоскуток — в знамя, они зажигают в печурке теплый огонь, они ставят памятник муравьишке, погибшему под солдатским сапогом, они разравнивают поле битвы, чтобы по нему можно было проложить новую дорогу.
Скажу о своем: боль есть боль, и нолей на этот счет не бывает. Но как же чутко нужно жить на свете, чтобы осознавать это. Приснившийся мне в ту же ночь режиссер, сказал, что мнение мое резонно. Однако, он готовился уже к спектаклю и закрыл свое лицо зеленой маской с прорезями для глаз. Маска молчала. Но это уже драматургическая деталь…
Крестьяне, которые больше всех трудятся, не употребляют никогда слова «труд». Они просто пашут и сеют. Все начинается на земле с сева. А что посеешь, то и пожнешь. Лукавые времена, когда много жнут и мало сеют, преходящи, вечны веки истинного сеятеля.
Глядя на склад и выражение лица, хочется думать, что у нее под корсажем есть жабры. Если рыбина она, которой трудно найти название, — всенепременнейше!
женское сердце упорнее Шамиля.
Говорят: на этой станции хорошие пирожки.
Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука.
Матвея по ночам кусали клопы.
Я так стар, что от меня даже, кажется, псиной пахнет, а ты, сестра, все еще молода.
То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть.
В жизни он получал наслаждение только из двух источников: писатели и иногда природа.
Ярцев далее говорит: а жизнь, поверьте, идет своим естественным порядком, и никто не дерет, каждый дует в свою трубу то, что ему дуть надлежит.
Так называемая детская чистая жизненная радость есть животная радость.
Небогатые врачи и фельдшера не имеют даже утешения думать, что служат они ради идеи, так как все время думают о жизни.
Но вот дичайший пример из нашей нынешней современности. Доктора — недочеловеки? Факт доподлинный. Чехову даже в кошмарном сне не приснилась такая медицина.
Петр Столбов — уролог из г. Тюмень, который порекомендовал своим коллегам из других городов обманывать пациентов. Он высказался в комментариях под обращением урологов о повышении зарплаты. И предложил остальным врачам обманывать пациентов и зарабатывать на этом, если им не хватает зарплаты. Вот полный текст его комментария:
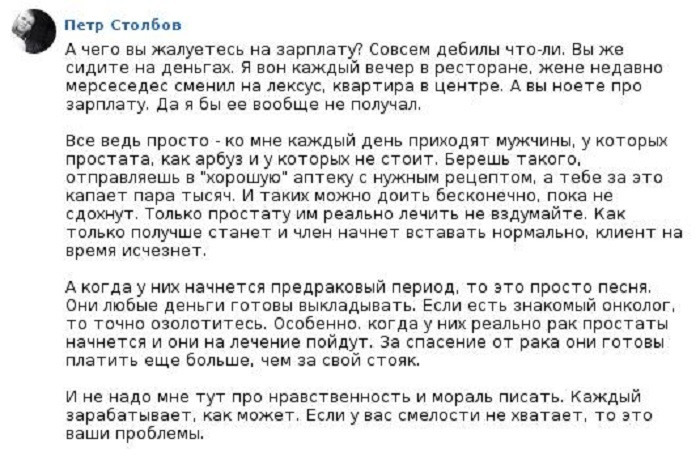
Олег Волков — руководитель регионального медицинского департамента.
Как стало известно, несколько дней назад врача задержали. А после того, как он дал показания, была арестована еще группа урологов, которые действовали по такой же схеме. Они не просто брали деньги с пациентов в виде благодарности за лечение, а предали клятву Гиппократа, отправляя людей на убой. Они зарабатывали на своих пациентах, даже не пытаясь им помочь.
Калигула сказал, что если бы он! посадил в сенате лошадь, так вот я происхожу от этой лошади.
Едешь по Невскому, взглянешь налево на Сенную: облака цвета дыма, багровый шар заходящего солнца — Дантов ад! Таков Челябинск, когда заходили мы на посадку там на маленький, с козой на лужайке аэродром на испытаниях самолета ИЛ-76. Все в живописно-ядовитых дымах, и думалось, чем челябинцы дышат?
Доход в 25—50 тысяч, но все-таки застреливается от нужды. Не в деньгах счастье.
Она полюбила меня за деньги, т. е. за то, что я люблю в себе меньше всего. И таких немало. Донкихоты они. И жизнь их чаще всего — драма.
Зять (кладя в сторону газету): Скучно в нашем богоспасаемом городе.
Артист. Если бы с Марса свалилась глыба и задавила весь прекрасный пол, то это было бы актом величайшей справедливости. Здорово, видимо, назолил он ему.
Она не любила спирита; ей казалось, что он своими белыми пухлыми пальцами роется в ее душе.
В Париже. Ей казалось, что если бы французы увидели, как она сложена, то были бы восхищены.
Надо воспитать женщину так, чтобы она умела сознавать свои ошибки, а то, по ее мнению, она всегда права.
Учитель: из чего сделано сердце? Девица (подумав): из хряща.
Приобретайте друзей богатством неправедным. Так сказано, потому что вообще нет и не может быть богатства праведного.
Пьеса: если общество носится со своими артистами и видит в них необыкновенных, то оно, значит, проникнуто идеальными стремлениями.
Сорин: Я страшно хотел быть литератором! Я хотел двух вещей: жениться и хотел стать литератором, но не удалось ни то, ни другое.
X. Ей казался ресторанный воздух отравленным табаком и дыханием мужчин; всех мужчин она считала развратниками, способными броситься на нее каждую минуту. Так и разбежались!
Две жены и обе б…: одна в Петербурге, другая в Керчи. Постоянные скандалы, угрозы, телеграммы. Едва не довели до самоубийства. В конце концов нашел средство: поселил обеих жен вместе. Они в недоумении, точно окаменели: и молчали, стали тихи.
Действ <ующее> лицо так неразвито, что не верится, что оно было в университете. Бывают такие чмони и ныне.
Чудаки казались ему прежде больными, а теперь он считает [нормальным], что это номальное состояние для человека — быть чудаком.
И мне снилось, будто то, что я считал действительностью, есть сон, а сон есть действительность.
Полная девочка, похожая на булку. В школу придешь к внуку по каким-то делам, и сколько же там булочек!
Я заметил, что, женившись, перестают быть любопытными.
Старик: ему тысячу лет.
Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически.
гости ушли; они играли в карты, после них беспорядок: накурено, бумажки, тарелки, но главное — рассвет и воспоминания. И это чудесно.
N., директор завода, молодой, со средствами, семейный, счастливый, напис у провинциальных ал «Исследование Х-го водяного источника», был расхвален, был приглашен в сотрудники, бросил службу, поехал в Петерб <ург>, разошелся с женой. Дурак, это все равно, что жениться на «водяном источнике».
Успех уже лизнул этого человека своим языком. Тако у провинциальных знаменитостей. Некто в сонном городишке стал известен посредственными стихами, загордился. Старший брат-сибиряк, звоня по телефону в новогодье, поинтересовался, где учится его внук и на кого. Ответил тот с апломбом, что я, мол, не обязан отвечать на твои допросные вопросы.
Голодная собака верует только в мясо. А голодное человечество в бога, хотя бог куска не бросит…
Про одну барыню говорили, что у нее кошачий завод; любовник мучил кошек, наступая им на хвосты.
Офицер с женой ходили в баню вместе, и мыл их обоих денщик, которого, очевидно, они не считали за человека.
Муж сестры после ужина: «Все на этом свете имеет конец. Знайте: если влюбитесь, будете страдать, ошибаться, раскаиваться, если разлюбите, то знайте, что всему этому будет конец».
Чиновник дерет сына за то, что он по всем предметам получил 5. Это кажется мало. Потом, когда ему разъяснили, что он не прав, что 5 — это лучшая отметка, он все-таки высек сына — с досады на себя. Лучше бы себя.
У очень хорошего человека такая физиономия, что его принимают за сыщика; думают, что он украл запонки.
Эти краснощекие дамы и старушки так здоровы, что от них даже пар идет.
Дедушке дают покушать рыбы, и если он не отравляется и остается жив, то ее [едят] ест вся семья. Чудное нашли применение дедушке.
Переписка. Молодой человек мечтает посвятить себя литературе, пишет постоянно об этом отцу, в конце концов бросает службу, едет в Петербург и посвящает себя литературе — поступает в цензора. Был у нас в Тюмени один такой некогда. Далеко ему было до цензора царской поры. Ни рыба, ни мясо. Не обвинит толком, не растолкует, а мямлит что-то о параграфах. Жалко закончил. Прыткие все уже с капиталами, с дачами, с коттеджами. Он: я этим не занимался, советский же человек. Тихо так умер советикус.
Человек, у которого колесом вагона отрезало ногу, беспокоился, что в сапоге, надетом на отрезанную ногу, 21 рубль. Если бедняк безразмерный — понять можно.
В людской Роман, развратный в сущности мужик, считает долгом смотреть за нравственностью других. Медом не корми таких повоспитывать всех неправедных.
На Мл. Бронной. Девочка, никогда не бывавшая в деревне, чувствует ее и бредит о ней, говорит о галках, воронах, жеребятах, представляя себе бульвары и на деревьях птицы.
Один капитан учил свою дочь фортификации.
Недавнушко. Какое теплое словцо.
Каждый русский в Биаррице жалуется, что здесь много русских.
Образчик семинарской грубости. На одном из обедов к Максиму Ковалевскому подошел критик Протопопов и сказал, чокаясь с ним: «Пью за науку, пока она не вредна народу».
Что прикажете делать с ч <елове> ком, к <ото> рый наделал всяких мерзостей, а потом рыдает.
Мнение профессора: не Шекспир главное, а примечания к нему.
Молодежь не идет в литературу, потому что лучшая ее часть теперь работает на паровозах, на фабриках, в промышленных учреждениях; вся она ушла в индустрию, которая делает теперь гром <адные> успехи. Писательские организации в ужасном положении, они живут какими-то подаяниями с того или иного губернаторского стола… В начале двадцать первого века у нас литература нулевая случилась, и те же катастрофические нули были в народном хозяйстве. Ныне литература вновь нулевая. Государству мы не нужны, на устах властителей ИННОВАЦИИ… Как, скажите, реагировать на заяву одного из таких высокопоставленных тюменцев: народ нас не поймет, если мы будем помогать писателям. Прозябайте, мол, гражданы разлюбезные… Мы вроде бы не писатели, а письки… И прозябают прославленные в век социализма письменники. На кого опора? Вот мой личный пример. Поддерживают меня в судьбе и издании книг ученый-буровик Геннадий Проводников, нефтеразведчик Евгений Царегородцев, охотовед Игорь Чуланов, коммунальщик Александр Захаров, что поверяет свои поступки совестью, менеджер Лев Коринецкий, безработный Славушка. Такой была моя, глаза в глаза встреча с Александром Прохановым, который еще сильнее привлекает ныне мое внимание.
13 дек. Видел владелицу фабрики, мать семейства, богатую русскую женщину, которая никогда не видала в России сирени. А у нас в Заболотье, в пятидесяти километрах от Тобольска, так сирень цветет и пахнет, что запах ее вдыхают даже на кремлевском холме в Тоболеске, как называли его некогда. С сиренью все ясно — люди даже бывают неповторимы ароматом своим. В сайте жены в «Одноклассниках» прочел чьи-то просто расчудесные безымянные строки:
И аромат твой несравненный —
Так пахнут яблоки в саду.
Как же это прекрасно: люди-яблоки! Потрясает видение их, наплывающее из голубой дымки…
В письме: «русский за границей если не шпион, то дурак». Так в Америке недавно открыли много чего-то русских шпионов.
Порочность — это мешок, с к <ото> рым человек родится.
Жалоба: сын мой Степан слаб здоровьем, его поэтому я отдал учиться в Крыму, а там его выдрали виноградной лозой, от этого у него ниже спины завелась филоксера, и теперь доктора ничего не могут поделать. Ниже обычно геморрой, а тут на тебе. Не поймешь: интеллигентное нечто или бесячье.
один ушел в попы, другой — в духоборы, третий — в философы, и это потому инстинктивно, что никто, ни один не хочет работать как следует, с утра до ночи, не разгибаясь. Где бы ни работать, лишь бы не работать. Не ставят даже вопрос по-гамлетовски: работать или не работать. А определенно: валять сачка.
Фамилия еврея: Чепчи.
Здравствуйте вам пожалуйста. У тещеньки моей любимой Ксении Гавриловны это было ходовое присловье.
Какое вы имеете полное римское право. Действительно!
У бедных просить легче, чем у богатых. Испытал не раз. К богатому идешь, когда сильно прижмет, с думкой, что лучше б тебе кобель на голову навалил. К бедным ж — с душой. Так товарищу моему с мамой писателя Ивана Михайловича Ермакова мы в рабочем общежитии, пройдя все пять этажей, за сорок минут собрали на ж-д билет сто рублей. Давали по рублю, два, три. По возможности. А жлоб-приятель, к которому я заходил ранее, отказал, хотя знал, что у него в заначке тыщи.
Москва с юбилеями, плохим вином, мрачными самолюбиями. О такой в Москве нынешней — прочувствованно у меня в романе.
Кокотки в Монте-Карло, кокоточный тон; кажется, и пальма кокотка, и пулярка кокотка… Кокотка и в Африке кокотка.
Молодой человек собрал миллион марок, лег на них и застрелился. Потому что не в деньгах счастье. В своей электрон-почте прочел, что пишет некто: «От денег уже тошнит». Начинал (какое-то дело, связанное с интернет-технологиями) — получал 110 тыс. рублей в месяц, а сейчас не знает, куда девать… Поделился бы с приютскими детьми, с голодными…
Женятся, потому что обоим деваться некуда.
Сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чувствует и умеет работать.
Помещик: я сначала тоже жил на интеллигентный манер, подавал после завтрака кофе с ликером, но поп выпил мои ликеры в два присеста, и я бросил так жить и стал обедать в кухне. У попина!
Когда любишь, то какое богатство открываешь в себе, сколько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить.
— Отчего умер ваш дядя? — Он вместо 15 капель Боткина, как прописал д <окто> р, принимал 16. Перебор. Не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз.
Противиться злу нельзя, а противиться добру можно. Очень удобно это, без лишних хлопот.
Он льстит властям, как поп.
Мертвые срама не имут, но смердят страшно.
Одинокие ходят в рестораны и в баню, чтобы разговаривать.
Маленький, крошечный школьник по фамилии Трахтенбауэр.
Узнает из газет о смерти великих людей и по каждом из них носит траур.
Чтобы умно поступать, одного ума мало. Хорошо созвучивается с заявой на этот счет Папы Римского Юлия 111. Есть у меня об этом в романе.
Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости.
Для водевиля: Капитон Иваныч Чирий.
Женщина находится под обаянием не искусства, а шума [при ис <кусстве>], производимого состоящими при искусстве.
служит факельщиком в погребальном бюро. Идеалист. «В бюре». Как-то реминисцентно созвучивается это в «бюре» с социалистической нашей реальностью брежневской поры и даже с ЦК КПСС. Тоже «бюро». Эй, вы там, наверху!.. Беспощадный критик Огрызко писал об атмосфере в литературно-общественной сфере в годы брежне-сусловского правления: «Оставались некоторые надежды на ЦК. Но там порядочные люди отродясь не водились (выделение — А. М.) (за небольшим исключением). Ну что мог сделать ходивший под Черноуцаном и Поликарповым помор Ал. Михайлов?! Только беспомощно развести руками. Ну, да, принял весной 1961 года в ЦК Гроссмана. Но биться за правоту писателя этот инструктор отдела культуры даже не собирался.
N. и Z. кроткие, нежные друзья, но как только вместе попадают в общество, то начинают острить друг над другом — из конфузливости.
В волостном правлении поставили телефон, но скоро он перестал действовать, так как в нем завелись тараканы и клопы. Елпатьевский С. Я. Очерки Сибири. У наших чинуш-бюрократов в мозгах такие позаводились…
В сарае дурно пахнет: 10 лет назад в нем ночевали косари, и с тех пор этот запах. Нужник, что ли, устраивали в нем?..
Россия страна казенная. Истинно!
Он ходил в рубахе и презирал тех, кто ходил в сертуке. Сбитень из штанов.
Был прекрасный строевой лес; назначили лесничего — и через 2 года леса нет, шелкопряд. Сейчас этот жучок называется коррупция.
Х.: от квасу у меня начались в животе холерные беспорядки.
N: выли не только собаки, но даже лошади. Тоска, стал быть, тотальная была.
Жена рыдала. Муж взял ее за плечи, встряхнул, и она перестала плакать.
Педагогу: Его местоимению Ив. Ив. Груздеву. Разными такими несуразицами хорошо кормится Михаил Задорнов. Это не в укор ему: я его уважаю.
Почему твои песни так кратки? — спросили раз птицу.– Или у тебя не хватает дыхания? — У меня очень много песен, и я хотела бы поведать их все. Альф. Доде.
Собака ненавидит учителя, ей запрещают лаять на него, она глядит, не лает, но плачет от злобы.
Учитель: Не следует праздновать столетие Пушкина, он ничего не сделал для церкви. Этот довод — бренд алилуйщиков.
Мне противны: игривый еврей Моня, перестаньте шарить в вашем местечковом носу! радикальный хохол и пьяный немец. Искренность — замечательнейшее свойство Чехова.
Самые несносные люди — это провинциальные знаменитости. Двигаясь навстречу им, я перехожу на другую сторону улицы. Есть у нас один такой письменник в озерной стороне. Издал трехтомник и оборзел от амбиций, во всем теперь правее Римского папы он…
Иеромонах о. Эпаминонд ловит рыбу и кладет в карман, потом дома, когда нужно, вынимает из кармана, чтобы пожарить. Карманная рыбка.
Милая, тихая дама, выйдя из себя, говорит: Если бы я была мужчиной, то так бы и дала ему в морду!
Вдовый священник играет на фисгармонии и поет «со святыми упокой»! Свят, свят, свят!
Если пишешь о женщинах, то поневоле должен писать о любви.
Пофилософствовать насчет любви Ив <ашин> мог, но любить нет. На хрын нужно, как мог бы сказать самотлорский вышкомонтажник Яша Вагапов.
Мужик, желая похвалить: «господин хороший, специальный».
Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас ужо нет, и оно кажется прекрасным.
Цыбукин.
Гувернантку дразнят так: Жестикуляция.
Шапчерыгин, Цамбизебульский, Свинчутка-анчутка, Чембураклия. Страна чембураклей.
Поп Демьян напивается до зеленого змия, и его зовут Демьян-Змеевидец.
Взятка инженеру: динамитный патрон, набитый сторублевками. Сейчас ими набивают чаще коробки из-под ксерокса, да и то — зелененькими сотками.
Русскому в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но почему же в жизни хватает он так невысоко? И действительно, громадьяне, почему?
Русский ч <елове> к, если послушать его, с женой замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадями замучился. Это бренд его!
На лице у нее не хватало кожи: чтобы открыть глаза, надо было закрыть рот — и наоборот. Артистки наши, погрязшие в пластических операциях, хорошо знают это. Понаровская, по-моему, так себе кожу поперетягивала, что она делает ее неузнаваемой… Дура что ли, ввязалась в перешивку лица… Так нос можно перетянуть на затылок. Можете, громадьяне, представить такую кикимору?
Когда она приподнимает [юбку] платье и показывает свою нарядную юбку, то видно, что она одевается как женщина, которая привыкла к тому, что ее часто видят мужчины.
Утюжный. Так же, как знаковый герой моей прозы Василий Петрович Федотов — вязкий. Один утюжит всех почем зря, другой вязнет в сомнениях и размышлениях.
Человек, к <ото> рый всегда предупреждает: У меня нет сифилиса. Я честный человек. Жена моя честная женщина.
Девочка с восхищением про свою тетю: она очень красива, красива, как наша собака! Удружила комплимент тете.
Когда в церкви пели «днесь спасения нашего главизна», то он дома велел варить борщ с главизной. Усекновение — не ел круглого, сек детей.
Попович в гневе обозвал наймичку: «Ах ты, ослица Иегудиилова!» И поп не сказал ни слова и устыдился, так как не мог вспомнить, где в св. писании упоминается такая ослица.
Из деревни лучшие люди уходят в город, и потому она падает и будет падать. У нас сейчас этот процесс идет беспрерывно. Взволновала сегодня, до печенки и селезенки проняв, в «Одноклассниках» песня погибшего Михаила Евдокимова «Домик у дороги». И течет она сейчас в моем кровотоке этими щиплющими сердце словами:
В стороне от бетонных развязок,
И угрюмых больших городов,
Он стоит, как из русских из сказок,
Залетевший из прошлых веков.
Деревянный, замшелый, убогий,
С покосившимся напрочь крыльцом,
Пригорюнясь у старой дороги,
Домик-дедушка с добрым лицом.
Пригорюнясь у старой дороги,
Домик-дедушка с добрым лицом.
Припев:
Домик у дороги, домик у дороги,
Где же твой хозяин, бог твой и судья?
Домик у дороги, стану на пороге,
Постучусь: не здесь ли,
Ты, судьба моя?
А вокруг дачи всё да усадьбы,
А вокруг роскошь и голытьба.
Ну а домику чудятся свадьбы,
Деревенская снится гурьба.
Ну а домику хочется кости
Поразмять вековые свои,
Да видать уж давно на погосте
Те, кто жил здесь в согласье-в любви
Да видать уж давно на погосте
Те, кто жил здесь в согласье-в любви
Припев:
Деревянный, замшелый, убогий,
С покосившимся напрочь крыльцом
Здравствуй, домик у старой дороги
Русский дедушка с добрым лицом.
Здравствуй, домик у старой дороги,
Русский дедушка с добрым лицом.
Припев:
Дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. За компанию жид задавился.
Консервативные люди оттого делают так мало зла, что робки и не уверены в себе; делают же зло не консервативные, а злые. Уверенные в себе мордохвостовы (пользую словечко Чехова).
Припоминается архиерею, как он был архимандритом в посольской церкви, как слепая нищая каждый день под окном пела о любви.
Раздели труп, но не успели снять перчаток; труп в перчатках. На презентацию будто собрался.
О пошлые женщины, как я вас ненавижу! Как эта директриса Елена из Игрового дома, куда я от нужды устроился по ее призыву на работу по интернету и заработал 18 тыс рублей. Но для вывода их на карточку пришлось заплатить 700 руб. Со скандалом уговорил на это действо жену, так как на моей карточке было пусто. И что завзятый брандахлыст жестоко подставил свою благоверную, святую женщину. Шиш с маслом я получил, узнал, что Елена эта известная интернет-мошенница. По интернету жу аккурат в Рождество проклятье послал этой гадине. Теперь на личные траты у жены не переймешь. Подъелдыкивает она, что ты, мол, ныне трудящийся человек и обходись сам…
Было такое поэтическое венчание, а потом — какие дураки! какие дети!
Человек, очень интеллигентный, всю свою жизнь лжет про гипнотизм, спиритизм — и ему верят; а человек хороший.
В первом акте X., порядочный ч <елове> к, берет у N. сто рублей взаймы и не отдает в течение всех четырех актов.
Воспитание. «Жуйте как следует», — говорил отец. И жевали хорошо, и гуляли по два часа в сутки, и умывались холодной водой, всё же вышли несчастные, бездарные люди. Дар ниспосылает небо.
N. 40 лет женился на 17-летней. Первая ночь, он привез ее к себе на шахты, она легла спать и вдруг зарыдала оттого, что не любит его. Он добряк, смущен, убит горем и идет спать к себе в кабинетик. Исусик.
Увы, ужасны не скелеты, а то, что я уже не боюсь этих скелетов.
Репетиция. Жена: — Как это в «Паяцах»? Посвиста, Миша — На сцене свистать нельзя. Сцена — это храм.
Похож, как гвоздь на панихиду. Прям один к одному.
Зигзаковский, Ослицын, Свинчутка, Дербалыгин. Истинно, жультменский набор фамилий.
Женщина с деньгами, всюду запрятаны деньги и на шее, и между ногами. Ясно где…
Ку-ку-ку-ха-ха-ха!
вся эта председура.
Муж и жена любили гостей, потому что без гостей ссорились
Какие чудесные названия: богородицыны слезки, малиновка, вороньи глазки… Дачнику-цветочнику, как мне с женой, читать это — что песню душевную слушать.
Он не ел, а вкушал. Не ходил, а шествовал. Не говорил, а возглашал. Херувим натуральный.
Гимназист с усами из кокетства прихрамывает на одну ногу.
(сердито и наставительно) — Отчего ты не даешь мне читать писем твоей жены? Ведь мы родственники.
Боже, не позволяй мне [гов <орить>] осуждать или говорить о том, чего я не знаю и не понимаю.
Алексей Иваныч Прохладительный или Душеспасительный. Барышня: я бы пошла за него, да боюсь фамилии — Прохладительная.
Когда у актера есть деньги, то он шлет не письма, а телеграммы.
Клоун в цирке — это талант, а говорящий с ним лакей во фраке -толпа; лакей с насмешливой улыбкой.
У него разжижение мозга, и мозг в уши вытек.
Что? писатели? Хочешь, я за полтинник сделаю тебя писателем? Есть у нас такие гении-экстрасенсы, что деньги гребут лопатой за такую чушь.
жизнь кажется великой, громадной, а сидишь на пятачке.
Дай ему в рыло. Просто и ясно. Что возопил? Мало? Еще плюха. И другая будет. Были бы только рыла.
Фауст: чего не знаешь, то именно и нужно тебе; а что знаешь, тем не можешь пользоваться. Все мы во многом Фаусты.
Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким. В братской могиле.
горбатый, но высокий.
Ах ты, мой прыщик! — ск <азала> невеста нежно. Жених подумал, потом обиделся — разошлись. Прыщики вскакивают с пустяковин.
Протодиакон проклинает «сомневающихся», а они стоят на клиросе и поют сами себе анафему. Скиталец.
Мадам Гнусик. На заре своей журналистики я написал фельетон «Мордобоец приятной наружности». Так вот фамилия его была — Гнусин.
мне кажется: море и я — и больше никого. Такое состояние ощутил я в своем внуке Илюше, когда сидел он у пирса в Больших Котах и глядел на море-озеро Байкал, погрузившись в трансценденцию.
— Мама, из чего сделана молния? Из огня, юнчик.
она кормила свою собаку зернистой икрой. Сейчас таких гурманш среди новых русских хватает.
самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки азиатские.
у русского человека единственная надежда — это выиграть двести тысяч. Лучше бы миллион. Или шесть. Нас «Ридерз дайджест» кормит такими надеждами лет двадцать. Прекрасно удит в тощенькой нашей пенсионерской казне, отплачивая разными бумажками с золотым тиснением, из которых явствует, что мы не сегодня, так завтра обязательно станем миллионерами. Хоть подставляй тут выражение фельетониста Виктора Кима: «Его жизнь была скучная — он никогда не находил набитых деньгами бумажников, не выигрывал велосипеда на лотереях и не спасал от разбойников прекрасных женщин». Что же насчет «Ридерз дайджест», то играем мы с ним потому, что иногда там издают хорошие книги, только вельми дорогие. Но Нину Яковлевну мою они-таки достали (не в первый раз). Прислали какие-то избранные мелодии. Это на 500 рублей, когда мы копейки шкуляем. Послала она письмо. Суть: мы — пенсионеры и не можем выписывать много всего, как раньше; мы не заказывали избранные зарубежные романы — вы шлете; муж доверчивый — получает от вас почтовые отправления; одну книгу с чайником скомплектовали, и что? — чайник хорошо, книга — не нужна; доколе?! Неужели не бывает бизнеса без совести?
барышню продразнили касторкой, и поэтому она не вышла замуж. Много ли радости жить с касторкой?
Когда он (факельщик) показался в трехуголке, во фраке с галунами и с лампасами, то она полюбила его. В Ильмене у нас она девушка с чувством заявила: «Не могу люблю военных».
После осмотра здания комиссия, бравшая взятки, завтракала с аппетитом, и точно это был поминальный обед по чести. Таких обедов на Руси ныне, как свеч поминальных во всех церквах.
Мордохвостов. Муж.
Напали на зернистую икру с жадностью и съели в одну минуту.
Г-жа N. много ела. «Я бы еще съела мороженого».
Помещик кормит голубей, канареек, кур перечными семенами, марганцовокислым кали и всякой чепухой, чтобы они меняли свой цвет — и в этом единственное его занятие, этим хвастает перед всяким гостем.
водевиль: у меня есть знакомый Кривомордый Кривомазый — и ничего. Не то чтобы Кривоногий или Криворукий, а Кривомордый, и женат был, и жена любила.
N. каждый день пил молоко и каждый раз клал в стакан муху, потом спрашивал строго у лакея: «это что такое?» С лицом жертвы. Без этого он не мог дня прожить. Мазохист.
Мать посылает сына гимназиста за огурцами. Полмерки. Он ехал верхом и съел все огурцы.
Решение: пригласить папу римского перебраться в Торжок — избрать его резиденцией.
У плохого поэта был стих: как саранча летел он на свиданье.
господинчик очень осторожен: он даже поздравительные письма посылает заказными с обратной распиской.
Он: — а вот у нас был один господин, которого по фамилии звали так: Кишмиш. Он звал себя Кишмиш, но все отлично знали, что он Кишмиш.- Она (подумав): Как это неприятно… хоть бы Изюмом звали, а то — Кишмиш.
весело, жизнерадостно: честь имею представить. Ив. Ив. Изгоев, любовник моей жены. Хорошо же в таких изгоях ходить.
в имении богатая библиотека, о которой говорят, но которой совсем не пользуются, варят жидкий кофе, к <ото> рый пить нельзя, в саду безвкусица, нет цветов, — и все это выдается за нечто якобы толстовское.
дворянин хвастает: этот мой дом был построен еще при Дмитрии Донском.
очень влюбчив; едва познакомится с барышней, как уже становится козерогом.
дворянин Дрекольев не дай бог встретиться с таким в темном переулке.
честны и не лгут, пока не нужно немало таких рациональных вокруг.
для водевиля: Фильдекосов, Попрыгуньева.
раньше человек, хороший, с правилами, любивший, чтобы его уважали, уходил в генералы, в попы, а теперь он идет в писатели, профессора…
барышня пишет: «мы будем жить невыносимо близко от вас».
всю жизнь писал о капитализме, о миллионах, а денег никогда не было.
N. был очень хороший, ценный портной, но его губили и сгубили мелочи: то шил пальто без карманов, то ставил очень высокий воротник.
своими рассуждениями о Стриндберге и вообще о литературе Л. Л. Толстой очень напоминает Лухманову.
коновал, жеребячьего звания.
солнце светит, а в душе моей темно.
едва сделался ученым, как стал ждать чествования.
У очень умной ученой барышни, когда она купалась, он увидел узкий таз и тощие, жалкие бедра — и возненавидел ее.
Когда я женился, я стал бабой. Обабился.
Мне хочется, чтобы на том свете я мог думать про эту жизнь так: то были прекрасные видения…
— по этой части он съел собаку, — ах, ах, не говорите так, наша мама очень брезглива.
снилось мне, будто я был в Индии и будто кто-то из местных князей, владетельных особ, подарил мне слона, даже двух слонов. Я так мучился от слонов, что проснулся.
поют петухи, и уже кажется ему, что они не поют, а ноют. У пессимиста всегда так.
Мой меркантильный путь. Некогда за железнодорожной линией у нас был мясокомбинат, где высились горы костей, и когда ветер дул с той стороны, город душило газом меркаптаном. Я свой путь мимо мясокомбината называл меркаптаньим.
зовут антрепренера четырехтрубным крейсером, потому что он уже четыре раза в трубу вылетал.
она ласкается к любовнику: мой коршун!
Кухарка врет: я в гимнажии училась (она с папироской) … жнаю, жачем жемля круглая. Зачем же, матушка? Не жнаешь?
фамилия: Верстак. Хорош на хлебокомбинате в Ишиме Дубина, особенно, когда по громкоговорящей связи на всю территорию обьявляют, чтобы такой-то зашел в контору, там его ждет дубина.
чем человек (кресть <янин>) глупее, тем легче его понимает лошадь. Русский Иван Дурак.
Все, чего не могут старики запрещено, или считается предосудительным. А чего не могут короли?
Один действительный статский советник взглянул на красивый ландшафт и сказал: — Какое чудесное отправление природы!
Глаза нехорошие, как у человека, который спал после обеда.
Бабушка высекла внучку Машу. Маша потихоньку (из меcти) налила ей в суп молока, чтобы она оскоромилась (был великий пост), и потом воображала как бабушка горит за это в аду. Веселенькое кино.
Эта внезапная и некстати происшедшая любовная история похожа на то, как если бы вы повели мальчиков куда-нибудь гулять, если бы гулянье было интересно и весело — и вдруг бы один обожрался масляной краски. Другим не оставил. Ая-яй!
Человек, к-рый, судя по наружности, ничего не любит кроме сосисок с капустой.
— «Мама, Петя богу не молился!» Петю будят, он молится, плачет, потом ложится и грозится кулаком тому, кто пожаловался. Сексота и приложить не грех.
Вещь не нужная, альбом с забытыми, ненужными фотографиями лежит в углу на стуле, лежит уже лет 20, и никто не решается его выбросить.
Вот ты титулярный «советник», а кому ты советуешь? не дай бог никому твоих советов слушать.
— Ваша невеста хороша? — Да все они одинаковы.
Чтобы изучить Ибсена, выучился по-шведски, потратил массу времени, труда и вдруг понял, что Ибсен неважный писатель, и никак не мог понять, что ему теперь делать со шведским языком.
чем ваш муж занимается? — Касторку принимает.
мамаша, вы не показывайтесь гостям, вы очень толстая.
любовь? влюблен? никогда, я колежский асессор.
Морская буря. Юристы должны смотреть на нее, как на преступление.
Если хочешь чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай.
Боже, не позволяй мне осуждать или говорить о том, чего я не знаю и не понимаю.
Старческая важность, старческое ненавистничество. И сколько я знал презренных стариков!
В любовном письме: «Прилагаю на ответ марку».
Писарь посылает жене из города фунт икры с запиской — «Посылаю Вам фунт икры для удовлетворения Вашей физической потребности».
Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь. Поненавидели и разбежались. Как оголтелые из протестников на Болотной.
Барин мужику: «если ты не бросишь пить, я буду тебя презирать.» Дома бабы: «что барин сказал?» «Говорит, буду презирать». Бабы рады.
О. И. была в пост <оянном> движении: такие ж <енщи> ны, как пчелы, разносят оплодотворяющую цветочную пыль…
Не женися на богатой — бо выжене с хаты; не женися на убогой — бо не будешь спаты, а женись на вольной воле, на казацкой доле.
Его не пригласили с собой за город под тем предлогом, что у него гость, между тем он понимал, что им не хочется его общества.
С_м_е_р_т_ь ребенка. Только что успокоишься, а судьба тебя — трах!
Перед вами дефилировал целый ряд топ-моделей прачек.
Я <рцев> хвалил девочек и говорил, что растет замечательное поколение.
Федору льстило, что его брат застал за одним столом с известным артистом. Есть у меня из знакомцев клещевидный один мужик. Такие как клещ впиваются в нужных им людей. После санатория может случиться, что звонить вам начнет. Ему ж важно будет, что знать станут окружающие: запросто общается он с заслуженной актрисой России. Есть у меня и приятель один, надоедный, как пискучий комар, звонит мне обычно из всяких присутственных мест, где б его хорошо слышали. «Я хочу тебе сказать как писателю», — начинает он, презентируясь на «массы». А потом в зависимости от хода сбрякнувшей в его мозгах мысли в оборот вовлекаются классики литературы, популярные артисты, великие ученые, полководцы, блистательные имена в области техники. И везде-то мой доброхот бывал. И на целине, и на Байконуре, и в Чернобыле аварию ликвидировал, и Чечню даже зацепил доблестной своей судьбой. Истины ради скажу, что человек он действительно моторный, смелый, вероятно, отзывчивый на чужую боль. Склонен я поверить и его вездесущности. Но позвольте, и меру же знать надо, чего до небес нагнетать дым мифов, вспышкопускательством заниматься. А то в городе в людном месте встретишь его, и пускается он в такую же показуху. Привет, мол, привет, знаменитый писатель, и я готов от стыда через землю провалиться. Писатель — сырье для такого пустопляса! Жалею, что визитку свою с телефоном дал Лимонычу в санатории, так умильно попросил он, что не смог я отказать…
О, есть кое-что выше богатства, чего не купишь. Оттого и интересно жить на белом свете.
Религиозность ее была заставой, к <ото> рая прятала все.
Когда Я <рцев> говорил или ел, то борода у него двигалась так, как будто у него во рту не было зубов.
Передержал и не додержал.
Костя, чокаясь: дай бог, чтобы не так душно жилось и ч <елове> к идеи имел бы больше значения, чем старший дворник.
Прекрасная смуглянка. Преподает девочкам нервы. Хорошо, если хорошо преподает…
Одно могу сказать, господа: как вы счастливы, что живете не в провинции! А мы счастливы — что в провинции.
Брать взятки и писать доносы — это дурно, а любить — это никому не вредит. Это не возбраняется, как говорил на митинге в Тюмени Владимир Вольфович Жириновский. А фискалить становится у иных нормой. Вызывал домой мастера на ремонт ноутбука. Вскоре привычный уже для меня звонок из его фирмы: сколько он с вас взял. Вроде бы забота обо мне пенсионере, а на деле — возрождение нравов времени, когда по доносу расстреляли моего отца…
История должна быть историей не королей и битв, а идей. В быту нашем королей и битв прорва, а идей кот наплакал.
Фамилия — Гусыня, Кастрюля, Устрица. Съединили черта с редькой.
— Будь я за границей, мне бы за такую фамилию медаль дали.
— Нельзя сказать, чтобы я была красива, но я хорошенькая. И слава тебе, господи!
Красива, что даже страшно; черные брови; умствование. Одно слово, ведьма.
Сын ничего не говорит, но жена чует в нем врага. Чует! Он все подслушивал… Ужасти это — жить среди врагов.
Сколько между дамами идиоток! К этому так привыкли, что не замечают этого. Потому, наверное, что стервы умеют себя поставить.
Ходят часто в театр и читают толстые журналы — и все же злы и безнравственны.
Жены своей не любит. Влюблен в А <нну> А <кимовну> и в то же время развратничает со Сливой. Украл на шпалах 20 тыс. Можно и на шпалерах украсть.
Никакого капитализма нет, а есть только то, что какой-то сиволапый мужик случайно, сам того не желая, сделался заводчиком. Случай, а не капитал. Ай-ай-ай, как же случай благоволит нашим миллионерам. Злого умысла — ни боже мой. Случай и только. Каков Чехов с беспощадным срыванием всех и всяческих масок! Друг мой, брат белых медведей, однако, иконно судит о классике. Побывал я некогда в гостях у него в Бавленах и узрел он у меня некие притязания на нобелевскую премию (хотя кому возбраняется и помечтать о ней). В письме в Тюмень потом упрекнул он меня в этом, заявив, что надо быть скромным как Чехов. Я по телефону отчитал его и «приказал» быть беспощадным в творениях своих как Антон Павлович. Обронил по случаю, что у тебя, мол, друже, много собственных таких страниц. И пиши беспощадно по-чеховски, а не занимайся низкопробным морализаторством, выдавая свои мысли за истину высшей пробы. Отчехвостил, в общем, друга.
На улице пьяный Чаликов делал ей под козырек. Здрассте, мадам!
О <льга> любила слово аще (аще ударит тебя в одну щеку, подставь другую).
Николаю было стыдно перед женой за свою деревню. Бедные колины односельцы!
Каждому мешало жить что-то назойливое; деду — боль в спине, бабке — злость и заботы, невесткам — горе, детям — голод [и], чесотка и страх, одной Ольге было покойно, она была всегда одинакова и ровна.
Молодые лучше стариков. Не всегда.
Грубость в населении поддерживают сами чиновники, особенно мелкие, тыкающие даже на старшин и церковн <ых> старост, и сами законы, третирующие мужиков как низших животных.
Тетечка милая, отчего мне так радостно? Оттого, что радостная. А радостная отчего? Звучит в моем сознании из студенческого гимна «Гаудеамуса»: «Будем веселы, пока мы молоды».
Сидя на бульваре ночью, Саша думала о боге, о душе, но жажда жизни пересиливала эти мысли.
Когда Кирьяк буянил, Саша шепотом: Господи, смягчи его сердце! Золотце, а не Саша.
богатые взяли себе все, даже церковь, единственное убежище бедных.
Жуково звали: Хамское, Холуевка.
Ничто так не усыпляет и не опьяняет, как деньги; когда их много, то мир кажется лучше, чем он есть. Тогда деньжистый — крез!
Саша брезговала запахом белья, нечистотой, смрадной лестницей, брезговала жизнью, но была убеждена, что такая жизнь в ее положении неизбежна.
Беда в том, что самые простые вопросы мы стараемся решать хитро, а потому и делаем их необыкновенно сложными. Нужно искать простое решение.
Нет того понедельника, который не уступил бы своего места вторнику.
Нат <аша>: Я в истерику никогда не падаю. Я не нежная. Вон вы какая!
Бальзак венчался в Бердичеве. Лермонтов родился в Тарханах, а Волга впадает в Каспийское море.
Чтобы жить, надо иметь прицепку… В провинции работает только тело, но не дух.
Чеб <утыкин>: Если бы меня полюбила какая, я бы теперь любовницу имел… Надо работать, но и любить, надо находиться в постоянном движении. Тактос голубчики.
Кулыгин: Я веселый человек, я заражаю всех своим настроением.
Ирина: как гадко работать! и никакого сознания, никаких мыслей… Еще бы, с чего им быть у праздного человека.
— Незадолго до смерти отца гудело в печке… И теперь гудит. Слышите? Как странно! Какая значимая деталь! О, если бы такая жизнь, чтобы становилось все моложе и красивее. О такой эволюции мечтал Лев Николаевич Толстой. И не только он. Василий Розанов с его нетривиальной логикой написал, перефразировав евангельский завет «будьте как дети»: «Рожден был в ночь, рос в сумерках, стал стариться — стал молодеть… С седыми волосами — совсем ребеночек… Так мы, русские, растем, ни на что непохожие». Федор Тютчев, которого называли «старик-дитя» заявлял, что никогда б не согласился поменять свой стариковский возраст на юношеский…
Ир <ина>. Трудно жить без отца без матери.- И без мужа.- Да и без мужа. Кому скажешь? Кому пожалуешься? С кем порадуешься? Нужно любить кого-нибудь крепко.
Тяжело без денщиков. Не дозвонишься. Да уж!
человек или должен быть верующим или ищущим веры, иначе он пустой человек.
днем разговоры о распущенности женской гимназии, вечером лекция о вырождении и упадке всего, а ночью после всего этого застрелиться хочется. Жизнь как один день.
в жизни наших городов нет ни пессимизма, ни марксизма, никаких веяний, а есть застой, глупость, бездарность… Это ж ад сущий!
была жажда жизни, а ему казалось так хотелось, что это хочется выпить — и он выпил вина.
быть праздным. Самое распоследнее дело.
значит, поневоле прислушиваться всегда к тому, что говорят, видеть, что делают; тот же, кто работает и занят, мало слышит и мало видит.
На катке; он гонялся за Л., хотелось догнать и казалось, что он это хочет догнать жизнь, ту самую, которой уже не вернешь, и не догонишь, и не поймаешь, как не поймаешь своей тени.
отвык ходить быстро и прямо, но заставил себя: вдруг выпрямился и пошел.
одно только соображение мирило его с д <окто> ром: как он пострадал от невежества д <окто> ра, так, быть м <ожет>, кто-нибудь страдает от его ошибок. Ошибки врачей и учителей — причина многих бед в обществе.
обречен на больную, одинокую, праздную жизнь. Адын — горестно твердил анекдотный грузин, похоронив жену. Так ходил и твердил: адын, адын, пока не пошел с лезгинкой по кругу. Веселье обуяло его: адын, адын, совсем адын! Аса!!!
почетный мир <овой> с <удья>, почетный член детс <кого> приюта — все почетный. В воронежском селе Троицкое такие все живут на Почетке, другие на Непочетке, где селили ссыльных еще при царе.
училась, все училась — он же, остановившийся в своем развитии, не понимал ни ее, ни молодежи.
жизнь уже перевернута [как казалось, вверх дном] и [уже беспокойство останется до конца дней, что бы там ни было, куда бы судьба ни] занесла.
P.S. Я, разумеется, отдаю себе отчет, что читать это на самом деле никто не будет, и пишу всё больше себе на память, чтобы когда захочется перечитать, не пришлось рыться в фолиантах.
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Откровенно говоря, трудно расставаться со строками Чехова, с магией его бесхитростной жизни, а потому дам еще ряд своих чисто эмоциональных замет, вызванных чтением «записных книжек» Антона Павловича.
Об этой фразе Чехов напомнил Скитальцу во время их последней встречи в Москве, в 1904 г., через несколько дней после премьеры «Вишневого сада»: «Послушайте, вы помните, как у вас в одном рассказе сказано: «Протодьякон проклинает сомневающихся в бытии божием, а они стоят на клиросе и поют сами себе «анафему»!»
Он откинулся к спинке стула и залился почти беззвучным, но заразительным смехом, вдруг сделавшись похожим на свой молодой портрет, когда Чехов был жизнерадостным, беззаботным «Чехонтэ»» (Скиталец. Чехов.- «Повести и рассказы. Воспоминания». <М.,> 1960, стр. 368). Вот этот почти беззвучный, но заразительный смех, каким залился Чехов, напомнив Скитальцу молодого, жизнерадостного и беззаботного «Чехонте», многого стоит, потому что вьявь видишь и чувствуешь писателя в буче молодой газетной жизни. Такая атмосфера царила у нас в редакции «Тюменского комсомольца», когда я после Северов окунулся в журналистскую жизнь. Много было серьезной работы и молодого веселья, озорства. Ближе и понятнее мне в контексте сказанного Скитальцем об Антоше Чехонте.
Любопытны строки в письме Чехова Ивану Павловичу от 24 марта (5 апреля): «Русскому человеку, бедному и приниженному… в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».
Значит свое запись о том «что сила духа в человеке всегда может победить в нем недостатки, полученные в наследственность», и «как бы ни было велико вырождение, его всегда можно победить волей и воспитанием».
О Рассудиной, что просила погасить свет, когда рассказывают анекдоты: «и прежде чем поцеловаться с ней, нужно было тушить все свечи». Превосходная дамочка!
«Прежний так называемый порядочный человек стрелялся оттого, что казенные деньги растратил, а теперешний — жизнь надоела, тоска…» Целый пласт в атмосфере жизни!
В письме В. А. Гиляровского Чехову от 21 июля 1892 г. из Донской области: «Третьего дня в степи мы наткнулись на только что умершего от холеры косаря. Как косил, так и умер. Тут же его и закопали в степи. Можешь себе представить такие картинки». Нам представлять нужно, а для земского врача А. П. Чехова это было реальностью.
«На богатых людей рассчитывать нельзя, — говорилось в этом письме.- Поздно. Каждый богач уже отвалил те тысячи, которые ему суждено было отвалить. Вся сила теперь в среднем человеке, жертвующем полтинники и рубли». Тоже — характерность жизни, что не осталась незамеченной для зоркого ока писателя. И еще на тему. Пришел проведать меня, обезноженного ныне давний товарищ-мудрец, геодезист мирового класса. В литературе хромоножка, однако, после хорошего бутылька водки вдалбливал гвоздями в мою голову, что Я СРЕДНИЙ ПИСАТЕЛЬ. Хотя новую прозу мою не читал. Однако умный инженер, выдающийся изобретатель, по обстоятельствам живущий ныне в Нью-Йорке, герой моей прозы поэт и журналист Юрий Цырин, с которым сдружились на Самотлоре, когда я работал там помбуром в бригаде Героя труда знаменитого Геннадия Левина, написал в своем отзыве, прочитав две эпопеи реминисцентной моей прозы, что я прокладываю новую лыжню в мировой литературе. «Три года», гл. XIII. Юлия, обращаясь к Ярцеву, говорит о муже: «что называется человек-рубаха», на что следует реплика Кочевого: «какая он рубаха <…> Он не рубаха, а старая тряпка из бабьей юбки». Так это хлестко по-чеховски!
«Три года», гл. VII. О Рассудиной: «…она стала поводить плечами, как в лихорадке, и дрожать и, наконец, проговорила тихо, глядя на Лаптева с ужасом: «На ком Вы женились? Где у вас были глаза…» Такое мне приходилось слушать не раз. Жена выговаривала сыну. Другие мамы — другим сыновьям заявляют такое. Одна в сердцах добавила: «Бачили очи, шо куповали — ижьте!»
Признания Лаптева («Во мне нет гибкости…» и «я робею перед идиотами…") в журнальном тексте сопровождены сравнением: «Как моллюск, мозгляк какой-то, ни гибкости, ни смелости…»
«Лицо ее задрожало от ненависти…» Зримо и чувствуемо!
О Ярцеве, в связи с его житейским правилом: быть выше инстинктов. «…он верил в то, что русский суровый климат располагает к лежанью на печке и к небрежности в туалете, и потому никогда не позволял себе ложиться днем…» Встречаются и мне такие.
«Три года», гл. XV. О «сильном нервном возбуждении» Юлии после ухода Федора. «Страшно жить!.. Сегодня на улице я видела слепого ребенка. Надо скопить 20 — 30 миллионов и помогать… спасать людей… Страшно, страшно!..» Какая драма, трагедия в нескольких словах!
«…каждая женщина может быть писательницей». Не думал никогда только о женщинах на этот счет — уверен вообще, что многие люди обладают даром писательства.
«…и неоткуда было взяться раскаянию, так как он считал себя высшим, непогрешимым существом…» Уж таких-то супчиков-голубчиков предостаточно.
Что деньги не дают счастья, Чехов говорит еще в гл. X. Истина это непререкаемая. А ведь деньги королевствуют ныне. Рубль был парусом девятнадцатого столетия, как писал Антон Павлович. Сейчас, к сожалению, рубль в квадрат возведен. Ну, для чего человеку светят звезды? Чтобы хрюкать по-свински у кормушек жизни — много ума не надо. И сердца — тоже. Фоткать младенцев среди пачек денежных купюр? Копить их? У гроба карманов нет.
«Во дворе было грязно даже летом…» «В трактире торговали <…> также водкой и пивом, распивочно и на вынос…» Мелочи, а со смыслом.
«Чайка». Дословно в пьесу не вошло, сходный мотив — в словах Треплева: «Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные». Типическое.
«Добрый человек, но уж очень того… надоел» (т. XIII Сочинений, стр. 267). Вы слышите, добрые человеки!
Cafê du ciel — «Небесное кафе» — парижские кафешантаны. «Седьмое небо» в Тюмени…
К. С. Станиславский в письме из Парижа (после 11 мая 1897 г., т. е. за несколько месяцев до приезда в Париж Чехова) так передавал свои впечатления от посещения кабачков на Монмартре «Le cabaret du nêant» и «Le ciel»: «черное траурное сукно, скелеты, гробы вместо столов, траурные свечи вместо электричества, прислуживают гробовщики. Полутемнота. Вас встречают возгласами: „Recevez les cadavres… О! Que зa pue!“ („Принимайте трупы… О, как смердят!“). Подают пиво следующей репликой: Empoisonnez-vous, c’est le crachat des phtisiques („Отравляйтесь, это плевки чахоточных“) и т. д. Вы переходите в „Ciel“: балаганно расписанные стены синей краской с белыми кругами; подобраны страшные рожи — мужчины и одеты ангелами с крыльями <…> Апостол Петр, в балаганном костюме, говорит проповедь и исповедует желающих, ангельская музыка и райские звуки, набранные из наиболее веселых опереток <…> Вот зрелища, которые больше всего оставили впечатлений во мне» (Станиславский, т. 7, стр. 104—105). Не могли они не произвести фурорного впечатления на гениально чувствующего Чехова.
«На днях в Байонне происходил бой коров. Пикадоры-испанцы сражались с коровами. Коровенки, сердитые и довольно ловкие, гонялись по арене за пикадорами, точно собаки. Публика неистовствовала». Последние только два слова услышу из уст одного юмориста на нашей эстраде, и вспыхивают как видения чеховские коровенки-собаки…
«Дядя Ваня» («Войницкий. Жарко, душно, а наш великий ученый в пальто, в калошах, с зонтиком и в перчатках»). Человек в футляре следовал за Чеховым по следам, как черный человек за Есениным.
Мысль о расхождении между словом и делом у определенной части интеллигенции высказана Петей Трофимовым («Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят „ты“…» — «Вишневый сад», д. II); «Невеста» (конец I гл.) — о Саше: «Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз». Хорошая ремарка, много таких у Саши Вампилова, когда вчитывался я глубинно в его пьесы.
В письме от 24 октября 1900 г. со ст. Яреськи Полтавской губернии бывший народный учитель А. П. Негеевич так обращался к Чехову: «Многоуважаемейший Антон Павлович!» Просил помочь ему проводить зимы в Ялте, чтобы лечить легкие. В следующем письме (начало не сохранилось) говорил: «Еще я Вас глубокоуважаемейший шкап Антон Павлович, покорнейше прошу посодействовать, чтобы доктор Альтшуллер принимал меня безмездно, хотя раз в месяц».
«Крыжовник»: «К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию». Какая глубина и — драма! Счастья без печали не бывает, читатели мои разлюбезные, она, что ни говорите, — явление русской национальности. И не случайно же когда-то Фридрих Ницше заявил: «Я бы обменял счастье всего Запада на русский лад быть печальным». Отчего ж с печалью оно, русское счастье? С древних времен грезили о нем и грезят. Что касательно ближнего века, то Х1Х-ый начинался в русской философии «Разговором о счастье» Николая Карамзина. И сказал он: «Быть счастливым… быть добрым». Так это, злые не бывают счастливы, в противном случае мы имеем рецидив мазохизма либо паранойи…
Чехов говорил: ««Послушайте же, Ибсен же не драматург!..» Он не любил Ибсена. Иногда он говорил: «Послушайте же, Ибсен не знает жизни. В жизни так не бывает» Зато о чеховском всем можно сказать: из жизни, с пылу-жару, горяченькое.
В пьесе «Вишневый сад», д. I, III, IV, слово «недотепа» часто повторяет Фирс. «Недотепой» называет Раневская Петю Трофимова. Словечко — бренд человека!
В письмах: В. М. Соболевскому от б января 1899 г. из Ялты: «Скучно <…> без московского звона, который я так люблю»; сестре — 15 июня 1903 г.: «Был я в Звенигороде, там очень хорошо, чудесный звон…", и О. Л. Книппер 1 и 4 декабря 1902 г. В «Воспоминаниях об А. П. Чехове» 3. Г. Морозовой: в 1903 г., после июня, «в Замоскворечьи зазвонили к вечерне.
Чехов сказал:
— Люблю церковный звон. Это всё, что у меня осталось от религии — не могу равнодушно слышать звон. Я вспоминаю свое детство, когда я с нянькой ходил к вечерне и заутрени». Звоны это вообще чудо жизни и без религии.
В «Вишневом саде», д. I («Гаев: „Шкаф сделан ровно сто лет тому назад <…> Можно было бы юбилей отпраздновать“»). Брендовый этот чеховский шкаф!
Чехов сообщал О. Л. Книппер 5 октября 1903 г.: «Был Л. Л. Толстой <…> сидел долго. Сначала я был с ним холоден, а потом стал добрее, стал говорить с ним искренно; он расчувствовался». Л. Л. Толстой 10 октября писал Чехову: «Свидание с вами было мне очень приятно, и я надеюсь, что оно не было неприятно вам. Жалко только, что осуждал людей потому, что в душе не желаю с другими ничего, кроме самых добрых отношений.
Я написал, чтобы вам выслали мою книгу о Швеции…» Жизнь, даже в таком небольшом клочке.
Л. Толстой противопоставлял шведских писательниц, в основе произведений которых лежит мысль о том, что «брак может и должен быть счастливым. Мужчина и женщина обязаны быть верными друг другу и любить друг друга, если не как муж жену, то как человек человека»… Как и Л. Л. Толстой, Лухманова обличала мужчин за «распущенность нравов» (стр. 4), в отличие от женщин, в которых не «убита инстинктивная потребность чистоты»: «…избави нас бог от равноправности пороков с мужчинами». Как много сказано в малом на гендерную тему!
.«На дне» Горького, акт IV, конец действия: Кривой Зоб и Бубнов поют: «Со-олнце всходит и захо-оди-ит… А-а в тюрьме моей темно-о!». Понял я, что это запись Чехова. Есть состояние в природе и в душе человеческой. Как в картинке нашего художника Володи Волкова — «Предгрозье», что висит у меня над диваном…
Запись, возможно, находится в какой-то связи со своеобразным участием в постановке «Вишневого сада» А. А. Стаховича. По замыслу дирекции театра, во время спектакля за сценой должна была лаять собака. Стахович прекрасно изобразил лай, записав его на граммофонную пластинку. 17 января 1904 г. он подарил Чехову свою фотографию с надписью: «От участника в постановке „Вишневого сада“ по мере сил и дарования». «К карточке приклеена картинка, изображающая собачку, лающую в граммофон» (Мария и Михаил Чеховы. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. М., 1937, стр. 50). Запись сделана Чеховым в декабре 4903 г. или январе 1904 г. А мне вспоминается экспедиция «Агролесопроект» в Саратове, где я начал работать после армии. Была одна инженерша. Выдающееся в ней было то, что сын ее работал на местном радио и телевидении звукорежиссером. Слушали мы вместе радиопьесу, и там, в настрой ситуации скрипела расторяемая ветром калитка. «Толя мой записывал!» — любовно говорила о сыне инженерша. Мы тоже виртуально любили Толю…
Письмо Чехова И. И. Орлову от 22 февраля 1899 г.: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр». Потрясающее обобщение.
«водил дружбу» с сыновьями Толстого, Сергеем и Ильей. Илья сочинял рассказы. «Помню, в беседах со мной он всегда проклинал свое происхождение от знаменитого отца, по его словам, отец, сам того не замечая, давит в них наследственную талантливость громадностью своего гения: рядом с ним они всегда с отчаянием убеждались в собственном ничтожестве. Сравнение с великим отцом убивало их энергию». Может быть, и есть в этом великая сермяжная правда. И может, мало ее, когда говорят, что у дарных отцов бездарные дети. Может дарные, но «задавленные»?
Рассказ Шамраева о трагике, который на сцене вместо «западню» сказал: «запендю». Так и просится: запендюрил! Трагически недоговорил трагик.
ЭТО ТОЖЕ ИЗ МОЕЙ ПРОЗЫ:
Романтика — гордое слово…
Рюкзак — родня рыбам. Он имеет свойство плодотворно полниться, становиться тугим, как икряная рыба, и так же, как она, путешествовать. Знаю, о чем говорю: с юности познал рюкзак.
Рюкзак — ноша для философского камня. Не знаю, как у кого начинаются литературные судьбы, а своей собственной я счастливо обязан записками с изысканий газопровода Игрим-Серов: «В поисках философского камня». Напечатала их 18 ноября 1964 года «Комсомольская правда», и попали они в книгу «Письма из Сибири». Был я тогда топографом с Волги. Все мы, итээровцы, приехали на Север экспедицией из одного города. Рабочие у нас также подобрались свои, волжане, мы — командированные, они — сосланные на Север по хрущевскому постановлению тунеядцы. Слово это назвалось сейчас — и прибой того времени шибанул вдруг мне в душу.
Что сказать сейчас о высылке тунеядцев на Север? Односложно если — очередная это глупость хрущевская. Две самые распространенные материи во Вселенной: водород и глупость. Харлан Элиссон. Но есть к этому добавка Фрэнка Заппа: Глупости во Вселенной больше, чем водорода, и хранится она дольше. Тунеядцы виноваты в своем образе жизни. Но они ведь — продукт Системы, и она более виновна в их бедах. И то еще надо учесть, что оскорблял Указ Правительства о тунеядцах не только коренное местное население, но и всех тех, кто в студеной Сибири свершал «подвиг века». А я по себе это знаю, а не из газет: и тонул в болотных зыбунах здесь, и простывал на семи ветрах, и голодал, переходя на подножный корм и выедая окрест палаток кочки с клюквой и кустики брусники.
Местное население недоумевало, как же это, мол, так, здесь дом родной наш, для себя живем мы и для Отчизны, вкалываем, не щадя живота своего, а нам сюда — тунеядцев, нате, мол, вам премию. Мы что, отхожее место, которое загрязняют присылкой сюда не нашедших себя в жизни людей? И пьянствуют тунеядцы, собак у нас в Игриме поели много. А бабы те, телки похотливые, титьки вывалят и совращают мужиков. И вновь будто бы вижу и слышу, как ерничает одна красивая стерва кошка драная, выголив свои прелести: ты щего, мол, нащальник, мне с этими приятностями горбатиться здесь не резон. Ты на ручечки мои глянь-ка, нащальничек, ими бы только яички твои перекатывать. И ведь не выдержал молодяга блядофонистого такого ее натиска и схватил трипак. Скандал в его семье был — до небес. Так вот связываться с телками. Где телки, там страсти чисто животные. В миниатюрном «Толковом словаре молодежного сленга», что я держу на столе у себя для справок по этим вопросам, много таких слов и понятий, что звучат у проституток, ночных бабочек (поэзии-то сколько!), то бишь, и сутенеров. По Интернету прочел одну реплику, и вмиг представилась воображению картина «группенсекса», зазвучали веселые слова разгоряченной самки самцам: «Шевелите поршнями, мальчики!» Из той же почти оперы чеховское: «А это, рекомендую, мать моих сукиных сынов» (из записной книжки).
ЭТО ИЗ ПРОЗЫ ПОДШЕФНОГО МОЕГО ДРУГА-СОКРОВЕННИКА БРАТА БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ ЮРИЯ БАБАСКИНА:
Итак, Шпицберген, который тебя поманил…
Саша, все, что я читал в начале 70-х о Шпицбергене в библиотеке грода Кадиевки (теперь Стаханов) — завораживало мое сердце. Это колдовское чувство, к моему удивлению, росло по мере того, как я, обычный преподаватель истории в одной из школ этого шахтерского городка, продолжал каждодневно ходить на работу, но с оптимизмом и тайной мечтой вышагивая один и тот же маршрут: дом-школа, школа-дом. Мне нравилась история и, казалось, она тоже нравится моим ребятам. Но Щпицберген уже превратился в символ загадочной, манящей к себе страны.
Донбасс, 2011.
Мишка Шатилов
Еще был в кресле президент Янукович, но пахло уже на Украине майданом позорной кровавой перессоркой страны, неньки ридной для миллионов русских людей даже в русско-говорящем Донбассе. Я рвался сюда к родне, к друзьям по Шпицбергену, с которыми поклялись не сбривать бороды, пока не встретимся вновь. А в моем родном Первомайске по-прежнему жил лучший друг детства Мишка Шатилов. В собственном доме жил, своими руками плотника сотворил добротные хоромы Мишка. Но остался на исходе жизни один — жена померла от рака год назад. Так и не родив ему желанного сына-наследника. А меня угнетала мысль: «Второй брак уже у друга и, похоже, не сложилось».
— Я не пойму, Юра, почему она отталкивала меня, — говорил он мне. Я же всю жизнь перед тем, как ложиться в постель, чистил зубы, зарплату отдавал, по-человечески к ней относился. А дом этот я на ее сына единокровного переписал, как она просила.
— А ты у ней что-нибудь просил?
— Только одного — роди, говорю, мне сына, моего кровного, наследника хотелось… И она все годы обещала, сволочь…
Тут мой друг тяжело задышал, в глазах его промелькнула безысходная боль. И ярость я увидел в них. А чуть успокоившись, Мишка тихо продолжил; «Юра, пойми, я жить не хочу. Зачем? Кому я нужен. Я хочу дом продать и машину новую купить…»
— И как вы решили с ним? — спросил я.
— Как? Никак. Я просил пасынка, пока я живой — не продавать дом. Помру — пожалуйста. Он сказал, что посмотрит, с женой посоветуется… Я раза три хотел повеситься. Вон видишь крюк на потолке, возле печки, — кивнул Мишка кверху, где чернело его коварное изобретение. — Под ним табуретка стояла, но я побоялся выбить ее из под ног, Юра. Ну вот забоялся и все…
Потом мы пили пиво, прикусывая рыбой. Конечно, я утешал друга, говорил, чтобы он эту дурь из головы выбросил, что мы еще найдем ему женщину, но Мишка, шамкая беззубым ртом и обсасывая кусочек тараньки, лишь обреченно махнул рукой: «Не стоит, Юра, поезд ушел».
Летом 2017 года я вновь приехал в Донбасс уже охваченный войной, и выйдя из такси, направился в частный сектор, к дому товарища — на Мира 21…
В моем Первомайске бандеровцев не было, они заняли позиции в соседней Попасной, это 11 км от нас..
Солнце палило так же безжалостно. как в детстве. Город был пустынным и частично разрушен. Но к удивлению моему, на площади перед университетом стоял рейсовый автобус Стаханов-Первомайск и человек пять вышли из него. Значит дюди в городе живут и, как выяснилось, потихоньку работал даже завод, что-то еще выпускал.
Мишкин дом я узнал сразу, хотя он был заколочен. Ворота изрядно заржавели и усохло абрикосовое дерево у крыльца. Я долго ходил по соседям. Спрашивая, где человек, который здесь жил. Дома соседей в большинстве тоже были безлюдными. Наконец, из одной калитки вышла пожилая женщина с палочкой. «Михаил Иванович? — спросила она, — Так он давно здесь не живет. А дом его продали родственники».
— А сам-то Михаил Иванович куда переехал? — нетерпеливо спросил я. — Где он сейчас? Понимаете, я приехал из Москвы, друг его, мы жили на одной улице и с детства дружили. Там внизу возле речки Луганки были наши дома. Я ищу его, специально приехал.
В женщине открылось ко мне нечто доверительно-теплое. Морщины у глаз маленько расправились.
— Я вас понимаю, — проговорила она, вздрогнув, — Вы, наверное, знаете, он начал сильно пить, каждый день покупал бутылку водки и баллон пива. Он почти ничего не ел, да и зубов у него не было, ни одного. А пенсия у него хорошая, шахтерская. Я ему говорила: «Михаил Иваныч, вставьте себе зубы, кушать вам надо… Погубите себя» А он: «Ладно — вставлю когда-нибудь на том свете». Бывало, валялся он прямо здесь на дороге, я поднимала его, домой вела. Ой. как жалко его, человек-то он хороший был…
Меня как чем-то ушибло.
— Почему был? — спросил я. — Скажите, где он сейчас.
— Повесился, — шепотом произнесла соседка и перекрестилась. — Конечно, Юрка с отчимом нехорошо поступил, жестоко и неправильно. Не заслужил такого обращения Михаил Иванович, царствие ему небесное.
Донбасс, лето 2017 г.
БАВЛЕНЫ. 10. 07. 2018 г.
P.S. На этом, Дон Кихот Ламанчский, то бишь Тюменский, я заканчиваю «нацвиркивать незазейливую свою песню», которую посвящаю твоей несравненной Нильсинее Яковлевне, жизненный подвиг ее, надо думать, зачтется и на земле грешной и далеко за облаками в твоем фантастическом городе на Солнце.
Как говаривали в старину: «Право, не знаю, чем отогреть душу ее, ведь пережиты такие потери…» Ты — мужчина, тебе легче устоять. Хотя в твои 80 — трудно…
Дочитываю «Сихоте-Алинь». А еще раньше на стр 163-ей блаженно открылся мне мой Шпицберген, где с 1973 по 1975 полярничал я, радуясь и тоскуя неимоверно. А ты возродил те времена своим талантом, и жена моя Светуля обернулась прекрасной белой медведицей. Спасибо, дружище! Иной же слюны может напустить, чем грешат середние начинающие писатели.
ГЕРАСИМОВУ: ВОТ ВСЕ, ВОЛОДЯ! С НОВЫМ ГОДОМ. ДЕРЗАЙ!
АЛЕКСАНДР МИЩЕНКО
Как служить Слову?
Ответ на этот вопрос «Как служить слову?» вызвучивался для меня двоичностью экспертов как «голос свыше» и глас новоявленного патриарха Кирилла во время его интронизации, транслировавшейся в прямом эфире. Манифестом звучало в моем сознании:
— Служение Слову — это тяжкий крест, несение которого требует полной самоотдачи и полного ему посвящения себя. Крест писателя — отречение от всего, что не есть служение Слову, готовности быть верным ему до конца. Нет и не может быть у вступившего на этот нелегкий путь ничего личного и частного. Он сам и вся его жизнь безотказно принадлежат Слову. Его сердце болит о народе.
Писательское служение является особым духовным подвигом. Его невозможно вести в одиночку или в ограниченном круге единомышленников. Надо единить всю полноту и многообразие дарований, присущих каждой человеческой личности, которая пришла в этот мир заявить о себе на фиесте жизни. Посему, сознавая свои недостоинства, с тем большим внутренним трепетом, воссаженные на престол писательства и пребывая в этих горних высях, мы выражаем надежду, что масса людская, не отрекаясь от биологического своего предназначения, будет следовать примеру лучших, прислушиваться к их мнению, что жизнь, которая умней нас, возьмет свое, что верх возьмут здоровые начала. Нам же остается внимать гениям, которыми мечены вехи веков, солнцу русской поэзии Пушкину, Толстому, Достоевскому, Гоголю, Шолохову и недавно ушедшему из жизни Солженицыну.
Писатель — хранитель внутреннего единства человека с самим собой и со всем человечеством.
Воспринимаем как знаковую мету времени, что писатель предназначенностью своей дерзновенный заступник народный и поборник того, что являет собой правду, или истинную глубоко научную, не спекулятивную мысль об общности «человеческого вещества» на планете и вселенской ее предназначенности в эволюции Мироздания, что пришло время Ноосфера.
Задача писателя не допускать возникания перерастания разномыслия в обществе в раскол нестроения и лжеучения. Писатель должен способствовать тому, чтобы каждая личность во всей ее неповторимости находила свое место в общем созидательно-творческом устремлении человеческого организма планеты в бесконечном своем эволюционном развитии. Материя единится взаиможертвенностью. Классик сказал: «И море и Гомер, все движется любовью». Перекликается с этим Дант: «Любовь, что движет солнце и светила». Реплика в сторону: у них «общая историческая судьба», как сказано было Президентом России. И нужно, чтобы человеческие разномыслия не ослабляли общих усилий по созиданию общего нашего дома под звездами. Наш лозунг: в главном — единство, во второстепенном — свобода! Во всем любовь!
Мир весь и сама природа есть мышление. Так именно созвучивался «неистовый Виссарион» с постулатами современной физики. «Сфера познаваемого есть почва, из которой возникает и образуется сознание», — заявлял он. «Гений не упреждает своего времени», — говорил великий критик о Пушкине. Да-да, он «угадывает» не всем видимые смыслы. Сближение с действительностью, звучало у него, — есть прямая причина мужественной зрелости литературы. Документность — вот флаг литературного бытия. Эта мысль Виссариона Белинского должна стать руководящим принципом литературной жизни в новом веке, когда мы пересекаем фронтир ноосферного мышления и бытия, когда служение писателя в литературе приобретает особое значение в той ситуации, которая возникла в мире на рубеже тысячелетий.
После образования независимых государств и ликвидации практически колониальных зависимостей (одни сомалийские пираты что вытворяют) на круглошаром пространстве исторической жизни человечества меняться стали мировое мышление, ментальность человечества. Жить надо по-новому.
НОВЫЕ ПОСТУЛАТЫ
Человек — гражданин своего государства и одновременно — гражданин планеты Земля. Такая дуальность единит разноречивые начала в нем самом. Ему приходится пересматривать свою старую мифологию: дом, корни, родина, почва, патриотизм и проч. и искать в старых понятиях новые смыслы.
Планетная культура, культура нашего общего дома под звездами — артефакт нового времени.
Термин космополитизм, конечно же, изжил себя. Две только генеалогичских линии возьмешь в ум, и ясно становится, что живем мы на планете в одном волновом доме. Я говорю о шотландских корнях Лермонтова и африканских — Пушкина. Новое содержание термина, отвечающее эпохе, — космолюдизм. Поразительно ясное видение этого явления — у Константина Кедрова:
Давно слились все страны города
В Единый град —
и им не разъединиться
Я за границей не был никогда
Поскольку я не знаю где граница.
Не то же ли у Бориса Гребенщикова? Объявлено было, что он выступит в штаб-квартире ООН. В анонсах распорядка дня ООН Гребенщиков представлен как Пурушоттама — таково духовное имя, данное ему учителем Шри Чинмоем, буквально означающее в переводе с санскрита «выходящий за пределы ограничений». Таков по сути любой космолюдин. Б.Г. даст концерт в качестве человека, способствующего сближению различных культур и взглядов.
Космолюдин — готовность быть безусловно свободным от себя самого, когда хомо сапиенс не сдерживает за фалды хомо криенса в нем. «Страна» в таком восприятии это Далевское — сторона: край, объем земель, местность, государство, естественно, часть света.
Как любить русскому родину в Доме под звездами? О могилках не забывать и помнить, что ты сын русского, что ты сын великой культуры.
Все мы на планете, живущие в одном космическом доме, — космолюдины. И «политизм» здесь остается за скобками нового, планетного мышления, гуманизма, то бишь, ХХ1 века. Глядя космолюдинно на мир, видим его как бы с гор, подобных ницшеанским, и открывается, что политика, эгоизм народов — где-то внизу, и космолюдин — это новые уши, новые глаза и новая совесть, чтобы услышать истины, прежде немотствующие, это новая высота души.
Уважение суверенитета независимых государств мира, самобытность их культур и верований в том числе, признание наднационального единства Земли как обители жизни, чему способствует и православие, — веление времени. Радение о благе каждого государства и благоденствии каждого человека — долг писателя, ибо его Слово — его кафедра, его амвон, с которого вещает он, проницает души людские, как проницает их святой отче в храме. И заботясь об этом своем престоле, писатель в то же время призван заботиться о сохранении, укреплении и умножении духовных связей между населяющими их народами во имя созидания новой системы духовных ценностей, которые являет собой единая, мировая культура человечества.
Слово писателя — стрела исцелительная в души людские. И особой заботой становится проповедь не эконом-социологических, а духовно-нравственных идеалов, применительно к реалиям современной жизни. Свидетельство об истине, красоте и добре, о добре и благе, о предназначении Человека в системе вселенских координат может быть принято и усвоено только тогда, когда люди ясно поймут значение этого для своей личной семейной и общественной жизни. Когда они научатся сопрягать вечные, божественные глаголы с реалиями повседневной жизни.
Соединить современное научное мировоззрение и общечеловеческую мораль с мыслями, чаяниями и надеждами людей означает помочь им ответить на сложнейшие мировоззренческие и этические вопросы, которые ставит перед нами всеми время. Когда мораль и знание станут понятными и реально востребованными, несмотря на всю множественность и противоречивость существующих в обществе взглядов и убеждений, тогда только человек может осознать и глубоко прочувствовать несомненную правоту и силу того послания, которое будто всевышний сам передает людям через Слово писателя, кафедральное его откровение. Не могут человеческая мысль и человеческое слово быть превыше вселенских законов. По ним живет «человеческое вещество». И если эта очевидная истина не становится очевидной для многих людей, для молодых в особенности, то означает сие только то, что нет порядка «в королевстве датском», что красота и убедительность божественных глаголов писателя омрачаются тем, что сегодня мы называем человеческим фактором, присущим человеку субъективизмом.
Свидетельства наши миру с амвона Слова предполагают не только проповедь идеалов общежительства на планете, но и открытый, доброжелательный и заинтересованный Д И А Л О Г, в котором обе стороны и ГОВОРЯТ и СЛУШАЮТ. Велико промыслил Беркли: «Существовать значит быть воспринимаемым». Через диалог истины становятся по меньшей мере понятными, ибо в ходе творческого содружества их, скажем так, происходит живое соприкосновение этих истин с мыслями и убеждениями людей. Обе стороны, писатель и читатель, обогащают себя через такой диалог знанием того, что представляет из себя современный человек с его образом жизни и с его вопрошанием сущего. Этот диалог способствует также большему взаимопониманию людей разных взглядов и убеждений, включая и убеждения религиозные, и содействует упрочению гражданского мира и согласия в наших обществах и государствах. В рамках доброжелательного диалога писателя и читателя и сотрудничества их на конституционной основе должны развиваться литература и креатура народная, то бишь, конституционное государство, служа плану литературы и государства. Служа благу народа, единству двувратного по природе своей человека с самим собой, единству человечества.
Молодежь — «сословие» особой заботы писателя, что совершено естественно: старые живут с посохом, молодые — со светом идеала. В эпоху нравственного нигилизма, когда пропаганда насилия и разврата похищает в первую очередь души молодых людей, они, погибающие эти души, вопиют, колокольно будя всепланетное сознание человечества: «Спасите наши души!». Перетечка мозгов происходит из одной страны в другую, а души теряем все мы, солидарное человечество планеты нашей. Христианизация — это водворение в души людские общечеловеческих ценностей, и кто как не писатели должны способствовать этому, умножать силы добра на Земле. В нужных делах единство, как говорят латиняне, в сомнительных свобода, во всех — терпимость. In necesariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.
Слово — дело писателя, и писатель обязан помогать людям обретать веру в себя, находить смысл жизни во вселенском своем предназначении, в осознании того, что есть подлинная человечность.
Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко.
Евангелие от Петра. (2:2)
Токмо такое слово потребно, чтоб колокольно оно зазвучало для человека, не дало впасть в сон его разуму и увидел бы иные он горизонты помимо «жизни мышьей беготни»…
Сплоченная и многодетная семья, солидарное общество — все это следствие того образа мысли и того образа жизни, который проистекает из искренней духовной дерзости молодых поколений. Наше писательское служение, имея одну с христианским направленность, имеет и один створ — заботиться о страждущих, о сиротах, об инвалидах, о престарелых, о заключенных, о бездомных, обо всех, кому мы можем помочь обрести надежду. Слово — наши хлебы им, страждущим и взыскующим. И в хижинах и во дворцах, в камерах тюремного затвора и в палатах Думских, в кабинах БЭТЭЭРов, восставших на защиту земли родной от агрессора, как это было в Цхинвале, и на продуваемых всеми ветрами площадках буровых. На Руси говорят: хлеб на стол, и стол престол. И такие престолы пусть цветут на Земле.
Глас писателя должен стать гласом униженных всех и оскорбленных, гласом плачущих и рыдающих, взыскующих справедливости. И сейчас мы вспоминаем священный завет первого и пятнадцатого Патриарха. «Доброе дело украшать и воздвигать церкви», — писал святитель патриарх Иов. Храмы духа, добавим мы. Но если в то же время человечество будет осквернять себя страстями, то в следующих поколениях может не стать ни человечества, ни церквей. Наш огнь Фаворский — Русь. Русь, давшая многих подвижников веры и благочестия. Русь, созидающая храмы в городах, весях и сердцах. Русь, сияющая всему миру правдой и любовью. Русь святая. Дай бог, чтобы эти вдохновенные слова святейшего патриарха Алексия Второго о Руси стали пророческими
Пусть звучат всепланетно святые слова апостола Павла: «Братья, усовершайтесь, утешайтесь». Будьте единомысленны, мирны, космолюдины. И бог любви и мира пребудет с вами. Аминь.
ОТ АВТОРА: Российский бизнесмен Юрий Мильнер, состояние которого Forbes оценил в $1 млрд, на личные средства учредил ежегодную премию по физике, размер которой почти втрое превышает Нобелевскую. «Хорошо, что успешные бизнесмены обращают внимание на фундаментальные науки, — считает Николай Кудрявцев, ректор МФТИ. — Крупная премия за выдающиеся результаты в области фундаментальной физики способна оказать мотивирующее влияние на сотни и тысячи ученых». Питает Автор надежду, что найдется еще олигарх-спонсор, который, последовав примеру Мильнера, учредит подобную премию и в области литературы. Нет иной у меня лично кандидатуры как Михаил Прохоров, миллиардер, состояние которого оценивается в 18 миллиардов, он третий в России по объему капитала, и 32 в мире по версии Форбс. Его это детище — «Ё-мобиль». Её-моё! Вижу блестящий этот ряд — премии: Нобелевская, Демидовская, Мильнеровская и Прохоровская. А Митрофановская, слабо? Ау, Михаил Прохоров, ваш ход, маэстро!
Ясно ведь, громадьяне: как служим Слову — так и живем. Хорошее — из хорошего слова, плохое — из плохого. Все из себя. Много чего почерпнул я, общаясь с Ермаком, как его иногда называли, соотнося с покорителем Сибири песенным Ермаком Тимофеевичем. Врезалась в память не одна золотинка из Ермаковых словесных россыпей. Эта, к примеру: люби бабу жаристей, щи будут наваристей. История-притча о мечтателе, что задумал построить лодку. Не хватило на нее упорства, сотворить надумал он табуретку. Но и на ту потребно умение. Не Табуреткин же он… Кончилось тем, что выдолбил из плашки липы деревянную ложку. Потом и другую такую же. Хорошо играл лошкарь. Это его было. Сказали люди о нем: мастер. Да-да, мастер в меру своих сил и способностей. В каждой избушке свои погремушки а в записнушке свои пунктики. Во времена позднего СССР бытовал анекдот, повествующий о том, как волк ходит по лесу и выкликает зверей. Зайцу он велит явиться в 14.00 к нему в качестве обеда и записывает в книжечку для памяти, лисе он велит явиться к нему для послеобеденных страстных наслаждений и тоже делает в книжечке отметку, сбой происходит, когда ежик отвечает ему: «А пошел ты к бую!», после чего волк чешет затылок и говорит: «Гм, придется вычеркнуть». А как это будет выглядеть у современного волка? Вопрос, конечно, интересный. Не преминул Иван занести в свою записнушку во время выборной кампании сказанное одни златоустом из либералов: «Я к проституции отношусь хорошо, но когда моя жена занимается ею — не нравится мне». Припечатал он невольно свою женушку хоть бы и виртуально. Этот и родную мать не пожалеет…
Немало рукописей, записных книжек перелистал я, собирая материалы к повести об Иване «Ермаково подаренье. Почерк у него — будто плугом вывернутые буквы. Такие же они и в письмах Виктора Петровича Астафьева, что видеть мне приходилось в подлинниках у его адресатов. Черноземные это писатели, и Ермаков, и Астафьев. Считаю таковым и Льва Николаевича Толстого. Из зарубежных к ним отношу я Фолкнера.
Взволнованно говорили об Иване Ермакове на вечере встречи все. Николай Ольков, по-моему, стал говорить о том, что есть мысль поставить в Казанке памятник Ермакову. Думаю, и Тюмень от такого бы не пострадала. Борис Евдокимович Щербина знал цену Ивану Михайловичу. Неуж нынешние правители области проштыкнутся с должной оценкой прекрасного русского писателя-воина?.. Замечательное слово держал мой литературный подшефный Олег Дребезгов. О бабушке Матрене такое услышали мы. Сидит она у крылечка дома родного, на одной ноге у ней — внучек, держит его левой рукой, качает, правой готовит сеченку для курей специальной рубилкой и поет: «А у коршуна жопа сморщена…» Опрокинула меня краткая речь Олегова в далекие те времена, когда ездили мы с ним вкупе с другими гомонливыми творческими людьми в Челюскинцы. Бездонности моего сознания взволнованы были на дне открытия «года Ермакова» памятью об общении с кудесником сибирского сказа Иваном Михайловичем Ермаковым, тех днях, когда я начинал свою повесть о нем. О хлебе, о страде и поле. О лете 1974 года. И возвращала теперь память меня в сквозистый березовый лес, в стройный жар полдня, к комьям подсохшей глины у свежей могилы Ивана Михайловича, к глухому звону лопат. Но вот литературная встреча, какую провели мы на родине писателя, в совхозе «Имени челюскинцев», в двух километрах от его села-роднули Михайловки. Будь на той встрече Ермак, он бы сказал: «О душе человека в первую голову думать нам надо. Вон как тянутся люди к нашему слову». Обжигали Ермаково сердце беды деревни, которую давили катком диктата циркулярные души с административным их зудом, со всякими укрупнениями, наклеиванием на деревни покойницкой этой бирки — «неперспективная». Усыхала тогда святая, как золотой каравай хлеба, родная его Михайловка. Как усыхали федотовские Гари, Большая Койнова братьев Чувашовых и тысячи других гнезд человеческой жизни. Боль за село, за отчую землю сжигала его, и это тоже одна из причин, что потеряли мы Ермакова в пятьдесят лет.
Выступили мы, литературно-музыкальная команда, в Челюскинцах на встрече с селянами. Помимо стиха Олега Дребезгова о тете Клаве, что «мир вехоткой чистит», звучали строфы русоголового поэта с нежной певучей душой и о дальней его родственнице бабушке Матрене, венчанной с болью неминучей, горючей слезой и поминальной песней.
У бабушки Матрены мы побывали днем, накануне литературного вечера. Домочек ее в деревеньке Михайловке стоит как раз напротив такого же небольшого и ладного, как груздок, домика с голубыми ставнями, в котором жил Ермаков.
С первого взгляда и в голову не ударит, что бабушка Матрена почти незряча. Глаза у нее большие, выпуклые и будто напитаны солнцем.
Она смиренно опустила руки на колени и рассказывает о своем соседе-писателе:
— Када оны прибыли сюда, оны тут родилися. Потом оны уезжали в Петропавловск. Оны жили там, а потом, када отца в войну вбили, оны сюда возвернулись. Жердяночку вон там сделали себе. Жердянку спроворили, значит, вымазали. И с улицы, и оттыдва, с туей стороны, ага. Ну, жили в ей. Жили так и жили. Ну, он-то Иван маленечко ободрел, работать стал, ага. И здесь жил, жанился. Жили оны бедно. Ну, коровенку держали, свиненку. Потом Иван стал ходить на ферму к нам. Я доила, ага, он шутит нам поплетушки всякие. Просит спеть песню «Скакал казак через долину». Ну, мы ету спели ему. Вдругорядь еще одну — «Не губи меня». И энту, как ее? Ой, тятенька, а где, скажи, мамонька. Наша мамонька в новой горенке. Белится и румянится, в светлое платье снаряжается. Начиналось же, как ревнивый муж вел жену топить. Блудная была, видно такое либералу, вишь, не нравилось, и порешил он ее. Детки поняли все и заголосили: «Встань наша мамонька родная! Из зеленого садику, из дубового гробику». Поем мы. А у Ивана слезки выкатываются, уревелся сердешный — таку мы ему жаль придали. Позабыла, как скраю мы припевали, а Иван тут в подпевках был. Стара уже, ума нет. Спели мы, значит. Он все писал, шутил нам, ага. Ну, потом спрашивает. Как вот вы какурузу на силос косите? Так и косим, возим сами на быку, на быку возим. Людей нету-ка, всех побили на войне, ага. И силосуете сами? Сами. А зимой как? В крик и рев в морозы доходило, трубим-голосим да возим и коров кормим. Кормим да и все, ага. Ну, вот он все писал, писал да писал и разные словца среди нас в свои книжки цеплял. Веселый всегда. Как солдат в туей сказке…
Для солдата Ермакова «туей сказкой» жестокой стала Великая Отечественная война.
Спустя много лет после войны Иван Михайлович написал по случаю:
«…Он лежал у меня в уголке вещмешка, разъединственный мой сухарь из НЗ, из солдатского неприкосновенного запаса.
Помню, рыженький-рыженький был… Табачинки, помню, на нем.
Я был голоден много часов, помню, сьел его неразмоченным.
А наутро была контратака врага.
И я высек наутро оружием моим синюю искру из подвзошно нацеленной вражеской стали, и приподнял чуть-чуть на штыке от земли я врага моего и одолел».
Сколько ж боли вбирали в себя раскаленные, как жаркая кузнечная поковка, слова Ивана Михайловича, когда писал он о восемнадцатилетних бойцах-сибиряках: «Сержанты лишь до полудня звались сержантами. После полудня те немногие, кто не стал еще мертвым телом, звались уже пленными. По фляжке воды на войне не успели выпить…» Золотых высот древнерусского эпоса достигало его Слово о них: «…За тремя рядами колючей проволоки, за собачьими кликами, за голодными студеными лесами восходит кровавое русское солнышко. По утрам, случалось, видели они его. Там Родина. Снились радуги. Далеки, далеки, высоки и чисты безмятежные радуги детства. Отпылали они, откудесили… Вне закона, вне Родины. Безымянная серая нежить с номером на груди…» А сколько их, пахарей сибирских, бесценными зернами нашей Победы пали под огненный лемех войны…
Один из сибирских его боевых друзей байкалец из Больших Котов Алеша-Добрыныч, как его звали, с соломенно-золотистыми вихрами, умирал на глазах Ермакова. Он приподнял голову на мгновение (хоть на полмолодца — да превыше беды) и прошептал воспаленными, в сукровице губами, принимая смерть праведную: «Хочу побыть птицею, Ваня, пролететь над Россией и покружить на прощание над скобою лунною Байкала-моря, над родным селением». Трудно выдавливал он из себя слова, и острый, как соловушкин клюв, кадык дергался вдоль горла умирающего Алеши Добрыныча. Был он плотником по мирным своим делам и слушал, быть может, сознанием, как ударяют весело топоры, перестуки-стуки их льются, как щепа брызжет, дерево поет — перезвяки-звяки-звяки. А сок пырскнет из комелька, и зажигается белая радуга… Так мечтал солдат снова плотничать после войны, дома строить крестовые, терема. «Пушка — дура, на войне голосит, — говорил он, — а топор, что звон птичий, никогда на земле не смолкнет, топор топора родит». Вместе в атаку бросились с Ермаковым они, и знал Иван Михайлович, когда, ставши писателем, напутствовал земляка-новобранца на проводах в армию: «На смерть идут, сынок, — „ура“ плачет. На глазах у меня случилось, что рванул на груди гимнастерку товарищ перед мчавшимся на него „тигром“, и пуговки только брызнули. Кинулся он потом к танку. Гранате перед взрывом кольцо надо выдернуть, а русскому — душу от пуговок освободить…» Это за него, за Алешу Добрыныча и всех павших бухал неистово в колокол взводный из «сибирской роты» Иван Ермаков. Случилось такое событие в победный май сорок пятого. Часть его стояла под Кенигсбергем где-то. А рядом была церковка. Поминал Иван друзей, и так горько на душе у него стало, что, отставив в сторону опорожненную чарку, ринулся он на колокольню и грохнул в колокол, и зарыдал над тихим городком проснувшийся от огня Ермаковой крови колокол. Заполошно, с подголосками гудел колокол, и казалось Ивану, что несутся это над Россией голоса всемилых его друзей и товарищей, брата его и отца, которые тоже головы сложили в боях с фашистами.
И много лет теперь кричал он с подголосками заполошной своей душой. Неистово бухал в колокол Князь Сибирский за павших, сомкнувших свинцовые тяжкие веки свои. И набрунивался лоб его с семью осколками, просинью видневшимися через кожу. Выстукивало сердце Ермака молоточками: «А я люблю товарищей своих!» (Словами, может, не знаемой им Беллы Ахмадулиной). Жили они в сказах его, честные сибирские пахари, рухнувшие под огненный лемех войны между Черным морем и Северным, между Волгой-рекой и речкою Шпрее. О них это у Расула Гамзатова:
Кто нас, убитых, омоет водой?
Кто нас, забытых, покроет землей…
Бухал теперь в колокол Ермак, возвращая души товарищей боевых в праздничную осеннюю пору, к тихим блескам ее, к затемненным сизой крепью лесам сибирским и пашням, где сверкал пером грач, тоненько искрила паутинка, ярой медью сгорал неотболелый еще березовый лист, тускнел черными бликами отглаженный зеркалом лемеха пашенный пласт — даже стерня лучики испускала. Взыскующе глядел он на эту нивку и вопрошал черные зяби и рыжие жнитва: «Не тебя ли, Поле, они пахали? Отзовись жаркими капельками пота, втаявшими в твою истомленную черную ненасыть! Затепли их тихими свечками!». «А ты, светлый Лес? — изливалась Ермакова душа. — Неужто забыл?! Ты поил их сладким и чистым, как соловьиные слезки, березовым соком? Не твои ли сторожкие иволги озвонили первотропки босые их? Не отряхивали ли хохотуньи-кукушки волглые, росные крылышки над нерасцветшими подсолнышками их голов?». «А ты, Деревенька-баюшка, локтями которую можно перемерить! — вздымало грудь Ермака поминальной болью. — Не светилась ли ты золотинкой сыну своему, солдату сибирскому в самые трудные дни тяжкой и многокровной войны, когда изнемогали тело и душа его? Не полыхали в лихорадочном беспамятстве ли перед взором его высокие и безмятежные радуги детства? Не ему ли, не чаявшему увидеть тебя, клятвенно приходили слова: «Целовал бы и ел траву твою — подорожник… Колышком бы встал в твою поскотину… Зернышком бы пал под лапки твоих голубей…» И к небу взывал Ермак: «Господи, помоги мне найти такие слова, что б духмяные были они, как цветы, сверкали бы, как ордена на груди русского солдата!»
А над светлыми русичами плыл и плыл звон. Онемели они, слеглись, как штыки в горнила на полшара земного. Скрестили свои рученьки и подслушивали, как плывет-гудит над ними жизнь их Первозданной Спасенной России. Исходили они подзнаменным духом, который колышет ратные наши стяги в гордый и щемительный, неисцветаемый майский день, когда заселяют грудь соколы и орлы медногласные и непрошенную слезу выбивает: слеза — тварь, ей только дорожку наметить. Земля вся гудела…
Заштатный маленький городишко, естественно, всполошился. Ермакова сняли с колокольни и повели на гауптвахту, но в душе у него звучал благовест… Ныне Иван — с ними, с незабвенными боевыми друзьями. «Война добила сыночка, — сокрушенно говорила мне мама его Анна Михайловна. — Легла головушка рано. Дошел осколок до сердца». Семь осколков попало в голову Ивану Михайловичу, изморщили, взбугрили они его лоб и просинью виднелись некоторые через кожу. Почитаемая мной бабуля с ярким русским характером и ярким же народным словом, которое воспринял от нее и сын, Анна Михайлова считала по простодушию, что один осколок роковым оказался. Может, и права она была в святой своей наивности: и войне заплатил Иван Михайлович плату непрожитыми годами и книгами ненаписанными. Все ермаковские книжки перечитал я вновь, готовясь писать о нем, поперебирал каждое словечко в сотнях музейных ныне газет, в рукописях. И самое нежное и сокровенное в душе Ивана Михайловича стало мне открываться, когда проживал я сердцем страницы его о сирых солдатских Аленушках, которым жизнь устроила жестокое испытание землей. Всеми пахотными меридианами навалились обезмужиченные ее гектары на тоненькие, незакрепшие молодые хребтики, на мяконькие хрящи подростков. И девчонки-неслетышки, как и парнишонки, мелькая подсолнухами голов в пшеницах, выдирали осот из них и в десять девчоночьих лет обзаводились палочками-трудоднями не мороженками эскимо, гребли сено, пасли телят. С хворостинками… Босые ножки в росе… Сами песенки сочиняли пичуги малые, плакали, выстанывали заклинания Аленушки в колочках, думали, одни травы слышат их да березки, птенцы-кукушатки:
Я не знаю, где убит,
Я не знаю, где зарыт —
Только знаю, что за Родину
Мой папочка погиб.
Аленушкина душа у ермаковской России, и потому восклицал он: «Память, память моя!.. Женственные заснеженные деревеньки… Лежат сыны ваши под белыми-белыми обелисками. Они цвета материнского молока».
Говорил мне когда-то Иван Михайлович, вспоминая звонкополье родной сторонки, отчую деревеньку Михайловку под крутогривой радугой:
— Веришь ли, Санек, но я сразу, за километр признаю доярочку. Увижу на дороге женщину в матерчатой плотно повязанной шали, резиновых сапогах и фуфайке, полысевшем от частых стирок халате — она, значит.
Сотни доярок населяют глухие сибирские деревеньки сказовой его страны. С ними вместе, вызнавая доярочью жизнь, торопился писатель к приземистым фермам с подслеповатыми оконцами, где волноваться начинали и жалобиться, если задерживались их поилицы и кормилицы, многочисленные Пеструшки и Милки, Домнушки и Жданки, Апрельки и Майки, Зорьки и Вербы. Богу только и ведомо, какими узами связаны бывают доярки с «сестрами меньшими» — буренками. Нянями часто зовут в Сибири доярок, и одна из этих женщин с румянцем неотцветшим, в той самой норме, когда русскую бабоньку «ягодкой» называют и не избыла она еще жара любви и ласки, призналась однажды писателю: «Некоторых моих коров нет, а я их в обличье помню, как детей своих, снятся они мне». Другая, с истянутой кожей — скулы наружу и глаза, как у великомученицы, рассказала: «Самая ласковая Леснушка моя обеззубела, а я так сроднилась и свыклась с ней, что хоть на мясокомбинат под один обух с ней». Третья, стеснительная до смущения, с глазами, опушенными мохнушками больших ресниц, поведала: «Синенький скромный платочек приспособилась я под коровой петь. Она разнежится, осоловеет, вымя расслабит, уши повянут, глаза истомленные сделаются — хоть целуй ее в такую минуту». Так это «вымя» впечатлило меня в истории, что явилась мне в Гайдпарке, а сообщения по его линии получаю я каждодневно, что и читателю не грех ее предложить. Тем более, что трогательная она, как и писанное выше о доярке из сказовой страны Князя сибирского Ермака. Он бы тоже принял близко к сердцу этот рассказец. Крестьянский, о приимчивой русской душе и спутнице нашей людской жизни из тех, кого зовем мы братьями нашими меньшими, которых «не бил по голове» всегда волнующий мой кровоток Сергей Есенин…
Сага о слове
Слово есть событие в области мысли.
В. А. Жуковский
Слово — вспышка света во тьме мироздания, молнийно оно может осветить жизненные пространства. Каждое слово — микророман. Слова роятся, лучатся светом, рождаются, живут, умирают, но и умерев, если не выпала им судьба восстать из пепла, остаются светом, как умершие звезды, испустивши в вечность свой световой поток. Зажегся вот я как Автор словом «проштыкнулся», которое умерло вроде бы в нашей жизни, а два века назад оно могло означать содержанием своим грань трагедии. Если ты проштыкнулся в рукопашном бою, это может стоить тебе жизни: тогда она на штыке врага… А юнчик, что почерпнул из лексики Х века, прелесть же словцо это, означающее малютку, младенчика.
У слова свои метаморфозы. Одно понятие западает человеку в память, второе, третье, с одним смысловым оттенком, с другим. Слово окатывается на язычке, объемнее оно видится. Объемнее и сочнее тогда становится мир. Одно слово вспыхивает афоризмом, другое, бывает, таит в себе характерное воспоминание, эпизод, рассказ целый, повесть, романный зародыш.
Культуре, отрицающей слово, можно только сострадать, и это беда не только литературы, но и вообще современного искусства. Ошеломительно было Автору читать в Интернете о том, что произошло на его родной воронежской земле. На Третьем международном Платоновском фестивале разгорелся скандал. Почти половина зрителей в середине первого акта покинула спектакль таллинского театра №099 «Педагогическая поэма» по мотивам произведений Антона Макаренко и Константина Станиславского. Горожане возмутились обилием мата, переводившегося на русский язык в субтитрах, и обнажением актеров. Они изображали однополую любовь, а один даже снял трусы. Началось же позорное театральное действо с изображения на сцене хоккейной площадки, на которой стоял гроб. Потом вышли босиком 16 прибалтийских юношей и девиц нежного возраста. А к ним из гроба поднялась слегка престарелая мадам, потребовавшая сигаретки. Минут десять они ее укуривали с четырех рук, а мадам кривлялась и жеманилась. Однако, покурив, всех построила и заставила долго-долго мыть сцену. Мыли они ее творчески, то демонстрируя публике свои зады в обтягивающих лосинах, то позволяя заглянуть за линию корсажа, где у некоторых девиц побалтывались упругие перси. Иногда, возбудившись при виде ведра или тряпки, начинали тереться друг о друга нижней частью живота (так трутся нерестующие рыбы). А слегка престарелая дама ходила между юной порослью граждан Евросоюза и то заставляла всех строем маршировать а ля гитлерюгенд, то похохатывала в духе русской классики, то фальшиво-драматически восклицала: «Не верю!» А. Н. Толстой писал некогда о том, что перед войной происходило «бурное гниение литературного языка», что на этом «дымящемся навозе» возникали разные литературные секты вплоть до «ничевоков». Новой мировой войны сейчас не предвидится, но словесный навоз опять задымился. Политики не владеют словом, на тучные пастбища сорняков саранчой ринулись пересмешники. Писатели пошли с прибабахами всевозможными. А какой радиоразбой творят ковбои рекламы в одной только богоспасаемой нашей Тюмени! На сцену жизни рвутся ниспровергатели (еще Пушкин понял: «глупцы с благоговением слушают человека, который все бранит, и думают: то-то умник!»), авангардисты разные, метаметафористы (спецы по ходкам за пределы смысла). В поэзии полился «дождец, … из сердец». Объявился у нас некий стихотворец, который, не стесняясь первоклашек, рифмует со сцены «буй» с трехбуквенным матерным словом. «Вести. Москва», Автор Анастасия Саховская: «Послали на три буквы, а оказались в суде: одной из самых обсуждаемых новостей в Москве стало увольнение работника с письменной фиксацией в трудовой известного емкого адреса, заверенного печатью и подписью генерального директора. Именно туда, по его мнению, должен отправиться Николай Каковкин». Недоумеваю: как он угнездится на такой малой площади и чего же там будет делать? Обозревать, как сыч, окрестности или петь: «Сидел ворон на бую»? А другое: ситуация с записью в трудовой книжке москвича просто анекдотична. Прямо по этому отзыву в Интернете: «Все вышло как в старом анекдоте про воспитательницу из детского сада, отучавшую малышей материться: «А теперь, ребята, хором повторим слова, которые нельзя произносить». Нынче это называется эпатаж. Разлимоновались до предела словотворцы.
Самая главная беда наша: русский язык безнадежно болен, будто эпидемия охватила литературу, сохнет и каменеет безмыслое слово. Что есть современная лирическая поэзия? Немножко скуки и меланхолии, немножко влечений любовных — готов стих! Раскрыл сборник статей Толстого. «Народ идет путем истинного искусства, — пишет он, — экономия материала, обращение со словом, как с вещью, а не как с понятием о вещи — т. е. образность, точность, динамика синтаксиса и пр.». Словом, то, что делает народный язык алмазным.
Слово — хранитель всех наших культурных богатств. В нем сгущается бытие, разумное и неразумное, физиология, страсти, мысль, жизнь, в общем. Слова — тени предметов, предметные тени. Это плод восприятия предметов, плод мышления. Номинальные понятия есть огрубление, упрощение реальности, как это понимал В. И. Ленин. Слово имеет историю многовековой окатки своей, оно — валун, помнящий гору, ширь равнины и льды. О слове можно сказать, как сказал О. Уайльд о человеке, что он — тайна, последняя из всех тайн, можно взвесить солнце, познать ход луны, но не познать себя, слова. Слово — житель отчизны, имя которой личность. Не случайно же заключил Чеслав Милош: «Не оценивай слов, покуда из картотеки не поступит сообщение, кто их употребляет». Слово субъективно, как субъективен и человек каждый. Сколько людей на белом свете, столько у каждого слова смыслов, оттенков, обертонов. У нас же кругом засилье безжизненных пластмассовых слов, нудятины, пустоты. И когда б нужно писать простыми русскими словами, мы городим всякую пластмассовую бредятину. Но вот без нее, и то имеет какой-то хоть смысл. Весело хоть становится на душе. Манюня Хнуш предлагает перевести пословицы и поговорки с научного языка на обычный. Например, «дуалистический принцип использования сельскохозяйственных орудий на гидроповерхности» — Вилами по воде.
Колокол гласности и Кузнецов
О России, о русском языке, о русской культуре говорили мы в крохотном кабинетике руководителя областной организации Союза журналистов Владимира Кузнецова. Добрыня Никитич на ниве русского языка, так я означил бренд товарища моего.
Принес я ему том «Самотлорского Спартака». Он листает его, осязая, чувствуется, его вес, и внимательно взглядывает на меня своими серо-зелеными русскими глазами, будто открывая вновь для себя человека. И немудрено: держит в руках словесный продукт, что тянет почти на три килограмма. Мы накануне встречались в его обители в областной Думе, и ушел я от Кузнецова с подарочными брусочками книги «Дар веков сберечь…» (Русский язык на страницах парламентской газеты) и книжкой его дочери Натальи «Русская речь в интернет-форуме»
Глубинно открылся мне в этот час мой товарищ. Знал я, конечно, об активной его деятельности на посту «бугра» региональной журналистики, но мало как-то связывал с тем, что все это питается энергией такого энтузиаста русского языка, какой сидел теперь передо мной в своем кабинетике.
За чаем и завязался наш разговор.
— Как твоя «Парламентская газета» стала звонарем русского языка? — спрашиваю его.
Он деловито-спокойно рассказывает:
— Завели мы на страницах газеты полосу «Кафедра», задружив с филологами нашего университета, где работает и моя дочь. Провели в Союзе журналистов конкурс корректоров, ряд семинаров. Сказалось это, за полтора года качество районных газет резко улучшилось. Организовали две международных конференции по русскому зыку, в которую вовлеклись Университет, Дума, председатель ее Сергей Корепанов, Союз журналистов России во главе с Всеволодом Богдановым. Французский консул из Екатеринбурга принял участие. Тот еще он оказался агитатор за нашу словесность. Кончал же филфак ЛГУ имени Жданова в Ленинграде. Русский язык — это ж единственное, что связывает Россию в единое национальное целое. Истинно, «родство по слову создает народ» (Александр Городницкий). Из школьных сочинений:
Проблема языка — это проблема всех гражданинов России;
Нужно сохранять язык, ведь у всех сейчас распущены языки;
В русском языке много слов из английского и других сомнительных источников;
Он употреблял такие нецензурные слова, которых даже мама моя не знает.
По экономике ж автономности. Уральская там республика, Дальневосточная и прочее. Дмитрий Медведев в первый же свой год своего президентства за русский язык стал ратовать. Получилось, что он как бы услышал наши заботы и хлопоты об этом. Тут же не показной, митинговый патриотизм, не кухонные там разговоры, а конкретная созидательная работа на своих уровнях. Это как в армии или на войне. У солдата свои задачи в окопе, в роте они другие, в батальоне — третьи. Не поветрию мы следовали, а нужде, чтобы не превратился русский язык в албанский, как язвят на этот счет в Интернете. Вот заявил по поводу интервью Познера у Медведева генеральный директор IRP Group Булат Столяров: «Простите, но вне зависимости, до и вместо обсуждения любого контента следует признать, что Медведев, пришедший в прямой эфир отвечать не на заранее присланные вопросы, — это несколько меняющий ландшафт фактор. Есть в этом заметный шанс на правильный рефрешинг». Что это, правильный рефрешинг? По-каковски? Ясно, что не по-русски. А это ведь так важно уметь говорить правильно генеральным директорам разным и не генеральным, политикам и бизнесменам, предствителям всех властных структур. И очень понимаю я, что приход Владимира Кузнецова в Думу стал фактором, уже «несколько меняющим ландшафт» в ней. Вот провели в Тюмени по инициативам Кузнецова, естественно, семинар «Русский язык и культура речи в работе депутатов Тюменской областной Думы». Пришли депутаты, их помощники, все желающие. Разбирали «Приветствия в обществе», «Деловую этику» и прочее. Всем собравшимся приходится так или иначе готовить письма, всякие деловые документы, и важно было уяснить, как писать наименования фирм, учреждений, где потребны строчные буквы, где прописные и т. д. Много еще разного разобрали на семинаре, который собравшиеся сочли весьма полезным. Наталья моя в восемнадцать лет определилась со своей судьбой, когда были в фаворе экономисты и юристы. Сейчас их перепроизводство. Дочка ж тогда говорила, что завтра, мол, папа, России понадобятся люди, которые любят и знают русский язык и русскую культуру. Это просто замечательно, что лингвисты ТГУ озабочены состоянием русского языка и русской культуры в стране. Вот провели они научно-практическую конференцию. Мне лично понравилось едкое выступление Татьяны Суриковой из родного моего МГУ. Как сообщили в СМИ в отчете с конференции, эта исследовательница интеллигентно, но весьма болезненно «ужалила» современных чиновников. Начала она вроде бы даже сочувственно, с того, что в русском языке значение слова «чиновник» определяется как «госслужащий», соответствуют ему, однако, синонимы лишь негативной окраски (бюрократ, чино-драл, чинуша, канцелярская крыса, чернильная душа, крапивное семя). Неспроста это, конечно. Та же газета «Аргументы и факты» сообщает, что согласно опросу через SMS-голосование, наибольшее раздражение у граждан вызывают чиновники (1489 чел.), далее следуют олигархи (228 чел.) и представители оппозиции (127 чел.) В рейтинг «народной нелюбви» попали и представители шоу-бизнеса (и поделом), сотрудники правоохранительных органов (это весьма и весьма устойчиво), врачи и телевизионщики. Что о шоу-бизнесе, то интересен на этот счет эмоциональный выплеск Филиппа Киркорова. Пребывая в Болгарии, он заявил в интервью на вопрос, есть ли у него дома друзья: «Ну, нет у меня таких близких в России… Кругом одни жабы». Да-да, если верить интернет-шутнице Елене, миром правят хрен и жаба. Первый всё знает, вторая всех душит! Из комментариев в Сети на заявление Киркорова знаковым считаю мнение Валентино Иванова: «В самую точку Филя сказал… все жабы… весь шоу бизнес тухлое болото. Что касается меня, то у меня почему-то возникает стойкое отвращение к нашему шоу-бизнесу… (за редким исключением). Все протухли и все типа звезды. К ним отвращение растет в России у всех. Скоро они перестанут грести бабки и Бабкина — тоже за концерты, потому что никто на них ходить уже не будет и им неначто будет строить и покупать за границей дома».
Личное мое насчет настроя Фили Киркорова. Он в мрачные минуты видит вокруг себя жаб, которые его раздражают. Мой объект раздражения тоже «жужжит». Маялся когда я с поисками денег на издание «Самотлорского Спартака» в пилотном варианте, вспыхивало в сознании моем горечное: «Кругом жлобы!» Сдается мне, что об одном мы с Филей-то говорили. Жабы его кто? Тех, кого жаба давит. А так оно и есть в жестоком мире чистогана в шоу-бизнесе. Масса скандалов в нем, о каких обществу становится известно, об этом, о жажде наживы, погоне за бабками и баблом…
Сейчас же подчеркну одно в заключение: на вершине пирамиды «народной нелюбви» — чи-нов-ники! Осерчав на них, Сурикова едко заметила в конце своего доклада:
— Пренебрежение приличиями вкупе с некоторой эстетической недоразвитостью порождает номенклатурные наименования типа МУДО, МУДЕЗ, ГБСРАН, ССУ, ГАМНО (не подумайте ничего плохого: последнее, например, — это государственная автономная муниципальная некоммерческая организация, предпоследняя — сметно-строительное управление). А вот работать в МУДО — муниципальном учреждении дополнительного образования (в переводе на русский — художественной или музыкальной школе) будут не учителя музыки или рисования, а педобразы — педагоги дополнительного образования.
Такое вот гамно и мудо с мудезом на ниве педобразов (хорошо, что не педофилов, для которых давно бы надо изобрести смирительные трусы), скажу тут как Автор, развивается в чиновничьей среде. В шоу-бизнесе, в общем, жабы, в чиновничестве — гамно да мудо…
О языке нашем если вести речь, то он ж перемелет, пережует все влияния на нее. Пережила ж русская мова не одну языковую интервенцию, нашествия. Французское то же. В «Войне и мире» Толстого сплошь да рядом французский язык. А шведское, голландское, немецкое влияния. Флот тут, войны. Тюркское, татаро-монгольское иго возьми. Сегодня — англицизация, термины разные. Убийца — киллер и прочее. Но устоялось же. Что-то прижилось, что-то отпало. Идет самоочищение языка. Это как с рекой. Возьми Туру нашу. В Свердловской области в истоках ее масса заводов, грязные сбросы от них. Потом Перестройка, заводы повставали, и грязная до того Тура стала намного чище. Река вообще имеет свойство самоочищаться. Так и язык.
«Плачу Ярославны» о гибели русской культуры по поводу и без повода мы на месте противопоставили конкретную работу. Я лично решил делать это на своем уровне. Помнишь, как в свое время СССР страдал за детей Кубы, Анголы и других стран, помогали им. Надо ж, не страдая глобализмом, решать ныне российские наши проблемы, помогать собственной культуре.
С тюменцев пошла цепная реакция. Нижегородские журналисты провели конкурс корректоров. Около миллиона рублей собрали там на колокол для звонницы кафедрального собора на стрелке Волги. Отлили его и поставили. У нас журналисты вовлечены теперь в движение «Православие и СМИ». Мы тоже собрали деньги на колокол для Абалакского монастыря. Для этого понадобилось заменить на колокольне старые балки и поставить новые. Владыка Дмитрий освятил колокол Слышно его за десятки верст. Звенит медь наша по всей Сибири. Колоколом гласности назвали мы его.
Вдоль стен Абалакского монастыря посадили журналисты аллею кедров. На фестивалях подсаживаем новые деревца. Вырастут они не скоро. Это шаг в вечность. Для храма в честь Нестора-летописца, что писал «Повесть временных лет», заказали мы мозаичную икону из драгоценных уральских камней. Нестор — покровитель наш, первый русский репортер, и мы его чтим. В городе Каменск-Уральске нашли мастера.
Владимир Сергеевич касается рукой моего тома и говорит:
— Вижу, что печатали твою книгу там.
— Она тоже — колокол. Словесный.
— Ну, еще что. Вовлеклись мы, журналисты вместе с архивистами, церковниками в поиски оригинала иконы Абалакской божьей матери. До Австралии уже дошли с ними.
В этом году состоится фестиваль, посвященный «Славянским дням Кирилла и Мефодия». Сам бог повелел нам заниматься добрым этим делом. Ассоциацию молодых журналистов создали. Энергично действувет Совет ветеранов во главе с Людмилой Попович. Будем разбивать сквер журналистов в новом районе города. Стелы там будут журналистам-фронтовикам, легендам тюменской журналистики.
— Куем пока горячо, — говорю я Кузнецову.
Он, улыбнувшись вместо ответа, продолжает о филологах Университета, о дочери своей Наталье.
— Озаботились там на кафедре исследовать, как изменился русский язык со времен демидовских первопоселенцев, казаков Ермака.
— Кровоточащая проблема — русский язык, Володя, — замечаю я.
— Будем лечить, без крови чтоб было. Есть у меня и у нас вообще единодельцы, единоверцы по этой линии. Опять же Закон бумеранга: добрые дела делаешь, добром они оборачиваются. Ничто не бесследно, ни слово, ни мысль. Дума, Корепанов Сергей Евгеньевич нас поддерживают, губернатор Владимир Владимирович Якушев. Недешево ж это обходится для бюджета, дела затратные.
530 журналистов у нас в Союзе на Юге области. Два Дома журналистов есть, в Тюмени и Тобольске, планируем открыть таковой и в Ишиме. Совет ветеранов журналистики активничает, Ассоциация молодых журналистов.
— Общаетесь, значит, конструктивно и с отдачей?
— Вспомнишь тут Антуана де Сент-Экзюпери о том, что общение человеческое — высшая роскошь. Был я, кстати, в Париже. Так там в пантеоне есть стена, олицетворяющая могилу его. Погиб же он в воздухе, в море упал самолет. Но есть где поклониться легендному человеку.
— Сжимать надо людскую энергию. Жжух, и все! — эмоционально завершил фразу мой визави. — Колокол вот отлили в Каменск-Уральске, не зря назвали мы его «колоколом гласности». Все в мире, Саша, системно. Все цепляется одно за другое, все единится.
— Под небесами дома под звездами нашего, — добавляю я.
— Космический мировой разум ведет как бы нас. Время такое мы переживаем. — Кузнецов прошелся пальцами по клавишам компьютера. — Клавиатура плюс время.
— Бренд века это, — говорю я, повернув разговор к своему постмодернистскому роману: — Реально вижу, как Слово мое рождается из времени и пространства, спрессованы они в нем. Дома сидишь за компьютером, и ехать на дачу надо. Голова продолжает работать. В автобусе фразы рождаются, и видишь, что на кусок какого-то текста ушло, положим, двадцать километров и тридцать две минуты. Слово — явление объемное, что измеряется временем и расстоянием.
— Анатолий Омельчук пишет свои книги километрами, как говорят о нем, — оживился Владимир Сергеевич. — И действительно, он много ездит по области, по стране и по миру. Так рождаются его книги.
— Немудрено, что у меня необычная проза. Время, век двадцать первый ее требует. Левая кнопочка привычны для меня в романе, по умолчанию. Компьютеризация жизни действует и в литературе. Курсивы мои тоже естественны. Я живу ж одновременно во всех временах. Так и пишу. От Августина воспринял такое мышление. Для человека это естественно. Сидим мы вот здесь с тобой, а я к нему взор обратил, в другие времена глянул. Вспомнилось что-то. Прошлое, настоящее и будущее одновременно живут в человеке. И совсем не случайно звучит у меня у меня в романе сказанное в минувшем веке, что России скоро понадобятся люди, которые умеют читать и писать. Потрясла меня «крупинка» Владимира Крупина: «Нам не писать в стране, которая читает прозу Пушкина?» Действительно, «даль свободного романа» открыл нам классик. Одно это многого стоит. Но — контекст «крупинки» славного вятича: «Но если мое писание отвратит глаза читателя от моих строк, пусть взор их обратится к Пушкину. И я великодушно буду забыт. А забвение не должно обижать: то, ради чего забывается, вмещает нас». Истинно, настоль велик Пушкин, что все мы как народ в его контексте.
— Как ни удивительно, Саша, но примерно об этом и говорила мне дочь Наталья в восемнадцать лет, когда поступала на филфак. Два красных диплома у нее, по русскому и иностранному языку.
— Наши дети идут дальше нас. Закон жизни это.
А ведь известно: «дурно пахнут мертвые слова». Номинализированные, нерасшифрованные, с захлопнутою душою словопонятия — черные значки на бумаге, они, по слову А. Н. Толстого, как некоторые навсегда закрытые письмена давно умерших народов. Сказано: вначале было Слово. И оно, стало быть, управляет человеком, его жизнью, выбором пути. Главных дорог-то две всегда, на одной со злом дружбу вести, на другой — с добром. И слова пластмассовые сбить с пути праведного могут, самого мудрого человека, извратить и запутать мышление. Живому слову только подвластна «тайна совести и звезд». Тайна высокой литературы в живом слове, у которого есть свой кровоток. А таковой он тогда, когда литература адекватна жизни. Кровоточит она болью, кровоточит и слово.
Вспоминаю стих первопроходца нашего Севера, подавшегося потом в поэты, моего Первоучителя во слове Ивана Лысцова. Тут не убавить, не прибавить:
Поуронили слово русское!
А то, которое в ходу,
Оно в плечах такое узкое,
Что не узнать и на виду.
Один монгольский писатель, с которым я побывал некогда у буровиков нефтяного Самотлора, рассказывал мне, что слова и буквы в книгах и газетах его неграмотная мама из рода скотоводов воспринимала какими-то червячками. Так вот червячится и современное слово, и червоточнее, значит, становится и жизнь наша. В литературе ж нынешней правит бал бескровная, пластмассовая лексика.
Слово оказывает, бывает, — холодильное воздействие на жизнь. Случаются такие моменты в ней, когда температура (человека, тела) остывает от слова, как выразился на этот счет однажды В. Розанов. И словно б закон открыл он, мысля тогда, что после «золотых эпох» в литературе наступает глубокое разложение жизни, апатия ею овладевает, вялость, становится бездарной она. В подобном холодном омуте чувствуешь себя в России на грани смены тысячелетий. И живет тоска по бриллиантной, как бунинская проза, литературе. Ощущение такое, будто ты — пытающаяся взлететь ощипанная курица, но старые перья безвозвратно потеряны, а новые еще не наросли. И можно лишь куры строить, любезничая с читателем. И любезничают, кому не лень, в основном «ниже пояса»: оно и понятно, лень ведь — это, когда ни одной мысли в голове, хоть шаром покати. Порнография такая — тупик: как заявлено было в одной из газет, это искусство со спущенными штанами… И куда там со стремлениями ищущего писателя пропустить слово это не рюмочку пропустить через реторту ясного русского ума! Популярничать — проще. А проще простого уж самого — греметь словами, политика — нива бескрайняя для этого. Вот шесть лишь слов из сонма, и смысла в каждом бездна. Свобода и равенство — прежде. А совесть? Справедливость? Честь? Законы? Все громкие слова. И у большого писателя нередка декламация лишь. Вот Л. Н. Толстой: «Свобода и равенство — все громкие слова, которые уже давно компрометировались…» Где свобода, там узы необходимости, где равенство — там тирания. И это уже мои собственные декламации, все требует развертки, для которой может не хватить и романа. Граф А. Толстой в «Дон-Жуане»»:
Все громкие слова,
Все той же лжи лишь разные названья!
И это так. И совесть, справедливость, честь и закон — из оперы декламаций. Все тот же граф:
Великое ты выговорил слово,
В чем воля-то?
Гром — призыв природы к жизни, к делу, действию: — греми! А то ж гром не грянет — мужик не вспрянет не перекрестится. Но помолясь усердно богу, засучивай рукава. Это крест наш людской и предназначение, радостное, между прочим, — трудиться, пахать, творить, созидать. Топором, мастерком, литовкой, мыслью.
Жирно отчеркнул я большой кусок текста, читая «Доктора Живаго». Честно если говорить, воспринимал я его как опыт писательской работы самого Бориса Леонидовича. Читателю ж подаю запись как бы Юрия Андреевича Живаго о его романных набросках:
«… просматривая эти пробы, он нашел, что им недостает содержательной завязки, которая сводила бы воедино распадающиеся строки. Постепенно перемарывая написанное, Юрий Андреевич стал в той же лирической манере излагать легенду о Егории Храбром. Он начал с широкого, представляющего большой простор, пятистопника. Независимое от содержания, самому размеру свойственное благозвучие раздражало его своей казенной фальшивою певучестью. Он бросил напыщенный размер с цезурою, стеснив строки до четырех стоп, как борются в прозе с многословием. Писать стало труднее и заманчивее. Работа пошла живее, но все же излишняя болтливость проникала в нее. Он заставил себя укоротить строчки еще больше. Словам стало тесно в трехстопнике, последние следы сонливости слетели с пишущего, он пробудился, загорелся, узость строчных промежутков сама подсказывала, чем их наполнить. Предметы, едва названные на словах, стали не шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения (выделение здесь и ниже — А. М.), как слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по необозримому пространству степи. Юрий Андреевич писал с лихорадочной торопливостью, едва успевая записывать слова и строчки, являвшиеся сплошь к месту и впопад».
Что ощущал я, постигая таинство работы над словом Бориса Пастернака? Что истинный поэт — посланник Бога в литературном своем деле, что дело его — алхимия. Довел его до степени такого каления, что изливаться стало подлинное золото, — считываешь ты будто строки свои свыше, рукою твоей водит Бог. Тако вот в писательстве. Вот что дало мне освоение опыта классика.
Что касается писательского дела вообще, то — литературу делают волы (Ронсар). Лошадная это работа. Туга, туга и еще раз туга — вот лозунг мой и солнца!
Лошадь животное ненужное, вредное; для нее обрабатывается много земли, она отучает человека от мышечной работы, часто бывает предметом роскоши; она разнеживает ч <елове> ка. В будущем — ни одной лошади!
А. П. Чехов. Записная книжка.
Писатель, как высказано это близким по духу мне Виктором Петровичем Астафьевым, — «по праву руку — бумаги лист и сердце по леву руку». И труд, труд, труд Сизифа, закаливание сердца при искусственно поднятой температуре. В одной из телевизионных передач сибирский классик говорил, что в тяжкие минуты у него всегда рядом листок со стихами одного забытого провинциального поэта. И в кадре крупно показаны были переписанные рукой Астафьева строки Сергея Чухина те слова именно, что стали иконными для Виктора Петровича. А еще — о том, что легче писать вдвоем, если рядом с тобою незамутненная совесть.
В пургу и свист
Поделят поровну
Муку:
По праву руку —
Бумаги лист
И сердце —
По леву руку.
Скажу еще, что писатель — линза — собирающая в фокус свет всего мира. Обречен «письменник» на альтруизм. «Он поставлен в мире для того, чтобы обнажать свою душу перед теми, кто голоден духовно» (Блок). В современной, постсоветской России он, однако, изгой, человек, предоставленный самому себе, как волк в лесу. Особенно это касается положения его в провинции, когда пишешь книгу, верстаешь, издаешь, получаешь тираж, таскаешь дома к себе на этаж, в склад кабинет превращая и, набив рюкзак, едешь потом по весям реализовать свое Слово. И никому-никомушеньки ведь ты не нужен, поверьте, я испытал это на своей собственной шкуре. Доживет до некролога писатель — какое-то шевеление происходит, и это отрадно хоть… Но смею думать тем не менее, что литература позаботится сама о себе, как ответил некогда Пит, когда к нему обратились с просьбой оказать поддержку голодающему поэту Бернсу. «Да, — прибавил Саути, — литература позаботится сама о себе, и о вас так же, если вы не обратите на нее должного внимания». И такая литература грядет, но это уже проповедь. Что же касательно существа, то ей потребны настоящие герои и настоящие образы. А такие образы — слова-острия, на них держатся художественные пространства. Как у А. Мариенгофа, к примеру. Двор у него «брюнетистый», двери — «крашеные скукой», рожа у детины «двухспальная», люди «тенеподобные», баба «вымястая», клоп выползает «мечтательно», у борзых «стрекозьи» ноги, а мерин стар, бос и бородат, как «Лев Толстой». Разве могут написать так словоблуды, сьевшие «язык собачий»! \«И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри» (Апок. 6, 1.). Слово громовое — дело зверя. У человека слово раздваивается. Громкие словеса — восковая оболочка без зерна. Как Словом поднять человека? Как повлиять на него тончайшими эманациями мысли и краски живописца, мелодией музыки? Сие есть вечная тайна искусства.
Устроил меня некрасовский ответ в «Говоруне»:
От итальянской арии,
Исполненной красот, —
К занятьям канцелярии
Трудненек переход;
Спокойствие сменяется
Тревогою души,
И вовсе страсть теряется
Сколачивать гроши.
Возвращаю читателю слова из сонма их: свобода, равенство, честь, совесть, справедливость и закон. Море волнуется. Это лишь дыхание жизни. Иди и дыши. Как дышим, так и живем. Как пишем, так дышим. Живем — любим, это синонимы. Опять же граф А. Толстой:
Когда б любовь оправдывалась в мире,
Отечеством была бы вся земля,
И человек тогда душою вольной
Равно любил бы весь широкий мир…
Как любят его мои солнечники
Гром гремит не из тучи, а из навозной кучи. Не убавить в этом народном ничего, не прибавить. Из нее молния-то, из землицы.
Должность слова — пронять человека, дойти до его ума и сердца. И не важно, эпопея это, миниатюра ли. Вот «ужасно смелое», да для 1974-ого-то года заявление воронежца Германа Волгина: «Я сейчас выскажу мысль, которая по крайней мере покажется глупой, но я прошу меня понять. Валяй, валяй!
Современные прозаические вещи могут иметь соответсвующую современной психологии ценность вумно, вумно! только тогда, когда они написаны в один присест. Бред сивой кобылы. Размышление или воспоминание в двадцать или тридцать строк максимально, скажем, в сто строк — это и есть современный роман. Скупердяй! Всех писателей готов отлучить от литературы. Толстой по этой методе — вселенское недоразумение.
Эпопея не представляется мне не только нужной, но вообще возможной.
Книги сейчас читаются в перерывах — в метро, да на эскалаторах — для чего же тогда книге быть большой? Мы что, на конвейерах живем? Я не могу себе представить долгого читателя Дылду? Ерничаю — на весь вечер. Во-первых, миллионы телевизоров ну и что? во-вторых, надо читать газеты почему надо? И так далее». Уфф! Все.
А теперь помыслим. С новой строки. Субъективизм страшенный. Не читаешь, а давишься пересольной селедкой. С юности запомнил Сенеку: «Басня ценится не за длину, а за содержание». И второе: с каких это пор литературу стали оценивать на метры и килограммы, хронометром мерить. Содержание — это единственный критерий. Вот в дневнике у Жюля Ренара: «Полмизинца кристальной воды в алмазном наперстке». Это сгущенность так сгущенность слова. Вообще проза может быть ядерной. Но ядер может быть мульен. Алмазных наперстков, в каждом из которых означенное Жюлем Ренаром количество воды, — Эверест. Может, говорил я уже в этом романе сие парадоксальное: «Война и мир» — самое короткое произведение, которое я читал». Точнее, перечитывал на старости лет, второй раз. Краткие у него главы. Я их просто глотал. Ибо, повторю шекспировское: краткость — душа ума. «Демоны глухонемые», — назвал стих Вяч. Иванов. А глухонемые и действительно демоны. Потому и терзался со своим Демоном Лермонтов. Пиши умно, писатель, и не слушай глупцов. А как твое слово отзовется — оставь времени и судьбе. Сказал и вдруг осекся: учитель писателев выискался! Про то, о чем писать — не наша воля. Так, кажется, сказал Николай Рубцов. Другой призыв тут надобен. Этот, к примеру: расти из себя, цвети, и будет это по закону природы: все из себя. А умно — если будет честно, если это тебя волнует. А там уж, кто как среагирует. К слову, у Андрея Курбского из переписки его с Иваном Грозным уловил ценную одну для писательства формулу. Писать надо, чтоб «в кратких словесах много разума замыкающе». Созвучно Шекспировскому: краткость душа ума. «Чуденько сказал Толстой, что краткость сестра таланта», — подумал Вассерман. Вся правда об Анатолии Вассермане. Классический пример из тюменской истории. В мае-июне 1837 года город наш посетил наследник российского престола цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр 11). В свите сопровождавших его был наставник и воспитатель цесаревича великий русский поэт Василий Жуковский. До нас дошли записи, которые он делал в этой поездке. Знакова такая: «…Переезд из Екатеринбурга в Тюмень. Милый город на берегу Туры. Приезд в дождь. Встреча. Толпа. Бухарцы. Три нюанса встречи — искренность, простое любопытство, город бедный. Голова Иконников. Переправа по Туре весьма продолжительная. Длилась она почти два часа — то ли Тура была шире, то ли было сильное половодье… Высадка на берег в 7 часов. Кожевенные заводы затопленные. Дорога по прекрасному ровному полю. Растения полевые разнообразные. Чернозем. Прекрасны сосновые рощи. Бедность деревень». Поэт уловил самую суть здешней жизни.
Жизнь — вселенная слов, живая энциклопедия. Слово же подобно колодцу. В колодце есть глубины, с которых и днем можно увидеть звезды, в слове — глубины, с каких становятся явными его бездонные звездности. На «звездных глубинах» работал, исследуя Слово, Павел Флоренский. Подвижник веры и духа, он писал, что нет индивидуального языка, который не был бы в своем явлении — индивидуальным. Каждое слово — личностно-живое, а его пытаются окаменить или опластмассить, выжать из него живые соки. Слова рождала органическая совокупность речи, а не речь составлялась из слов, как мудро судит Флоренский. Классичным считаю прослеживание им эволюции слова «кипяток».
С санкрита и славянских языков КИПЕТЬ — приходить в движение, возбуждаться, с латинского созвучного слова — горячо желать, кипеть страстью, с немецкого — прыгать, скакать, с греческого — лететь кубарем, кидаться головой вниз, кувыркаться, скакать, танцевать. Во многих личинках жил корень КИП, КИПЯТОК, и как живые существа, рождаясь из них, содержательные струи сливались в одно слово.
КИПЯТОК, как мы его понимаем ныне по Ожегову, — кипящая или только что вскипевшая вода, в первом смысле, и во втором — вспыльчивый, горячий человек. Таково завершение мифологии КИПЯТКА, в ходе которой оно напитывалось оттенками смыслов, как наваристый суп специями.
Флоренский в лекциях своих о строении Слова, читанных в Московской духовной Академии, приводил такое старое тождесловие: «Кипяток живет кипящ». И как не согласиться с выдающимся мыслителем, что это целая поэма: «За музыкой звуков, воспроизводящих переживание прыжка, за живописующими прыгание звуками, в них или ими, мыслится живое существо — попрыгунчик, поскакунчик, — обитающее в котле и пляшущее от огня, существо, вся деятельность которого — непрестанное прыганье через голову; он вечный неугомонный карла, душа домашнего горшка» / «У водоразделов мысли»/.
Флоренский определяет слово как миф, зерно мифотворчества, развертывающееся во взрослый мифический организм по мере вглядывания в это зерно. Жизнь слова КИПЯТОК — это кипение дела, кипение человека злобою или радостью. «Густо топится», кипит муравейник, кипит вода, кипит цветеньем майская яблоня, кипит ключ, кипит железо, накаленное добела в кузне, кипят от напряжения мышцы спортсмена, кипит воображение поэта. Языковедчески семя слова в том, что скакун, прыгун и плясун получают значение кипуна. Можно говорить о том, как воспринимается значение слова КИПЯТОК у физика, химика, которые могут воспринимать его через призму многоразличных фактов и теорий. Свой взгляд будет у механика. Кипит, бунтует железо в напружиненной сигаре корпуса современного самолета, попавшего в бурю. Кипят все шестеренки, шатуны и поршни набравшего курьерскую скорость паровоза… «Слово связывается, — приведем вновь Флоренского, — с неуловимыми, но весьма существенными обертонами, сознание каждого слова пускает СВОИ воздушные корни. Так что слово КИПЯТОК — это целый сноп понятий и образов; и разнообразные, они вяжутся в одно целое». У каждого слова, ясно, своя аура, свое излучение, свое температурное поле. Слово, по Флоренскому, — это неисчерпаемые залежи энергий, отлагавшиеся в нем веками и истекавшие из миллионов уст, оно — организм, вещество с текучею плазмой, как понятие слово не замкнуто безысходно в пределы бессильной и ирреальной субъективности. Смыслы кипят в его оболочке, оно само по себе КИПЯТОК. Первослово не говорилось, а выклокатывалось из переполненной сверхсознательным переживанием груди первочеловека, оно выкипячивалось, было всецело танцующим делом. Слово не высказанное раздирало и грызло беременную им грудь…
Слово каждое — это многожизненность. Оно живет в знаках, в звуках и в восприятии его сознанием человека, его воображением. Родители языка — миллионы поколений. Пока слово обкатывалось в миллиардах гортаней, сквозило через мысли миллиардов голов, оно нагружалось эмоциями и воспоминаниями, зрели, как виноградная гроздь, его тяжесть, весомость. Слово — личность, от которой можно зажечься, если оно тебе одноцентренно. Знает же по себе каждый: вспомнит что-то другой человек, и от его воспоминаний твои зажигаются. И в твоем кровотоке живет уже услышанное, воспринятое тобой слово. Придет время, не будет нас, а слово покатится дальше дорогою своей судьбы и, кто знает — может быть, в нем будут жить и соки твоих воспоминаний, перекатки слова в твоей гортани.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.