
Бесплатный фрагмент - Как родилась русская революция
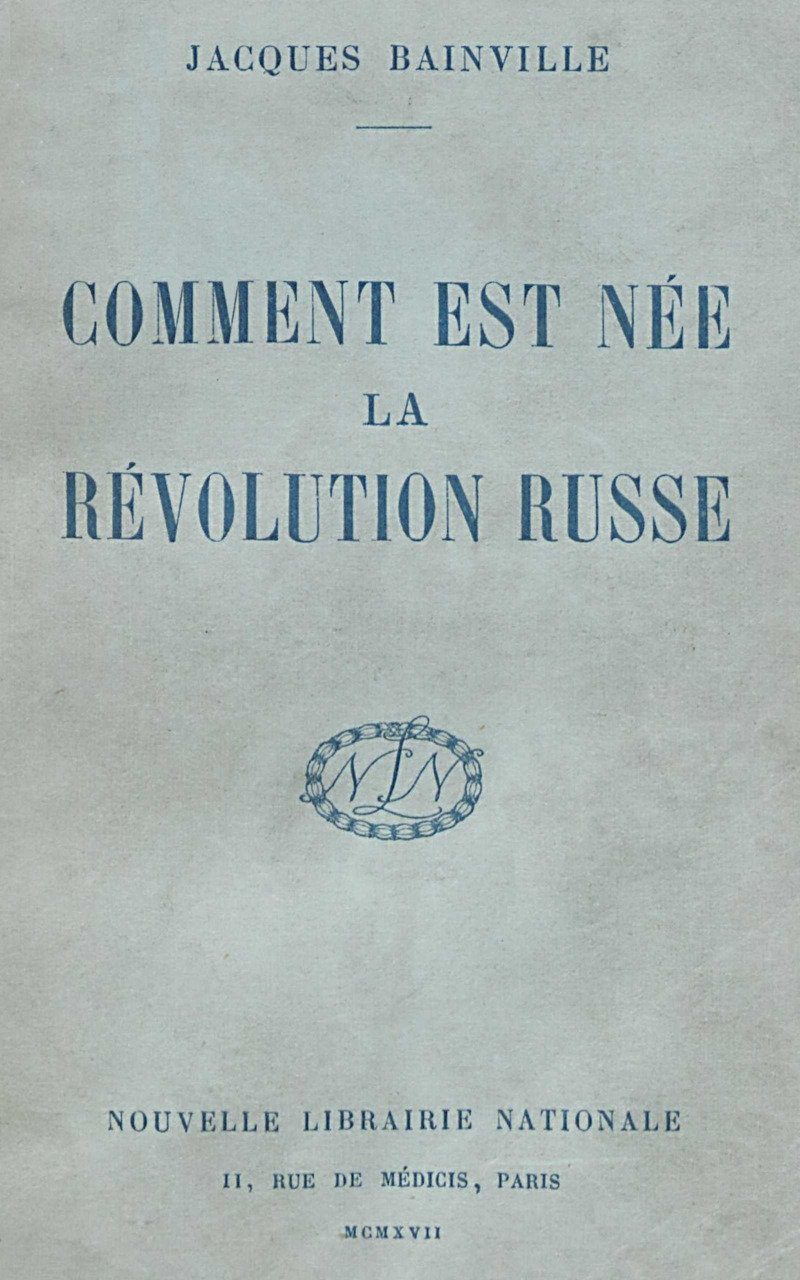
Предисловие
«Наши войска поднимают мятеж не ради личной выгоды, но во имя спасения страны. Маньчжуры преследуют народ, ввергая его в море скорби. Маньчжуры — не нашей крови. Мы хотим уничтожить их, а вместе с ними — всех предателей и воров».
Такова была прокламация 1911 года, которой «Союзная лига» возвестила китайскому народу о падении чужеземной династии Цин. Династия Николая II, несмотря на свою генеалогию, была вполне русской. Но его окружение, его административный аппарат таковыми не были или были не в достаточной мере. В этом Русская революция походит на Китайскую. Этим и объясняется, как там, так и здесь, молниеносное крушение трона. Почему ни в Китае, ни в России мы не увидели той верности и того лоялизма, что снискало себе дело Стюартов в Англии или Бурбонов во Франции? И в России, и в Китае объяснение кроется в том, что речь шла о революции, в основе которой лежал доминирующий национальный элемент.
Важно, чтобы он таковым и оставался. События марта 1917 года можно было бы определить как дворцовый переворот, который вылился на улицы и превратился в революцию политическую и социальную. Но окончательной развязки, быть может, следует ожидать от крестьянских масс, терзаемых аграрным вопросом, жаждой земли. Следует ожидать ее и от столь различных национальностей, которые Империя объединяла, но не сумела сплавить воедино. Проявятся ли центробежные и сепаратистские тенденции? Опасность была бы велика для Европы во время войны, да и после нее, если великая, сильная и единая Германия сохранится.
Часто говорили, что Россия — страна будущего. Это правда, когда речь идет о ее необъятных, еще не освоенных богатствах. Но на фоне упадка старого режима было ощутимо, что если у России и есть будущее, то у русского государства его больше нет. Создаст ли новая Россия себе государство? И как? В какой форме? Какими средствами? Сегодня об этом спрашивают с некоторой тревогой и огромным интересом.
Ж. Б.
15 мая 1917 г.
КАК РОДИЛАСЬ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
I. ЧТО МОГЛО БЫ СПАСТИ ИМПЕРАТОРА
Одним утром прошлого года я беседовал с директором одного из крупных банков Петрограда. Просторный кабинет в английском стиле. На стенах ни икон, ни горящей лампады. Когда взгляд обращался к окнам, удивительно было вновь видеть лазурные и золотые купола соборов, видеть на Невском проспекте снег, сани, меховые шапки и дородных извозчиков, похожих на пуховые перины, перехваченные ярким кушаком. Россия была снаружи. В этом здании царила Америка. Тем временем я донимал степенного директора самыми нескромными вопросами, не боясь ему наскучить. И среди тем, по которым я пытался узнать мнение делового человека, была одна, особенно жгучая, — тема революции, которую столько голосов называли неизбежной и близкой, которую большинство предрекало на конец войны, но которая, по мнению других, должна была разразиться неминуемо — и именно они оказались правы.
Я так и не смог понять, желал ли этой революции осторожный финансист. Но само слово, произнесенное вслух в его кабинете, хоть мы и были одни, заставило его почувствовать себя неловко. Он с тревогой постукивал по своим белым бакенбардам, подстриженным на старинный лад, стараясь уклониться от прямых вопросов. Наконец, под моим напором, он отважился ответить безобидными словами:
— О! Прежде чем дойдет до революции, есть столько предохранительных клапанов, которые можно открыть!..
И тут же, словно испугавшись, что сказал слишком много, он сослался на то, что французский язык внезапно стал для него труден, и позвал управляющего, чтобы сменить тему разговора.
Я сохранил в памяти детали этой немного комичной сцены, повторявшейся в самых разных формах в ходе моих наблюдений, которые я пытался собрать в России. И это дорожное воспоминание одним из первых пришло мне на ум при известии о петроградских событиях. Безусловно, как сказал робкий и проницательный финансист, было много предохранительных клапанов, которые можно было открыть и которые должны были позволить избежать большого взрыва. Казалось столь естественным, что к ним должны были прибегнуть, один за другим! Как императорское правительство, как сам Император, особенно он, не знали об этом серьезном, этом главном факте, который путешественник неизбежно констатировал, который навязывался с силой очевидности через две недели после прибытия на русскую землю, о факте, наконец, который просто бросался в глаза, а именно: что в существующем виде режим, за исключением тех, кто от него выигрывал, не находил, от края до края России, практически ни одного защитника? Жаль, что Николай II не подражал султану Гаруну-аль-Рашиду и, переодевшись, не прошел по городам своей Империи, беседуя с дворянами, купцами, солдатами и привратниками. Он бы повсюду наблюдал это грозное явление: недовольство, которое в критический день должно было оставить его в одиночестве и без поддержки, в то время как государственный аппарат рухнул бы в один миг…
***
Во время войны не всякую правду стоит говорить. Не все выдерживают правду, и полезна она лишь немногим. Прежде всего по этой причине, а затем по соображениям приличия, необходимо было набросить вуаль на внутренние дела России. Впрочем, в прошлом году можно было добросовестно создать у публики относительно успокаивающее впечатление. Стабильность внутри страны казалась гарантированной, по крайней мере, на время войны. В дипломатическом корпусе в Петрограде самые внимательные и проницательные наблюдатели, несомненно, проявляли крайнюю сдержанность в своих оценках и прогнозах относительно ближайшего политического будущего России. Так было, в частности, в посольстве Японии, одном из самых многочисленных, активных и хорошо информированных. Мне показалось, что барон Мотоно, чьи оценки событий войны всегда отличались необычайной точностью, предпочитал воздержаться от суждений об эволюции Российской империи. Тем не менее, даже самым осторожным катастрофа не представлялась неминуемой. Добрая воля страны, воля Думы были несомненны. Из патриотизма реформы, вопросы внутренней политики откладывались на потом. «Прогрессивный блок» Думы, который, за исключением крайних правых и крайних левых (то есть горстки представителей), включал в себя все собрание, ограничивался требованием вместо бюрократического министерства людей, которые, согласно его формуле, пользовались бы «доверием страны». Конституционные демократы, или «кадеты», сами временно прекратили требовать ответственного перед палатами министерства, то есть чистого и простого парламентского режима. Их наиболее видные лидеры были готовы удовлетвориться некоторыми уступками в области конституционных идей. И я тогда, со своей стороны, счел, что некоторые из них, возвращаясь к своим иллюзиям времен первой Думы, не считали невозможным стать министрами императора Николая II. Силой вещей в «Прогрессивном блоке» создалось своего рода среднее мнение, благодаря слиянию радикальных элементов с умеренными. Бывший лидер правых, известный своей резкостью, г-н Пуришкевич, которому в недавнее время предстояло принять участие в убийстве Распутина; «националист», как граф Владимир Бобринский; «октябристы», как председатель Родзянко и г-н Гучков, чьи имена будут вписаны в события марта, но которые у нас были бы настоящими консерваторами: все эти люди, из которых мы назвали лишь нескольких наиболее «представительных», обеспечивали равновесие большинства Думы. То, что «Прогрессивный блок» желал примирения с властью, не подлежит сомнению. Последние усилия, которые либеральные лидеры предприняли для спасения Императора, а затем, когда революция приняла необратимый характер и отречение стало неизбежным, для сохранения династии, послужили доказательством их полной добросовестности.
Когда весной прошлого года делегация русских депутатов посетила союзные страны, у нас была возможность передать во Франции нескольким лицам: «Вероятно, это члены будущего правительства России едут в Париж». И действительно, г-н Протопопов, тогда либеральный вице-председатель Думы, через несколько недель после своего возвращения должен был стать министром внутренних дел, но для какой работы и в каких условиях! Что касается г-на Милюкова, то сегодня он министр иностранных дел нового режима, после того как при старом режиме многократно был советником на Певческом мосту. Малоизвестный, но весьма значимый факт, что г-н Сазонов, будучи министром иностранных дел, охотно прислушивался к советам г-на Милюкова, специалиста по вопросам внешней политики в Думе и в газете кадетской партии, «Речи», которой он был фактическим руководителем. Таким образом, видно, что между правительственным миром и самыми либеральными элементами Думы тогда не было непреодолимой пропасти, что существовали даже многочисленные контакты, и, наконец, что полюбовное соглашение и сотрудничество могли представляться вполне вероятными.
В феврале 1916 года Николай II, по счастливому наитию, приехал на открытие Думы. Это был радостно встреченный сюрприз, событие, которое, казалось, предвещало новый курс, и все свидетели (и мы в их числе) радовались ему как гарантии национального единения. Сам Император осознавал важность и значение своей инициативы, ибо ему с трудом удавалось скрыть волнение. На его лице читались мысли, которые его терзали, внутренняя борьба, которая в нем происходила. Очевидно, ему пришлось преодолеть сильное предубеждение, чтобы впервые переступить порог Таврического дворца. В его взгляде было любопытство и беспокойство, словно он вошел в логово анархистов. Временами нервным движением, будто задыхаясь, он делал жест, ослабляя воротник. Когда после молитв он обратился к сгруппировавшимся вокруг него депутатам, его смятение было таково, что первая фраза его речи, в которой он поздравлял армию со взятием Эрзерума, была грамматически неверной. Я до сих пор слышу, как председатель Родзянко, приветствуя Императора, повышал свой звучный голос каждый раз, когда в его словах повторялось слово народ. Это было похоже на благожелательное и торжественное предостережение самодержцу. Ему указывали путь широкой национальной политики. И возгласы одобрения, которыми его приветствовали, когда он пересекал зал заседаний, осветили его глаза, расслабили его лицо, на котором даже появилась, после столь долгого напряжения, робкая улыбка. Решающие мгновения, с которых могла бы начаться новая фаза в истории России. Как впечатления этого дня примирения и согласия стерлись у Николая II? Как другие чувства, пагубные предрассудки возобладали в нем? Это печальная тайна слабого государя, самодержца, подверженного всем влияниям пагубного окружения…
Я не думаю, что ошибусь, сказав, что визит Императора в Думу породил у либералов большие надежды. Никогда они не были так умеренны, как в те несколько месяцев, что последовали, никогда не проявляли столько способностей к управлению. Именно в это время я находился в России. Я смог получить из уст самих главных партийных лидеров уверение в том, что соглашение с монархией им кажется не только возможным, не только желательным, но и необходимым.
«Я монархист, монархист сердцем и душой, и все мои друзья-октябристы таковы, как и сама Россия», — говорил мне г-н Родзянко через несколько дней после визита Императора в Таврический дворец, визита, который он считал успехом для своих идей и своего дела. И он подтверждал свою убежденность в том, что Россия будет эволюционировать без потрясений и поэтапно к режиму конституционных монархий Запада. Он находил основания для уверенности в истории самой Думы, которая за десять лет прошла свое политическое воспитание. Он сравнивал ее с ребенком, который, постояв на левой ноге (первые революционные Думы), а затем на правой (третья консервативная Дума), теперь твердо шел на обеих ногах. И возвращаясь к присутствию Императора на открытии сессии, председатель добавил, добродушно смеясь:
«Его Величеству хотели внушить, что собрание состоит из волков и тигров. Его Величество захотел в этом убедиться. Император пришел к нам, он увидел все своими глазами и теперь хорошо знает, что можно договориться».
Если бы, обладая даром предвидения, я объявил г-ну Родзянко, что год спустя, почти день в день, он потребует от Николая II акт отречения, он бы, несомненно, счел эту шутку очень дурным тоном…
В другой раз это был г-н Маклаков, один из самых блестящих, самых остроумных лидеров кадетской партии, который говорит на нашем языке как парижанин, чья беседа — фейерверк слов и формул, которые сделали бы его одним из наших самых ярких хроникеров. Он тоже твердо верил в политическую эволюцию, которая совершится планомерно, в формах монархического правления. Мысль о том, что можно было бы упразднить Романовых, заставляла его воздевать руки к небу: «Отличное средство, — восклицал он, — чтобы подпитывать реакцию! Превосходная идея вашего Грибуйля!»
И еще в один день (этим можно и ограничиться), я расспрашивал г-на Ефремова, известного «прогрессиста», который по складу своих мыслей, по общему взгляду на вещи, по своему словарю, по самим деталям своей личности напоминал тип левого республиканца, какой существует у нас. Он, этот радикал, был менее уверен, чем октябристы или кадеты, что эволюция будет мирной и планомерной. Царь в Думе?.. Да, конечно, но не слишком ли поздно? «Пропасть углубляется», — говорил мне депутат-прогрессист, качая головой. И все же и он не верил в полное ниспровержение режима, в то, что он называл «серьезной революцией», то есть, одним словом, в Революцию…
Момент, когда мне были сделаны эти искренние и спонтанные заявления, был, однако, тем самым, когда началась реакция против либерального движения со стороны того, что позже назовут «тайными влияниями». Г-н Штюрмер был назначен Императором на смену г-ну Горемыкину в последние дни января (по старому стилю). Сегодня мы знаем, что именно с этого неудачного выбора начинается возобновление германофильской политики и попытка бюрократии вновь взять в свои руки управление Империей.
Правда, г-на Штюрмера встретили холодно. Но примирительные настроения либералов от этого не ослабли. Бог знает, однако, как малопривлекательной была личность нового председателя Совета! Говоря откровенно, она была даже антипатичной. Когда об этом назначении стало известно одним прекрасным утром в Петрограде, изумление было велико. Одно только имя г-на Штюрмера, это немецкое имя дурного предзнаменования, резало слух и возбуждало недоверие: как оно не предостерегло власть от столь неудачного выбора? Насмешки, которыми его встретили, плохо скрывали беспокойство и раздражение общественного мнения. Эту фразу приписывали военному министру. Когда прошел слух об отставке г-на Горемыкина, один друг спросил по телефону имя его преемника, и генерал Поливанов ответил: «Не могу сказать, мне будет три тысячи рублей штрафа». Три тысячи рублей штрафа — это, действительно, тариф в Петрограде, когда говоришь по-немецки по телефону. Несколько дней спустя в Яхт-клубе во время обеда один офицер встал, попросил разрешения произнести два немецких слова, всего два, и серьезно сказал под общий смех: «Гофмейстер Штюрмер». Ибо известно, что большинство придворных званий в России происходили из Германии (как и слишком многие звания в военной иерархии), и что в русском языке немецкое H (придыхательное) превращается в Г. Таковы эпиграммы, с которых началась революция. Но эти эпиграммы были уже кровавыми и имели дальний прицел, потому что они связывали либеральное движение против бюрократического режима с идеей национальности.
Nomen, numen… Имя г-на Горемыкина, хоть и русское, звучало не лучше. Оно означало нечто вроде «горемычного» или «скорбного», что слишком хорошо выражало представление публики о правительстве.
Однако желание избежать разрыва у либеральных политиков было так явно, что, хоть и хмурясь на г-на Штюрмера, они его терпели и даже, при необходимости, извиняли. Во время своего пребывания в Париже в мае г-н Милюков, отвечая на вопросы редактора газеты «Юманите», заявил, что его партия, конституционно-демократическая, в согласии с другими партиями «Прогрессивного блока», пока отказывается требовать «ответственного министерства», которое должно было стать, по его мнению, «результатом долгой эволюции». А что касается самой личности г-на Штюрмера, г-н Милюков добавил дословно, вызвав некоторое удивление у своего собеседника: «Это переходная фигура. Он не так решительно реакционен, как его предшественник, г-н Горемыкин. Это бюрократ весьма консервативного духа, но, именно потому что он бюрократ, он обладает определенной гибкостью, которая позволяет ему приспосабливаться к обстоятельствам…»
Как видно, г-н Милюков проявлял добрую волю. Большего проявить было вряд ли возможно. Этот дух приспособления к обстоятельствам, в котором он и его друзья давали кредит г-ну Штюрмеру, на самом деле был их собственным. Вне думских кругов я слышал, как не один русский либерал на это жаловался. Рядовые члены партии реформ, очевидно, оставались гораздо более непримиримыми, чем их лидеры. Они с трудом понимали их чувства и тактику. Не раз я слышал, как порицали «слабость» Прогрессивного блока, когда ее не клеймили как предательство: все политики, которые в определенный момент хотели «расставить приоритеты», подвергались тем же упрекам и тому же гневу.
Но именно здесь, возможно, мы начинаем нащупывать одну из причин катастрофы, в которой погиб старый режим.
II. НАЦИОНАЛИЗМ ДУМЫ
Война по своей сути была войной народной. Было бы лишь легким преувеличением сказать, что это была война Думы. Между 1909 и 1914 годами, между вручением г-ном фон Пурталесом двух ультиматумов, первый из которых, во всем подобный второму, привел к отступлению России, воспринятому русским патриотизмом как унижение, Дума часто выражала желание более решительной внешней политики. Аннексия Боснии и Герцеговины Австрией оставила глубокую горечь. Умаление престижа России на Востоке неоднократно осуждалось и критиковалось с трибуны Таврического дворца. Поэтому, когда император встал на защиту Сербии, которой угрожали, а затем отверг ультиматум Германии, Дума узнала в этом решении себя. Она внесла определенный вклад в это возвращение к гордости. Она приветствовала его как искупление. Именно это слово было употреблено на великом заседании 8 августа оратором от националистов г-ном Балашовым: «В этот трудный и славный час, который мы переживаем, Россия призвана исправить некоторые из своих исторических ошибок». И когда г-н Милюков, в свою очередь, заявил: «Мы боремся, чтобы освободить нашу родину от иностранного вторжения, чтобы освободить Европу и славянство от германской гегемонии», его встретили возгласами «браво слева».
В сущности, национализм был доминирующей тенденцией этой Думы, четвертой со времен октябрьского манифеста 1905 года. Смешение идей свободы и национальности наблюдалось во Франции в XIX веке, когда либералы боролись одновременно с монархией и договорами 1815 года. Оно наблюдалось в Германии и Италии, где усилия по установлению конституционного режима сливались с унитарными устремлениями. Оно вновь проявилось в Константинополе в 1908 году с младотурками. Это историческое движение продолжало свой мировой обход через Россию. Достаточно вспомнить «неославянские» конгрессы, которые неоднократно проводились в годы, предшествовавшие войне. Панславизм возрождался в новой форме. Вместо того чтобы быть наследием «Святой Руси», он теперь ассоциировался с политической доктриной либерализма. Не следует забывать, например, чтобы понять суть вещей, что г-н Милюков был первым, кто указал Константинополь как одну из целей войны для России. 24 марта 1916 года, более чем за шесть месяцев до того, как г-н Трепов, во время своего краткого пребывания у власти, в свою очередь провозгласил необходимость для Российской империи господствовать над Босфором, г-н Милюков сказал в Думе: «Мы хотим выхода к свободному морю. Мы, конечно, не объявили бы войну с единственной целью осуществить это желание; но, поскольку она началась, мы не закончим ее, не получив этого выхода. Наш интерес заключается в аннексии Проливов».
Это была старая имперская идея, находящая новых толкователей. Какая разница, как мы видим, между людьми, которые хотели возродить Россию через войну, и теми, кто в 1905 году пытался использовать поражения в Маньчжурии для совершения революции! Выборгский манифест, после роспуска первой Думы, призывал русский народ отказаться от уплаты налогов и несения военной службы. В 1914 году либералы четвертой Думы просили его не жалеть жертв ради войны до победного конца.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.