
Полынь и донник (сб. «Окликая по имени»)
Что вы знаете о ностальгии,
Кроме самого слова,
Заваренного в дорожном термосе
С полынью и донником?
Что вы слышали о тоске по Родине,
Комом в горле не дающей дышать,
Бросающей в слезящиеся глаза пыль чужеземья,
Где никто не окликнет по имени,
Сочащейся валерьянкой из старых фото,
Хранящихся на жёстком диске
Импортного системника?
По Родине, до которой не дотянуться…
По домику с провалившейся крышей…
По пересохшему ручью за огородом…
По лесу, вывезенному в Поднебесную…
Нет… Ничего вы не знаете…
Ничего вы не слышали…
Но я готов… Готов рассказать…
Рассказать о месте, где рождается солнце,
О том, как к небу тянутся гудящие сосны,
О кузнечиках, стрекочущих
В нетронутой грибниками хлёсткой дурманной траве,
О каменистом пустынном пляже
За околицей брошенного села,
О тягучих июльских закатах,
Провожаемых хором сверчков и лягушек,
О лукошке с хрусткими груздями и подберёзовиками.
Я могу рассказать…
Если только сердце не захлебнётся воспоминаниями,
Если не позабуду слова, ускользающие бусинами
Из маминой чешской шкатулки,
Если не онемею, сжав в кулаках отцовские погоны…
Если прощу себе, что так и не открыл вам,
Что такое ностальгия,
Пахнущая костром,
Шариками придорожной полыни
И букетом степного донника.
01 (роман «Перекрёстки детства»)
«Начиная какое-либо дело, никогда правильно не представляешь себе его действительных масштабов»
Сизиф. «К вершине»
Давно уже я обратил внимание, что целые периоды жизни практически стёрлись из моей памяти; и не то, чтобы они оказались потеряны, но рисовались размытым, невнятным, расплывчатым миражом, напоминающим контуры за стеклом, когда по нему хлещет сильный дождь. Вроде бы, смутные очертания предметов, находящихся на улице, и можно различить, к примеру, дом напротив не перестаёт быть домом, хотя, и смахивает теперь больше на серую застиранную скалу с глазницами пещер, вместо окон; или спортивная площадка, она ведь ни на йоту не стала менее приспособленной к ребячьим проказам, но видится, как жёлто–красный пещерный городок, обитают в котором, извлекающие неведомые нам сокровища из ближайшей глухой и унылой скалы, трудолюбивые горные гномы со сморщенными суровыми бородатыми мордочками, чьи головы увенчаны коричневыми остроконечными колпаками, а тела облачены в зелёные кафтанчики с ремешками, блистающими медными пряжками, с карманами на груди и на боках, закрывающимися на серебряные пуговички, сверкающие в огне ручных фонарей со свечами в центре, а ноги, покрытые чёрными сафьяновыми штанишками, обуты в кожаные сапожки с металлическими подковками на каблуках, цокающими при ходьбе в подземных тоннелях. Однако мазки прекрасного манто с волшебным бурым мехом не дают точного понятия о сокрытом за потоком ливня городе, покуда не сумевшем насладиться солнечным светом, не успевшем окунуться в бархат неба, чересчур редко не тревожимого шуршащим ситцем облаков, настолько привычных нашим широтам. Нет во всём этом резкости, предельной микроскопической резкости, создающей максимальное представление о явлении, рассматриваемом нами всесторонне в надежде постичь его форму и содержание. Вот и минувшее, распугивающее ворон ребятнёй, неуловимо трансформировалось в магический дымчатый полупрозрачный шар, со звучащей в нём иногда музыкой, то ли полузабытой, то ли вовсе ныне незнакомой, внутри коего подчас мелькали загадочные лица, кленовые переулки, сейчас не существующие, ибо неузнаваемо искажены они равнодушным, холодным и безразличным к ним и ко мне, временем. Порой я ощущал, будто и прошлое с его шармом ностальгического уюта у меня отсутствует; утеряно оно бесследно, прочно, и даже крошечных зацепок за него не сохранилось, а есть только неумирающее бесконечное «сегодня». Оно и завтра тоже будет — «сегодня», а само «завтра», превратившись во «вчера», окутает меня лёгким туманом, лишь добавляющим непрозрачности сему бесцветному пятну, стирающему, словно ластиком, остатки чётких глубоких линий — моему детству, моему утраченному без возврата детству.
Утраченному.
Без.
Возврата.
С весёлой бестолочью салок.
Так мне чудилось.
И я почти уверился в этом.
Глаза неба (сб. «Алхимия»)
Глаза неба-
Белоснежные облака в прохладной осенней бирюзе.
И ни малейшего следа Бога
Среди пёрышек в синеве,
Залитых сиянием солнца.
Забывая тебя, я теряю последнюю надежду,
Отсчитывая секунды в одиночестве,
И горсть родной земли не греет.
Не осталось сил плакать
Каждую минуту.
Но взгляни, я борюсь,
И моя кровь не вода.
Моя кровь не вода.
Я отпускаю в высоту
Фигурки слов, начертанные тобою на стекле.
Но поднебесье молчит,
Не подёргивается рябью ответа.
Оно купается в лучах светила,
А мне кажется, я похоронил тебя.
Роняю каплями секунды одиночества,
Но они не напоят иссушённое время.
Каждую минуту
Возводящее вокруг меня склеп.
Но взгляни, я борюсь,
И моя кровь не вода.
Моя кровь не вода.
Говорят, в преисподней
Демоны со смехом выдирают у ангелов крылья,
Чтобы они не вернули тебя
В мои объятия.
А я роняю каплями секунды одиночества,
Но они не напоят иссушённое время.
А я роняю каплями секунды одиночества,
Но они не напоят иссушённое время.
И ежеминутно
Растёт стена между мной и миром.
Но взгляни, я борюсь,
И моя кровь не вода.
Моя кровь не вода.
Глаза неба-
Белоснежные облака в прохладной бирюзе.
И ни малейшего следа Бога
Среди пёрышек в синеве.
Глаза неба-
Белоснежные облака в прохладной бирюзе.
И ни малейшего следа Бога
Среди пёрышек в синеве.
03 (роман «Перекрёстки детства»)
«Дорогой друг, я теперь очень мало сплю. Во сне приходиться отвечать на вопросы, которых я стараюсь избегать, бодрствуя»
Маркиз де Норпуа «Письма»
Детство, да и вся моя последующая жизнь неразрывно связана с местностью, где я провёл свои первые семнадцать лет. И хотя потом я уехал в город, возвращался в родную деревушку редко и неохотно, но смог заново обрести её уже тогда, когда будущее утекало сквозь пальцы, а дни с каждым прожитым месяцем неслись стремительнее, напоминая реку, катящую меж заливных сочных лугов, важно нёсшую вперёд, в неведомое, отражающиеся в ней облака, набирающую на перекатах невероятную скорость, дробящуюся, рассыпающуюся отдельными струями, хлёстко бьющими по стопам путника. И качался в мёртвой воде звездопад… Открытие это, в некоторой степени, помогло мне вернуть то, чего я был лишён многие годы, чего не хватало, и к чему я бессознательно тянулся. Тянулся, высматривал, и не находил, ибо слишком поздно осознал, что в молодости человек так же одинок, как и в старости, несмотря на наличие рядом людей, называющих себя друзьями. «Я один. Всё тонет в фарисействе». Попытка преодолеть неизбывное одиночество в юности приводит к поискам любимой женщины, которой не страшно признаться в том, чем не поделишься с другими, рискуя обнаружить в её широко раскрытых глазах недоумение и непонимание; а на закате — к стремлению отыскать кого–то готового внимать тебе, и пусть, даже, элементарно, сделать вид, будто услышал твои откровения. Однако, по недоумённому пожатию плечами, по чуть дрогнувшим в сардонической улыбке уголкам плохо пробритых губ невольного собеседника, становится ясно: с возрастом ты не только не обрёл искомого, но и растерял найденное. И поэтому, остаётся лишь молча умирать. Не потому, что нечего сказать, а ведь, большинству тривиально нечего сказать, а просто оттого, что сказать некому. Некому из тех, кто в состоянии продегустировать шабли́ со льдом.
Порой я сомневаюсь, существуют ли они вообще.
Соната Вентейля (сб. «Без раскаяния»)
Ты приснилась мне пристроившейся мимоходом за скуластым роялем,
С остро отточенным непоседливым карандашиком за ушком.
На твоём безымянном пальчике, отмеченном чернилами с оброненного Цветаевой пера
В свете софитов тускло поблёскивала паутинка обручального колечка,
Подаренного восторженным поклонником двадцать лет назад.
А за моим ухом торчала мятая кубинская сигарета «Лигерос»
С ленточным фильтром,
Привезённая в надорванной пачке с золотистым корабликом
Из белых ночей перестроечно–бурлящего пенного Питера,
И карман твидового пиджака жгла фляжка с армянским коньяком.
Оглядывая пустой зал, ты кидала мне:
«Не уходи, я скоро», и что-то черкала в разложенной на коленях партитуре,
Пытаясь исполнить отредактированное.
Но рояль оказался расстроенным
И «до» малой октавы постоянно западала.
Ты возмущённо восклицала:
«Разве на корыте исполняют классику?!»
И торопливо переводила разговор на Менуэт
Из Дивертисмента Моцарта.
А я, отхлёбывая из фляжки, кивал, морщился и просил
Порадовать меня сонатой Вентейля.
После секундного замешательства ты ссылалась на потерю нот
И бережно опускала крышку на утомлённые клавиши.
А я взбегал на сцену, щёлкал пальцами, и меж ними сверкала фольга
Оставленного кем-то на соседнем сиденье пакетика кофе «3 в 1».
«Составишь компанию?» — галантно кланялся я.
Но вместо ответа ты повисала у меня на шее,
И целовала мои запечатанные временем веки до тех пор,
Пока я не просыпался от слёз.
07 (роман «Перекрёстки детства»)
«Весна раскрыла нам объятия, а мы взалкали её берёзового сока»
Мальвина.
Большая талая мутная вода конца марта, вырывавшаяся из-подо льда, бурлившая и звеневшая под аккомпанемент оголтелого пения обезумевших от ультрафиолета и запахов обнажившейся земли, шнырявших туда–сюда воробьёв, предвещала каникулы, сотни разъединяющих вёрст, а оттепель позволяла скинуть опротивевшие за зиму шубы, валенки и шапки–ушанки. Мы с томительной надеждой вслушивались в усиливающуюся капель, с наслаждением окунались в пьянящие лучезарные ванны апреля и засыпали в сумерках соловьиного предлетья, надышавшись ароматов цветущих яблонь, черёмух и сиреней. По дорожке детства нас вела необъяснимая радость, пробивавшаяся через закономерные мартовские и апрельские заморозки с метелями, снегопадами, низкими тучами, не дающими увидеть солнце, с ночными температурами в минус двадцать. Мы знали: впереди — беззаботная летняя нега, тонкая трость с борзой, сиеста продолжительностью почти в три месяца, и до сорванных связок умоляли, чтобы она, где–то споткнувшаяся и присевшая в сугроб передохнуть, поскорее вскочила, отряхнулась и направилась прямиком к нам.
И вот вожделенное время, нисколько не смущавшееся доставленными нам мучениями в ожидании его появления, наступало. Хотя…. Постойте, вначале шествовали майские праздники. Да, поначалу — Первомай, а после и 9-е. Не скажу, сколько из них омрачалось холодом и дождями, кстати, обычными в наших местах; в памяти они сохранились со сверкающими тёплыми восходами, с безоблачными просторными небесами и поздними рубиновыми одиночными облачками, предсказывающими завтра очередной бесконечный погожий день. И до чего ж не хотелось затем, когда выходные внезапно заканчивались, снова подниматься с рассветом и тащиться на осточертевшие уроки. Какая учёба, если в крови клокотало неперебродившее вино свободы и молодости, если нас подстерегали редкость встреч закатными часами, неведомые открытия и новые игры, непрочитанные книги и непросмотренные фильмы, в которых пятнадцатилетний капитан сражался с негодяем Негоро, а обаятельный мерзавец Сильвер в финале замирал на камбузе с отравленной стрелой в спине под крики белого попугая. «Пиастррры! Пиастррры!» Это и многое–многое другое становилось гораздо важнее алгебры и геометрии, вызывавших у меня ужас, и даже сейчас, по прошествии стольких лет, посещающих меня в ночных кошмарах; существеннее биологии и географии, ибо на горизонте маячила не книжная география, а вполне реальная, — география реки, поля и леса. И значительнее химии… Химии чувств, прямого, взыскательного взгляда, чаяний и разочарований, не сравнимой с пресностью органической, неорганической, не имевшей для нас практической ценности.
Оттого портфели с обрыдшими учебниками и дневником, потрёпанные страницы коего покрывали преимущественно не домашние задания, а замечания красной пастой с жалобами на невыполненные, пропущенные занятия, и отвратительную дисциплину, выражающуюся в полном отсутствии при частичном присутствии, в невосприятии излагаемого учителями материала и, подчас, в абсолютно бессмысленно–мечтательном взоре школяра, чудились нам гирями, препятствующими перемещению в иное измерение.
Но полагалось соблюсти ритуал свидания с летом, отчего и требовалось вести себя именно так, как принято у взрослых, именно такое поведение благосклонно принималось богиней природы, под чей, увитый хмелем алтарь иногда прятались свёрнутые, смятые в комок листики, вырванные из тетрадей. На них твёрдой дланью и возмущённым почерком выводились оценки, скрываемые от родителей, дабы они не разочаровывались в своих отпрысках и не применяли в воспитательных целях ремень.
Окружающее казалось опостылевшим и надоевшим, мечталось о нечитанных стихах, разбросанных в пыли по магазинам, об утре, не понуждающем вскакивать ни свет, ни заря, о солнечной погоде, ласковом ветре, друзьях, заскакивающих в гости, и застающих меня в готовности бежать купаться, либо напротив, чинно вышагивать с длинной удочкой, мешочком с хлебом и банкой красноватых шевелящихся червей, накопанных с помощью ржавых вил. А недели, словно назло, тянулись еле–еле, ковыляя на последний звонок подстреленным бойцом.
В юности поспешность не ощущается свойством их характера.
Между сном и явью (сб. «Гранатовый пепел»)
Черта, за которой небытие
Всегда под ногами,
Но полустёрта лисьим хвостом иллюзии.
Сделать шаг
Или замереть на краю-
Трудный выбор.
Лгать самому себе,
Водить за нос близких,
Притворяться и изворачиваться,
Извиваться ужом на сковороде,
Захлёбываться тоской,
Тонуть в сонетах Шекспира,
Подыгрывать на рояле Джереми Пельту,
Трепать за ухо кота,
Покусывающего обветренную руку,
Доверять ему
Несбывшиеся надежды
И мечты,
Обратившиеся в розовый пепел
Македонского шершавого граната.
С подозрением взирать на людей
В режиме нарушенной самоизоляции,
Многословных, приторных, деловых,
Равнодушных, бездушных, потерявшихся,
С двадцатипятицентовиками вместо глаз,
Отражающими чаяния сердчишка.
Переступить грань?
Открыть новые миры?
Превратиться в машину,
Подобную тем, с кем свела нелёгкая?
Овладеть специальностью мародёра,
Грифа,
Падальщика,
Жирующего среди чумы,
Наслаждающегося чужой бедой?
Или сохранить искру жизни,
Лепесток любви,
Микрон совести?
Для чего?
Для кого?
Не отыскать опоры
Вне самого себя,
И нет смысла в бытии,
Кроме избранных ориентиров.
Со ступеньки на ступеньку…
Метр за метром…
Год за годом…
На Монфокон,
На Гревскую площадь,
На лобное место…
И подчас не хватает сил быть человеком,
И случается, пропадает страх перед бездной…
Вдох-выдох…
Ещё жив?
Или это снится?
Но и во сне я один,
А не в числе мразей,
Пирующих на свежем пепелище.
12 (роман «Перекрёстки детства»)
«Мёртвым не всё равно, если речь идёт о той памяти, что они о себе оставляют. Каждому хочется, чтобы после смерти его запомнили не таким, каким он был, а таким, каким мечтал быть»
Доктор Франкенштейн.
Справа от библиотеки располагался кабинет арифметики…. Тпруууу, кони привередливые! Не гоните, судари мои! Тут безотлагательно следует внести ясность, упомянув, что алгебру и геометрию я ненавидел всеми фибрами души и панически боялся, аж похлеще высоты. Великие математики, от Пифагора до Лобачевского, строго взирали с портретов на мои мучения, но исправить ничего не могли. Свою роль сыграла и прогрессирующая миопия. Я не видел полностью материала, при объяснении выводимого преподавателем на доске, хотя и занимал первую парту. Поэтому, продвигаясь тропой дремучей и лесной, не разумел в полном объёме, о чём шла речь. Задания контрольных работ, и те я шёпотом, обезьяньими ужимками и подмигиваниями выпытывал у соседа, а драгоценные минуты уходили. Оставалось — списывать у Панчо. Благо, он корпел над самостоятельными позади меня, а иногда и рядом, и в теоремах, вычислениях, молях, тангенсах, котангенсах и прочей тёмной непролазной чаще разбирался, дай Бог каждому. Кстати, зрение у Панчо тоже ушло в минус от беспрерывного чтения, ему также прописали очки.
Невероятно, после экзаменов мне случайно попалось в руки пособие поступающим в вузы, «Алгебра и начала анализа», 1976 года издания, уже с пожелтелыми страницами и потрёпанной обложкой. И вот я решил, маясь перед вёдреным закатом бездельем, поразмяться, полистать учебник, потренироваться. Сколь велико было моё удивление, когда я обнаружил, что не только усваиваю излагаемое в книге, но и в состоянии решать задачи, предназначенные контролировать усвоение формул.
Стёклышки я заработал ещё в младшей школе. Мама возила меня с направлением местного эскулапа в город, в детскую клинику, на приём к офтальмологу. Сельский доктор не знала толком, что предпринять дальше, почему–то сомневалась в диагнозе и нуждалась в его подтверждении. В результате январской поездки в Тачанск меня поставили на учёт и даже обронили фразу об операции. И, естественно, выдали рецепт на очки, сразу нами и заказанные.
Мне поневоле приходилось пользоваться ими на уроках, ведь руководитель нашего 3-го класса, Наина Феоктистовна, отправляла меня с занятий домой, за футляром с окулярами, ежели я их по рассеянности оставлял на телевизоре, либо не брал вполне осознанно. Сопротивлялся я отчаянно, и там, где отыскивал лазейку, обходился без них, ждал вестей от жаворонка, ловил тучи на бегу. Для подобного поведения имелись веские основания. Лежащие на поверхности — застенчивость, робость, боязнь выделяться и казаться ущербным.
Вдобавок на втором ряду сидела девочка, к которой я регулярно оборачивался, стараясь перехватить взгляд её серых глаз под длинными ресничками. Она безнадёжно мне нравилась, и я стыдился выглядеть слабеньким слепышом. В неё, в девчушку с косичками, с чуть вздёрнутым веснушчатым носиком, странной фамилией — Мильсон и студёным, зябким именем — Снежана, в скромницу и отличницу, постепенно выросшую в признанную красавицу и секс-символ параллели, я влюбился в десять лет. Нет, я тогда не понимал, конечно, своих чувств, не устремлялся навстречу призракам ночи в златотканые сны сентября… Но в присутствии Снежаны сердце у меня колотилось быстрее, кружилась голова, мерещилось, будто я способен летать, мечталось: если б нам подружиться, то…. Размышления на данную тему доводили до слёз, бесценная Снежка абсолютно не обращала не меня внимания. Со временем я осознал, что к чему, но легче не стало, а попыток подойти, заговорить не предпринимал из–за дурацкого малодушия и патологической скромности. Я краснел, волновался, судорожно заикался, слова застревали в горле, я давился согласными. По той же причине пересказать выученное стихотворение, ответить урок по биологии, географии, истории зачастую являлось для меня невыполнимой миссией. Я ежесекундно запинался, вызывая общее хихиканье.
Всё, на что меня хватало, — не на сверкающей эстраде писать записки с восторженными признаниями, стихами, и тайком вкладывать их в карман пальто или курточки Снежаны, прокравшись переменой в раздевалку. А утром, замирая от ужаса и восторга, следить за её реакцией. Чего я ожидал, на какую реакцию рассчитывал? Паззл не складывался, она по–прежнему равнодушно отворачивалась, а я мучился и изводил себя напрасными, безосновательными упованиями.
В последний раз мы виделись на шумном, пьяном выпускном, и у меня теплилась надежда на некое чудо. Разумеется, волшебства не случилось. Вновь с провинциальным пессимизмом не примерил я плащ волшебника… С того дня мы не встречались. Снежа не вышла замуж, но перешагнув сорокалетний рубеж, родила дочь…. Закончив училище, она устроилась фельдшером в больницу Питерки, куда я не единожды обращался. И однажды на остановке автобуса Владлен, провожая меня в Тачанск, слегка присвистнул:
— Смотри–ка! Вон твоя одноклассница. Не узнаёшь? Чума любви в накрашенных бровях…
И указал на стоящий через дорогу вишнёвый «жигуль», и женщину за рулём.
— Кто это? — переспросил я, подслеповато щурясь, приподнимая очёчки, различая предательски неясные расплывающиеся очертания.
— Мильсон! Снежана! — с нажимом упрекнул он, будучи в курсе, с каким пиететом и нежностью я в юности относился к даме в «Жигулях». И, закурив, с укоряющей издёвочкой подколол:
— Эх ты, герой-любовник! Жинтыльмен неудачи!
Я промолчал, протёр глаза, отвернулся.
Ладно, подчинимся воле всевышнего, под злодейски хрипящий граммофон склоним покорно выю, — значит, не судьба. В ином случае, её и мои тропинки обязательно бы сошлись. Зато у меня в шкафу, в синей папке, меж редких подростковых снимков, лежит фотка нашего 11-го класса, вручённая вместе с аттестатом. На ней фотограф, монтируя коллаж, разместил нас рядом.
Меня и Снежку.
Face to face…
Я считал сей факт неким знаком.
Ребячество… Глупо, конечно. Без малейшего повода…
Вообще–то, я определённо напутал, ибо прощальная встреча с Мильсон произошла не на выпускном, а следующим утром. Мне не забыть её белые запястья, аккуратно подстриженные ноготки без маникюра; Снежа споласкивала под краном чайные, с сиреневым цветочком и позолоченным ободком, чашки. Стройную фигуру подчёркивали плотно обтягивающие бёдра джинсики. Я смирился, уже не жалел о вечной разлуке с той, что любил десять школьных лет; просто рассеянно, не отрываясь и не моргая смотрел на её тонкие музыкальные пальчики. Она, знакомясь с лестью, пафосом, изменой, стряхивала в раковину капли воды с влажных чашечек, разливала в них кипяток из самовара и добавляла туда по ложечке растворимого кофе.
Мы расположились в кабинете литературы, казавшимся получужим, слушали классного руководителя, Ольгу Геннадьевну, в неформальной обстановке подводящую итоги, говорившую напутственные слова, частыми крохотными глотками отхлёбывали горячий ароматный напиток и договаривались, куда пойдём, разжившись вином, прощаться друг с другом неискренне, пространно и шаблонно. Меня мучила головная боль, напоминавшая о ночном банкете и двухчасовом беспокойном хмельном забытье, внутри всё дрожало, мучительно хотелось пить и спать.
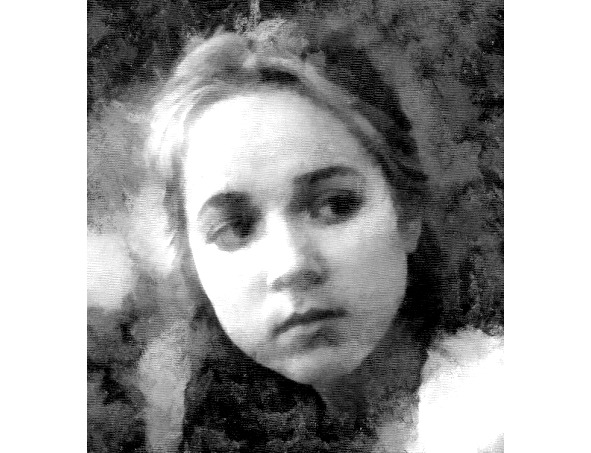
И не нашлось на столе, за коим я устроился, подперев подбородок руками, ни одного яблока, которое можно было бы бросить моей путеводной звёздочке. Лишь покрасневшие огрызки в тарелке на подоконнике. Только вот, любимой не бросают огрызок. Увы, подарить Снежане яблоко под луной я не решился. А теперь — поздно. Наше с ней время под шелест дождливого июня скукожилось до размера коричневого полузасохшего объедка.
А потом, пользуясь терпимой погодой, компания вчерашних школяров отправилась в сторону пляжа; и у меня имелся припасённый флакон «Медвежьей крови», выцыганенный с боем у бабушки. Единственная бутылка на ораву в 15 рыл. Мильсон родители увезли в Беляевку, и я вскоре заскучал.
Миновав пригорок и пройдя берегом Светловки около километра, мы развалились на опушке леса. По простору простёртой рати неба плыли грузные серые батальоны туч, обещавшие дождь, град, изредка из–за них выбиралось солнце, словно стремившееся, но не успевавшее, т. к. очередное облако скрывало нас от него, сообщить нечто важное. Светловка полоскала берег тяжёлыми свинцовыми волнами, рассыпавшимися о ноздреватые скользкие камни брызгами душа и превращающимися в желтоватую пену. Похолодало, с реки потянуло запахом водорослей, йода и сырого дёрна. Разведя костерок из сухих веток, собранных в подлеске, рассевшись прямо на траве, мы, пуская по кругу стакан с еле заметной щербинкой у края, занялись пузырём, и нектар в нём закончился очень быстро, после первого же глотка. Пятнадцать похмельных выпускников на 700 мл.! «По усам текло, в рот не попало!» Изрекали сентиментальные благоглупости, в запале давали зарок регулярно встречаться, дорожить детскими годами, братством (какое, к чёрту, братство? Откуда ему взяться в глухой и неживой пустыне эгоизма? Оно секунду назад за рюмкой образовалось, и исчезнет спустя полчаса), искренне и наивно веря в исполнимость этого, хотя, буквально назавтра и не думали о сгоряча выпаленных обещаниях.

Танька Широва, невысокая худенькая девчонка с выступающими ключицами и короткой пергидроленой чёлкой, лихо отплясывала в купальнике под песни группы «Шахерезада», нёсшиеся с кем–то прихваченного с собой магнитофона. Танюха кричала, в танце размахивая над головой белым платьишком с легкомысленными розовыми лепестками:
— Ребята, навсегда запомните меня такой!
«Ночка, ночка,
ночка-черноночка,
подари мне миг услады!
а-ха-ха-ха-ха!»
Такой я её и запомнил. Танцующей и поющей на фоне жёлтого прибрежного песка, с оспинами мелких камушков, сочной зелёной осоки и стелющегося слезой дыма костра.
Через 26 лет, в течение которых, мы поговорили всего единожды, Татьяны не стало. Инсульт. Мне написали о похоронах за сутки, и я, торопясь в безвременье пересыхающим родником, не смог скорректировать планы. Да и был ли я там необходим? А остальные? Спорно… Зыбко… Вряд ли я свыкнусь с мыслью, что ко мне на кладбище притащится какой–нибудь малознакомый субъект. Полагаю, не велико количество добра, сделанное мною людям, ну и они также испытывали к моей персоне мало симпатии, и не стоит посмертно ворошить прошлое, приглашать на проводины тяготившихся общением. Валите сразу к отцу лжи, лицемеры!
Раньше высшей похвалой мужчине звучало: «Я б пошёл с тобой в разведку!»
А сейчас?
Есть те, кому б ты подмигнул из гроба?
И сколько их? А?
Или больше других, при чьём приближение ты незаметно сплюнул бы и тихонько, дабы посторонние не услышали, с липкой лаской в голосе, вопросил: «Где ж, вы, падлы, шкерились, когда я вас звал?»
А тебя многие пожелают увидеть среди плакальщиков?
Однако… в стыдливой теплоте заката мёртвому не безразлично ли…
Хм…
Давным–давно — 1 (сб. «Мой друг Марсель Кузьмич»)
Случилось это так давно, что и подумать страшно. (Поэтому, чтоб не пугаться, писать я стану, не думая) Много спирта с того времени испарилось, ещё больше сигарет искурилось, а те, о ком речь ведётся, живы ли, нет ли, неведомо. Вестимо, трава тогда росла зелёная, тучки над буйными головушками проплавали прозрачно-серые, а вода из-под крана казалась чистой-чистой, настолько чистой, что некоторые рисковали заливать ею похмельный пожар. Правда, Президент был уже тот же, что и ныне, ну, да не о нём речь, раздолья ему с корешами в офшорах!
Служил я в ту пору мытарем в одной крупной телекоммуникационной компании. Должность официально называлась — менеджер по работе с дебиторами, а мытарями нас, изгаляясь, обзывал технический директор, отец наш двоюродный, обладавший специфическим чувством постоянного юмора. Одно слово — полковник. Бывший военный.
В обязанности мои тогда входило посещение несознательных граждан, не оплативших предоставленную им услугу, напоминание о необходимости погашения образовавшейся задолженности, да приём наличности, коли проштрафившиеся соглашались раскошелиться немедля. Буде, неплательщики настаивали на своём и злостно от платежей уклонялись, я через некоторое время навещал их с лестницей да чёрной-чёрной сумкой с инструментом, и тв на их жилплощади с той минуты транслировало исключительно чёрно-белые хаотичные сигналы, посылаемые гуманоидами откуда-то из созвездия Лебедя.
Работёнка, надо понимать — собачья. План — 40 квартир. Обход в вечернее время. Зимой и летом, под дождём, снегом и градом. До отдалённых районов добираешься своим ходом, за свой счёт. И согласился я на неё не от хорошей жизни. Впрочем, как у любого явления, у неё были и положительные стороны. Применительно к мытарству они заключались в постоянном окладе и процентах от собранных сумм. Больше соберёшь — больше получишь.
Суббота и воскресенье считались выходными. Да, именно считались. Ибо с каждым месяцем количество обслуживаемого жилого фонда увеличивалось, а вторая пара ног меня всё никак не отрастала. Оттого в особо жаркие периоды приходилось пахать без роздыху, ежедневно. Порой я находил в этом даже некое извращённое удовольствие и если для отдыха мне выделяли один из упомянутых дней, то я брал папку со списком адресов и отправлялся на прогулку. Правда, уже в дневное время.
Вот, в одну из таких-то суббот и пересеклись мои пути с тропками сибирского кота Вилли.
Погоды стояли в то майское утро удивительные. Стучащееся в окно солнышко шептало: «Займи и выпей», тёплый ветерок насвистывал «А нам всё равно!», а клейкие листочки тополя пахли, казалось, шампанским, и их аромат так же ударял в голову.
Но я стоически показал им всем язык и кукиш, вырядился в костюмчик с галстучком, начистил до блеска туфельки и сказав соседскому рыжему пекинесу, повертевшему мне вслед когтем у виска: «Сам дурак», отправился шакалить и промышлять на большую дорогу.
Долго ли коротко ли бродил я, но список привёл меня на адрес: Гамбитная Три Дробь Четыре кв. 18. Второй подъезд, первый этаж, сразу направо.
Бывал я у того дома не в первый раз, прекрасно помнил и покосившиеся качели, на которых рисковали качаться только пьяные старшеклассники, и песочницу без песка, у которой сейчас гуляла молодая женщина с трёхлетней девочкой.
До того содрать деньгу мне удалось только в одном месте, но я не унывал и подкатывал к подъезду, напевая:
Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики,
Франки, фунты-стерлинги да тугрики,
Ой, день-день-день-деньжата, денежки,
Слаще пряника, милее девушки
С подобным настроением я и шагнул в полутёмный подъезд.
Нет, ничего особенного, таинственного, из ряда вон выходящего в подъезде том не было. Я подобных подъездов к тому дню прошёл сотни. Как и везде — покосившаяся внутренняя дверца, всегда почему-то скрипучая и давно не крашенная, и металлическая –наружная. Слава КПСС Зевсу, она была открыта. Видимо, в честь весёленькой погодки.
Поднявшись по ступенькам к щитку электросчётчиков с горящей над ним вполнакала лампочкой, я поморгал глазами, адаптируя их к полусумраку, и обратил свой взор на обшитую деревом дверь должников.
— Алиса, смотри какой жучок ползёт по травке! — послышалось с улицы. — Нет, ручками его трогать не надо, он же грязный, и у тебя животик заболит. А вот ещё червячок на камушке. Что? Пи-пи хочешь? Ну, Алька, мы же полчаса назад поднимались! Опять что ли? Ну, пошли!
Недосуг мне было слушать споры девчонок, я нацелился на добычу и совсем уже приготовился нажать на звонок, как разглядел что-то большое и мохнатое, сидящее на полу у затасканного коврика. Отпрянув, я присмотрелся и вздохнул с облегчением. Меня пристально разглядывал чёрный пушистый, не хилых таких размеров, кошак. С котами я всегда ладил, поэтому улыбнулся зверушке и снова протянул руку к звонку.
И вдруг кот выгнул спину, распушил шкуру, надулся и зашипел, сверля меня злобными глазищами.
— Э, ты чего, приятель? — изумился я, но на всякий случай сделал шаг назад. — Тебя домой не пускают, да?
Говорить я старался негромко и миролюбиво, но на хищника обманка не подействовала, он утробно заурчал и дёрнулся ко мне люциферовой тенью.
— А вы к кому? — услышал я вопрос, заданный мне той самой особой, что выгуливала во дворе дитя.
Пока я общался с мрачным порождением преисподней, женщина с дочкой успели подняться почти вплотную ко мне.
— А вы из 18-й?
— Вообще-то да. А что?
— Пивоварова Алёна Николаевна?
— Да…
— А я — представитель «Фуфел плюс». У вас задолженность за два месяца. Вы можете оплатить всю сумму мне, или на почте в ближайшее время. В случае отсутствия денег на счёте в течение трёх недель, ваша квартира будет отключена от системы приёма…
Я тараторил назубок выученный текст, одновременно готовя бланк предупреждения об отключении, но закончить поэму мне не позволила зверская мохнатая харя, чтоб ей клыки пообломали.
Неожиданно кот прыгнул и, вцепившись мне в форменные наглаженные брючки, стал рваться по ним вверх. На пиджак. К лицу.
Вероятно, чертёнок хотел в клочья порвать мне фейс, исполосовать бритвами когтей, распотрошить мою харизму, посмевшую заикнуться о каких-то долгах.
Секундное замешательство прошло от выдоха обалдевшей от атаки хозяйки этого гадёныша: «Виля, ты что?!», и я свободной рукой ухватил уже добравшегося до моей рубашки паразита, за шкварник и стал отрывать его от себя.
Но гладко было на бумаге… Котяра вцепился намертво, да ещё вдобавок начал издавать сатанинские хохочуще-воющие звуки, от которых ребёнок немедля спрятался за мамашку. Тут уж я бросил папку с документами на пол и ухватил зверюгу поудобнее. Только после этого мне удалось оторвать от себя адскую тварь и отбросить извивающееся, жаждущее крови подобие тасманского дьявола в дальний угол.
Воспользовавшись передышкой, я подхватил документы, отметив, что исчадие ада уже приготовилось к новой атаке, виляет задом и щёлкает зубами.
— Я… Он… Мы… Ой, — мямлила женщина, а потом взвизгнула, когда кусок шерсти снова ринулся на меня. Но тут он жёстко обломался. Я был готов к его недружественному демаршу, поэтому успел отбросить когтелапого в сторону ударом ноги. Мявкнув, кот шмякнулся на ступеньку и с проклятиями рванул на второй этаж, где и затаился.
— Ваш? — кивнул я вверх, переводя дух и отряхиваясь.
— Наш… Но… — лицо владелицы животины пошло красными пятнами
— Вы его специально натаскиваете? Чтоб, значит, нежелательных гостей встречать? — я улыбнулся, не выпуская из виду межэтажную площадку.
— Нет, что вы. Извините… Я не понимаю, что с ним, он обычно, такой смирный. Вил и ребёнка не обидит. Вы уж простите, пожалуйста. Я никак не ожидала.
— Мама, — захныкала девочка и дёрнула родительницу за палец.
— А, да. Сейчас, сейчас.
«Яжмать» засуетилась, зазвенела ключами и щёлкнула замком.
И тут, кот, видимо, внимательно следивший из засады за всем происходящим, с поистине лошадиным цоканьем пулей просвистел мимо нас и юркнул в квартиру.
Я успел лишь вздрогнуть.
Вслед за хищником внутрь поспешил и ребёнок.
— Алёна Николаевна, так вы оплатите задолженность?
— Ой, вы знаете, у меня мужа сейчас дома нет, он всеми этими делами занимается, вдруг он сегодня расплатился, да и деньги у него, — заторопилась Пивоварова.
— Ясно, — я был безмерно разочарован, но тем не менее, одарил её улыбкой. — Пожалуйста, предупреждение. Здесь сумма указана. Постарайтесь её погасить и сообщить диспетчеру по указанному номеру. Иначе, числа двадцатого останетесь без телевидения.
— Конечно, конечно. Спасибо вам большое. Извините.
И дверь захлопнулась перед моим носом, а уведомление трепыхнулось в моих пальцах. Бумажку Алёна Николаевна не взяла.
Я хмыкнул и сунул документ в еле заметную щель между стеной и дверной рамой.
Видал я таких мамзелей. На целую картинную галерею наберётся.
Бес Вилли сидел на подоконнике у цветка и скалился мне вслед. Я показал ему кулак и сплюнул.
Сумму я в тот день собрал махонькую.
Совсем мизерную.
Суббота.
Народ на дачах.
Ах да, самое главное. Пивоварова Алёна Николаевна с задолженностью так и не рассчиталась. Поэтому в обещанный срок я с удовольствием вырубил в их жилье тв сигнал. Деньги же впоследствии были взысканы в судебном порядке.
С процентами.
15 (роман «Перекрёстки детства»)
«Трёхдневные курсы вареньеварения из материала заказчика. Быстро, вкусно, улётно»
Карлсон.
Хотя я плохо помню отца, погибшего, едва мне исполнилось пять лет, но он жив на фотографиях, и я чётко вижу отдельные сцены с его и моим участием.
Во второй половине июля, когда в лесах поспевали грибы и ягоды, мы целым семейством выезжали на природу. Брата, как самого маленького, вручали бабулям, а меня, бескрылого на груди пустыни, частенько забирали с собой. Грибы привозили картофельными мешками, настолько много их росло в окрестностях Питерки. Собирали, красноголовики, синявки, белые, рыжики, волнушки, лисички, масленики. Последних набирали невероятное количество.
Дома добыча вываливалась в длинные цинковые ванны, заливалась водой, отмокала минут сорок, после чего все, утомлённые поездкой, усаживались рядком и, под шелест старых писем и дальних слов, вдыхая неповторимый и незабываемый лесной букет, перешучиваясь, сплетничая, тщательно очищали собранное от налипшей бархотками сухой травы, сушёных рябых корешков и земли. Уйму сил отдавали возне с груздями и маслятами. Со вторых требовалось аккуратно снять верхнюю кожицу, надрезом проверить, не червива ли шляпка, а первые старательно скоблили ножом, щётками, счищая грязь. На сортировку уходили часы, и я считал их безвозвратно потерянными. Обработанные грибочки, в зависимости от сорта поджаривались с подсолнечным маслом, картохой и лучком, покрывавшимися румяной корочкой, особо ценимой, и подавались вечером на стол, притягивающие и потрясающе вкусные. Параллельно взрослые варили похлёбку, у нас почему–то её величали губницей, дух блюда распространялся по комнатам и заставлял постоянно, наведываясь к плите, нетерпеливо принюхиваться и сглатывать голодную слюну.
Грузди и быки на зиму солились, мариновались, укладываясь в банку в неожиданном для себя соседстве с листьями жгучего хрена, пером и дольками чеснока. Бабушки закатывали стекло крышками, гонявшими солнечные блики по стенам и потолку, а мы с Владленом маялись на подхвате. Помогали сквозь сеть алмазную лучащегося востока готовить варенье из мягкой крупной земляники, надолго въедающейся в пальцы черники, замшевой ворсистой малины, сочной, слегка кисловатой клубники, а также фруктовые компоты из чёрной, белой и красной смородины. Упакованное помещалось в отдающий кошками подпол, где покоилось в прохладе на полках, дожидаясь извлечения из зябкого колючего сумрака и подачи к обеду. Соленья, выставленные вместе с варёной рассыпчатой картошкой и копчёным свиным салом с нитками мясца, считались отличной закуской к холодной континентальной водке. Припасы бывали столь велики, что к новому сезону удавалось съесть лишь часть их, раздаривая невостребованное родственникам и друзьям.

Доля сладкого оказывалась заметно меньше, и расходовалась она экономнее. Литровая баночка тёмного, с беленькими вкраплениями земляничных глазков, чуть вязкого, капающего с ложечки варенья, вскрывалась к чаю, делая его восхитительно летним, придавая ему обалденно нежный вкус, и хватало её приблизительно на полмесяца. Компоты выпивались ещё быстрее: три литра, в хорошей компании, могли уйти за полнедели, оттого до весны они не доживали.
Если честно, я, опрокидывая во сне плачущую бездну, не любил эти выезды чёрт знает, куда. Мною овладевала скука, не нравились табуны мошкары и комаров. Эти вездесущие, неутомимые кровопийцы способны сожрать и корову, поэтому я зачастую просто отсиживался в коляске, укрывшись брезентом, погружаясь в дрёму.
Обычно, мы ездили на Светлый Мыс, находившийся в 6—7 километрах от Питерки, в нижнем течении Светловки, где больше всего собиралось груздей, выпирающих из дёрна бугорками. Дорога через рощу, огороженная поскотинами, сбегала прямиком к речке, возле которой, чураясь высоких мрачных сосен, к увалам жалась старая серая избушка без окон и трубы, закрытая на поломанный висячий замок с шершавой, тронутой ржой дужкой. В хибаре летом частенько останавливались отдыхать, ночевать пастухи, рыбаки.
Ближе к Светловке почва становилась сырой, хлюпала, а из–под сапог выскакивали маленькие пугливые буро–зелёные лягухи. Воздух слоился, казался одновременно пропитанным запахами кострища, влаги, мокрого мха и леса, я воспринимал его густым и непривычно тяжёлым. В реку вдавалась короткая отмель, усеянная галькой и мелкими обточенными плоскими камушками. Их я, книжный затворник, обожавший солнце не меньше моряков, водрузив на куст лукошко, воткнув в песок крошечный ножик с ручкой перемотанной синей изолентой, швырял в воду, стараясь сосчитать «блины» и пытаясь докинуть до противоположного берега. Но перебросить никогда не получалось, Светловка здесь довольно своенравна, широка и глубока. Восточнее она вязнет в ивняке, колючей осоке и черёмухе, и к ней невозможно подступиться.
— Серё–ё–га–а–а! — доносился зов деда, загружавшего люльку и намеревавшегося ехать обратно; я торопился на его крик, задыхаясь от скорости, унимая отчаянно толкающееся сердце.
И вот как–то вернувшись из подобной поездки, у меня на шее, под подбородком, заметили присосавшегося клеща. Его благополучно вытащили и на некоторое время забыли о происшествии. Вскоре у меня начались проблемы со здоровьем. Надо отметить, столкнувшись с клещом, деревенские жители не паниковали. Если он цеплялся, его извлекали и давили, не прибегая к помощи зеркала иль головни, к врачам с мелочёвкой не обращались, случаев заболевания энцефалитом, боррелиозом случались единицы, а про смертельные исходы и вовсе никто не слыхивал. Но мне не повезло.
Пролетел месяц, и я почувствовал себя плохо. Тошнило, мучила непрерывная слабость, еда вызывала отвращение. Обращения в больницу к положительному эффекту не приводили, постепенно я перестал ходить, и бабушка Аня катала меня окрестными улицами на колясочке, показывала суетящихся под заборами куриц, петухов с разноцветными хвостами, звёзды над стихающим просёлком, однако я вяло реагировал на её байки, реальность виделась, будто в дымке. Папа, наблюдая такое положение вещей, плюнул на местных эскулапов, вытребовал у них справку, и на служебной машине отвёз меня в детскую поликлинику Тачанска. Три дня я пролежал под капельницей, после чего моё состояние слегка улучшилось. В сентябре я возвратился домой. Сейчас ясно, — не вмешайся батя, упомянутая история могла закончиться крайне печально, но я, естественно, не осознавал серьёзности ситуации, меня беспрестанно клонило в сон, одолевавшее бессилие путало мысли, и умереть я совсем не боялся, не разумея, что означает умереть, не существовать. Дети и дряхлые старики не страшатся смерти и не улавливают её присутствия рядом.
Спустя 30 лет я вновь навестил Светлый Мыс, еле отыскав место, где выслеживал лягушек. Что я, перечитав рассказ Апулея в сто первый раз, мечтал найти, я и сам точно не знал. Зачем проделал путь по заросшей грунтовке, никем не использовавшейся года два, буквально продираясь сквозь возраст и стены крапивы, шиповника, малинника, оккупировавшие центр колеи, теряя ориентиры и сомневаясь в правильности выбранного курса? Неужели лелеял надежду услышать своё эхо и дотронуться до корявой надписи «СМ», вырезанной ножичком на обращённой к потоку стене дома? Или тянуло упасть вниз лицом, уткнуться в хвою, коснуться подушечками пальцев туманной черники, поцеловать родную, вечную, мою землю, ощутить то, что я ощущал, будучи наивным пацаном, открывающим планету? Воскресить отроческие эмоции, на мгновение снова перевоплотиться в весело смеющегося мальчика, играющего на сельской площади в мяч, проникнуться тем, чем он не проникся тогда, ибо не обладал для последнего шага терпением и настойчивостью?
О, боже! Бесконечная наивность!
Бесполезно… Ничего не вышло… От жердей, отделявших просеку от чащи, осталось исчезающе мало, головёшками чернели фрагменты, указывающие верное направление. Песчаная коса сгинула, затянутая пьяной черёмухой и метровой травой. Непосредственно о Светловке напоминали лишь едва слышимое журчание, камыши и сырость. От таинственной халупы, в чьи щели я, замирая, заглядывал вечность назад, не уцелело и щепки. Светлый Мыс, некогда славившийся грибами, превратился в труднопроходимые джунгли, затирающие даже вездесущие поганки. Нет, береговина не содержала и частички моего отпечатка, и надеяться обрести тут старые ощущения новизны мира, нечего было и думать.
Образов периода, связанного с отцом, сохранилось несколько. Запомнилось, например, как я с годовалым братом будил главу семьи на смену. Он служил в милиции в звании старшего сержанта, и к должности относился не слишком ответственно, с рассветом не особо спешил осчастливить дежурку явкой и звоном чаш хмельных.
— Нужен буду — придут, — говаривал он поутру, натягивая на голову подушку.
Отчаявшаяся мама выпускала на арену нас, подводя к кровати и давая установку:
— Папе Васе пора на работу, тормошите его!
Мы начинали толкать родителя ручонками, стаскивать с него одеяло и приговаривать:
— Папвась, няй (вставай)!
Из укрытия показывалась всклокоченная улыбающаяся щетинистая физиономия. Старший Максимов клал широкие тяжёлые ладони на плечи сначала мне, потом Владлену, проводил ими по нашим лицам, плечам, прижимал к себе, а затем с хрустом потягивался и произносил, ухмыляясь:
— Ладно, бродяги, сейчас поднимусь.
Об этом ритуале мама и бабушка Аня впоследствии рассказывали неоднократно, в деталях повторяя всё, о чём я поведал, и порой у меня появляются сомнения, происходил ли он на самом деле или явился лишь аберрацией памяти, услужливо воплощающей чужие, не единожды повторённые слова, в привычные кадры.
На невеликой кухоньке много места занимала русская печь, на чьей целебной спине зимой сушили валенки, варежки, тряпьё, и на которую мы, повзрослев, научились забираться, приставив к ней красный стульчик с силуэтом белого новогоднего зайчика. На ней дозволялось спать, но из–за сильного жара мы ограничивались тем, что, забравшись наверх, пускали в комнату бумажные самолётики, просунув руки и голову в узкую щель между кладкой и потолком.
Со стороны, выступающей к окну, мастер изготовил камин: снизу закладывали дрова, а сверху над пламенем нависала вмурованная в кирпичи плита. Выше, в районе в безвестное ведущих тёмных заслонок, печник оставил два углубления, в них прятали спички и, почему–то, внушительные разболтанные портновские ножницы, коими срезали плавники у щук. Выемки находились высоко, и дотянуться до спичек мы, по малости росточка, ещё не могли.
Рядом, в дальнем углу, валялись сушёные, серые от пыли заячьи лапки, ими стряхивали пепел, сажу и нагар с очага, да слипшиеся от жира крылья небольших птиц, коими равномерно размазывали по противням душистое подсолнечное масло. Лапками, к бесстрастью себя приневолив, мы с братом иногда игрались, а появились они, когда отец притащил с охоты подстреленного, чуть рыжеватого зверька, с замаранным кровью мехом. Среди охотничьей добычи встречались селезни с изумрудной шейкой, с глазами, подёрнутыми смертной плёнкой и разбитой грудкой. Они пахли болотом, тиной и отчаянием.
Нам в наследство осталось несколько коробок зелёного, порезанного мелкими квадратиками, и чёрного, напоминавшего чайную заварку, пороха, разнокалиберная дробь, пустые и заряженные медные патроны, капсюли, и напёрсточная мерка, служащая для измерения количества заряда, засыпаемого в гильзу. Хранилось сокровище под замком, и однажды я, учась в седьмом классе, разжился ключом, добрался до клада, и стащил, дабы спалить в крытых учебных окопах возле школы. Конечно, вскоре пропажа обнаружилась, и я, молодой моряк вселенной, получил за это от деда выговор ремнём с занесением в личное дело, но нисколько не жалел о содеянном, уж очень красиво взрывоопасная смесь горела и шипела, выпуская клубы удушливо–тухлого, густого синего дыма с сизым подкладом.
На неровной шероховатой чугунной плите родители варили в кастрюлях супы, тушили в сковородах мясо, а нам пекли печёнки и лепёшки. Помытая картофелина нарезалась тонкими пластинками, натиравшимися солью и отправлявшимися на раскалённую чугунину. Подрумянивая, отвердевшие кусочки переворачивали ножиком. Пластики приобретали приятный золотистый цвет и слегка солоноватый вкус. Случалось, правда, они подгорали до черноты, но ничего непоправимого в том мы не видели, гарь соскабливалась ножом. Лучше всего жарёнки уплетались тёплыми, т.к. полежав на тарелке, отсыревали, становились скользкими от влаги, превращаясь в ломтики банального прохладного отварного клубня. Лаваш обычно пекли на горячей плите из раскатанных остатков пресного теста.
Пока готовились «сельские походные деликатесы», мы с Владленом нетерпеливо подпрыгивали, дожидаясь возможности отправить в рот бесхитростное, но такое аппетитное кушанье. Бабушки только и успевали, грозя кулачками, отгонять нас полотенцами от камина, ибо мы, войдя в раж, могли обжечься, коснувшись потрескивающей дверцы. В века загадочно былые, и печёнки, и лепёшки за раз выпекались не по одной штуке, и нередко мы наедались раньше, чем они заканчивались.
Живой (сб. «Острова в бесконечном океане»)
Умирал, да, дурак, не умер…
Не выхаркал надсадно лёгкие в реанимации,
Не сгорел листом пожелтевшим в лихорадке.
Не забрал наверх чёрт с опухшим от пьянок
Лицом соседа.
Видимо, и там я никому особо не нужен,
Не интересен,
Не гож.
Или просто рановато навострил лыжи,
Или кто-то потерял направление с диагнозом,
Или опять авансом будущее прописано:
«Принимать по чайной ложке
Два раза в день…»
Ясности нет…
Отчёта канцелярия канцлера не предоставит.
Перечеркну месяц назад написанное, —
И снова влачиться сиротливо слепцом
По глухим закоулкам и преднебесным хлябям.
Снова собирать милостыню у торговых центров,
И Робинзоном Крузо копаться в канавах
В поисках Справедливости.
Да, засыпая под мостом, выводить на кирпичной кладке
Рунами ворчливых друидов кришнаитскую мантру,
Что при этаком раскладе
Пора бы уже нелёгкой и вывести,
Отсыпать горсточку алмазов с небесного свода,
Набить карманы ханскими тугриками
В знак того, что чёрная полоса
Замазана конопатыми дорожниками известью,
И сбоку угольком подписана:
«Взлётная».
25 (роман «Перекрёстки детства»)
«Мне вы можете верить или не верить. Это ваше дело. В моём лексиконе таких понятий нет»
Генрих Мюллер. «Сыскные истории»
Вслушиваясь в их неспешные разговоры, мы с друзьями перешёптывались, сидя на соседней лавке, либо копаясь в песке, неподалёку от канавы, вырытой дедом Николаем вдоль участка, дабы вода дождей и весенней распутицы не заливала погреб, вплотную, то рысью, то карьером, подбираясь к стенам, а, грозно журча, уносилась вниз, на другую улицу, огибая усадьбу.
Метрах в шести от соседского гаража росла, огороженная деревянной клетью, высоченная рябина, восхищавшая нас, детей, мясистыми, сочными, красными гроздьями сентябрьских ягод, терпко–горьких на вкус, свисавшими поверх полусгнившего ограждения. Подрастая, мы меньше и меньше обращали на неё внимания. И рябинка, и увесистые кисти её плодов, горечь расставанья, боль и жалость становились чем–то обыденным и разумеющимся.
На южной стороне Николай вырастил тополя, и постепенно они вымахали настолько, что подобрались к электрическим проводам. И старик, вооружившись ножовкой, пятиступенчатой лестницей и табуретом, по весне прореживал густые ветви. Пару раз я пособлял ему спиливать щупальца, находившиеся в поле моей досягаемости. Мне это было внове, интересно и не сложно, хотя руки быстро уставали, а на ладонях, липких от молодых, дурманящих, нежно–зелёных завитушек, появлялись волдыри.
Зёрнышки радости утопали всё глубже и глубже в бесплодном пыльном песчанике возраста. Я абсолютно не помнил ни ножовку, ни пьянящую клейкость листочков, едва распускающихся под ласковым майским солнышком и карабкавшихся в безоблачную синь. Не помнил, как срезанные кроны немо падали на землю, а мы с Николаем и бабушкой Василисой собирали их и относили сушиться к поленнице. Хрустящие обрезки сжигали потом в камине. После смерти Николая, его дом, отличный, надо заметить, дом, с просторным мощённым и крытым двором, с недавно поставленной, взамен старой, банькой, пахнувшей сосной и берёзовыми вениками, висевшими в предбаннике, с огородом, сбегавшим с пригорка к чистому ледяному роднику, с теплицами, новые хозяева продали. Покупатели избавились от рябины и тополей, опоясали избу сеткой. О, Сольвейг, где ж косы твои золотые? Некому балагурить на завалинке, отмахиваться от комаров веткой черёмухи, травить байки; лавочку, забираясь на которую сандалиями, мы с братом лезли в окно, летом почти не закрывавшееся, разломали.
Ничто, происходившее с нами в юности, никакие отголоски не прячутся безвозвратно, не умирают окончательно, чтобы уже не воскреснуть. Они, трясясь в прокуренном вагоне, возвращаются, завладевают мыслями и эмоциями, вселяют в нас стойкое ощущение тяжёлой потери. Утраты чего–то такого, что не воспринималось нами всерьёз; чего–то, чему мы не в состоянии дать имя, что не в силах описать. Наверное, наиболее близким понятием этого считается ностальгия. Но её нельзя ни потрогать, ни сфотографировать. Она существует одновременно вне и внутри нас, побуждая срываться с насиженной жёрдочки, спешить на Родину. Но провалившись туда, мы замираем: мир перевернулся. Перспектива искажена — деревья состарились, горы стали ниже, ручьи пересохли, тропинки растворились. Да и трава на кочках теперь растёт иная, она совсем не мягкая, как чудилось в ослепительном прошлом. Однако ещё имеется нечто, заставляющее память обостряться, иногда позволяющее мужчине на миг выпрямиться мальчиком, играющим в логу у каменных глыб, и предвкушающим крик, несущегося малинником приятеля: «Я идууууу!!!»
Ему, не разомкнувшему жарких рук кольцо, близоруко щурящемуся парнишке, слова: «Я идуууу!!!» казались высшей ценностью на свете.
Не дороже ли они долгожданного женского признания в любви, ведь любое признание в любви, по сути, не любовь?
Не ценнее ли самой верной верности, ибо познал он, — верность хранят, пока это выгодно? И выгодно вовсе не ему…
Не отдаст ли он последнее единственно ради шанса превратиться в пацанёнка двенадцати лет отроду, коего друг извещает на бегу: «Я идуууу!!!»?
А ты?
Не там ли твоё место, не рядом ли с ним, счастливчиком, не ведающим обжигающего будущего?
Очутившись возле него, поделился б ты, что одноклассник, давным–давно летевший к нему со всех ног мимо картофельных грядок, однажды безо всякой видимой причины не захочет разговаривать с ним, безнадёжно рыскающим по городу в поисках работы. Товарищ «по кисти и туши», заколачивая приличные деньги, побоится услышать просьбу о помощи. Они выбивают из колеи, мешают наслаждаться собственной значимостью и делать бизнес, эти несвоевременные намёки на стеснённое положение, на проявление сочувствия.
Стоит ли пророчить подростку, заучивающему стихи о Прекрасной Даме, что та феодальная птичка любви, которую он не прекратит звать, обожать и слышать даже тогда, когда окажется не способным узнавать никого из окружающих, выкинет его за порог морозно-звёздным декабрьским вечером (а ему и идти–то, собственно, некуда), разменяв преданность на сытую и обеспеченную жизнь?
А о романтическом свидании с женщиной, бросившей его, о страсти, запоздало вспыхнувшей и исковеркавшей его, поведал бы?
А историю, как на фоне непрерывных домашних скандалов, непрекращающейся травли тёщей, он в прогулках по предвечерним душным июньским переулкам, куда убегал, лишь бы не слышать визга истеричной старухи, повстречает давнюю знакомую и переспит с нею? И не скроет сего факта от любимой? Напротив, франтовато козырнёт им.
Важно ли ему это знать?
Спасёт ли его это в дальнейшем?
Смог бы он на сквозняке осеннем ледохода осмыслить твои предостережения?
Твою исповедь…
Ты уверен?
Точно?
А, выложив ему всё, ты остался бы прежним?
Слабо?
Ты, вообще, заморачивался подобными вопросами?
Так, вероятно, и замечательно, что путешествие во времени невозможно? Что ты сделаешь, переместившись лет на 30 в прошлое? Буднично прокатишь на мотоцикле себя маленького, посмотревшись в него, словно в зеркало для героя?
Или?
Детство неизменно таится за нашим левым плечом, и чем быстрее мы от него удаляемся, тем ближе оно к нам. И не удрать из морока по-воровски…
Неуловимая вечность мелькает и исчезает, потревоженная рычащей из немецкого автомобиля какофонической мелодией. И вот, тебе снова сорок пять, у тебя куча болячек, тебе нужно не опоздать на городской автобус и, главное, — ты сомневаешься, был ли двенадцатилетним пацаном, чьими глазами осматривался мгновением ранее. И это досаднее всего. Это гложет, не отпускает, и ты приезжаешь сюда раз за разом, надеясь понять, совершалось ли в действительности то, что ты секунду назад воскресил? И не просто приезжаешь, а ходишь тропками, хожеными им, сидишь на неудобном камне у берега реки, облюбованном им для рыбалки… Скребя душу, сдирая с неё доспехи жизненного опыта, сливаешься с испытанным восприятием окружающего, переписываешь его… Ныряешь в никуда и обновляешься… Вживаешься в него и возрождаешься… Обретаешь утраченный покой, бессмертие…
Не сон ли это? Часто, заснув, мы вникаем в то, о чём прежде не имели и малейшего представления, а умираем от безнадёжности. Узнали и забыли. А вдруг случившееся — не мимолётная иллюзия? И куда же оно пропало? Можно его разглядеть, коснуться? Нет? Но как соединить себя с ребёнком, бегавшим по этим холмам, валявшимся в этой траве–мураве, окунавшимся взглядом в этот неправдоподобный небосвод?
«Ой — ли?» — подчас цепенею я. По этим ли холмам? А где колючие заросли можжевельника, населённые невидимыми сущностями, эльфами, гномами? Заросли милого ломкого почерка, предназначенные для бесконечных игр в прятки.
Они рассыпаются… Вылинявший, облезлый, переплетённый сухостой, перебрасывающийся через гнилой забор мячиком эха…
Да и в этой ли траве мы катались? Почему она некогда притягивала и ласкала, а нынче отталкивает, вынуждая подняться, не принимая.
А небеса? Отчего, долго наблюдая за бескрайним голубым океаном Соляриса, раскинувшимся в вышине, задыхаешься от тревожного жжения в груди? В минувшем он поражал беззаботностью и навевал грёзы.
А сегодня? Он зовёт? Ожидает? Напоминает, что мы скоро сольёмся с ним в одно целое, подкрадёмся к солнцу вон той небольшой серой тучкой?
Поверьте! Если пришло время, я готов стать ей. Выберу облачко посимпатичнее и, дыша тобою в рыжих сумерках, допрыгну до него, оседлаю туман…
Только немедля, не откладывая…
Сейчас и здесь…
А ты?
Жизнь в поисках виноватых (сб. «Окликая по имени»)
Бесчисленные попытки исправить минувшее,
Бесконечные изобретения верных решений,
Проигрывание их в мыслях,
Проигрывание их в ролях
За себя и за того парня,
За себя и за ту сучку.
Поиски спасительной тропинки между «тогда» и сейчас»…
Поздно… Ничего нельзя улучшить, —
Прошлое только ухудшается,
А с ним и настоящее,
Тем паче, что существует оно
Только в твоём воспалённом воображении.
Перелистывая письма оттуда, ты замечаешь,
Как гогочут над тобою те, кого ты стремишься изменить.
Их не стереть ластиком,
Не смыть обиды упрёками,
Даже палач из славного города Лилля
Вряд ли совладает с ними.
Обиды — не муки, не перемелются в муку,
Да и мельница для них не построена.
Слабость и трусость — вот что принуждает бегать по прошлому
В поисках виноватых,
Слабость и трусость растоптали мечту,
Слепили фальшивую приторную иллюзию
Иначе сбывшейся жизни,
Иначе сбывшегося тебя.
Тебя, у которого нет почти ничего общего
С тобой нынешним,
С тобой изведавшим,
С тобой создавшим,
С тобой непокорённым…
Лишь всходы слов, пущенных по ветру…
Лишь жажда любви, не требующей взаимности…
Лишь смерть, расставляющая всё по местам…
30 (роман «Перекрёстки детства»)
«Никогда не позволяйте своим друзьям садиться на неподкованную лошадь»
Бен Джойс-Айртон. «Коневодство в Австралии»
В июне дед получил письмо из города Лозового, от младшей сестры Марии. Она сообщала о намерении навестить его, избрав, наконец, игрушечный закон робкого удела круговорота сутолоки. Мария уехала в упомянутый южный степной городишко по распределению, окончив строительный техникум в Губернске. Обустроившись, она обзавелась мужем и родила дочурку Галю. Десятилетиями родственники поддерживали вялую переписку, перезванивались и теперь, когда старший брат зазвал её в гости на пару недель, Мария, понимая, что они — люди пожилые и в силу возраста вряд ли свидятся, приглашение приняла. Попроведать нас она вознамерилась не в одиночку, а с внучкой, тринадцатилетней Леной. Галина, дочь Марии, в Лозовом вышла замуж за сослуживца, смуглого, белозубого деловитого азиата. Лена носила странно звучавшую фамилию — Хтоидзе, и отчество Томазовна. (Я с присущим мне злоязычием в шутку назвал её «Камазовной» и она, свирепо, по-женски, обидевшись, отправила меня в игнор без права на реабилитацию).
Первоначально мы с Владленом не обратили на новость никакого внимания. Подумаешь, какая–то баб Маша с девчонкой! Ну, поживут дней десять, велика важность! Не мирового масштаба событие! Мне было однозначно не до приезжих, Зяма к тому времени вырос до размеров глобальной проблемы.
А ещё с началом каникул мы, расцветивши крыло попугая, случайно открыли для себя таинственную мансарду бабушкиного дома. Я и прежде пытался пробраться туда чуланом, по затянутой тенётами деревянной лестнице, ведущей вверх. Попытки мои не увенчались успехом, люк заколотили на совесть, и сколько б я в отсутствие взрослых не долбил в него молотком, ни налегал плечом, он не приподнимался ни на сантиметр.
На чердак удалось проникнуть совершенно неожиданно. К хате примыкали хозяйственные постройки, загон со стайками. Родители отца в течение десятка лет разводили разную живность. Помимо крупного рогатого скота водились у них индюшки и куры с петухом, пущенные под топор раньше прочих, хотя я и успел застать чёрную птицу и рыжего склочного кочета, редкостного задиру и драчуна, победно гонявшего меня по ограде. Вслед за пернатыми избавились от быка и коровы, а вот свиньи продержались в хозяйстве подольше. Дед и бабушка владели и лошадью, но незадолго до моего рождения её продали, о каурой жилистой коняге я знал по рассказам. Уздечка, седло, вожжи, медные колокольца хранились в заваленном отжившими вещами сосновом занозистом коробе в дальнем углу пристроя. Роясь в прозрачных венчиках фарфоровых цветов, в ворохе корзинок без ручек и истёртых до трухи половиков, чихая и кашляя, я наткнулся на упряжь и спугнул хлопотливых воробьёв в саду звяканьем сбруи.
С конца мая по сентябрь, покуда тепло не сгорало в пожаре предзимья, коровёнок на день отправляли под надзор пастуха Лёхи Мельника, пятидесятилетнего хромого мужичка, рассекавшего по Питерке на пегом коне и размахивавшего плетью. Утром Мельник уводил ораву в поля, поближе к лесу, а к закату препровождал обратно. Мы с дедом несколько раз прогуливались до околицы встречать нашу коровушку Марту, но в большинстве случаев, достигнув села, скотина сама разбредалась по дворам, останавливаясь и мыча у своих ворот. Хм… И как они запоминали, куда идти?
Стадо в Питерке насчитывало более сотни голов, ведь бурёнка для крестьянина, это не только молоко, мясо, масло, сливки, но и удобрения на огород. Марта радовала нас нежнейшим молочком, слегка сладковатым по моему мнению. Доили её вечером, предварительно протерев набухшее вымя, и струи звонко били в дно блестящего ведра, обдавая белыми брызгами мои вязаные шорты с якорем, исцарапанные коленки и возмущённо подёргивающуюся спинку мордатого чёрно-белого кота Феди, тёршегося о галоши, вылизывавшегося, и тревожно наблюдавшего за процессом дойки. Никогда потом я не пил вкуснее молока, чем свойское, свежее, парное.
Израсходовать его всё мы, конечно, не могли, поэтому из излишков с помощью жужжащего, тугого ручного сепаратора изготовляли сметану. Она, чуть сжелта, придавала супам, борщам, соусам, подливам и куриным отварам неповторимый смак, помнящийся на протяжении века. Ложка застревала в ней, точно оловянный солдатик в сиропе, рискующий подхватить божественный насморк и бессмертный кашель. Представьте, мы мазали её ножом на хлеб и посыпали сахаром. Объедение, доложу я вам!
На хлеву держали запасы сена. Оно, ароматное, пряное, отборное, упиралось почти в шифер амбара, и не всегда удавалось влезть на тюки. Так продолжалось осень и первую половину зимы. После сенокоса сухую траву утрамбовывая, набивали до стропил. А к весне оставалась примерно треть, неуклонно убывавшая, и в эти–то моменты появлялась возможность взобраться на сеновал, поваляться на колючих стеблях, пахнущих летом, пачкая с бледным рисунком тонкий батист, а заодно и проползти вглубь. Однажды я обнаружил, что с сенника прямо на основной сруб переброшены четыре неширокие доски. Осторожно ступая, я незамедлительно скользнул по ним и очутился над кладовкой, возле забитого крест–накрест люка.
В общем, место сие достопримечательностями не отличалось. Чердак, как чердак. Среднестатистический. Грязновато, темновато, окошечко на улицу невелико, в него едва башка просовывалась, по центру — уходящая ввысь, наружу, квадратная печная труба, вместо пола — слой шлака. Но он представлялся неведомым, счастливо разведанным мною миром.
Я вернулся на землю прежним путём, через хлев. А уже на завтра выяснил: наверх реально попасть и с веранды, вскарабкавшись, подобно скалолазу, по брёвнам стены дома, цепляясь за толстые гвозди, кем–то предусмотрительно в них вбитые. И спускаться тоже оказалось проще, — хватаешься за массивную балку, сучишь ногами, а затем разжимаешь пальцы и прыгаешь на пол. Я поспешил сообщить об обретении и Владлену, и друзьям.
Ни ругань, ни угрозы на нас не действовали. Мы втащили туда два сиденья и кучку книг, но читать из–за господствовавшего полусумрака получалось лишь у оконца. Частенько с нами тусовался и серый полосатый бесхвостый котяра Гаврик. Хвост ему прихлопнули в дверях в декабре, когда он застрял на пороге, не решаясь выскочить на мороз. Перерубленная половинка болталась на коже, и вскоре отвалилась, с тех пор Гаврик помахивал коротким обрубком. Зверюга символизировал уют, и любил дрыхнуть, развалившись, на свободном табурете, исполняя колыбельные и потаённые сказки.
Мансарда стала укрытием. Сюда не совались чужие, здесь царили спокойствие и убаюкивающая тишина, создавая видимость надмирного существования, вечности, парения над суетой. Ты — один, никто не тебя сыщет, не потревожит, часы, неразборчиво журча голосами, текут мимо, не задевают.
Пока развлечение было в новинку, под крышей набиралось сразу человек пять. Внизу, в комнате, от нашего топота, нарушая мёртвый сон обители глухой, в щели потолка на клеёнку стола, на свёрнутые вчетверо газетки, на треснувший футляр из-под очков, на перекидной календарь, перетянутый резинкой от трусов, в чашки с недопитым утренним чаем, в сахарницу с торчащей из белоснежной горки кристалликов ложкой, сыпалась зола. Отшвырнув сборник морских повестей, в сени выскакивал дед и до нас доносилось:
— Да еттивашу мать! Чего вы там, бляха-муха, сабантуй устраиваете? Серёга, альпинист бумажный, я те хлыста всыплю! Слазьте нахрен, быстро, все! Топочете, как медведи в цирке!
Шёпотом высказывались сомнения в его способности согнать нас сверху, но проверять спорное утверждение на практике, дураков не находилось. Вечно на чердаке не просидишь, рано или поздно придётся спуститься. Руку дедушка имел тяжёлую и скорую на расправу, рефлексией не страдал, и убеждаться в его педагогических талантах отчего–то не хотелось. Оптимальным вариантом являлось — сойти по–хорошему и, выбрав удобный миг, потихонечку снова подняться. Постепенно острота новизны ощущений у многих пропала, а я по-прежнему уединялся с упорством, достойным лучшего применения и, восседая на стуле в невесомых пыльных лучах золотой паутины света, согнувшись зверем в тесной клетке, размышлял, насколько же поганая штука — жизнь.
И действительно, ситуация виделась неразрешимой.
Опавшие листья (сб. «Алхимия»)
Северный ветер бросает в окно охапки листьев.
Отлетевших. Багряных, янтарных.
Их танец складывается в движение твоих сладких губ,
И я невольно ощущаю теплоту рук, обнимающих мою шею.
Мы расстались в августовском кафе,
Где приглашённые знаменитости исполняли «Зимний путь».
И теперь я каждый день прихожу сюда, сажусь за наш столик,
Слушаю Шуберта и собираю с тротуара ноты листопада.
В его вальсе мне чудится движение твоих сладких губ,
И я с тоской ощущаю теплоту рук, обнимающих мою шею.
Мы прощались в предсентябрьском закатном кафе,
Где пианист согревал клавиши, а солист пел об одиночестве.
И теперь я каждый вечер прихожу сюда, заказываю двойной бурбон,
Слушаю Шуберта и отыскиваю на стекле след вишнёвой помады.
35 (роман «Перекрёстки детства»)
«Мне кажется, я узнаю себя
В том мальчике, читающем стихи;
Он стрелки сжал рукой,
Чтоб не кончалась эта ночь,
И кровь течёт с руки»
Б. Гребенщиков.
Мы входим на кухню, и Лина садится к столу, а я стою, либо прохаживаюсь, прихлёбывая из кружки. Кипяток успел остыть, отпев обречённую юность.
— Печенюшку будешь? — спрашиваю я, едва Лина делает глоток и подозрительно морщится.
— Ага, с удовольствием. Давай, а то крепкий слишком, — и, откусив кусочек, хитро глядит на меня. — Скажи–ка, что я тебе частенько пекла к чаю?
— Шарлотку…
— Вкусную? Честно, не льсти, не обманывай!
— Признаться… иногда тесто не пропекалось, — начинаю я с ехидцей.
— Ах! Ишь, ты! Тесто не пропекалось, — она вскакивает и приближается ко мне вплотную, — а сам ел, да нахваливал!
В её глазах азартно пляшут искорки.
— Врунишка, — шепчет Лина, смешивая в коктейль наши дыхания. — Ты разучился целоваться. Ой, мы целовались словно обезумевшие, изголодавшиеся! У меня губы болели. А твои — мягкие, пахли мёдом… Молоком и мёдом… Хмелем и солодом…,
— А у меня челюсть ныла. Мы закрывались в спальне, я подпирал дверь стулом, падал на кровать, ты — рядом, и…
— Мы обнимались допоздна! И ты брился чаще, — подкалывает она мою недельную небритость, на что я чешу подбородок, изображая кота Матроскина.
— Первую женщину не забыть, как и первую любовь.
— Ты раньше жил в прошлом, а теперь им грезишь.
— Я, затерянный в окопах средь болот, обретаю суть неуловимых мгновений в днях потерянного счастья. Хорошо вычленить смысл в земном хаосе, даже, если он — надежда, которая не сбудется, или — страсть, которая не повторится.
— А ты б хотел его возвратить.
— Недавно в фантастическом романе я прочёл про изобретение в мрачном грядущем препарата наподобие наркотика, человек его принимал, отключался и заново проживал сокровенные воспоминания. Они выбирались целенаправленно и повторялись до бесконечности. Многие сходили с ума, умирали от истощения.
— Сергей, ты всегда был большим эмоциональным ребёнком, ты и остался им.
— Ты заблуждаешься…
— Ни капельки. Иначе я не появилась бы. У тебя лишь морщинок прибавилось.
— Возраст вспять не повернуть. Он сулит, ржёт, угрожает и лжёт пуще прежнего.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
