
Бесплатный фрагмент - Истории СССР
Краткий курс
Об авторе
Я прожил свою жизнь в послевоенном Ленинграде, вновь ставшим Санкт-Петербургом. Рос с бандитами «Васьки», занимался самбо и дзюдо в одном спортклубе «Труд» с Вовой Путиным, был призёром первенств г. Ленинграда и СССР по самбо и дзюдо. Подрабатывал в кино каскадёром, освобождаясь от основной работы, ради заработка и встреч — с Володей Высоцким, Василием Шукшиным, Олегом Янковским, Василием Ливановым, Олегом Борисовым, Михаилом Боярским, Никитой Михалковым, Марчелло Мастрояни и другими известными актёрами.
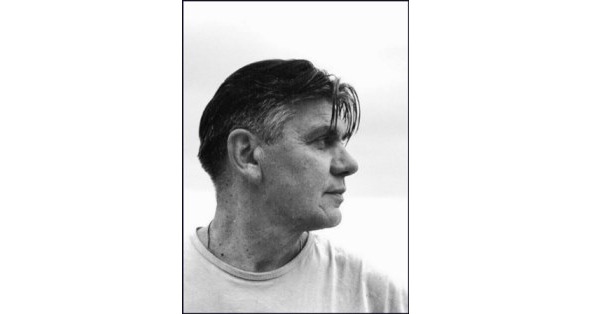
Окончил ЛИАП и работал там инженером, учился в аспирантуре ЛНИИФК и защитил диссертацию, работал 10 лет доцентом в ЛГИТМиКе, а потом был проректором по учебной работе всесоюзного института повышения квалификации профтехобразования, позже работал в руководстве компании ТРИТЭ Никиты Михалкова и директором баскетбольного клуба «Спартак». Строил коммунизм на благо советского народа, защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук, вёл курс трюковой подготовки в должности доцента Академии театрального искусства /ЛГИТМиК/. Вырастил двоих детей, которые со своей матерью и моей бывшей женой выгнали меня из моего дома после 26 лет совместной жизни. Похоронил, вскормивших меня родителей-фронтовиков. И сегодня вижу, как их, чудом дожившие до этих дней, однополчане, Победители в Великой войне, через 70 лет после Победы, вместо того чтобы давать милостыню щедрой геройской рукою недоучкам и спекулянтам, получают подачки от разжиревших наворишей. На всё воля Божия! Но нам дано осмыслить его волю в проявлениях наших поступков. Это я и пытаюсь сделать.
Примечание. Все имена и фамилии персонажей в рассказах — вымышленные и автор просит у их однофамильцев извинения.
Отзыв на книгу Николая Ващилина «Истории СССР»
Книга Николая Ващилина «Истории СССР» хороша уже своим названием. Каждый развитый человек интересуется историей своего отечества. И не выдумать лучшего и более убедительного источника, чем автобиография на фоне исторических событий. Правда это субъективный взгляд, но именно из таких «взглядов» и складывается объективная картина. Конкретные, увлекательно описанные лёгким литературным языком, происшествия оказываются будто в фокусе читательского внимания, обращённого в прошлое. И встают перед глазами достоверные, яркие картинки, будто из собственных воспоминаний. Такие описания ценны от любого человека, как ценны берестяные грамоты или наскальные рисунки. Но Николай Ващилин не простой свидетель. Ему удалось наблюдать действительность с порядочной высоты, и как спортсмену /участнику сборной СССР по дзю-до/ и как учёному, и педагогу. Целая творческая жизнь прожита им в кино, где Николаю посчастливилось работать на лучших картинахи дружить с такими художниками как Андрон Кончаловский, Никита Михалков, Сергей Бондарчук и многие другие. «Три мушкетёра», без его участия, как постановщика боёв и трюков трудно паредставить. Такие воспоминания в виде сочинений позволяют воспринимать отечественную историю, как опору для дальнейшей созидательной жизни, в том числе творческой.
Виктор Тихомиров
Писатель, кинорежиссёр,
художник из группы «Митьки» 25.04.2010.
Первый опыт предпринимательства
Отцу, маме и всем сродникам по плоти посвящаю мои воспоминания
Досуг послевоенных ребятишек больше всего был связан с игрой в войну. Мы делились на наших и немцев и гоняли друг друга по дровяным сараям палками, которые изображали автоматы или шашки как в фильмах «Звезда» или «Чапаев». Двор наполнялся криками «бах, бах» и «падай, ты убит». Те, кто изображали отряды наших бойцов, густо обвешивали свои обноски родительскими орденами. «Немцам» было приодеться труднее, да и вообще их набиралось мало. Большинство из нас отказывались изображать немцев, и их отряды были малочисленны. За это они получали в игре более выгодные позиции, и победа «нашим» доставалась не сразу и не легкой ценой. Раненный боец должен был смирно лежать на сырой земле, уставившись в прямоугольник синего неба нашего узкого двора-колодца и ждать, когда медсестра его перевяжет.
Когда в войну играть надоедало, мы шли через банный проходной двор на Неву, к Тучкову мосту. Там на берегу высились огромные горы песка, который привозили баржи для строительства. Мы лазали по горам, кувыркались, рыли пещеры. Часто пробирались на баржи и играли в капитанов. Матросы нас гоняли, но без злобы. Наглядевшись смертей, они ценили наши крики, как арии Энрико Карузо. Мимо проплывали черные буксиры, дымили черным дымом и натужно тащили за собой баржи с разными грузами. Город отстраивался после войны.
Если на песках места хватало всем, то на отвалах завода Козы случались массовые потасовки за место под солнцем. Туда из цехов завода им. Козицкого выбрасывали множество бракованных деталей, и мы собирали там свои коллекции блестящего, вертящегося и пружинящего, из которого дома делали свои игрушки. Мастерили машины, поезда, самолеты. Некоторые собирали настоящие «вечные» ручки, которыми можно было писать, если достанешь чернил для заправки. Но они часто протекали и пачкали карманы, за что нам сильно доставалось от матерей. Ребята постарше умудрялись такие вечные ручки продавать сверстникам и зарабатывать копеечку на конфеты или эскимо. Иногда даже на эскимо в шоколаде.
Копеечки у многих позвякивали в карманах. Одни выпрашивали их у родителей или экономили на школьных завтраках, другие выигрывали в пристенок. Пристенок это любимая игра шпаны по отъему денег у младших «шнурков». «Шнурок» первым должен был ударить своей монеткой о стену, чтобы она со звоном отскочила подальше. Крутой бил своей монетой о стену, она отлетала и падала поблизости от монеты «шнурка». Верзиле оставалось только дотронуться до обеих монет своими загребущими растопыренными пальцами и денежки уплывали в его карман под грустный, тихий стон «шнурка».
Моим любимым занятием было собирание кусочков цветных стёклышек во дворе Академии художеств. Там раньше была мастерская Михаила Ломоносова, в которой он делал мозаику и весь двор был усыпан мелкими разноцветными осколками. Набрав их целые карманы мы шли на причал к сфинксам и отмывали их невской водой, а потом украшали ими свои скромные жилища или меняли на другие драгоценности.
Игрушек после войны у детей нашего двора на Васильевском острове в районе Голодай было не много. Мяч можно было пнуть ногой раз в год, да и то за особую заслугу перед его владельцем. Чаще обычного играли в войну, надев отцовские гимнастёрки с орденами, вооружившись палками и прыгая по поленницам дров.
Но весь двор замирал и собирался у дверей прачечной, когда Вовка, сын дворничихи тёти Тони, выносил шайку с мыльной водой, пока его мать полоскала белье, и начинал пускать мыльные пузыри. Он делал пузыри из мыльной воды, которую должен был слить в канализацию, надувая их через соломинку. Никто во дворе не умел делать такие огромные мыльные пузыри. Весь люд нашего двора, включая героев войны и труда, с восторгом ожидал рождение каждого вовкиного мыльного пузыря и неистово крича, присваивал пузырю какое-нибудь название. Арбуз, Германия, Велосипед, Квартира… Пузыри надувались огромные и неслись по ветру через весь двор, переливаясь на солнце разными цветами и приобретая на ветру загадачные формы. Казалось, что всё пространство двора, становилось волшебным разноцветным миром и мы бегали, задрав головы и пытаясь ухватить какой-нибудь шарик. Но как только наши руки прикасались к этому чуду, шары лопались и исчезали без следа. Тогда двор оглашался дружным смехом и криками «Лопнула твоя квартитрка!» или» Германии-капут!».
Но время проходило незаметно, солнце пряталось за высокими домами и во дворе сгущались сумерки. Приходила пора возвращаться домой, к долгожданному придуманному матерью ужину. Но ночью, сладко сопя во сне под ватным одеялом, многие из нас продолжали бегать и прыгать за призрачными мыльными пузырями в детском восторге, пытаясь ухватить своё радужно переливающееся счастье.
Во дворе соседнего дома находилась столярная мастерская. Там вкусно пахло деревом, столярным клеем и было много курчавых стружек. Там можно было найти обрезки брусков, реек и сделать из них рукоятку ножа или сабли. Мама заказала дяде Феде сделать нам шкаф. Вещи уже давно висели по стенам и украшали жилище блеском орденов и медалей на родительских гимнастёрках. Видимо от большой своей доброты он вдобавок смастерил мне грузовую машину. Когда я гордый пришел с ней на песчаные горы, мальчишки сразу же приняли меня играть в гараж, но очень скоро я оказался лишним. Им была нужна только моя машина.
Я не любил драться, но жизнь к этому постоянно подталкивала. В воскресенье вся мелкая послевоенная поросль Васькиного острова собиралась на киноутренник в заводской клуб — по нашему в Козу. После киносеанса шпана выясняла между собой отношения, привлекая в шайки ребят своих районов. Самое разумное было оттуда поскорее смыться. И уже в уютном закуточке крепости своего двора разобрать по косточкам, обмусолить просмотренный фильм: какими храбрыми были фельдмаршал Кутузов или Александр Невский, какие зоркие наши пограничники и какой умный у них пес Джульбарс. А после просмотра трофейного фильма «Тарзана» весь двор наполнялся его призывными кличами и пролетами пацанов над дровяными сараями на подвешенных бельевых веревках.
Когда появились волшебные ящики под названием телевизор, во дворе вспыхнули жаркие споры. Один был умнее другого. Самым авторитетным спорщиком был Вадик Крацкин. Его отец работал инженером на заводе им. Козицкого, где и делали эти телевизоры. Но даже он не мог объяснить, как в такой маленький ящик ученые умудрились запихнуть уменьшенных людей и лошадей?
Однажды мама Вадика, тетя Нина позвала нас на детскую телепередачу. Показывали французский короткометражный фильм Альбера Ламориса «Белогривый». Я даже не смог есть ароматный и румяный пирожок с капустой, которым угостила нас тётя Нина, до того захватил меня фильм. Эта, щемящая душу, история о дружбе мальчика и дикого белого жеребца запала мне в душу на всю жизнь. В фильме ловцы диких лошадей в топях Камарга поймали коня. Мальчик его выпустил на волю, и они вместе решили обрести свободу, прыгнув в морскую пучину. Свобода или смерть! И не иначе.
По вечерам мы с бабушкой ходили в булочную за хлебом. Батон с изюмом был самым доступным угощением и по воскресным дням мы его покупали. Он был очень похож на пасхальный кулич и делал день праздничным. В тот раз в булочной толпилось много народу и, чтобы не толкаться в очереди, бабушка вывела меня на улицу и велела ждать у входа. Я пялился на горы конфет в витрине, уложенные в пирамиды и пытался рассмотреть их фантики.
Около входа в магазин стояли калеки со снятыми шапками и, потряхивая ими, просили у добрых людей денежки. Некоторые были совсем без ног и сидели на дощечках с колёсиками из подшипников. Милосердные люди бросали им в шапки копеечки, и они сверкали на дне шапок золотыми россыпями.
Мне это понравилось и, чтобы не терять время даром, я пристроился к просящим, снял свою шапочку и начал ею потряхивать. Я не успел получить свою милостыню, как вышла бабушка и дала мне по уху. Я даже не понял сначала, откуда свалилась эта оплеуха. Сначала я задохнулся от обиды, вопрошая, за что?! Потом понял, что кто-то из сограждан донес на меня бабушке.
Обычным нашим детским делом было слоняться по линиям и проспектам «Васьки» и глазеть на витрины магазинов. Больше всего мы любили смотреть на плавающих рыб в витрине рыбного магазина на Среднем и на горы конфет в китайских вазах с драконами. Самой близкой к дому была кондитерская на углу Среднего проспекта и Соловьёвского переулка. Но иногда, нарушая материнский запрет, мы пробирались до седьмой линии, где от фантиков разбегались глаза даже у Ленки Обуховой. А она то знала в конфетах толк. Её отец был полковником. Самих конфет я не ел. Видимо, маме и папе было не на что их купить. Но фантики нюхать друзья давали часто. Кто ел конфеты, рассказывал другим, что там было внутри — орешки или вафельки, а иногда и настоящий ликер. Ну, это, они, конечно, врали.
Но больше вкуса конфет меня завораживали своей красотой их обертки — фантики. Появилась такая мода — собирать коллекции фантиков и привирать, что ты якобы все эти конфеты ел и знаешь их на вкус. Хотя большую часть своих коллекций коллекционеры находили на тротуарах улиц и даже в урнах. Заглянуть в урну для меня было большим испытанием. Надо было долго дожидаться, пока все пройдут и никто не увидит, что ты рукой лезешь в урну. Зато потом, в тишине своего домашнего угла, зарывшись в книжки с попугаями, можно было не спеша вдыхать этот сладостный аромат какао из Бразилии?!
Коллекция моих фантиков и вкусовых ощущений была едва ли не самой скудной во дворе. Мой друг Вовка Захаров решил мне помочь. Он привел какого-то пацана, который предложил мне менку. Он мне фантики, а я ему ордена, которыми украшал свою курточку во время игры в войну. Я уверенно и быстро решил обменять медали «За отвагу» и «За Победу над Германией» на ворох разноцветных ароматных фантиков. Потом променял и медаль «За боевые заслуги». За каждую медаль парень щедро отваливал по десять бумажек. Глаза его радостно бегали. Он переминался с ноги на ногу и оглядывался по сторонам, будто хотел смыться по нужде. Но когда у меня остался мой любимый мамин орден «Красного Знамени», я крепко зажал его в кулаке и твердо сказал «Нет». Тогда парень поднес к моему носу фантик с, нарисованной на нём, Кремлевской Башней. От этого фантика так сильно пахнуло шоколадом, что у меня засосало под ложечкой. Мало того, от него струился еще какой то тонкий, незнакомый аромат.
— Чуешь? — спросил парень.
— Угу, — промычал я.
— Знаешь, что это?
— Что?
— Ликер, понял?
— Ты что, как же его туда наливают?
— Военная тайна. Таких конфет больше нигде нет. По заказу Сталина сделали. Понял?
— Понял.
— Бери, твое!
— Он с силой разжал мой кулак, и след его растаял в сумраке подворотни.
— Я почувствовал, что сделал что-то непоправимое.
— Дай понюхать, — заныл Вовка.
— Я, конечно, ему дал. Мне было не жалко, потому что моя коллекция теперь разбухла фантиками разных конфет.
Вечером того же дня я с радостью сообщил маме и папе о своей удачной сделке. К моему удивлению мама заплакала. Нет, зарыдала. Я даже не мог понять, чего это она так рыдает из за каких то железяк. Конечно, орден был очень красивый. Он мне и самому очень нравился. Красное, прозрачно-переливающееся красное знамя, звезда, листики дуба из чистого золота, а внутри — белая, как снег, эмаль. Мне и самому было орден очень жалко. Парень меня обхитрил. Но разве можно было его сравнивать с кремлёвской башней, источающей сладкий запах бразильского шоколада?
Мы с мамой долго бегали по дворам, но мальчика этого не нашли. Вовка обиделся, и мы с ним разругались на всю жизнь. Он ведь хотел сделать как лучше.
На Троицу дядя Федя изготовил нам шкаф, и мы его втиснули в нашу полуподвальную комнату двенадцати квадратных метров, перегородив её на две половины. На одной, у окна, спали мы с бабушкой, на другой, у печки — мама с папой. После летнего отдыха в деревне мама подзабыла про ордена и я разместил коллекцию своих фантиков на почетной верхней полке нового шкафа.
Осенью 1955 года задули холодные ветры. Мы ходили на Неву смотреть на волны и на то, как прибывает вода. Народу на берега высыпало много. Нам было весело. Из уличных громкоговорителй диктор тревожным голосом объявлял каждые полчаса о том, что вода прибывает и уже на целый метр выше какого-то ординара. Мы припустили домой, перепрыгивая огромные лужи, и с восторгом глядели, как из люков хлещет вода. Мама обрадовалась и повела меня на второй этаж парадной лестницы, где жила Ирка Куриная. Там уже кишел народ из подвальных и первых этажей. Мы с Вадиком примостились на тюках с вещами у окна и стали ждать, когда по Третьей линии за нами приплывет «Аврора».
К утру вода спала. По радио объявили отбой. Когда мы вернулись в нашу комнату, в ней было по колено воды, шкаф плавал, плавали вещи и плавали мои фантики с нарисованными на них белыми лебедями, мишками на севере, косолапыми мишками в лесу, красными шапочками, тузиками, коровками, кремлевскими башнями, красными маками и всякими другими прелестями, напоминающими об их чудесном послевкусии во рту.
Школа
Моей первой учительнице — Лидии Аркадьевне Платовой.
Я был уже в старшей группе детского сада и, возвращаясь домой, мы с мамой заходили в магазины и присматривали всякие принадлежности к школе. Был дождливый мартовский день и прогулку отменили. Мы играли в кубики и в больницу. Вдруг раздался чей-то плач, потом еще, еще. Плакали взрослые, нянечки и воспитатели. Потом, как гром, разнеслось по коридорам страшное известие — «Сталин умер!»
Страна долго рыдала, жила трауром. Люди не знали, как жить дальше. Я даже подумал, что все наши старания по подбору портфеля окажутся напрасными и никакой школы не будет. Все школы закроют. И вообще жизнь закончилась. Народ будет рыдать. Но школы не закрыли. И мы искали школьную форму с той же настойчивостью. Мне нравилась полушерстяная гимнастёрочка серо-стального цвета, но мама убедила меня, что хлопчатобумажная с фиолетовым отливом мне больше к лицу. Канючил я не долго.
И вот 1 сентября, подтянув гимнастерочку и расправив ее под ремешком со школьной кокардой, направив стрелочки на брюках, с портфельчиком, туго набитом буквариком, тетрадочками и пенальчиком, я вышел из дома, перешел через дорогу на Вторую линию и попал в беспорядочную толпу таких же «форменных» пацанов и девчонок в белых передниках.
Нас стали организовывать в классы. Учительницы громко выкрикивали наши фамилии, и мы строились в колонну по двое. Потом, когда класс набирался, учительница уводила его в школу. Мама уверяла меня, что я попаду в 1-й А класс. Видимо, она так хотела. Но 1-й А увели в школу без меня. Я был растерян и поглядывал на маму. Она жестом руки давала мне понять, что все идет по плану. Набрали и увели в школу 1-й Б класс. Начала набирать 1-й В Лидия Аркадьевна Платова. Учительница была доброжелательной с необычной старомодной прической, с белым жабо на платье. Ее голос слегка дребезжал. Она созвала положенное количество первоклашек и, взяв за руку девочку в первой паре, повела их в школу. Мама подтолкнула меня
— Иди. Твою фамилию неправильно произнесли, сказали Валуин.
После недолгих препирательств, я пошел в школу с этим классом, оставшись без парочки.
В классе все начали рассаживаться за парты — такие черные столики с наклонёнными столешницами. Все дети расселись. Я остался стоять в проходе. Места за партой мне не осталось.
— Ты из какого класса, мальчик?
— Из этого.
— Как твоя фамилия?
— Ващилин. А Вы сказали Валуин.
— Ах, да, — сказала Лидия Аркадьевна.
Так началась моя борьба за место под солнцем. Оказалось, что в коридоре дожидался своей участи второгодник Валера Ветроломов. В конце коридора стояли запасные парты. Лидия Аркадьевна сказала, чтобы мы принесли себе парту. Место для нашей парты нашлось в конце колонки возле окна, из которого, если вытянуть шею, можно было увидеть мой дом. Так что школа стала для меня почти родным домом.
Лидия Аркадьевна была нашей единственной учительницей первые четыре года. С ней мы познавали тот набор предметов, который предназначался программой для первых четырех классов: русский язык, чистописание, арифметика, пение. Только на физкультуру и на уроки труда она нас отдавала в руки других учителей — Виктора Ивановича и Сергея Петровича.
Теперь вся жизнь завертелась вокруг школы. Пришел из школы, сделал уроки (домашнее задание) можешь гулять, то есть жить нормальной дворовой жизнью. Только теперь все, кто встречался на улицах были отмечены особыми метками: этот из 2-го А, а этот из 4-го Б, а этот вообще из 24-й школы. Шел учет также и по домам проживания и по улицам. Этот с третьей линии, а этот с седьмой. Долгое время было не ясно, кто ведет этот учет и кто свои, а кто чужие. В первый раз это прояснилось когда пошли драться двор на двор. До кровянки. Потом пошли драться линия на линию. Увильнуть или отказаться было не возможно. Свои забьют. Потасовки в школе между классами считались не серьезными, но все же имели место. Обычно это происходило в туалете, или на школьном дворе.
Иногда, видимо, для того чтобы отвлечь нас от дворовой жизни и расширить наш кругозор, Лидия Аркадьевна организовывала культпоходы в театры и музеи. Экскурсии в зоологический музей с динозаврами, в музей истории религии и атеизма, устроенный в Казанском соборе, вызывали у нас неподдельный интерес. Исаакиевский собор слепил глаза своей красотой и грандиозностью. В центре, из-под купола свешивался маятник Фуко. Он величаво раскачивался по большой амплитуде. Вокруг толпились люди в ожидании чуда. Наконец, слабый щелчок дощечки об пол возвещал, что чудо свершилось. Учительница восклицала: «Видите, видите! Земля вращается! А значит, Бога нет». Я никак не мог понять этой логики и системы доказательств. Она могла вращаться и с Богом. А может Бог ее вращает?! Гораздо убедительней доказывало отсутствие Бога та безнаказанность, с которой творили эти люди кощунственные свои проказы. Сомнения усилились, когда наши запустили в космос, где по нашим понятиям жил Бог, первый спутник. Мы спорили о его размерах. Мне казалось, что он с пятиэтажный дом. Не меньше. А если меньше, то и хвастать нечем.
Я не любил культпоходов с их всеобщим весельем и полезностью, нудными рассказами экскурсоводов об исторических фактах, которых никогда не мог запомнить. Походы в театр для меня вообще стали пыткой. Там артисты делали вид, что все взаправду, хотя и дураку было ясно, что на сцене сидел дядька из соседней подворотни, а никакой ни Ленин. А чая в чайнике и вовсе не было. Конкуренции с кино, где всё было как в жизни, и кони, и танки, и река и море — театр не выдерживал. И тратить драгоценное время своей жизни на это лживое притворство я не хотел. В кино мы ходили самостоятельно по воскресениям. Рубль на киноутренник своему ребёнку находила самая нищая мать. Правда некоторые пацаны умудрялись проесть этот рубль по дороге в кино и им приходилось прорываться без билета. Детские киноутренники в кинотеатре «Балтика» или «Козе» походили на птичий базар. Дети со всего Васильевского острова набивались в зале и дружно орали «Ура» вместе с героями кинофильмов. Фильмы, в основном, были про войну.» Чапаева» мы знали наизусть. «Подвиг разведчика» цитировали без помарок. Адмирал Ушаков по нашим понятиям был членом ЦК КПСС и лучшим другом товарища Сталина. Такой морской главком, вроде Ворошилова. «Великий воин Албании — Скандербег» тоже был нашим. Географию мы учили по контурным картам, отчего весь мир казался общим, то есть нашим. Если попадалась сказка, то и она была про войну. Про войну Добра со Злом. Добро — это наши. А кто против нас — турки, половцы, белые и фашисты — зло. О Волька ибн Алёша?! Жаль, что старик Хотабыч поучаствовал только в футбольном матче. Мог бы и под Сталинградом нашим помочь — трах-тибидох. Как просто было во всём разобраться. Несогласных мочили во дворе. Между дровяными сараями. Но были среди них и те, кто с раскровавленным носом продолжал настаивать на дворянском происхождении Александра Невского. Упёртые такие парни. Никак их было не обломать.
Но однажды я насторожился. Предстоял культпоход в Эрмитаж. А там до революции жил царь. И одно то, что можно было увидеть как жил царь, где спал, где ел — вызывало интерес. Ожидания оправдались уже в гардеробе. Все было такое огромное и шикарное, в золоте и в зеркалах, что захватывало дух и переполняло гордостью за наших дедов и отцов, которые все это у буржуев для нас отняли. Пройдя бесчисленную анфиладу залов со шкафами, вазами и прочей бытовой ерундой от которой меня потянуло в сон, мы пришли в зал, где царь любовался своими картинами.
— А сейчас, дети, вы увидите великого Рубенса — торжественно произнесла учительница.
Сначала я даже не понял, где оказался. На стене висела огромная, под потолок, картина с абсолютно голой теткой. Вполоборота к ней, спиной к нам был изображен голый дядька с мускулатурой кузнеца. Видимо, это и был Рубенс. Экскурсовод начала что-то рассказывать про аллегории, но всем нам стало ясно, что никаких аллегорий здесь нет и быть не может. Это настоящие голые люди. Очень красивые, вожделенные. Именно на таких мы ходили подглядывать через процарапанные стекла в банный двор, откуда нас нещадно гоняли банщицы. А здесь всё показывали открыто. Только пытались убедить нас, что это аллегории. Дальше — больше. В зале великого Рембрандта голая тетка лежала прямо в разобранной постели. В голове моей бушевал ураган. Я понял всё. Я понял, что не зря случилась Великая Октябрьская Социалистическая Революция и всё это отняли у царя. Я понял, что не зря мама мучилась и выбиралась из деревни в Ленинград, чтобы дать мне хорошее образование. Я понял, что Лидия Аркадьевна очень добрая и показала мне лучший в мире музей. Теперь я буду ходить сюда каждый день. Сразу после школы. А потом сразу после работы. И, вообще, буду здесь жить и работать. И я повадился ходить в Эрмитаж. Мама не могла нарадоваться и хвасталась соседям:
— Коля-то мой в Эрмитаж ходит по субботам. Отвадила его школа от улицы.
Лидия Аркадьевна учила нас любить свою Родину. С первых уроков картинка ржаного поля на обложке букваря стала мне близкой и понятной метафорой нежного чувства к этому месту, где я родился и живу. На уроках пения, как молитвы, мы заклинали: «Широка страна моя родная…» и «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры дети рабочих…». И вот настал этот радостный день, когда мы стали юными ленинцами, младшими братьями комсомольцев. Я учился на «хорошо» и «отлично», а поэтому в пионеры меня принимали не в школьном коридоре, как всех прочих, а в музее В. И. Ленина.
Мы даже не усомнились ни на секунду, что Мраморный дворец на берегу Невы для музея В.И.Ленина и построили. Тем более, что другой исторической справки давать и не собирались, а краткая экскурсия по дворцу, где всё дышало революцией, ни на какие мысли о царском происхождении этих монументальных залов и лестниц не наводила. Особенное доверие к Революции и ужас перед ней внушал зал, заваленный до потолка, траурными венками по случаю смерти В. И. Ленина.
Когда мне повязали красный галстук, у меня из глаз брызнули слезы радости. Теперь я стал верным ленинцем и был готов за Ленина на всё.
— Будь готов! возопила пионервожатая с выпирающими вперёд буферами.
— Всегда готов! пискнул я петухом в хоре юных ленинцев.
Долго ждать не пришлось. По школе объявили соревнование по сбору макулатуры и металлолома. Меня выбрали звеньевым, и я очень хотел улучшить показатели своего звена и приблизиться на несколько шагов к победе коммунизма. Лидия Аркадьевна говорила о победе коммунизма с придыханием, устремляя свой лучистый взор на окна класса, туда, где сверкало солнце. Иногда я ставил ее в тупик своими глупыми вопросами: «Кто при коммунизме будет мести улицы, и делать другую грязную, не почётную работу?». Но она уводила разговор к насущным задачам сегодняшних дней, таким как сбор металлолома.
Заколдованный этой навязчивой идеей, я мелкими шажками прочёсывал линии и дворы Васильевского острова в поисках ржавых кроватей и водосточных труб. И вдруг однажды увидел в одном из дворов, одиноко стоящую, чугунную ванну. Почти новую. Я даже удивился, что люди выкинули такую чистенькую и новенькую чугунную ванну. Собравшись стремительно нашим звеном, мы затолкали ванну на школьный двор. По снегу она шла хорошо. Утром ванну оприходовали и с почетом провозгласили наше звено лидером в соревновании. Мы ходили очень гордые. Но не долго. Прошел шумок, что по школе ходит участковый милиционер с дворником и кого-то ищут. Оказалось, они искали нашу ванну. Заря коммунизма для меня на время скрылась за чёрными тучами.
Пришла весна. Лёд тронулся. Васинские пацаны после школы собирались на Стреле и, пока отцы с матерями завершали на заводах и фабриках рабочий день, перевыпоняя пятилетние планы и взятые социалистические обязательства, подсаживались с шестами на проплывающие льдины. Смелые пионеры плыли по Неве к Академии художеств. Те, кто потрусливей, вроде меня, садились на льдины, которые плыли по Невке до Тучкова моста. Там легче было выбраться на берег, не замочив штанов. Льдины там теснились в деревянных подпорках моста и вылезали торосами на песчаный берег. На Неве высокие гранитные набережные вылезать на берег мешали и можно было уплыть в открытое море, помахав на прощание рукой египетским сфинксам, Румянцевскому саду и восхищённым сверсникам.
Самый радостный первый весенний праздник советского народа — Международный Женский День. Масленицу и пост в советском обществе не упоминали и тихо замещали их в умах русских людей новоиспечёнными «крендельками». Воскресение давно приобрело смысл обычного выходного дня, когда можно было подольше поваляться в постели, сходить в кино и «залить за воротник» до линии налива. Мы мастерили на уроках труда скворечники ко Дню птиц, которым заменили Благовещение, делали подарки своим мамам и бабушкам, когда узнали, что Лидия Аркадьевна заболела. Решение ее навестить созрело в головах членов нашего звена мгновенно. Сначала я решил подарить моей учительнице подарок, предназначавшийся маме. Два месяца по вечерам я вышивал болгарским крестиком жёлтого цыплёнка. Но оставить маму с пустыми руками в такой праздник показалось мне жестоким и не справедливым. Тогда кто то из ребят предложил собрать мелочь из своих копилок и купить фруктовый тортик за восемь рублей восемьдесят копеек. Все согласились и подтвердили свои намерения у прилавка в кондитерской на седьмой линии. Уже поднимаясь по лестнице дома любимой учительницы, мы начали спорить кому первому торжественно внести торт. Каждый понимал: у кого торт, того и любить будут больше. Вырывая торт друг и друга, мы его уронили и он раскололся, рассыпался по ступенькам на несколько частей. Испуг и оцепенение у находчивых пионеров быстро прошли. Мы решили его склеить слюнями и аккуратно упрятать назад в коробку. Подарим, уйдем, а Лидия Аркадьевна так жадно в него вгрызётся, что ничего и не заметит, решили мы.
Лидия Аркадьевна очень нам обрадовалась и велела мужу накрыть на стол.
— Садитесь ребятки мои, будем все вместе пить чай с тортом — сказала она.
В воздухе повисла мертвая тишина. Мы переглянулись. А потом, с аппетитом съев торт и запив его чаем, мы все вместе пели нашу любимую песню: «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры — дети рабочих, близится эра светлых годов, клич пионера: «Всегда будь готов!».
«Кружки» и «Стрелки»
Рос я, подрастал не по дням, а по часам. Игрой в кубики или в песочные куличи меня было уже не занять. Колдуны и прятки тоже перестали будоражить воображение и заученные считалочки типа «стакан, лимон, выйди вон…» не сулили заветной минуты торжества детского тщеславия. И чтобы я в познании человеческого бытия ненароком не свернул на звериную тропу, нужно было организовать мой досуг. Школа в те годы досугом своих учеников занималась мало, зато на девятой линии был Дом пионеров и школьников, в котором можно было найти множество кружков и спортивных секций. Туда мама с бабушкой и повели меня на «примерку».
В расписании кружков и секций внимание моих родителей приковал кружок игры на баяне. Бабушка в молодости больше жизни любила гармониста Колю в своей деревне и готова была выйти за него замуж. Но когда дело дошло до церкви, то батюшка им запретил встречаться, так как они оказались родственниками. С этой не спетой песней в своей груди бабушка жила всю жизнь и готова была выложить все свои сбережения на покупку баяна. Бабушкина взяла. Мы пошли на седьмую линию в магазин культтоваров. Баян выбирали недолго, нужно было решить какой брать: красный или зеленый. Я выбрал зеленый. Никто не спорил. Когда мы пришли в кружок игры на баяне, добрый, но лысый дядя настучал на клавишах рояля какую-то песенку и попросил меня повторить. Я подумал, что он шутит. Еще ничему не научил, а уже заставляет сыграть песенку, да еще на рояле. Это же не баян. Я нехотя нажал несколько клавиш, чтобы только с ним не спорить.
— Нет, — сказал он бабушке. — У вашего ребенка абсолютно нет слуха.
Бабушка загрустила. А я, облегченно вздохнув, успокоил её нашей любимой считалочкой:
— Баян, лимон, выйди вон.
Баян бабушке пришлось возвращать в магазин.
На этом же этаже мы зашли в другую комнату с зеркалами и поручнями вдоль стен. Это был кружок бальных танцев. Тётя в черном трико, смачно обтягивающем её формы, попросила меня что-нибудь станцевать. Я сбацал «яблочко» с выходом и присядкой, модное в нашем дворе. Тёте понравилось и меня взяли. Но пока мы разучивали Молдаванеску, и я крутился и прижимал к себе Таню Федоровскую из соседней школы, я так подрос и растолстел, что меня из кружка исключили за профнепригодность. Но любовь к Тане еще долго жила в моем мальчишеском сердце и я ходил к их школе, чтобы ненароком встретить её и проводить до дома. Приходилось стыкаться с пацанами из Таниного двора, и если бы не её брат Юра, который встал на мою сторону, мне пришлось бы туго. Быстро бы они отбили мою любовь к Тане. Впрочем, Таня и сама не отвечала мне взаимностью и мы с ней вскоре расстались. На память о Тане мне осталась Молдаванеска с тем магическим аккордом, на котором я должен был выбежать из хоровода в центр и прижать её к себе, усадив на своём колене. Зато я подружился с её братом, да так крепко, что он пригласил меня к себе не день рождения. А это было важным знаком.
На свой день рождения я приглашал со всего двора только четверых друзей. Мой друг Вадик Крацкин подарил мне клайстер с марками. Женька Золотов, сын нашей дворничихи тети Тони, бамбуковую палку, Вовка Бедик — книгу «Аврора уходит в бой», а Вовка Захаров — красную эмалевую звезду от офицерской фуражки. Мы съели пирог и стали рассматривать подарки. Все это теперь было мое, а пацаны, разглядывая свои вещи, нехотя прощались с ними навсегда.
С Юрой мы записались в конькобежную секцию на «Динамо» и сошлись на общем интересе к почтовым маркам. Мы оба были больны страстью к их собирательству. Марки можно было выменять в обществе филателистов, которое собиралось по воскресеньям во Дворце культуры им. С. М. Кирова, можно было выменять у пацанов в школе или купить в магазине «Филателия». Мы ходили друг к другу, разглядывали под лупами свои марки и мечтали о тех странах, откуда они прилетели на почтовых конвертах. Уже не помню, с какого это лиха я раздобрился и Юрке на день рождения совершенно бескорыстно подарил всю свою коллекцию марок в двух замечательных альбомах. Вскоре мы с ним тихо расстались навсегда, без ссор, без драк, без сожаления.
Изгнанный из кружка танцев, я, униженный и оскорбленный, ошибся дверью и забрел в подвал дома пионеров, где находился фотокружок. Там в красной темноте ребята сновали из одной комнаты в другую.
— А чего это вы здесь делаете? — спросил я, зайдя в одну из комнат. Комната была освещена глухим красным светом, а на столах стояли глубокие ванночки с какой-то прозрачной жидкостью.
— Гляди сюда, — сказал Сашка из нашей школы и опустил в жидкость белый лист бумаги. На нем тут же начали проступать лица пацанов, которых я знал по школе.
— Чудеса! — подумал я. Хочу быть фокусником.
Но для этого требовался свой фотоаппарат. Я начал просить, чтобы мне его купили, и на десятый день моего рождения мне подарили фотоаппарат «Смена» за 110 рублей. Была еще «Смена-2» с автоспуском, но она стоила 130 рублей, а двадцатка для нашей семьи тогда была целым состоянием. Так я стал фотографом. В кружок мы могли прийти в любое время, проявить свою пленку, отпечатать фотографии и показать их Мастеру. Он делал замечания и указания, и мы исчезали в творческом тумане. Добавляли знаний и школьные уроки рисования, на которых учительница заставляла нас изображать на листах бумаги составленные её натюрморты и отображать форму предметов игрой света и тени.
Я был увлечен новым для меня делом и мог часами ходить по городу в поисках сюжетов. Город открывал мне свои красоты и мерзости. Я фотографировал городские улицы, красивые дворцы, соборы и памятники, своих друзей на их фоне, первомайскую демонстрацию трудящихся, направляющуюся по первой линий на Дворцовую площадь и военные корабли на Неве. Я фотографировал друзей, потому что они обнимались и были вместе и не мог сфотографировать лица врагов, потому что они прятались по разным углам и не попадали в один маленький кадрик моей «Смены».
Когда солнце пригревало настолько, что становилось душно в длинных портках, мы ходили купаться на Неву или на пруды Приморского парка Победы, стадиона им. В. И. Ленина, центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Можно было купаться и на песчаном берегу у Тучкового моста, но нашим любимым местом был причал со сфинксами из древних Фив у Академии художеств. Прыгнуть в глубину леденящей Невской воды с гранитных ступеней причала Академии или Стрелки было куда забористей.
Часто веселиться и купаться нам мешали милиционеры и в отчаянные дни мы решались пойти купаться на пляж Петропавловской крепости, погреться у теплого гранита её стен, поглазеть на золотые блики ангела на остроконечном шпиле, уходящим в вышину небес. Но здесь было опасно. Можно было схлопотать звездюлей, нарвавшись на ватагу «петроградских». Они выбирали из нас главного, и самый мелкий из их шайки подходил к нему и просил закурить. Тот, естественно, его посылал, и начиналась драка, пока не подъезжали менты.
Мы на Стрелке их угощали тем же и поэтому были готовы к расплате. Эту подготовку мы проходили в своих дворах, выясняя отношения между собой до кровянки, то есть до удара, после которого у одного из дерущихся не хлынет из носа кровь. Тогда драку останавливали старшие пацаны и того, у кого текла кровь, отводили домой умываться. Родителям говорили, что парень бежал, споткнулся и упал. Сказать правду родителям было невозможно, непостижимо. Иначе во двор можешь больше не выходить. Ябиду забивали свои же.
Когда я приходил домой с разбитым носом на вопросы мамы не отвечал. Она чувствовала неладное и причитала, чтоб я не свернул на скользкую дорожку, не погубил себя и не опозорил наш род. Я её не слышал до тех пор, пока не посадили в тюрьму папу, и мы не сходили в Кресты к нему на свидание.
На стадионе имени В. И. Ленина на пруду установили десятиметровые вышки для ныряния. Как-то мы полезли посмотреть, высоко ли это и страшно ли. Разобраться не успели. Петроградская шпана нас всех столкнула вниз и долго гоготала, пока мы плыли к берегу. Такие наглые выходки наши не прощали. Собирали шайку васинских, человек сто, вооружали их камнями, велосипедными цепями и обрезками водопроводных труб, завернутых в газету. Вся эта толпа шла через Тучков мост и вываливалась на проезжую часть, наводя ужас на окружающих. Обычно в сквере у Успенского собора происходило побоище, которым начиналась затяжная война между васинскими и питерскими.
Мне это очень не нравилось. Я любил тихую, мирную жизнь и боялся этих сражений, где махались все и не было видно ни своих, ни чужих. Но увильнуть от этого было невозможно. Забьют свои. Зачитанная при свете лампы история Ромео и Тибальда казалась театральной школьной инсценировкой и звон рапир в их поединке звучал мелодично, как колокольчики, заглушаемый свистом велосипедной цепи петроградской шпаны у твоего уха.
Зимой, сделав уроки, мы перекидывали через плечо коньки на шнуровках и на 33-м трамвае ехали на каток в ЦПКиО им. С. М. Кирова, вотчину петроградских. Нарастающий с каждым днем уровень тестостерона в крови вел нас по тонкой струйке аромата девичьих волос и их растущих грудей, обтянутых шерстяными свитерами. На катке звучала музыка, и сверкали гирлянды разноцветных лампочек. Ставка Петроградских монстров располагалась в центре катка. Они стояли мрачной темной тучей и курили папироски «Беломор» и «Север», сверкая огоньками. Трое, четверо разведчиков кругами барражировали среди кружащейся ликующей толпы в разноцветных шапочках и шарфиках и высматривали жертву. Их «спецодеждой» были кепки-лондонки, черные пиджаки с шарфами, обычные / не спортивные/ брюки и хоккейные коньки «канадки». Они пренебрегали спортивной одеждой и считали её уделом «пидерастов». Их антиподы «пидерасты» кружили по краю поля в обтягивающих рейтузах, шлемовидных шапочках и на «бегашах». Низко присев и наклонившись вперёд, они, звеня носками своих «бегашей» об лед, прорезали как молнии толпу отдыхающих в разноцветных шапочках и, казалось, ни на кого не обращали внимание. На самом деле, присмотрев девчушку с выразительными формами, они подходили к ней клеиться уже в трамвае, где было не видно черных монстров и всегда можно было вызвать милиционера.
На катке черные монстры высматривали грудастых девчонок и, схватив на ходу их за грудь, исчезали в толпе. Высшую точку наслаждения эти гады испытывали, когда выискивали влюбленную парочку, скользящую по льду ухватившись за ручки или, еще и того больше — за талию. Тогда они просили парня закурить и лапали его подругу за выразительно обтянутое бедро. Нужно было драться. Парень гнался за монстром и тот привозил его к стае, теряясь в её тёмной бездне. Хорошим это не заканчивалось.
Милиционеры на коньках не катались. Поэтому я не любил ходить на каток с девочками. Но иногда всё таки решался. Уж очень приятно было ее подержать за талию или коснуться невзначай её нежной упругой груди, когда она споткнется о неровность льда. А лед заливали плохо.
Еще «веселее» было на танцах в «камне», то есть в Мраморном зале Дворца культуры им. С. М. Кирова. Старшие товарищи тащили нас туда в качестве «пехоты» на случай, если возникнет сражение с пришлыми за право обладания самой соблазнительной любительницей танго. Но мы, «пехота», чтобы маскироваться, тоже должны были обниматься под музыку с набившимися в зале кудрявыми школьницами и ремеслинницами. Если у вожаков возникала драка, мы оставляли своих партнерш и бросались в бой. Но менты здесь были не на коньках, а в своей голенищенской стихии, да к тому же на подмоге у них были военные патрули и разного рода добровольцы из народных дружин. А если ссора нашего пахана происходила с «мариманом», то до подлета милиции можно было так схлопотать по голове бляхой от матросского ремня, что ни какое переливание крови уже бы не помогло. Драки кипели до тех пор, пока не подъезжали «воронки».
Такая окружающая среда заставляла заниматься специальной подготовкой. В спортивные секции бокса и борьбы юношей принимали по закону только с четырнадцати лет. Поэтому драться нас учили старшие товарищи за стенами дровяных сараев.
В те времена нам можно было записаться в спортивные секции только мирной направленности. Чтобы не утонуть в Неве, где было страшное течение и глубина, мы пошли учиться плаванию в бассейн в Гисляровских банях. В секцию прыжков с десятиметровой вышки очереди не было, а в секцию плавания нужно было пройти спецотбор. Мы обмылись в душе и вышли в чашу бассейна. Тренерша в коротких штанишках и синей кофточке построила нас в шеренгу на краю бассейна. Я оказался на том краю самой его глубокой части у вышек для ныряния.
— Кто не умеет плавать? — спросила тренер.
Мне было стыдно поднять руку и я промолчал. Я оказался бы одним и был бы поднят на смех.
— На старт, внимание, марш!
Все прыгнули в воду, некоторые даже головой вперед и поплыли наперегонки. Я стоял и не знал, что делать. Я же умел плавать только по-собачьи.
— Что стоишь, бестолочь? Прыгай! — крикнула тренер, махая руками.
Я прыгнул и после двух, трех судорожных движений резко пошел ко дну. Дно было далеко. Я жадно пил не вкусную хлорированную воду. Кто-то больно дернул меня за волосы и потащил вверх. Слава Богу, я не успел выпить весь бассейн. Тренер вытащила меня и откачала. Она прыгнула за мной прямо в своих штанишках и кофточке. Я так был ей благодарен, я так ей улыбался. И даже хотел поцеловать. В ушах моих, полных воды, глухо звенело и бубнило. Тренер подняла меня, держа крепко за руку выше локтя, довела до двери душа. Я с любовью посмотрел на нее и сказал:
— Спасибо, Вера Геннадьевна!
— Пошел вон! — сказала в ответ Вера Геннадьевна.
И я пошел. Со старшими не принято спорить. Пошёл записываться в конькобежную секцию на стадион «Динамо». Меня взяли. Мама на последние деньги купила мне «бегаши». Они звенели носками об лед, когда я, низко согнувшись, загребал ногами, проскальзывая по льду в очередном шаге.
Через месяц усердных тренировок прошли соревнования и я пробежал со страху 500 метров за 59 секунд, безумно как мельница, размахивая руками. Тренер, Елена Сергеевна, меня похвалила, присвоила мне второй юношеский разряд и сказала:
— Ты только не обижайся, Коля, но коньки не для тебя. Иди лучше заниматься в другую секцию.
— А в какую? Куда я подхожу?
— Попробуй шахматы.
Самый главный шахматист школы был одним из отличников нашего класса — Савва Половец. Отличников было четверо: Марина Еременко, Игорь Руппе, Савва Половец и…. я. Савва привел меня в секцию шахмат в Доме пионеров и мы с ним стали дружить. В классе сели за одну парту и вместе ходили на занятия шахматами. Там он мне ставил шахи и маты, дружески и ободрительно похлопывая меня по плечу. Папе понравилось мое новое увлечение. Он купил мне шахматы, и мы с ним играли вечерами. Он ставил мне мат и тоже ободрительно похлопывал меня по плечу. Мне показалось, что индусы придумали шахматы только для того, чтобы меня обыгрывали и ободрительно хлопали по плечу. Я шахматы сначала невзлюбил, а потом возненавидел. И стал плохо относиться к своему новому другу Савве Половцу, и даже к Алехину и Капабланке, хотя их не знал и никогда не видел.
Зато жарким пламенем во мне вспыхнула любовь к бразильским парням Пеле, Диди, Вава и Гарринча. Хотя я их тоже не знал и никогда не видел. О них мне рассказал мой новый друг Саша Шахмаметьев, отпетый двоечник из нашего класса. Учителя не знали, что с ним делать и придумали прицепить его ко мне в целях перевоспитания. Сашу пересадили ко мне за парту вместо Саввы Половца, а Савву нагрузили другим отпетым двоечником Юрой Скотниковым. Кроме школьных занятий я должен был с Сашей дополнительно после уроков заниматься дома. Саша жил в Татарском дворе, был татарином. Когда на уроках истории речь заходила о татаро-монгольском иго на Руси весь класс пялился на Сашу и грозили ему кулаками. У него была большая бедная семья. Беднее нашей. Когда Саша приходил заниматься уроками, он начинал тихо подвывать, что очень хочет жрать и не может думать от голода. Я скармливал ему свои макароны с сахарным песком, и он, наевшись и отвалившись на диване, вместо занятий алгеброй начинал мне рассказывать про звезд бразильского футбола. Про то, как они виртуозно владеют кожанным мячом и какие мощные у них удары. Удары у Пеле такие мощные, что красавец Жильмар, вратарь сборной Бразилии не может их взять. Про то, что Гарринча хромает на одну ногу, но при этом обводит четверых англичан, Диди и Вава отдают точные пасы, а красавчик Пеле посылает мяч в ворота, не давая ему касаться земли. Алгебра и геометрия тихо лежали на столе, не прерывая Сашкиных рассказов.
Наконец, мы с ним решили пойти в секцию футбола. Она располагалась во Дворце имени С.М.Кирова, по нашему в «Камне», где вечером гремели танцы и мы рубились в смертельных драках за наших паханов. Тренер посмотрел на нас с надеждой и любовью и записал, наделив нас футбольными амплуа. Сашку поставили в нападение на левый край, как и Гарринчу. А мне Марк Иосифович Кравец многозначительно сказал:
— Будешь стоппером, Коля.
Я с тоской подумал о чем-то не очень хорошем, но Сашка меня успокоил, объяснив, что стоппер — это центральный защитник. На душе стало легче. На большой перемене мы в школьном дворе играли в футбол в одной команде с Сашкой. И когда выигрывали, нам говорили, что так не честно, потому что мы занимаемся в секции. Мы с Сашкой стали часто гулять вечерами по набережной Невы и мечтать, как поедем играть в далекие страны за сборную СССР против Бразилии. Мечта о красивой нездешней жизни, как вирус, заползла в наши черепные коробки.
Перевоспитать Сашку мне не удалось, он все больше становился блатным, начал курить. К тому же в футбольной секции он был далеко не лучшим на левом краю. А когда Кравец увидел его с папироской, выгнал из секции. Как верный друг я тоже ушел из секции, но Сашка это не оценил. Мама часто говорила мне, чтобы я не водился с Сашкой, что он мутный парень и до добра не доведет. Мне было обидно за Сашку и за себя, за мой ошибочный выбор.
Сашка упивался блатной жизнью, бравировал разными блатными словечками, неряшливой одеждой, папироской и сплевывал сквозь зубы. Мне больше нравились стиляги в узких брюках, твидовых пиджаках и с коками на голове. Они обычно толклись у Универмага на углу Среднего проспекта и 2-ой линии, они «косили» под Элвиса Пресли, про которого мы знали только по рассказам моряков и краем уха слышали рокешники в его исполнении на гибких пластах-костяшках.
Блатные стиляг не жаловали, а дружинники их ловили и стригли прямо на улице. Я боялся примкнуть к ним, но брюки заузил, да так, что еле-еле в них влезал. Однажды на танцах в «Камне» я пригласил Тамарку Рысьеву, двоечницу из нашего класса. У нее в классе выросли самые большие груди и была очень тонкая талия. Ее лапал какой-то грязный, в заношенных нечищеных ботинках и мятых брюках взрослый парень. Я был чистенький и наутюженный, и как мне казалось, намного лучше этого грязнули. Так вот мне она отказала и тут же пошла с этим парнем, прижималась к нему своей грудью так, будто бы их намазали клеем. Сашка, увидев мои растопыренные глаза, шепнул по старой дружбе, чтобы я не лез к ней, потому что это Октябрь, а она его чувиха.
— А кто такой Октябрь? — спросил я.
— Из главных, — шепнул Сашка.
Наши с Сашкой прогулки по набережной Невы становились все реже, он зазывал меня на какие-то задания, с виду безопасные, но меня это настораживало. Обычно мы стояли на углах улиц и, если поедут менты, должны были дать знак своим. Чаще нужно было организовывать прикрытие. Тот, кто совершал кражу в трамвае или в магазине убегал, если его заметили, а «прикрытие» падало под ноги преследователям и прерывало погоню.
Как-то раз после удачного дела Сашка позвал меня к Октябрю в гости. Когда мы пришли, в узком длинном коридоре толпилась наша шпана и чего-то ждала. По одному заходили в комнату, а выходили оттуда с очень важными лицами и начинали рассказывать, как было классно. Сашка загадочно ухмылялся, и отводил глаза. На мои расспросы не отвечал, наверное, хотел сделать мне сюрприз. Когда подошла моя очередь, он подтолкнул меня в комнату и закрыл за мной дверь. Я догадывался, что это подарок, награда от старших товарищей, от Октября. Может быть краденные фотоаппарат или часы? Или поесть вкусно дадут. Ну что ещё?
Комната была перегорожена шкафом и за ним слышалось какое-то сопение. Я заглянул за шкаф и остолбенел. На кушетке лежала голая, пьяная девка с татуировкой на животе «Добро пожаловать». Увидев меня, она поманила пальцем и развалилась на подушках. Я покрылся липким потом и меня затрясло и затошнило. Опираясь о стену, я вышел из комнаты под гоготание толпы.
— Ну как? — спросил Сашка.
— Здорово, — промычал я, поднимая вверх большой палец.
В комнату нырнул Сашка. Я не мог слушать весь этот бред о сексуальных подвигах дружков и убежал домой.
На следующий день шайка, человек в двадцать, пришла под окна нашей комнаты и Сашка начал звать меня. Я вышел понурый и сказал им, что никуда не пойду. Сашка сообщил, что вчера зарезали Октября и надо идти драться.
— Я не пойду, — повторил я.
— Хуже будет, — пригрозил мне Гена.
Я ушел домой. Толпа еще стояла. Потом раздался звон стекла и на пол упал здоровенный булыжник. Хорошо, что не было дома родителей. Соседи забегали по коридору, хватались за телефон, но я их остановил
— Хуже будет!
Пришла пора контрольной по алгебре. Саша заныл, дай, мол, списать. Я не дал, сказал, чтобы писал сам. Зря, что ли я с ним занимался. Он получил двойку, что грозило ему остаться на второй год.
После школы они с двумя гопниками встретили меня и начали бить. Я махался, как мог, но силы были неравные. Весь в крови я доплелся домой. Дома, отмыв кровь, я поразмыслил и решил сам для себя — не сдамся. Не хочу быть в шайке. Будет страшно, но я не сдамся. Свобода или смерть.
Сильней носа болело сердце, вернее душа. Сашку я считал своим другом. Нас сближала мечта. Мы оба мечтали о красивой жизни, оба мечтали поехать к Пеле, к Диди, к Вава и Гарринче. Что же я теперь им скажу, когда приеду в Рио.
А о том, что поеду в Рио, я ничуть не сомневался. Для этого нужно было только войти в зал кинотеатра, дождаться пока медленно погаснет свет и засверкает окно в яркий мир путешествий и развлечений, в мир, где живут такие разные люди. Где в Нью-Йорке живет Малыш и его добрый Чарли, в далекой Аргентине танцует несравненная Лоллита Торрес, в прериях от индейцев убегает на дилижансе Джон Уэйн, а на улицах Бомбея шатается голодный и неприкаянный бродяга, которого жалел весь советский народ, как родного брата. Наверное, от того, что на улицах своих городов таких же бродяг было навалом.
Денег на билет в кино катастрофически не хватало. К тому же трудно было себе отказать и в эскимо на палочке. Как разорваться между соблазнами? Мы пытались прорваться в кино без билетов. Для этого нужно было протиснуться между выходящей толпой в кинотеатр и спрятаться в туалете. А когда погасят свет, тихо выбраться и сесть на свободные места. Но часто свободных мест не оставалось и нас вылавливали даже в темноте билетёрши с фонариками.
Однажды какой-то парень позвал меня и посулил пустить бесплатно в кино, если я помогу ему отнести и укрепить на витрине рекламный плакат нового кинофильма. Так неожиданно открылась золотая жила. Мы в газете обнаруживали, в каком кинотеатре идет любимый фильм, приходили или приезжали на трамвае или автобусе к кинотеатру и искали художника, которому предлагали сделку. Он соглашался. Мы смотрели полюбившиеся фильмы до тех пор, пока не выучивали их наизусть. А потом во дворе играли, подражая любимым героям. Когда игра наскучивала, искали новый фильм. Уроки делать стало некогда. Успеваемость по алгебре и геометрии резко упала, но зато появился интерес к географии. Где находиться Мексика? Далеко ли? Искали мы на карте Буэнос-Айрес.
По радио и телевизору мелькнуло, что где-то в Южной Америке наши баскетболисты показали международный класс. Я подошел к учителю физкультуры Виктору Ивановичу и спросил, как записаться в секцию баскетбола.
— А что, ты рослый. У тебя получится. Иди в Василеостровскую спортшколу. Она на Большом проспекте, на девятой линии. Тренер Виктор Фёдорович меня взял без разговоров.
— Центровой нам в команде нужен, — сказал он.
Возвращаясь домой с первой тренировки, мне уже мерещилось, как я шаркаю подошвами своих ботинок по асфальту Пятой Авеню. И уже засыпая под одеялом мне слышался гул моторов самолета, который несет меня в Аргентину к ненаглядной Лоллите Торрес. Я без нее жить не могу.
Я тщательно готовился к тренировкам. Чистил мелом китайские кеды, утюжил трусы и майку и бегал по «поляне» от кольца до кольца как угорелый. Наш разыгрывающий Серега Ломко осаживал меня:
— Ваща, что ты летишь как паровоз? Поля не видишь? Я же открытый стоял, а ты Сереге Светлову мяч отдал.
Началось первенство ГОРОНО (городского отдела народного образования) среди спортивных школ всех районов Ленинграда. С боями мы пробились в финал, который проходил в воскресенье в 210 — й школе на Невском. Я приехал, когда школа еще была закрыта. Потом подошли наши пацаны и мы стали вспоминать наигранные на тренировках комбинации.
— Ваща, а ты трусы погладил? — подкусил Ломко, — А то мяч отскочит!
Матч близился к концу, а я все сидел на «банке» и старался перехватить взгляд тренера. Наконец он посмотрел на меня.
— Давай, Ваща, не подведи. Промышляев, пятый фол заработал.
Шли последние секунды. От страха рябило в глазах. Я выскочил на поле и, оценив ситуацию, бросился в отрыв. Дрожь в пальцах еще не прошла. Ломко запустил пас через все поле. Я выставил ладони, чтобы принять мяч, но он с силой, выбив мне палец, отскочил в сторону и гулкий отзвук от его удара прокричал мне «нет».
Пришёл апрель! Апрель, апрель! На дворе звенит капель! На дорогах лужи после зимней стужи….Значит скоро мой день рождения! Значит мне исполнится 14 лет! Тогда я запишусь в секцию самбо….и тогда. Ну, тогда!
Мама
Моей дорогой мамочке — Александре Яковлевне Ващилиной /в девичестве Григорьевой/
После смерти Сталина в мозгах людей что-то сместилось. С ним легче переживались послевоенные тяготы и оставалась вера в то, что еще чуть-чуть и станет совсем хорошо. Раз уж мы с ним Гитлера одолели, то разруху…
Никита Хрущев конкуренции со Сталиным в сердцах народа не выдерживал. Народ роптал. Не остывшее после войны, достоинство человека раскрывало многие рты для резких слов в адрес, пришедшего в 1954 году, правительства. Возмущение народа вырвалось наружу после речи Хруща о культе личности Сталина и его зверствах. Те, кто сидел в лагерях, были рады, но те, у пивных ларьков, встававших в атаки из окопов с криками «За Родину! За Сталина» принять это не могли и сильно роптали. Правда не все. Нашлось много и молчунов, а ещё больше — доносчиков. Мой отец сдержанностью не отличался и проехав на танке до Берлина считал, что заслуживает лучшей доли. Об этом и ляпнул где-то, то ли на работе, то ли у пивной. Скрутили его быстро. Пришили дельце о воровстве досок, да еще групповое. Начальника и сослуживцев, которые встали на его защиту вписали в одну преступную группу, а по групповому давали больше. Как-то утром в наш подвал пришли с обыском, искали деньги, но кроме мышей да клопов ничего не нашли, но отца забрали. Так он оказался в Крестах, а я услышал презрительное прозвище — тюремщик и бойкот дворовых товарищей.
Однажды, в школе за оскорбление я вступил в драку, толкнул обидчика и он разбил своей крепкой головой горшок с цветами. Маму вызвали в школу и заставили купить новый цветок. Мама купила, но меня ругать не стала.
Вскоре мы с мамой поехали на трамвае номер шесть к Финляндскому вокзалу и долго ходили по берегу Невы вдоль высокого кирпичного забора. За забором высились мрачные краснокирпичные здания с множеством маленьких одинаковых окон с решетками. Когда я, десятилетний пацан, замерз на студеном Невском ветру до дрожи, в одном из этих окошек кто-то замахал белой тряпочкой.
— Вон, папа, сынок, — показала рукой мама.
Я заплакал. Мне ничего не было видно, но я помахал невидимому папе рукой и на кого-то очень сильно обиделся. Я знал, что мой папа честный. Потом мы носили папе передачи, выстаивая длинные очереди. Народу сидело много. Город начали чистить от ненужных «элементов», вышвыривая их поганой метлой за 101 километр. Пусть там рассуждают и бьют себя в грудь с орденами, думали эти чистильщики.
Потом нам дали свидание. Папа очень похудел и был острижен наголо. Он говорил нам, что не крал никаких досок, что все это ложь. Просил, чтоб я помогал маме и берег ее. Потом мы ходили на суд и видели, как отца погрузили в воронок, а вместе с ним еще троих сослуживцев и отправили на два года на лесоповал в Коми автономную советскую социалистическую республику. Оттуда он нам прислал фотокарточку, а мы ему каждый месяц посылали папиросы «Беломорканал».
На лето мы с мамой поехали в Вырицу на дачу с детским садом, в котором она работала. Я был приписан к группе и основное время проводил в обществе сверстников. Но иногда мама забирала меня из группы пожить на воле. От этой свободы ничего не было нужно, кроме самой свободы. Я слонялся по пустынным, полуденным улицам Вырицы, сидел на берегу Оредежа, наблюдая за замысловатыми полетами стрекоз и бабочек. Однажды, поднимая пыль своими сандалиями, я оказался около бревенчатой церкви иконы Казанской Божией Матери. Она высилась среди пустынного песчаного поля, окруженного забором. Вокруг никого не было. Жаркий полдень, тишина, стрекот стрекоз и саранчи. Я поднялся на крыльцо церкви и вошел в храм. Полумрак храма прорезал солнечный луч и освещал иконы резного деревянного иконостаса. Я сел на ступеньки лесенки, ведущей на хоры. Из полумрака появилась женщина в черном одеянии и начала гасить свечи на подсвечниках.
— Что тебе надобно, хлопчик?
— Помолиться хочу.
— Иди, молись Богородице.
Я подошел к иконе Казанской Божией Матери на амвоне и начал шёпотом просить Богородицу помочь в тюрьме моему папе.
Мама моя родилась 27 апреля 1923 года в деревне Барсаново, что в пяти километрах от города Опочки. Россию заливали кровью коллективизации. Оголодавшие пьяницы и бездельники застрелили моего прадеда Антона, который во время продразверстки припрятал муки для своей многодетной, в семнадцать ртов, семьи. Но семья выжила. Выжили мой дед Яков, прадеды Антон, Андрей, Иван….их отец Алексей и мать Ирина, похоронившие своего среднего сыночка Кузьму, гренадера лейб-гвардии Павловского полка на деревенском кладбище ещё в 1916 году……Два мешка муки, которые прадед утопил в потайном месте реки, «кроваво-красные соколы» не нашли.
Детство мамино прошло в тяжелом крестьянском труде и прилежной учебе. В Великих Луках она закончила зубоврачебную школу. Счастье было не долгим. Началась Великая Отечественная война, и восемнадцатилетняя Сашенька пошла на фронт. Там мама встретила свою первую любовь — Еремея Карелова. Воевали в разведывательной роте стрелкового полка под Смоленском. Там в бою за деревню Малая Углянка в июне 1943 года Еремея убили у мамы на глазах. Страдала о нем она долго. Папа ревновал. Видимо, ревность свою и заливал огненной водой. Тогда понять мне это было трудно.
У мамы на иждивении кроме меня была еще младшая сестра Люся, которая училась в школе, и моя подслеповатая бабушка Аня. Чтобы нас всех прокормить мама стала подрабатывать на второй работе. Она работала зубным врачом и медсестрой в больнице. Потом мама купила бормашину и стала лечить зубы людям дома. Часто, опасаясь доносов соседей о нелегальном труде, мы ездили с этой бормашиной к, больным зубами людям, в их квартиры. Тогда мы с мамой тащили бормашину вдвоем. Помогал я маме во всем. Мыл дома полы, топил печь. Пока мама лечила гнилые зубы нашим согражданам, выручая по пятнадцать рублей за пломбу, я гулял по дворам незнакомых домов. Мне это нравилось больше, чем гулять во дворе своего дома. Во-первых, попадались разные интересные ребята и девочки, а во-вторых, меня никто не обзывал тюремщиком, потому, что этого никто не знал. В «пристенок» и другие азартные игры с деньгами играть мама мне не разрешала. Поэтому чаще всего я играл с девчонками в магазин или в больницу. Где-то удавалось погонять в колдуна или в пятнашки.
Иногда во дворы заходили точильщики, выкрикивая истошными голосами свои призывы «Ножи точить!». Я не мог отвести глаз от искр, которые снопом вылетали из-под лезвия затачиваемого ножа. Мне мерещились искры бенгальского огня, новогодняя елка, увешанная мандаринами и грецкими орехами в фольге и папа с ватной бородой, изображающий деда Мороза. Мне казалось, что точильщик, как дед Мороз, может исполнить любое желание и я шептал сквозь слезы: «Верни мне папу».
Раз в месяц мы с мамой ходили на прием в Исполком. Мама брала меня, чтобы разжалобить начальника и встать в очередь на жилплощадь. Очередь и без нас была огромной, на десятки лет томительного ожидания. Но без очереди вообще кирдык. Начальник допытывал маму, где она воевала и сколько раненых спасла. Искал повод отказать.
Второй Белорусский фронт, Смоленск, слышали? — оправдывалась мама, показывая ему истлевшую книжку красноармейца. — А разве было время считать раненых, товарищ? Ведь пули кругом свистят, снаряды рвутся. Я его тащу, а он в три раза больше меня и кровью истекает. Я, что должна была остановиться, сказать, подожди браток я тебя только в книжечку запишу, ты у меня сорок первый. Я и сейчас сутками больных лечу, сына, вот, некогда увидеть. Сам растет, улица воспитывает.
— А где орден ваш «Красного Знамени»?
— Сын на фантики променял, а документы наводнение испортило.
— Плохо, гражданочка! Вот документики надо восстановить. Пишите в Министерство обороны СССР. Пусть дубликат присылают.
В конце концов, в очередь на жилье нас поставили, заронив на многие годы терпение и надежду на светлое будущее.
От одиночества и от нападок я чувствовал себя беззащитным и упрашивал маму купить мне друга — щенка. Мама долго упиралась, объясняла, что его кормить нужно мясом, а нам самим есть нечего. Но потом сдалась. У ее подруги в Вырице немецкая овчарка Астра принесла щенков, и она одного нам подарила. Радости моей не было конца. Я поехал на своем велосипеде «Орлёнок» забирать щенка. Когда я стал уезжать, положив щенка за пазуху, Астра сорвалась с цепи и, звеня обрывком, болтавшимся у нее на шее, настилом бросилась за мной. Хозяйка, увидев эту сцену, окриком позвала Астру и та, послушно повернула к ней, подарив мне жизнь и своего «ребёнка».
Щенка мы назвали Найдой. Найденой, значит. Я с ней гулял, спал, ел и слушал радио. Она росла быстро. Не по дням, а по часам. Я бегал на рынок и выпрашивал у торговцев для неё кости. Но мясо ей все равно приходилось покупать. Через полгода мама не выдержала и решила отдать ее в хорошие руки. Нашла знакомых, которые хотели собаку. Пришел дядька из собачьего питомника. Найда забилась под кровать. Ее достали, взяли на поводок и повели. Она села, уперлась передними лапами. Мужик тащил ее, как на лыжах. Я заорал. Найда завыла. Мама обняла меня, и мы вместе рыдали. Ночью у меня поднялась температура, и мама крутилась возле моей кровати с лекарствами. Утром в дверь кто-то заскребся. Мама открыла. Найда сидела и вертела головой, не понимая, что это за игра, правильно ли она сделала. Мы бросились ее целовать, и она прожила у нас еще месяц. Есть перестала мама. Смотрела, как я ем и говорила, что она не хочет, нет аппетита. Тогда Найду отвел к дядьке я сам. Она шла нехотя, упиралась, скулила. Когда я позвонил и дверь открылась, Найда посмотрела на меня и вошла в квартиру. Я хотел погладить ее на прощание, но она не далась, забралась под кресло. На следующий день я пришел навестить Найду и поиграть с ней. Увидев меня, она поджала хвост и забралась под кровать. Больше я не приходил. Долго плакал по ночам под одеялом, чтобы не расстраивать маму. Мама тоже переживала и обсуждала планы ее возвращения. Так мы долго лечили раны, которые не залечиваются никогда.
Вся наша жизнь вертелась вокруг мыслей о возвращении папы. К папиному возвращению мне покупали новые ботинки, к папиному возвращению я учил стихи и песни, к папиному возвращению бабушка вязала долгими зимними вечерами теплый свитер, а мама вышивала на подушках цветы гладью и болгарским крестом. Маму и бабушку соседи тоже презирали и обижали байкотом. Мы держались во дворе особняком, уходили гулять вдоль линий Васильевского острова, любовались просторами Невы и мечтали о том, как все будет хорошо, когда вернется папа.
На праздники мы ходили к маминой подруге Лизе, которая жила в подвале не Среднем пр., 17. Мама брала меня, чтобы я поел вкусненького. Но я стеснялся и говорил, что есть не хочу. Но вот от бумажных игрушек, которые делал муж Лизы, китаец Сяо, я отказаться не мог. Когда они купили телевизор, позвали и маму. Мама, конечно, взяла меня. Народу в комнату набилось много. Пел Ив Монтан. «Сеть ун шансон…». Мама плакала и шептала мне на ухо, что он похож на папу. Я чувствовал себя таким одиноким, меня охватывала такая невыразимая тоска, что я падал на топчан и рыдал, пока не кончались слезы.
Больше всего на свете я не любил засыпать на своём топчане, когда мама с бабушкой закрывали меня одного, тушили свет и уходили на кухню стирать и готовить еду. Под полом, в зловещей тишине, начинали скрестись крысы, под окном нашего подвала шаркали ноги прохожих, а за стеной кряхтел и кашлял сосед, с маниакальной настойчивостью пытавшийся разрушить стену. Я долго лежал с открытыми глазами, а потом оказывался в этих кошмарах уже спящим. Во сне я видел как на папу замахивались палками охранники зоны, меня заталкивали между сараями паханы и пытались ножиком проткнуть мою курточку, крысиные полчища подбирались к моим ногам на топчане, а убежав от них на крышу нашего дома и поскользнувшись на крутом её скате я падал вниз в бездну с замиранием сердца и тихим, беспомощным стоном. Но каждый раз в самый последний момент перед моей неминуемой гибелью чьи то тёплые руки обнимали меня и я сладко засыпал под их покровом до самого утра, пока золотистые лучи солнца не заглядывали вскользь в наш сырой и тёмный подвал.
Когда вернулся папа, счастью не было конца. Мы долго показывали ему наши подарки, которые готовили к его возвращению. А он только наливал в гранёный стакан водочку, а потом начал кричать на маму. Папу не прописывали в Ленинграде и не брали ни куда на работу. Он целыми днями пропадал в пивнушках, которых заметно поубавилось. Один раз его пьяного забрали в милицию. Нас всех сковал ужас. Неужели все повторится. Но утром папу отпустили. Мы с мамой начали обивать пороги Большого дома на Литейном, 4. Очень большого. Больше, чем этот дом в Ленинграде домов не было. У милицейского начальника я жалости не вызывал, на что, видимо, рассчитывала моя мама. Зато я видел, как он косился своими сальными глазками на маму. Она у меня была очень красивая.
Мама писала письма Хрущеву, перечисляла кошмары фронтовых будней, свои и папины военные заслуги. Когда руки у всех опустились, а папа серьёзно запил, пришла бумага из Большого дома с разрешением ему жить в нашем подвале на третьей линии Васильевского острова города-героя на Неве. Мы все хотели запомнить миг этого счастья. Мы одели всё нарядное и пошли фотографироваться моим фотоаппаратом «Смена» на стрелке Васильевского острова.
— Улыбнитесь — попросил я.
Все заулыбались, а мама заплакала.
С восьмой Мартой!
Весна пришла рано. На льду канала Грибоедова появились чёрные проталины. Возле них толкались и галдели воробьи и голуби за право пропустить глоток свежей водицы. От метро приятно тянуло мимозой. Я уже от Казанского собора увидел кепку Серёжки Довлатова. Он стоял на самой горбинке моста и возвышался над толпой как ростральная колонна. Серёга на минуту прервал свою речь, пока я здоровался с дружками. Собралось их больше обычного. Чуяли праздник — международный женский день. Народу на Невском было много. После посиделок на работе, залив за воротник водочки с Шампанским, они высыпали безобразничать на Невский. Стас уже был здесь и обнадёживающе похлопал меня по плечу. Он обещал познакомить меня со своим приятелем, который хотел продать «Доктора Живаго».
Это место у Дома книги было насижено нами, как птичий базар по обмену книгами, пластами и всякими интеллектуальными антисоветскими новостями. Раскрыв журнал «Новый мир», с вложенными туда листками, Серёжа читал вслух документ, обнаруженный им недавно в залах Публичной библиотеки:
ДЕКРЕТ
Саратовского Губернского Совета Народных Комиссаров об отмене частного владения женщинами
Законный бракъ, имевшiй место до последняго времени, несомненно
являлся продуктомъ того социального неравенства, которое должно быть с
корнемъ вырвано въ Советской Республике.
До сихъ поръ законные браки служили серьезнымъ оружиемъ въ рукахъ
буржуазiи въ борьбе ея с пролетарiатомъ, благодаря только имъ все
лучшiя экземпляры прекраснаго пола были собственностью буржуевь
имперiалистов и такою собственностью не могло не быть нарушено
правильное продолжение человеческаго рода. Поэтому Саратовскiй
Губернскiй Советь Народныхъ Комиссаровъ съ одобренiя Исполнительного
комитета Губернcкаго Совета Рабочихъ, Солдатcкихъ и Крестьянскихъ
Депутатовъ постановилъ:
§1. Съ 1 января 1918 года отменяется право постояннаго владения
женщинами, достигшими 17 л. и до 30 л.
Примечание: Возрасть женщинъ определяется метрическими выписями,
паспортомъ, а въ случае отсутствiя этихъ документовъ квартальными
комитетами или старостами и по наружному виду и свидетельскими
показанiями.
§2. Действие настоящего декрета не распространяется на замужнихъ
женщинъ, имеющихь пятерыхъ или более детей.
§3. За бывшими владельцами (мужьями) сохраняется право въ неочередное
пользование своей женой.
Примечание: Въ случае противодействiя бывшего мужа въ проведенiи сего
декрета въ жизнь, онъ лишается права предоставляемого ему настоящей
статьей.
§4. Все женщины, который подходягь подъ настоящей декретъ, изъемаются
изъ частного постояннаго владенiя и объявляются достоянiемъ всего
трудового народа.
§5. Распределенiе заведыванiя отчужденныхь жснщинь предоставляется
(Сов. Раб. Солд. и Крест. Депутатовъ Губернскому, Уезднымъ и Сельскимъ
по принадлежности.
§6. Граждане мущины имеютъ право пользоваться женщиной не чаще
четырехъ разъ за неделю и не более 3-хъ часовъ при соблюденiи условiй
указанныхъ ниже.
§7. Каждый членъ трудового народа обязан отчислять оть своего
заработка 2% въ фондъ народнаго поколения.
§8. Каждый мущина, желающiй воспользоваться экземпляромъ народнаго
достоянiя, долженъ представить оть рабочезаводского комитета или
профессюнального союза удостоверенiе о принадлежности своей къ
трудовому классу.
§9. Не принадлежащiе къ трудовому классу мущины прiобретаютъ право
воспользоваться отчужденными женщинами при условм ежемесячнаго взноса
указанного въ §8 в фондъ 1000 руб.
§10. Все женщины, объявленныя настоящимъ декретомъ народнымъ
достояниемъ, получаютъ изъ фонда народнаго поколенiя вспомоществованiе
въ размере 280 руб. въ месяцъ.
§11. Женщины забеременевшiе освобождаются оть своихъ обязанностей
прямыхь и государственныхъ въ теченiе 4-хъ месяцев (3 месяца до и
одинъ после родовь).
§12. Рождаемые младенцы по истеченiи месяца отдаются въ приють
«Народные Ясли», где воспитываются и получаютъ образованiе до
17-летняго возраста.
§13. При рожденiи двойни родительницы дается награда въ 200 руб.
§14. Виновные въ распространеiи ве-нерическихъ болезней будутъ
привлекаться къ законной ответственности по суду революцюннаго
времени.
— Тише, Серый! Мусора придут — попытался образумить Довлатова Лёвка Фельгин. Довлатов работал в студенческой газетёнке Корабелки и своим местом, видимо, не дорожил.
— А что? Я большевистской пропагандой занимаюсь. Я — политинформатор.
Громко гогоча, он рассказывал про свой очередной сексуальный подвиг с девушкой Наташей. Эти рассказы товарищей подрывали веру в магические свойства моего отражения в зеркале. Каждый второй, резюмируя свои подвиги, останавливался на цифрах, далеко переваливающих за сотню. Когда, открывая скобки тайн своих совокуплений, товарищи хвастались количеством подходов за одну ночь в пределах двадцатки, то этот алгебраический многочлен и вовсе путал мне мозги. Послушать их, так они могли сутками кидать палки и ставить пистоны, не прерываясь на обед. При таких показателях передовиков половой нивы я загибал свой седьмой палец и, уставившись в мокрый асфальт, погружался в гнетущую думу — «Как же так? Как же так?»
— Ну вот, Коля, а ты расстраивался — хлопнул меня по плечу Стас.
Стас был моим приятелем и уговорил меня снять с ним в складчину квартиру в Весёлом посёлке. Он там жил, а мне давал ключи при необходимости интимных свиданий. К его счастью, ключи я брал очень редко.
— Я же говорил, что придёт! Знакомься, это Ося.
Передо мной стоял невзрачного вида паренёк в английской кепке.
— Бродский — протянул он мне руку.
— Коля — буркнул я, отвлекаясь от моих половых угрызений. Принёс? — спросил я.
— Принёс, принёс.
Стас говорил, что Оська оттянул срок за тунеядство и светиться с ним на людях не хотелось. Сказывали, что он был на плохом счету в КГБ. А те смотрители за такую дружбу могли и в Болгарию не выпустить в турпоездку.
— Покажи.
— Тише ты, показатель! Пойдём в метро.
Мы спустились в метро и уже на эскалаторе Ося вынул из внутреннего кармана пальто толстенькую книжечку, величиной с ладонь.
— Сколько? — прохрипел я сиплым голосом.
От страха у меня пересохло горло. Менты часто хватали торгующих и волокли в отделение. Потом оформляли привод и сообщали на работу, для перевоспитания в коллективе. На одного торговца, даже дело завели. Но он книги спёр в библиотеке. Обычно сделки совершали, уходя подальше во дворы домов и прячась в парадных. Ленивцы шли в Дом книги и, попросив у продавщицы какую –нибудь книжку, под шумок продавали свою. Можно было зайти в пивной ресторан «Чайка» рядом в подвальчике и сев за столик, делать вид, что заказываем еду и выпивку. Там работала мать Серёжки Соловьёва и с пониманием относилась к нашему бизнесу. Но могла и выслужиться, стукануть. Когда к пятидесятилетию большевистской революции открыли эту станцию метро, мы придумали хитрый способ торговать, спускаясь на эскалаторе. Это было более безопасно, но мандраж всё равно присутствовал.
— Как договаривались, двадцать пять. Стас сказал, что ты хочешь и так далее, и так далее…
Я не любил торговаться, особенно когда в руках держал давно желанную вещь. Вынув из кармана приготовленный четвертак и сунув его Бродскому, я поспешил перейти на эскалатор, поднимавшийся наверх, в суете забыв с ним попрощаться. Открыть и посмотреть книгу было страшно. Вдруг менты заметят. А вдруг Оська меня обманул?! Всучил «куклу». Такое у нас бывало часто. Купишь книжечку Фридриха Ницше, убежишь в страхе, за углом разворачиваешь, а там Фридрих… Энгельс. В ментовку же не будешь жаловаться. Так книжечка разоблачителя кровососов потом и пылится на одной полке вместе с запрещёнными вольнодумцами Камю, Сартром и Кафкой.
Повернувшись к стене, дрожа от предвкушения, я всё-таки достал книгу. «ДОКТОР ЖИВАГО» — красовалась надпись на затёртой обложке. Тогда я не знал, что за эти буквы можно присесть в тюрьму лет на пять, и очень обрадовался. Хотелось тут же уютно устроиться на диване и углубиться в чтение обо всём, что уже сто раз переслушано от товарищей, о чём грезил под звуки вальса Мориса Жарра.
Не в меру возбуждённый, я подошёл к дружкам и стал отрывками слушать речь Серёжи про то, как секс-символ большевизма — Шурочка Коллонтай совратила революционного матроса Павла Дыбенко и они занимались любовью в сполохах революционных зарниц. И как они с подружками Розой Люксембург и Кларой Цеткин сколотили при Кремле общество «За свободную любовь». Как демонстрации голых, но свободных женщин под кумачёвыми знамёнами ходили прямо по Невскому проспекту и Красной площади.
Внезапно повисла тишина и все повернули свои головы в одну сторону. По Невскому в длинном чёрном пальто, полы которого, распахиваясь, обнажали стройные ноги, шла красотка с гривой распущенных рыжих волос. Вперед, как ростр корабля, выступали её обворожительные груди, туго обтянутые шерстяной кофточкой. Даже в канун женского праздника для нарядных тружениц это было вызывающе. Она несла себя плавно и величаво, бессмысленно вглядываясь вдаль.
— Девушка! — дал «петуха» Серёжа. Ответа, естественно, не последовало. Девушка знала себе цену.
Тишина становилась зловещей. Никто не решался броситься за ней, оценивая свои возможности и опасаясь публичного пролёта. Сделать такой шаг на виду у товарищей было равносильно прыжку с пятиэтажного дома. А девушка между тем удалялась, исчезая в толпе. И только копна её рыжих волос сияла пламенем на весеннем ветру, освещая серую стремнину невского потока городских обивателей.
— Вперёд! Взять её! — больно ткнул мне в бок ключами Стас.
— А ты? — замямлил я в надежде, что кто-то рванёт за красоткой, а я смоюсь домой читать «Живаго». Так нет же. Все уставились на меня.
— У меня не прокатит — завершил Стас. Я ей по плечо.
— А Серёга? Он высокий.
Серёга опустил голову, делая вид, что разглядывает свой журнал. Стая товарищей провокационно смотрела на меня. Все жадно ждали моего «облома». Я взял у Стаса ключ и бросился вдогонку.
Приблизившись к красотке, я замедлил шаг и стал обдумывать тактику нападения. Она плыла с той же вальяжностью и, казалось, ни на что не обращала внимания.
— Девушка — срываясь на крик, возопил я.
Мой крик больше был похож на зов раненного о помощи, чем на призыв озабоченного самца. Она даже не повела бровью, продолжая своё шествие среди толпы верноподданных прохожих.
— Девушка — пискнул я во второй раз. Как из под земли, среди плотных рядов праздно марширующих по Невскому граждан, вырос шумный хоровод цыганок и одна из них стала хватать меня за руку:
— Дай погадаю, красавец! Скажу что было, что будет. Позолоти ручку.
Пока я отмахивался от них, красотка скрылась в толпе. Я вздохнул с облегчением и нащупал в кармане «Доктора Живаго». Тихая радость, что цыганки не спёрли книгу, наполнила моё сердце. В голову лезли планы скорейшего возвращения домой, в свою тёплую уютную норку, где мягкий свет торшера даст мне подробно разглядеть историю любви Юрия Живаго и Лары.
А что же я завтра скажу товарищам? Ладно, навру что-нибудь. Я начал вертеть головой в поисках подходящего сюжета для своей завтрашней рассказки и обмер от ужаса. Прямо передо мной, небрежно разглядывая витрину ювелирного магазина, стояла рыжеволосая красотка. Я чуть не сбил её с ног. Смахнув удивление с лица, я снова закричал нечеловеческим голосом
— Девушка!
— Она томно подняла свои веки и посмотрела на меня, как смотрят на упавшую грушу. Её молчание и долгий взгляд в пространство, заставили меня сделать следующий ход, за которым капканы, обычно, захлопываются:
— Пойдёмте, поужинаем! — ляпнул я с наигранной беспечностью.
Мы стояли на углу Невского проспекта, прямо у входа в самый дорогой в Питере ресторан гостиницы «Европейская».
— Пожалуй?! Очень хочется есть! — пропела она сладкозвучным контральто и решительно направилась к входу в «Европу».
Швейцар с галунами бросился ей навстречу, как родной брат. Я судорожно сунул руку в карман брюк, где грелась осиротевшая трёшка, и обрадовался, что её тоже не спёрли цыганки. Хотя погоды на предстоящем пиру она не делала, но всё равно приятно напоминала о моей недавней финансовой независимости. Книги здесь в уплату не принимали. Надежду оставляли сверкавшие на левом запястье швейцарские часы «Атлантик», которые я недавно купил за полтинник у метрдотеля этого ресторана — Паши.
Бывал я тут довольно часто. Мы ходили сюда танцевать под диксиленд Колпашникова. Вот клёво! У него-то я и займу червончик на ужин с красоткой. Мысль о побеге домой тут же улетучилась и, откуда не возьмись, нахлынуло веселье. И вера в успех!
Красотка плавно извивалась перед зеркалом. Проворные гардеробщики, маявшиеся от безделья в этот неурочный час, крутились возле неё, угождая любой её прихоти. Мы поднялись по белой мраморной лестнице и вошли в пустой, полутёмный зал ресторана. Только жёлтый лунный свет витража «Похищение Европы» лукаво сулил нам праздник. Из-за угла лениво выполз метрдотель Паша и криво мне улыбнулся. Мои частые посещения этого заведения не сделали нас друзьями. От них Паше не было никакого «навара», а одна лишь головная боль. Танцевали мы много, а заказывали только чебуреки с «Боржоми», вместо которого втихаря наполняли стаканы принесённой водкой. Вот Паша нас и недолюбливал. Но деваться ему было некуда. Мы же были гражданами страны, строителями коммунизма, посетителями заведения общепита. А Паша — работник сферы обслуживания. И он, сжав свои пломбированные зубы, должен был организовать наш досуг.
Красотка выбрала уютный столик в кабинете у правой стены и, устроившись в кресле, торопливо листала меню.
— А мы сегодня не работаем для посетителей. У нас банкет сотрудников ГУВД — напугал меня Паша.
— А где Саша Колпашников?
— Оркестр сегодня — выходной.
— Эта новость для меня была пострашней, чем встреча с работниками ГУВД за праздничным столом.
— Ну спасибо тебе, Паша!
— Не за что! Всегда к услугам посетителей! — съязвил Паша.
— А червончик до завтра не одолжишь?
— Нету — цинично наврал он, глядя мне прямо в глаза.
Паша был похож на витрину ювелирки, которая смотрит якутскими бриллиантами на нищих прохожих Невского проспекта.
— Можно идти, Паша?
— Идите, Коля! Так вот идите, идите и идите.
— Помогите, Паша, хотя бы девушке всё объяснить.
— Девушке я всё объясню. Это мой служебный долг.
Я пошёл и сел за столик. Красотка была не в меру весела.
— А как вас зовут? — оживилась она при моём появлении.
— Коля — сказал я правду. Настроения врать и выискивать какое-нибудь интригующее имя вроде Роланд у меня уже не было. — А вас? — поддержал я затухающий диалог.
— Марта.
— Как, как? — переспросил я.
— Марта! А что вы удивляетесь?! В России со времён Петра Великого много немцев живёт. И Екатерину, жену его, Мартой звали до крещения.
— Нет, я ничего. Просто я первый раз слышу.
— А сколько раз спрашивали?
— Семь!
— Не густо! Вас что, девушки не любят? — ударила она по больному. — А где вы работаете?
— Студент я, учусь в ЛИАПе.
— Фарцуете? — спросила она, мельком взглянув на мои часы.
— Немного. Только для себя. У меня папа — директор базы.
— Какой базы? — загорелись глаза у Марты.
— «Лентара».
— Да-а-а? А он может…
В эту ответственную минуту оформления заказа на итальянские сапоги подошёл Паша и сказал, что к великому сожалению ресторан сегодня для одиночных посетителей не работает, но есть ещё зал на «Крыше». Марта изменилась в лице. Видимо очень хотела кушать. Но слово «Крыша» её напугало. Весна хоть и была ранней, но не настолько.
Мы оделись в гардеробе и вышли на улицу. Марта шла молча, собираясь с мыслями. Было видно, как её «выбило из седла». Напротив гостиницы стояла шайка таксистов и смотрела на нас своими голодными зелёными глазками.
— А поедемте ко мне, Марта! — разыграл я экспромт. Родители на даче. Полный холодильник еды. Икра, крабы, сервелат! Шампанское! У меня много пластов и есть журнал «Плейбой»!
— Правда? — устало улыбнулась Марта.
— Почти — сказал я.
— Вы всё шутите, Коля. Я юмор люблю. Ну, тогда, поехали. — обречённо согласилась Марта. — А это далеко?
— Да за углом!
Мы сели в такси и я тихо шепнул шофёру адрес квартиры на углу улиц Дыбенко и Коллонтай.
Шофёр резво помчал по Невскому, оживлённо просвещая нас об истории революционных подвигов героев Павла Дыбенко и Александры Коллонтай. Марта не поняла откуда взялась эта тема, но слушала с неподдельным интересом. А я, давясь от смеха, думал, что Серёга нашёл бы, что возразить шофёру и у них бы состоялся научный диспут «Свободная любовь в стране победившего социализма». Но больше всего меня занимала мысль о том, чтобы хватило моей трёхи доехать до этого Весёлого посёлка на краю географии.
После Охтинского моста фонари на дороге закончились. Стало темно и жутко. Марта опять заволновалась и принялась расспрашивать шофёра куда мы едем. Я морочил Марту глупыми вопросами, но услышав, что она учится на филфаке ЛГУ — заткнулся. Самые модные девушки Питера учились на филфаке и я частенько туда захаживал. Общие знакомые мне сегодня были не нужны. Водитель, как из рога изобилия, выворачивал леденящие разум, факты революционной борьбы этих двух героев, отвлекая нас от ужасов дороги. Из его сообщений мы узнали, что вспыльчивый матрос Паша Дыбенко убил из ревности множество революционных командиров, а Шурочка, застав его с другой бабой, усомнилась в теории свободной любви и настучала на Пашу товарищу Сталину. Вождь, имея на Шурочку свои виды, приказал «шлёпнуть» развратного Дыбенко. Когда на двадцатом съезде КПСС Хрущёв отыгрался и заклеймил Сталина его же культом, Паша Дыбенко восстал в помрачённых умах строителей коммунизма революционным героем, как Феникс из пепла. А Шурочка тихо рыдала о нём в ранге советского посла в промозглой Швеции. Их память молодые комсомольские романтики решили увековечить в жилых кварталах новостроек Ленинграда.
Наконец мы приехали. Кругом темнело поле и по-волчьи выл весенний ветер. Проспекты Дыбенко и Коллонтай только начинали обретать очертания улиц и ещё не отражали своими формами чистоты высоких отношений революционных влюблённых. На счётчике тускло высвечивался итог «свадебного путешествия» — 2 рубля 95 копеек.
— Ух ты! Ещё на чай водиле оставлю — с облегчением выдохнул я.
Перепрыгнув две огромные лужи, мы вошли в парадное и втиснулись в лифт. Марта была не на шутку подавлена. Во мраке городских окраин её рыжая шевелюра перестала светиться, а экстравагантное пальто висело на спине больничным халатом. Глаза пристально смотрели в одну точку. Бог знает о чём она думала? Лифт, как нож гильотины, медленно и надрывно урча, поднимался на седьмой этаж. Молчание становилось тягостным. Стараясь развеселить Марту я чуть было не спросил её о самочувствии? Казалось вот-вот тросы лифта лопнут и мы с облегчением грохнемся вниз.
От предвкушения соития руки у меня дрожали и ходили ходуном. Я с трудом вставил свой ключ в узкую скважину замка. Ключ изгибался, выскальзывал и ни за что не хотел проникать в узкое не знакомое отверстие. После долгих усилий и судорожных фрикций замок со скрипом открылся. Когда Марта вошла в дверь нашей сиротской однокомнатной квартиры, единственной мебелью в которой был плакат с обнажённой Брижит Бардо, она поняла, что мышеловка захлопнулась.
Я отыскал у Стаса в загашнике только бутылку Шампанского. Он всегда прятал от меня что-нибудь в авоське за окном. Искоса поглядывая на поникшую Марту, я включил проигрыватель. Марта с интересом разглядывала страницы из Плейбоя, расклеенные по стенам в тех местах, где обои были оторваны ураганом молодецких оргий. «Ол ю нид из лав, ол ю нид из лав» — дружно и настойчиво твердили на своём английском парни из БИТЛЗ непреложную истину. Все нуждаются в любви! Под растерянные междометия Марты я исчез в ванной комнате и, скинув одежду, встал под душ. Пусть сама выбирает себе приговор. Тёплые, ласковые струи воды вселяли надежду, что мои объятия покажутся ей меньшим кошмаром, чем поиски «мотора» в этой глуши и обратная дорога домой. Когда я появился перед ней полуголый, она гомерически захохотала… От неожиданности. Её рыжая грива рассыпалась по плечам манящим пледом. Я налил Шампанское в бокалы и тоже захохотал… От облегчения. Путь был трудным. Красотка прошлась по комнате, постояла возле двери, взглянула на Брижиту, подняла бокал и с улыбкой Джоконды произнесла сладкозвучным контральто:
— С восьмой Мартой, Коля!
И распахнула… кофточку.
Солнечный удар
Ослепительно белый трехпалубный теплоход «Валентин Катаев» отчаливал от стенки Одесского порта и брал курс на Измаил. Гремела и звала музыка Георгия Свиридова «Время, вперед!». Когда, стремительно пересчитав ступени Потёмкинской лестницы, я подбежал к причалу, трап уже собирались поднимать. Я был последним. «Но кто был последним — станет первым» — сказано в Евангелие. Правда, безбожники принимают эту мудрость на свой счёт. Страна готовилась достойно встретить пятидесятилетие советской власти.
Народу на палубах было много. Я пробрался на верхнюю и стал любоваться величавостью походки судна, которое своим носом уже чуяло широкое синее море. Чайки, не шевеля крыльями, висели надо мной. Аромат морского бриза кружил голову и распирал грудь. Я еще никогда не был так счастлив. И буду ли?
Позади оставалась Земля на которой спокойно жили мои родственники. Это умиротворяло мою душу и влекло ее к подвигам. Отец с мамой поехали навестить бабушку в Барсаново. Мамина сестра Люся с мужем, чья дочка гостила у бабушки, тоже собирались в деревню. Вася вернулся из похода на атомной подлодке и, слава Богу, остался жив. Все они гордились моими успехами, наслаждались своей жизнью и искали радость во всем.
— Эй, ты, «гений дзю-до», иди к нам! На третьей палубе размахивала руками Машка со второго факультета. Мы, лучшие спортсмены, ехали в южный спортивный лагерь нашего института. Вся смена уехала из Питера на поезде два дня тому назад, и я догонял их на самолете. Выиграв медаль на первенстве СССР в Риге, я заехал навестить бабушку, отоспаться на сеновале и напиться вдоволь парного молочка. Наелся вдоволь картофельных лепешек со сметанкой, наловил Юльке в речке пескарей и бросился вдогонку за своими сверстниками.
Где-то под Измаилом, на Днестровских лиманах построил базу отдыха Кишиневский университет и заведующий спортивной кафедрой ЛИАПа Юрий Владимирович Захаров закупил там 30 мест для своих студентов. Наши баскетболисты, гимнасты и прочие герои спортивных площадок сидели на третьей палубе, на спасательных плотах, живописным табором и пели под гитару песни Высоцкого «А парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь»…
Я подсел к Маше. Она была красавицей модного скандинавского типа и неторопливо выбирала себе ухажеров. Больших преференций мне она не давала, но прохладными наши отношения назвать тоже было нельзя.
— Что читаешь, дорогая? — спросил я.
— Записные книжки Антона Павловича Чехова, в порту купила.
— Интересно?
— Мне? Да.
— А мне?
— Вот послушай: «Встретились два молодых красивых человека, полюбили друг друга и поженились».
— Ой, да это про нас!
— «И прожили несчастно всю жизнь», — закончила Маша.
— Ну и Антон Павлович… Испортил мне настроение.
— Вот как бывает, Коля. А ты на чем ехал?
— Я летел, к тебе на крыльях любви с двумя реактивными двигателями.
— А ты знал, что я поеду?
— Не-а.
— Я ведь в последний день решила. Людка Семёнова из вашей группы отказалась от путевки. Она поехала со стройотрядом в Астрахань.
Чайки галдели над нами, выпрашивая угощение. Теплоход вышел из створа порта, плавно развернулся и лег на правильный курс. Вылезли из трюма заядлые картежники баскетболисты Леша Степанов и Миша Фарберов.
— Наигрались? А где Казалов?
— Спит. Ему капитан свою каюту уступил. Ты же знаешь Воху. У него все не по-советски. Не как у людей.
Ребята расспрашивали меня про соревнования. Сегодня я был героем. Из под густой чёлки выгоревших волос и стайки веснушек на меня с любопытством смотрели незнакомые голубые глаза.
— А это кто? — спросил я Лешу тоном индюка, охраняющего свое стадо.
— Гусева Наташа, бадминтонистка. Нравится?
— Сейчас посмотрим — протянул я.
Наташа сидела в спасательном кругу и читала книжечку.
— Что читаете, девушка?
— Бунина. «Солнечный удар».
— Интересно?
— Не очень. Скучная история.
— Дайте почитать?
— Дай, дай, Наташа, — подошел к нам выспавшийся Вова Казалов — Он честный парень. Я его давно знаю, книжечку обязательно вернёт.
Коля Лещев, самбист из нашей секции, видимо, имел на Наташу виды и сверлил меня своими колючими глазами. Казалось скрежет его зубов отпугивал чаек. Я взял у Наташи книгу и пошел с Володей в буфет.
Приплыли мы в Вилково уже ночью. Нас ждал автобус, и через полчаса трясучки по ночной степи он доставил нас на место. Совсем рядом, в темноте, шумело море, источая аромат морской свежести. От счастья распирало грудь. Вдоль берега моря стояли в ряд десять армейских палаток, в которых нам и предстояло жить. Под тентом в свете фонарей была устроена столовая. Длинные столы и скамейки — простенько, но со вкусом.
На ужин нам подали слипшиеся макароны — спагетти по-молдавски и… красное вино! Прямо в лагере стоял ларек, где продавали красное молдавское вино — Каберне, Негру де Пуркари и совсем дешевую фруктовую шипучку. Вот это праздник!
С кем бы я ни начинал разговаривать, мои глаза сами косили в сторону Наташи и искали ее. Рядом с ней уселись Коля Лещев и Боря Берлин и галдели наперебой, засыпая её шутками. Вино лилось рекой. Народ ликовал. Не оздоровительный лагерь, а образцовый вертеп!
С приветственной речью выступал директор лагеря, но запнулся и… упал.
— Да он в дымину пьяный?!
В лагере бушевало веселье…
— Боря, Коля, не спаивайте Наташу. Ответите за всё на бюро комсомола — пригрозил я, специально пройдя мимо их стана. Наташа расхохоталась. Я решил не наседать, дать паузу, и пошел купаться с ребятами.
Море тихо шумело и вздыхало волнами. Мы скинули одежду и бросились в волны. Вода ласкала наши разгорячённые, голые тела. Вырвавшиеся на свободу дети сошли с ума. Ох уж, это красное вино!
В лунном свете я заметил Наташу с ухажерами. Совсем рядом они входили в воду. Боря Берлин, как соловей в майскую ночь, орал с характерным грассированием Вертинского «Отлив лениво ткёт по дну узоры пенных кружев…» стараясь привлечь к себе внимание Наташи, которая стремительно уплывала в морскую пучину. Я поднырнул и обнял ее. Она не испугалась. Неужели такая смелая? А, может быть, она тоже следила за мной? Она была в купальнике. Я подержал ее в объятиях. Вода делала ее упругое тело шелковым. Я поцеловал ее в щеку и также стремительно уплыл.
Всю ночь мы орали песни, заглушая шум волн. Мне не спалось. Я пошел вдоль моря. Только что грудь мою распирало от счастья на носу корабля, и вот непонятное стеснение и тоска. Что это? Может, я простыл? Может ветром надуло?
Взошло солнце. Я шел по берегу и собирал для неё перламутровые раковины. На всю округу заорал репродуктор «По спортивно-оздоровительному лагерю «Чайка» объявляется подъем! Подъем!» С металлом в голосе запела из репродуктора Эдита Пьеха «В нашем доме поселился замечательный сосед…». Посреди лагеря стоял директор с двумя другими преподавателями, трезвыми, как стекло. Студенты-спортсмены храпели без задних ног в своих палатках. Я положил раковины у входа Наташиной палатки и пошел спать. Доброе утро, страна!
Проснулся я к концу дня. Лагерь шумел, как восточный базар. Готовились к ужину. В больших кастрюлях варили макароны. Из репродуктора лилась веселая музыка, царило оживление. Парни и девушки в чистых футболках и шортиках деловито сновали туда-сюда. Я сел на лавочку и начал высматривать в этой разноцветной толпе Наташу. Она возвращалась из душа в солнечно желтой тунике, ладно скроенной из старых махровых полотенец, изумительно облегающих ее стройное тело с высокой упругой грудью.
— Наташа, я хочу вернуть тебе книгу.
— Тебе понравилось, Коля?
— Я получил большое наслаждение.
— Да? — вскинула брови Наташа — От чего?
— От сострадания к поручику!
— Странный ты, Коля! По-моему их встреча аморальна.
Подошел Вова Казалов и сообщил, что после ужина идем в море под парусом. Местный рыбак за бутылку вина дал нам свой баркас покататься.
— Наташа, хочешь с нами?
— Ой, очень хочу — запрыгала от радости Наташа и побежала переодеваться.
Ветер дул с берега. Баркас, полный народу, как щеки, раздувал свои паруса и, скользя по волнам уносился в открытое море. Берег стремительно исчезал из виду.
— Ребята, там заграница, там Турция! — закричал Миша.
— Айда в Турцию!
— А как поворачивать, кто знает?
Как поворачивать никто не знал. Вовка взялся за какую-то веревку и с силой потянул. Рея с парусом оторвалась от мачты и с грохотом упала на наши головы. Раздался дружный хохот.
— А как же теперь? Ой, да здесь весла есть!
Легли на весла. Против ветра грести было трудно. Меняясь поочерёдно, мы добрались до берега, когда луна ярко светилась своей круглой, ехидной рожей.
Вода вскипала от сверкающих брызг, обнажая красивые молодые тела. Казалось, в сумраке южной ночи ничего не было видно. Но это только казалось. Я быстро нашел Наташу. Да мне и искать ее было не нужно. Я не сводил с нее глаз. Не упускали ее из виду и трое других претендентов — Берлин, Лебедев и Лещев. От стука их зубов у меня по коже бежали мурашки. Я увлек Наташу в глубину морской пучины. Она не сопротивлялась. Нащупав дно кончиками пальцев, я легкими прикосновениями привлек ее к себе. Мы дрожали. Я хотел прикоснуться к ее губам, но она ускользнула. Она плыла, легко перебирая руками и ногами, а я извивался вокруг нее, и от этих прикосновений меня пронизывали мощные разряды, содрогающие все мое тело.
«Прорезала вышка по небу лучом, как же это вышло, что я ни при чем…» — пел под свою гитару Вова Клебанов. Вокруг тлеющих углей костра собрались парни и девушки, оторвавшиеся от материнской ласки, и жаждущие тепла и ласки совсем другой, доселе им неизвестной.
Утро нового дня возвестил звон бубнов, гармоней и медных труб молдавского колхозного оркестра. Единственная дорога в степи, которая вела к нашему лагерю от Вилково, привела к нам табор молдавских крестьян, направлявшихся на свой традиционный праздник урожая. Превеликое множество развесёлых людей расположились табором и принялись разводить костры и готовить угощение. Весь наш лагерь с восторгом влился в их пёструю загорелую веселую толпу. Вскоре образовался круг, и молдавские парни стали меряться силами в борьбе. Кто побеждал, оставался в круге и ждал своего нового противника. Куш был солидный. Наши девчонки запрыгали и с криками «Мы победим!» стали подталкивать меня в круг.
— Гений дзю-до! — кричала Маша. Женя, Люда, Света толкали меня в круг и хохотали.
— Коля, Коля, выиграй нам бочку вина!
Я смотрел с удивлением на их красивые лица, бронзовые плечи, упругие бедра и понять не мог, почему я не обращал на них внимание столько дней?
Наташа… Только Наташа стояла перед моим взором. Только ее голубые глаза, выгоревшие волосы и курносый носик в веснушках. Она стояла поодаль и урывками смотрела на меня.
Я вышел в центр круга. Здоровенный молдавский парень всем телом навалился на меня. Я обхватил его за ноги и грохнул о землю.
— Ура-а-а-а-а!!! — закричали девчонки.
Второй, третий, четвертый… парни вылезали из толпы, как черти из преисподней. Им не было конца. Руки и ноги мои стали ватными, из разбитого носа сочилась кровь. Я стоял, как гладиатор, тяжело дыша, и выискивая в толпе следующего монстра. Желающих больше не было.
Солнце клонилось к закату. Бубны, барабаны и трубы, не переставая, гремели. Председатель колхоза выкатил в центр бочонок вина и поднял мою руку вверх. Я заметил в толпе радостное лицо Наташи.
— Это тебе, — сказал я, подходя к ней. — Будь моей женой!
Она так широко открыла глаза, что я испугался.
— Будь моей женой, — повторил я. Она поняла, что я говорю о серьёзном, и растерянно прошептала
— Я должна спросить маму.
— Какую маму, зачем маму? Я люблю тебя.
С этого дня нас в лагере видели редко. К нам никто не подходил, не приставал с расспросами. Мы уходили по пустынному берегу моря так далеко, что не было сил вернуться. Мы купались в лазурном море, лежали на белом песке, не стесняясь своей наготы, и ласкались, ласкались, ласкались. Любопытные дельфины с шумом выпрыгивали из воды. Чайки носились над нами и кричали в надежде получить хоть немного еды. Но еды у нас не было. Мы не ели и не пили. Мы насыщались ароматом наших загорелых тел. Мы утоляли жажду влагой наших губ.
В лагерь мы возвращались к ночи, отыскивая его в темноте по искрам костров и звону гитары. Трень-брень гусельки, трень-брень струночки… «Родники мои серебряные, золотые мои россыпи….»
По тому, как висели на растяжке козырька мокрые футболки, нежно обнимая друг друга, можно было легко догадаться, кто уединился в палатке. В палатку не входили, зная, что там — территория любви. Жаркие летние романы подошли к третьей стадии развития — влюбившись, рассорившись, парочки вновь объединялись в предчувствии неизбежного расставания и страшась одиночества.
Настал день отъезда. Мы с Наташей пришли в лагерь, когда уже свернули все палатки и торжественно опускали, вылинявший на солнце, флаг. Лагерный автобус, отправлявшийся в Вилково к теплоходу, собирался делать два рейса, но время уходило, и было решено забить автобус нашими загорелыми высушенными телами до отказа, чтобы управиться в один рейс.
В толчее мои конкуренты Лещев и Берлин подсуетились и затащили Наташу в автобус, усадив ее у себя на коленях. Она радостно махала мне рукой, даже не подозревая, какой вулкан ревности извергается у меня внутри. Мест в автобусе не осталось, и влезть туда таким гигантам как я и Кирилл Шиба, центровой нашей баскетбольной команды, было не реально.
Подошел начальник лагеря, трезвый как стекло, и сказал, что отвезет нас с Кириллом на своем «козле», но только мы должны помочь ему закрыть склад, а то дверь перекосило.
— А успеем мы на кораблик-то? — поинтересовался Кирилл.
— А куда вы денетесь? В степи, что ли, вас оставят?
Автобус тронулся. Наташа махала мне рукой, сидя на коленях у Лещева и Берлина, а их лица светились невыразимой радостью от своего превосходства.
Кирилл пошел с директором закрывать склад, чтобы ускорить наш отъезд, а я поплелся к морю.
Оно шумело прибоем и зализывало волнами на песке следы наших ног. Сердце невыносимо сжалось. Мне было не вздохнуть. Я шел по берегу, замочив в волнах свои белые слаксы. Песок еще хранил тепло наших тел и тайны наших свиданий. Песок еще помнил о нашей клятве верности друг другу, наших мечтах о том, какой прекрасный мы построим дом с камином и огромными окнами, выходящими в парк. Мы грезили о том, как над кронами деревьев, виднеющихся из окон нашего дома, будет возвышаться шпиль Петропавловской крепости с золотокрылым ангелом. Морские раковины, разбросанные по песку, ещё помнили, как мы слушали в них шум моря, мечтая о том, каких замечательных деток мы родим и вырастим — девочку и мальчика. В раковинах мы слышали шум Парижа, Лондона, Будапешта и Рима, которые мы мечтали проехать в весёлых путешествиях. Запах морского бриза навевал нам, какой ароматный кофе нам подадут на пьяца Сан-Марко в Венеции, как пьяняще будет благоухать сирень в нашем саду, какие яблони зацветут вокруг нашего дома на берегу тихой лесной реки. Ветер носил над песком наши мечты о том, какие прекрасные люди наполнят наш дом, обсуждая и свершая грандиозные планы наших замыслов.
— Коля, Коля, едем! — ворвался в мои воспоминания истошный вопль Кирилла.
Я побежал по глубокому песку дюны и вернулся в реальность этого прощального дня.
— На-ка, крутани стартер, — прохрипел директор, протягивая мне железную кочергу. Я знал, что это за хреновина, пользоваться которой учил меня мой отец. Я вставил ручку и рывком крутанул вал движка. «Козел» молчал, как убитый.
— Ну-ка, еще разок.
Я крутанул ещё раз. Опять тишина.
— Ну-ка, ты, Кирилл! — Кирилл так рванул, что из его пальца полилась кровища.
— Твою мать. Искра в землю ушла — сплюнул директор.
— Да ее у тебя и не было. Ты ее давно пропил — съязвил я.
— Но-но! Поговори еще, «гений дзю-до»! Заночуете у меня в степи.
Когда мы подъехали к пристани, белый пароход исчезал за горизонтом. Наверное, на верхней палубе, на спасательных плотах уютно уселись наши ребята и пели под бренчание гитарных струн «Как же нам придумать компромисс, через нашу глупость разошлись…». Громче всех, конечно, орал счастливый Берлин. Лещев, наверное, боялся проронить слово, потому что на его коленях сидела моя Наташа и тихо подпевала.
Я стоял на краю пристани и сквозь слёзы смотрел на исчезающий пароход.
— Вот «облом»! Когда теперь следующий? — спросил Кирилл.
Я не ответил. Мне было все равно. Мой теплоход уже уплыл. Я чувствовал себя постаревшим на двадцать пять лет.
* * *
Пост скриптум. В августе в Одессе моросил осенний дождь. Что то неладное произошло с климатом на Земле за четверть века. Я стоял на краю пристани и сквозь мутную пелену смотрел на исчезающий белый пароход, который привёз меня в санаторий «Вилково». Теперь с этим пароходом, навсегда уплывала моя жизнь, моя семья, мои повзрослевшие дети — девочка и мальчик. В прошлом году мы развелись с Наташей. Её подвёз до дома какой то обходительный господин. Может быть не первый раз. Может быть он подвозил её с тех времён, когда ещё был товарищем. Может с того самого лета. С ним то она и уехала….
Камасутра
Трудно переть против законов природы. Когда наступает ночь и становится темно — нужно спать. Почему-то нам с детства внушили, что ночью люди занимаются совокуплением и предаются половым наслаждениям. Почему этим нужно заниматься ночью? Спать ведь хочется. И на работу нужно рано вставать, трястись в трамвае, стоять у станка и строить материальную базу коммунизма. Вот после работы, с чувством выполненного долга, можно было бы и насладиться половыми чудесами. Но где?
Как известно, бытие определяет сознание. Квартирный вопрос нас замучил. Советский народ жил в коммуналках. Мало того. В одной комнате ютилось целое семейство и ночью искали лежанку, где можно было бы свернуться калачиком и укрыться одеяльцем. Стоя спать даже советские люди не умели. Под покровом темноты и наркозом глубоко сна, после изнурительного трудового дня люди занимались ласками и совокуплениями в те минуты, когда родственники начинали рокотать устойчивым храпом. Не долго. Чтобы успеть выспаться перед рабочим днём. Хорошо бы повторить эту процедуру и утром вместо утренней гигиенической гимнастики под голос из репродуктора, но соседи по комнате нас бы не поняли. Поэтому утром советские люди отжимались несколько раз от пола и бежали на работу.
Но против природы не попрешь. К четырнадцати годам у мальчиков меняется голос, а у девочек отрастают сиськи. И всё это абсолютно легально, по законам природы. Правда на некоторых природа отдыхает. Или, вообще, выворачивается наизнанку, оставляет избранных в меньшинстве. Это нельзя отложить, запретить и пропустить мимо ушей. Под воздействием каких то гормонов в организме возникает непреодолимое желание к совокуплению с лицами противоположного пола. Отклонений он нормы я касаться не буду, но замечу, что долгий путь познания привёл меня к тому, что половое влечение, а тем более оргазм, возникают избирательно. Не со всеми, конечно, но с большинством. К четырнадцати годам я обнаружил, что в трамвае, до отказа набитом народом в пальто, у меня непроизвольно мог возбудится детородный орган и упереться в соседнюю тётку. Она отпрыгивала в сторону, а я поворачивался к ней спиной и упирался в другую девушку, протыкая её через пальто. Да что трамвай? Я мог на Невском проспекте, увидев девчонку с упругими формами, порвать свои старенькие брюки торчащим членом, удивляя прохожих неопрятностью своих форм и линий. Мне приходилось имитировать резкую боль в животе, приседать и подпрыгивать на пятках, чтобы привести себя в подобающую советскому человеку форму.
Такие трудности возникали в кино, в театре, а особенно на танцах. Я долго ломал голову, как другие люди справляются с этим недугом, пока одна девчонка не рассказала мне о своих проблемах и объяснила, что она с такой же силой хочет половой близости, как и я. Совершив соитие и делясь первыми впечатлениями, она мечтательно произнесла магическое слово «камасутра». Вот бы нам так. А как? Этого она не знала. В её кружке по индийской йоге показывали только позы змеи, рака и крокодила в сочетании с дыхательными упражнениями. Но девочки говорили, что есть ещё и позы любовных соитий, которые держатся в строгом секрете и доставляют влюблённым максимальное наслаждение.
С тех пор, как одержимый, я стал искать волшебную книгу «камасутры». Ни в одной библиотеке СССР о такой книге даже не слышали. Знакомый моряк дальнего плавания Игорь, который провозил через кордон презервативы с усиками, мазь для секса и журнал Плейбой, услышав о «камасутре» замахал руками. Даже в дальних странах, которые он посещал, о такой книге мало кто слышал, а на таможне за порнографическую литературу давали высшую меру. Запретный плод, как известно, сладок. Поиски«камасутры» стали целью моей жизни.
Уроков полового воспитания в 1960-х ещё не было. Единственным местом, где можно было повысить своё сексуальное образование было кино. Не зря Великий Ленин завещал нам, комсомольцам семидесятых о том, что из всех искусств самым важным для человека является кино. На втором месте — стриптиз в женской бане. На третьем Эрмитаж с обнажёнкой. Только не надо про филармонию.
В кино было темно. Это главный плюс. Не меняя положения тела и не вызывая нездоровый интерес у окружающих, можно было одной рукой погладить коленки любимой девушки, просунуть ладонь между ляжками и, если кино про любовь, добраться до святая святых. Правда к этому моменту включали полный свет и зрители, толпясь, выносили нас к выходу. В советских фильмах половых актов не показывали. Иногда, как в «Коммунисте» Женя Урбанский целовал свою партнёршу так смачно, что люди с хорошим воображением могли и кончить во время сеанса. Но зато в зарубежных фильмах можно было увидеть такое, что не приснится и в страшном сне. Марина Влади в фильме «Колдунья» входила в воду озера абсолютно голая, а Джина Лоллобриджида появлялась с таким декольте, что наступало преждевременное семяизвержение и раздеваться ей было не нужно. На такие фильмы мы ходили по много раз с разными подругами, чтобы никого не оставить обездоленным райскими наслаждениями. В итальянском фильме «Дни любви» Марчелло Мастроянни, как и все советские люди обездоленный жильём, показал нам хороший пример, пытаясь слиться в любовном экстазе с Мариной Влади прямо в хлеву. Но высший шик предполагал наличие кровати белоснежного постельного белья. Такого, к сожалению, ни у кого из советских людей не было. И по моим представлениям, именно в таких чертогах таились тайны вожделенной «камасутры».
Жарким летом, когда деревья покрывались густой листвой, у советского народа начиналось время спаривания. Как гуси, селезни и другая живность юноши и девушки шли после работы в парки, любовались пейзажами и клумбами, а с наступлением темноты заваливались под кусты и занимались соитием. Зимой рождались дети. Много детей. Но, как правило, безотцовщина. Самцы из кустов лихо исчезали. В парках было много скамеек, качелей и каруселей, которые изобретательные пацаны приспосабливали для половых сношений. Лично я больше всего любил простые лавки, на которых можно было устроиться верхом и делать вид, что мы беседуем о прекрасном. На лавке можно было уложить подружку на спину, посадить верхом на себя, сесть паровозиком. И прохожие в сумерках ни к чему не могли подкопаться. Если девушка стеснялась сидеть и обниматься на скамейке, опасаясь советов прохожих, её можно было увлечь в глубину рощи и прижать к толстому стволу дерева. Один мой приятель рассказывал, что, приподняв её ногу и достигнув желанного, хотел прекратить действо, жалея, что она устанет стоять на одной ноге, но подруга так громко и настойчиво закричала «нет, нет», что прибежали прохожие и сломали им кайф.
Зима в России не брачный период. Морозы стоят такие, что в тёплых кальсонах и в байковых штанах отмерзали все гениталии. Но сердцу не прикажешь. И особо пылкие любовники обживали парадные лестницы жилых домов. Нет, не тех, в которых проживали их подружки. Там их могли застукать соседи. А забравшись в другой район и выбрав тёмную, безлюдную парадную любовники устраивались на подоконнике и изобретали уникальные позы соития в ватном камуфляже. Это тебе не шёлковые трусики стянуть. Но проникнув к заветной цели /не путать со «щели»/ и накрывшись от назойливых взглядов прохожих зимними пальто можно было достичь желанного оргазма и в тридцатиградусный мороз. Мой сосед Петька, который служил в Норильске, рассказывал что они умудрялись совершать соитие в пятидесятиградусный мороз на трубопроводе теплотрассы. Но это, я думаю, он привирал.
Не врал один мой приятель по секции самбо в спортобществе «Труд» по фамилии Момот. Он работал таксистом на «Волге» и хвастался тем, что его рабочее место служило ему и спальней на колёсах. Приглашал он девушку на свидание, приезжал на своей «Волге» и катал её на машинке в сторону безлюдного Каменного или Крестовского острова. Припарковавшись в укромном уголке он раскладывал переднее сидение и устраивал ложе для соития. По сравнению в коммунальной квартирой это вместилище романтичным советским девчонкам представлялось шикарной яхтой миллионера из фильма «В джазе только девушки» или «Некоторые любят погорячее». В частном владении машин было так мало, что мой приятель был у девушек в большой цене. На встречу с ним рвались, как на поездку за границу. Да ещё и в капстрану. Единственное, что омрачало его сексуальный отдых, это необходимость выработки плана в двадцать пять рублей. Простой машины в плане не учитывался. Ну изредка машину могли проверить гаишники, постучавшись в окно в самое не подходящее время. Но это случалось редко.
Намучившись в половой акробатике и одержимый сладкозвучной «камасутрой» к двадцати годам я выменял от мамы с папой комнатку в старинном доме с толстыми кирпичными стенами в центре Ленинграда. В нашей хрущобе, сквозь храп и кашель, были слышны стоны до утра со всех этажей. А ночью очень хочется спать. Заниматься любовью нужно днём, пока мама с папой на работе. Я купил в комиссионке широкую кровать и надумал жениться. Выбрал себе в невесты скромную комсомолку и решил жить с ней по законам «камасутры». Свадьбу сыграли в студенческой столовой. Гостей собралось великое множество. Надарили одеял, подушек, простыней, сковородок, тазов и хрустальную вазу от трудового коллектива. Но самый дорогой подарок преподнёс нам мой старый морской волк Игорь. Он вручил мне протащенный мимо таможни и пограничников, но от этого не менее дорогой, индийский томик «КАМАСУТРЫ» с огромным количеством рисунков вожделенных сексуальных поз. С нетерпением проводив гостей мы с молодой женой бросились в наши чертоги заниматься любовию. Я судорожно перелистывал страницы и погружался в отчаяние. Там было нарисовано всё, что я придумал за время своей нищенской юности. Твою мать. Этак и я могу.
Законный бряк
Ил-18 ровно жужжал своими моторами, отгоняя тревогу и снимая нервную дрожь. Мы летели в свадебное путешествие. В иллюминаторах взбитыми сливками аппетитно проплывали облака, пробуждая мысли о прекрасном и разжигая аппетит. В летающей столовке стройные бортпроводницы в синих костюмчиках разносили завтрак. Как это было кстати! Я невыносимо хотел есть. Вспоминая гору еды на свадебном пиру, вспоминая туго набитый холодильник, заботливо нашпигованный моей бабушкой, я не мог себе объяснить почему я ничего не ел. Не было аппетита?! Я нервничал, вступая в новую жизнь, скреплённую законным браком. Какой-нибудь безответственный женишок поел бы впрок. Неизвестно как там в новой жизни всё сложится. А я был ответственным. Я думал о своих новых обязанностях и едой пренебрегал. А зря.
В Одессе нас встречала дружная семья тёщиной закадычной подруги Хгалы. Они припёрлись всей семьёй, ответственно отнесясь к просьбе своей столичной подруги, ну и, конечно, не ущемляя свой провинциальный интерес. С типично одесским интерэсом нам удалось уплотниться в автотакси типа «Волга» всей компанией. Жила Хгала с семьёй в шикарном доме на Пушкинской улице в коммунальной одесской квартире. Когда я заметил огромную толпу, перегородившую всю улицу с облезлыми платанами, у меня помрачнело на душе. Я подумал, что там авария /дурной знак/ и надо бы объехать. Но радостные крики открыли мне глаза на происходящее. Это соседи и соседи соседей встречали хгалкиных столичных молодожёнов. Мою новенькую жену понесли на руках, а на меня все повисли с объятиями, как на вешалку и я понёс их на второй этаж. Душное одесское гостеприимство разлилось по всему дому. Стол стоял в общей кухне, размерами напоминающими вокзал. На столе плотной батареей стояли бутылки Советского Шампанского одесского разлива и горы фруктов. Хгала не хотела падать лицом в грязь перед столичной публикой. Запенилось вино, заоралось «Горько» и я, наконец опьянев с голодухи, всосался в свою молодую жену. Спустя немного времени фруктов на моём краю стола не осталось. Я смёл со стола всё. И яблоки, и вишни. Причём вишни я ел прямо с косточками. Тут Хгала, поднабравшись шампанским до общего градуса и ощутив родственную заботу и простоту, нерешительно спросила
— Так може борща с помпушками, Мыкола?
— А что, есть?
— Да Боже ж мой!
Спать мою новенькую жену положили с хгалкиными детьми, обосновав это тем, что ей нужно привыкать. Хгала с плохо скрываемой радостью пошла спать к соседям, а меня положила в одну кровать со своим мужем Юрой. Видимо у них, у одесситов, так принято. Всё лучшее-гостю! Юра, едва коснувшись подушки, заснул, крепко обнял меня и так продержал всю ночь, не дав мне узнать, где у них находится туалет. Прощались мы как родные.
Ослепительно белый пароход «Украина» отвалил от причала и понёс нас по синим волнам навстречу новой жизни в Ялту. Я предусмотрительно взял билеты в двухместную каюту второго класса и предвкушал новобрачное соитие. Но белый пароход разрезал своим носом штормовые волны и качался из стороны в сторону как качели. Моя новенькая, молоденькая жена не выдержала качки и начала, как говорят моряки, травить.
Чтобы не смущать свою леди, я пошёл на танцы. На верхней палубе на всё Чёрное море из репродукторов гремела ритмичная музыка и, крепко обнявшись, танцевали только два матроса. Пассажиры в лёжку попрятались по каютам. Теперь травить начал и я. Брачное соитие было отложено по метеоусловиям.
Ялта встретила нас низким пасмурным небом. Ай-Петри проколола собой тяжёлое облако. Прямо на причале нас встретили с баяном работники Дома отдыха ВТО и на своём автобусе привезли в Мисхор. После морской прогулки у меня снова появился зверский аппетит. Номер был простой, но уютный, с видом на море. Правда, от моря в окно сильно шумело. По разные стороны стояли две односпальные кровати с прикроватными тумбочками. Посреди комнаты мешался стол с графином. Узкий коридорчик вёл к туалету и ванной комнате, что в СССР считалось высшим шиком. Люди, которые по утрам принимали душ, с полным основанием относили себя к интеллигенции. Устав от дороги, моя жена прилегла на кроватке, и я вспомнил почему, собственно, мы с ней здесь оказались. Скинув брючки, я бросился к ней. Моя сексуальная агрессия жену напугала и лицо её не скрывало желания позвать на помощь окружающих. Обнимая и поглаживая её груди, я пытался её успокоить. Громкий металлический голос из репродуктора возвестил о начале обеда и благодарил за то, что все отдыхающие придут вовремя. Жена вскочила и выбежала из номера, как освобождённая жертва Бухенвальда. Быстро натянув брючки, я трусцой бросился её догонять. Бежал на запах жареного лука. Двухдневная свадебная голодовка давала себя знать.
Официантка нас определила за столик у окна. Положив себе салатов, мы уткнулись в тарелки. Когда принесли суп, появились наши соседи по столу, артисты кордебалета из Большого — Ира и Андрей. Вы, конечно, будете смеяться, но они тоже приехали в свадебное путешествие. Просто инкубатор какой-то. За соседним столиком сидела ещё одна новобрачная парочка из Москвы: Алла и Саша. Их родители были врачами и смогли достать им путёвки в престижный дом отдыха. Так любовь к свадебным путешествиям в творческой среде объединила нас на многие годы.
Уже на третьей минуте послеобеденного отдыха, когда я лелеял свои коварные замыслы новобрачного самца, мы страшно разругались с моей женой.
— Какие чудные ребята! Как нам повезло! — воскликнул я.
— Да, действительно, чудные! — поддержала меня жена. Особенно Саша! Какое лицо, какое остроумие!
— Что, что? — переспросил я. Какое лицо? Какое остроумие? Ты должна смотреть только на меня.
— Вот ещё! И не подумаю! — возмущённо фыркнула она и повернулась лицом к стене
Я пошёл к морю. Пляж был узкий, тесный, усеянный отдыхающими. Крым традиционно был излюбленным местом отдыха москвичей и народу здесь всегда было много. Я устроился на волнорезе и наблюдал за плавающей головой в тюрбане из махрового полотенца. Когда голова поравнялась со мной, я предложил ей свою руку. Крокодил, плавающий за ней на резиновом матраце, чуть не откусил мою руку. Он оказался её мужем. Развелось же этих брачующихся. Куда ж холостякам податься?
Дня три мы ходили молча, молча спали и загорали в разных концах пляжа. Потом наши новые друзья взялись нас мирить и принудили меня к покаянию. Мужчина должен уступать женщине во всём. Примирение решено было отметить в кондитерской в Ялте. Автобусом до Ялты доехать было просто. Ялтинская набережная приветливо простиралась вдоль моря, приглашая к прогулкам праздных отдыхающих. Мы выпили кофе с пирожными и уселись на скамейку, любоваться морем. Рассказывали друг другу о своих планах на предстоявшую жизнь. Ира с Андреем мечтали блистать на сцене Большого, Саша с Аллой закончили МГИМО и готовились к командировке в Африку, а нам предстояло закончить четыре курса, получить диплом ЛИАП и строить космические корабли. В головах ещё не рассеялся туман детских сказок. Пока все жили у родителей и мечтали о своём доме. Лунная дорожка звала нас в светлое будущее. Мы поехали в Мисхор.
Сидеть вечерами на балконе нашего номера было большим удовольствием. Шум моря, гористый, поросший кипарисами берег в лунном свете дышали ароматом кальяна, восточными сладостями и танцами живота южных красавиц. Когда я, покаявшись и извинившись, с охапкой цветов и рахат-лукумом, совсем уж было подобрался к прелестям своей новобрачной жены, она мне бегло объявила, чтобы я к ней сейчас не приставал, так как у неё начались женские «дела». Ну и дела?!
После завтрака вся популяция причерноморских отдыхающих тащилась на пляж и лежала на подстилках, прижавшись друг к другу своими боками и подставив солнцу свободную часть своего тела. Изредка, уморённые жарой отдыхающие остужали свои тела, погружая их в прозрачные морские волны. Разомлев и проголодавшись, к двум часам все уползали с пляжа и перемещались к кормушкам и кроваткам. Я предпочитал сон в гамаке или шезлонге солярия на крыше нашего корпуса. В четыре часа накрывали полдник из фруктов и печенья с чаем. Мало кто им пренебрегал. После полдника устраивали прогулки в горы. Прелести этих мест многократно описаны классиками и мы старались уловить те же наслаждения от узеньких улочек Симеиза, витиеватой резьбы стен Ливадийского дворца, восточных узоров Бахчисарая. Мы приезжали в гости к Антону Павловичу Чехову и пытались понять его мысли. Залитые солнцем виноградники манили налитыми гроздьями. Персиковые сады не позволяли пройти мимо. После ужина все собирались на танцы. Когда я спросил местного татарина, продающего фрукты, куда лучше пойти на танцы, он подумав немного, посмотрев на меня, сказал
— Хочешь дурью помаяться, иди в «Сосны», там интеллигенция отдыхает. А хочешь, чтобы всё нормально получилось, тогда в «Живой ручей». Якше.
— Да не, я с женой.
— Тогда какие тебе танцы нужны, да?! Пусть она тебе дома танец живота танцует.
К концу медового месяца я познал свою жену и не нашёл в этом ничего необычного. По-моему она тоже. Но сочетание браком произошло и законсервировалось приторностью медового месяца. Засахарилось.
Я разъехался со своими родителями и обосновался в коммунальной квартире на бульваре Профсоюзов,17 /Конногвардейский/у Исаакиевского собора. Жизнь в центре давала много преимуществ. Пять лет мы только и делали, что развлекались на досуге. Море приключений, океан событий. Непреложные занятия в институте, работа в студенческом научном обществе, репетиции в КВН, тренировки профессионального спортсмена за зарплату и съёмки в кино были обычным рутинным делом. Зарабатывал я, как профессор. Напряжённо думать приходилось только о том, как попасть на модный спектакль в БДТ, концерт Дюка Элингтона или выставку из Лувра. Куда поехать на каникулах и как протащить на спортивные сборы в Сочи свою молодую жену. Как ей прогулять лекции, чтобы она тоже поехала со мной на съёмки. Какая компания ей нравится и где мы в этот раз будем встречать Новый год.
Утренний кофе стал моей обязанностью под предлогом того, что я очень вкусно его готовлю. В студенческой столовке я никогда не питался. Придворным нашим кормильцем стал ресторан Дома архитекторов с изумительными кожаными панно на стенах и сочным бифштексом по-деревенски. Шведский стол в «Европе» и «Метрополе», на худой конец чебуреки в «Кавказском». Женщина не должна торчать на кухне и стирать мужские носки — девиз моей избранницы. Взгляды на устройство семейного очага у нас были разные. Ей хотелось принимать комплименты поклонников, а мне отводилась роль подкаблучника, довольного этим. Меня такой расклад не устраивал.
Поиски компромисса затянулись на пять лет. Слушались концерты, читались книги, писались рефераты, смотрелись фильмы, обсуждались спектакли. Мы спали, работали и в промежутках ели. Мы просто завтракали, ужинали и обедали. Всё как у А.П.Чехова. Люди обедали, просто обедали. А между тем, слагались наши судьбы, разрушались наши жизни.
Вечеринка с Бродским
Я стоял на перекрёстке Бродвея и 49-ой улицы. Как пальцы выставленные напоказ в драгоценных алмазных перстнях вокруг меня высились небоскрёбы. Пытаясь остановить прохожих и узнать адрес, я повторял на ломанном английском языке свой вопрос
— Сори! Где тут… э-э… Самовар, плыз?
Но прохожие пролетали с такой скоростью, что окончания вопроса тонуло в шорохе шин.
— Я покажу тебе дорогу, Коля! — послышался знакомый голос за спиной.
— Твайю мать, Оська! Что ты тут делаешь?
— Это ты что здесь делаешь? Я-то здесь живу.
Передо мной, со своей питерской ехидной улыбочкой, не разжимая губ, стоял Бродский.
— А как ты меня узнал?
— Да по пальто! Помнишь как в том анекдоте про большевиков, которые встретились у мавзолея Ленина через пятьдесят лет после революции и один другого спрашивает, как же он его узнал? Да? И так далее, и так далее, и так далее…
— А сколько же мы не виделись?
— Постой, постой, Коля. Последний раз это было у тебя на вечеринке. Перед моим отъездом. Я, Илья, Семён, Паша, Вова Светозаров. Ну и напугался я тогда. Второй-то раз сидеть не очень хотелось. Да? Вот и послушали музычку! Дебитлз!
— Боже мой, сколько воды утекло, Ося?!
— А я тогда на Ленфильме тебя сразу узнал и не хотел к тебе тащиться со своей американкой. Как-то ты мне сразу не понравился, когда я ещё тебе «Доктора Живаго» продал. Да? Что-то ментовское у тебя в лице было. Если бы не Илья и Семён, которые начали тебя расхваливать, я бы не поехал.
— А Илья-то уже давно умер. И Семён тоже.
— Да грустная история. Очень грустная. Ну, пойдём Коля, покажу тебе дорогу к «Самовару». А помнишь мы тогда поехали на 31-ом трамвае к тебе на бульвар Профсоюзов и хотели где-нибудь сойти водки купить и так далее, и так далее, и так далее… На Зверинской выходим — водки нет. На Добролюбова выходим — водки нет. А надо до семи успеть, а то пришлось бы «Сержанта» на сухую слушать.
— А девчонки ваши, Ося, на второй остановке в другую сторону чуть не уехали, поняли, что с вами вечеринка не весёлая получится. Семён их еле-еле уговорил, расписывая какие уникальные у меня пласты «БИТЛЗ». Если бы не Линка Сандлер, они бы разбежались.
— Да он и нас всех уговорил к тебе поехать, потому что только у тебя в Ленинграде «Сержант Пейперс лонли хад клаб бенд» появился. Да ещё своя комната в центре. Тащиться в новостройки не надо, чтоб выпить под музыку и так далее, и так далее, и так далее…
— А водку мы уже прямо у моего дома купили в гастрономе на Леотьевском. Там хороший винный отдел был и продавщица знакомая. Сразу две бутылки «Столицы» взяли, чтоб лишний раз не бегать. А на закусь пельмешек «Сибирских» шесть пачек. Нет, пять — у них больше не было. Всё разобрали под конец дня. А комнату эту мама мне дала, чтоб жить с молодой женой отдельно. Я из штанов выпрыгивал от радости, что стал самостоятельным. Могу, кого угодно приглашать и любую музыку слушать.
— Ну в этом вопросе, Коля, нас твоя соседка разубедила. Да? Она же тебе сразу сказала, что вы здесь не один живёте и будете пол мыть лишний раз в местах общего пользования за своими гостями. Да? Ты цыкнул тогда на неё, а дочка с хахелем выскочили бить тебя, но… притормозили, сосчитав нас по головам. Да?
— А хахель крепкий был такой парнишка, спортсмен, баскетболист. Правдюк его звали. Дочка тоже баскетболистка. Они в университете оба учились. На филфаке, нет… на юридическом. Права покачать любили.
— Я помню обалдел от твоего книжного шкафа до самого потолка. Метра четыре высотой. Да?
— Да не шкаф это был, Ося, а стеллаж из досок. Сам сделал.
— Ну да? Вот рукоделец.
— А пока твоя жена пельмени в тазу варила, соседка орала, что нельзя занимать всю плиту и что ей тоже пищу надо готовить. И что ты — кулак и так далее, и так далее, и так далее. А ты её крысой обозвал. Да?
— Крысой она и была. Ни дать, ни взять. А помнишь, Ося, когда ты начал после второй рюмки читать «Я входил…», она в дверь забарабанила и попросила не кричать так громко или она вызовет милицию. А Илья ей сказал, что мы разучиваем революционные песни к празднику Октября.
— Да? А в туалет мы ходили не переставая. Да? И всё время хлопали дверью. А она, видимо, переживала, что так часто пользуются её унитазом. Ещё сносится до дыр?! Да?
— А помнишь, Ося, я попросил у неё стульев, а то нам сидеть не на чем. А она, обалдев от моей наглости, пообещала нас всех посадить куда «следовает» и тогда мы вдоволь насидимся. Ты побелел от этой её шутки и засобирался домой.
— И правильно бы сделал, если бы ушёл. Да?
— А «Битлз»?
— А что «Битлз»? Пока Паша с Семёном разглядывая твои иконы, рассказывали американским студенткам из ЛГУ о древней Руси и так далее, и так далее, и так далее, все уже забыли зачем пришли.
— Пельменей поесть пришли под водку. И пообжиматься с девчонками в тепле. Где ещё пообжимаешься? Все жили с родителями в коммуналках. В кафе не натанцуешься в обнимку — знакомые засечь могут. Да и не было в кафе танцев. Вот все по «хатам» и собирались.
— Только вот сесть у тебя, действительно, не на что было. Да? Так на полу расселись как хиппи. Курят все сигарету за сигаретой — умных из себя строят, переживающих. Дым коромыслом — друг друга не видно. Да? А ты ещё и свет потушил для интима. И так далее, и так далее, и так далее. Мне, помню, фонарь с улицы прямо в глаз светил, как на допросе. Да? Мне не до музыки было. Я ушёл бы, если бы не Илья. Друг всё-таки. А он из-за Семёна пошёл. А Пашке до «Красной стрелы» всё равно некуда деваться было.
— А строили-то из себя больших ценителей музыки. Получается, зря я старался.
— Не, Коля, не зря. Музон был сногсшибательный. Да? Колонки у твоей «Симфонии» такие мощные. Каждая со шкаф величиной. Да? Когда ты врубил их на полную, я думал, что по мне открыли огонь из пулемётов. Тебе все кричат, сделай потише, а ты не слышишь ничего. Извиваешься в ритуальном танце. Жена твоя прячется за Линку, перечить тебе боится. Да?
— Пельмени с водкой, конечно, нас всех успокоили. На полу все растянулись, от удовольствия щурятся, жмутся друг к другу.
— И вдруг дверь как взрывной волной вышибло. Да? Иконы с грохотом полетели со стены, а в проёме толпа мужиков с красными повязками на рукавах. Да? Выползает твоя соседка и шипит, тыча пальцем на наше лежбище. Да? Музыка прекратилась, как по команде. То ли кончилась пластинка, то ли вырвались провода.
— Безобразие — заорал квартальный, сверкая пуговками. Людям отдыхать не даёте. Пройдёмте в отделение. Кто ответственный квартиросъёмщик?
— Не имеете права — полез ты в бутылку. Да? А я потерял дар речи, прикидывая, чем для меня всё это может закончиться. Выезд закроют, связь с американкой пришьют и как рецидивиста посадят меня в острог до скончания века и так далее, так далее, и так далее.
Дружинники толпились в коридоре, а участковый ходил по комнате и подталкивал нас на выход, как шпану.
— Всех в отделение! Там разберёмся.
— Я говорила, посажу, значит посажу, хулиганьё. Я на вас управу найду у Советской власти, антисоветчики проклятые! Стиляги! — дребезжала Зинаида Ивановна.
Мы выходили по одному, нехотя напяливая на себя свои пальтишки.
— Девушки, можете остаться — великодушно разрешил участковый, облегчив нашу участь.
Мы шли гуськом по тёмному двору на Леонтьевский переулок. Отделение оказалось в двух шагах от дома, на улице Красной, в доме с кумачовой вывеской «ШТАБ ДНД».
— А помнишь нас посадили всех на одну лавку, потому что у них стульев не было.
— Да. А Семён как ляпнул, что это скамья подсудимых, так меня чуть не стошнило. Да?
— А когда дружинники все вышли на улицу покурить, я подумал, они воронок подгоняют.
— А мент, помнишь, спрашивает Пашку — сколько мы водки выпили? Да? А Паша говорит по чуть-чуть. Да? Только за праздник Октября. Да? А мент на него покосился и спросил строго как его фамилия и так далее, и так далее, и так далее.
— Потом когда в паспорт его посмотрел, как заорёт, что тот его обманывает. Сказал Финн, а в паспорте совсем другое написано. А Паша говорит, что он не обманывает, а что это его псевдоним. Потому как он сценарист. А Вовка Светозаров, как на пионерском сборе хотел сказать правду, что он по отцу Хейфец, но Илья его угомонил.
Но всё равно в паспорте было написано — еврей. А к евреям тогда было очень предвзятое отношение. Они всем гуртом повалили в Израиль. То есть Родину предавали. Эта провинность для мента была уликой поважнее, чем линия налива за воротник. На собраниях профсоюзных отъезжающих евреев распинали и посадить могли, как раз плюнуть. Дело пришить могли любое, какое понравится. Водочные пары мешали нам осознать это сразу.
— Потом мент Семёна спрашивает фамилию, а тот ему — Аранович! Кем работаете? Режиссёр на Ленфильме. Хорошо промолчал, что снимал похороны Ахматовой и КГБ его давно «пасёт».
— Илью спрашивает, а тот — Авербах! Кем работаете? Режиссёр на Ленфильме.
Дружинники пришли, накурившись «Беломора», а мент им говорит, что большие они молодцы, потому как целую банду антисоветчиков поймали и дело на групповщину потянет. А им на заводе за это отгул положен. Дружинники обрадовались, оживились, что вечеринка удалась.
— Да-а. Тут мент до тебя добрался. Как фамилия спрашивает? А ты дар речи потерял, вытаращил на него глаза. А сам белее первого снега сделался. А Илья не выдержал, пожалел тебя и злобно менту говорит, что в паспорте всё написано.
— А мент по слогам читает Брод-ский. Да? Бродский, что вы там на сходке обсуждали?! И тут какой-то грамотей из дружинников встрепенулся, вскочил и пропел петухом — неужели тот самый Бродский? Вы сын его? Или внук?
— А мент тебя спрашивает, вы тот самый Бродский?
— А я думал, что они имеют ввиду мою отсидку. Киваю обречённо. Да? Поддакиваю скромно, что мол тот самый Бродский. Чего уж думаю отпираться и так далее, и так далее, и так далее?
— А мент дружинника пытает, какой-такой «тот самый» Бродский? Чем знаменит? А дружинник ему с придыханием говорит, что художник был такой известный, который самого Ленина рисовал. И что в Ленинграде есть улица Бродского и музей.
Мент тогда задумался, протоколы стал перебирать как карты игральные. Потом осклабился, как будто кислого квасу выпил и заговорил повеселевшим голосом. Ладно, говорит, ребята. Идите по домам. Праздник вам портить не хотим. Но вы больше не балуйте. Людям на нервы не действуйте. Не мешайте им коммунизм строить. И отдал паспорта. И руки жать стал, прощаясь.
— А мы вышли и наперегонки припустили по бульвару.
— А Семён кричал, что вечеринка удалась!
— Двадцать пять лет мы не виделись, Коля.! Да? Как ты живёшь-то? Как Питер?
— А ты как, Ося? Нобелевку отхватил, по радио говорят. Вот пруха?! Ну кто бы мог подумать?
— Я бы мог подумать!
Так Ося довёл меня по каменным джунглям Нью-Йорка до ресторана «Русский самовар», который оказался его собственностью. Домой из Лос-Анжелеса мы с Никитой в большой компании возвращались через Нью-Йорк и он решил там отпраздновать «Оскара». Пили «Столичную» и закусывали пельмешками. Орали песни «Битлз» во всю глотку. Но ментов так никто и не вызвал. На следующий день мы улетали в Москву. Это был третий раз, когда жизнь на своих закоулках свела меня с Иосифом Бродским. И как оказалось — последний…
Но вечеринка удалась!
Зеркало
Студёной, промозглой питерской осенью, в бытность мою студентом ЛИАПа, я участвовал в переписи населения СССР. Студентом я был любознательным и кроме предметов по изучению космических летательных аппаратов имел склонность к прекрасному. Частенько заходил в библиотеку Академии художеств и почитывал там книжки с картинками. Насмотревшись прекрасного, легко мог отличить антиквар от всякой шелухи и прикупить в комиссионке стоящую вещь. Ну со временем от пролетарской нужды можно было вещички такие и продать каким-нибудь зверькам. У зверьков денег не куда было девать, и они любили покупать красивые безделушки.
И вот как-то по делам переписи пришел я в огромную коммуналку на Крюковом канале. Таких много было. А точнее только такие и были здесь в центре Ленинграда. Захожу в одну комнату, в другую, в третью. Переписываю население, заношу все данные в специальные листки. Где порядок, где хлам — всё по хозяйкам. Народ сплошь трудовой, рабочий и служащий. Строители коммунизма. Только в чуланчике ютилась одинокая интеллигентная старушка со знанием иностранных языков. Да её и старушкой-то трудно было назвать — такая она была ухоженная и опрятная.
В самой большой комнате с шикарным видом на Никольский собор жили старик со старухой, пенсионеры военные как оказалось. То есть он полковник ОГПУ в отставке, а она при нём жена. Домохозяйка значит. Вы так не думайте-тоже трудная работа, ОГПУшники дома очень привередливые. Отыгрываются на домашних.
Комната огромная, а хламом завалена до потолка. Посреди комнаты стол стоит круглый на одной разлапистой ноге. На столе кастрюли да сковородки, от которых на столешнице множество чёрных прожжённых кругов. Отодвинула тётка сковороду, место мне для записей освободила, а там сквозь черноту эту цветы проступают.
— Где спрашиваю такой столик купили, гражданочка?
— Ну вот ещё! Стала бы я такую гробину покупать. Это от хозяевов нам досталось. Советская власть дала.
Понял я сразу, что столик этот «маркетри» и запала мне в голову мыслишка, как у Родиона Раскольникова. Но тётя стреляная мысль мою сразу поняла и говорит:
— Если поможешь нам стол на помойку вынести, студент, можешь с ним, что хочешь делать. Хоть на лыжи пили, хоть на санки. Мы уже денег подкопили, новый купим. Аккуратный. Можно будет хоть по комнате пройтись.
— Ладно! говорю — Помогу, конечно.
Потом отставник начал причитать про то, что жизнь быстро пронеслась и он не успел всех гадов-буржуев перебить. Жаловался, что до коммунизма ему, как видно, не дотянуть. Я данные записываю и по сторонам поглядываю.
А по стенам мебель стояла — музейная. Бюро с черепаховой инкрустацией от Буля, горка красного дерева времён Павла I и огромный голландский шкаф с резными дубовыми дверками. Вазы фарфоровые, статуэтки. На стене, над камином пылала зимним закатом огромная картина в золочёной раме в стиле Клевера.
— Давайте — говорю — я вам и буфет помогу вынести и трюмо, и комод. И ещё денег дам немного. А то на новую мебелишку у меня не хватает. Студент я. Стипендия 35 рублей.
— Ой, милок! Вот радость-то! Забирай всё. Вот повезло нам с тобой, переписчик! Шкаф куплю трёхстворчатый с зеркалом. Всю жизнь мечтала. Ты только посмотри, где мы польта храним.
И показывает на сундук старинный, кованный.
— Ну ты скажешь, Ритуля! Просто так забирай!? Это всё денег стоит. Я в комиссионке видел — забурчал муж.
— Это я фигурально выражаюсь, Петя! Молодой человек всё понимает. Вон какой он образованный. Сразу всё оценил.
Переписал я их по всем правилам и полетел как ошпаренный домой. Задачки стояли передо мной не лёгкие. Найти грузовую машину и место для хранения, то есть сарай какой-нибудь. Нашёл. Насчёт машины с отцом договорился. Он шофёром на грузовике работал. А поставить мебель решил у себя в новой комнате, на бульваре Профсоюзов, 17. Комната всё равно пустая стояла и целых девятнадцать квадратных метров, а кубических и не знаю сколько. Уж очень высокие потолки там были.
Прихожу с приятелями мебель вывозить. Начали мои приятели столы таскать, а дамочка из чулана вышла в коридор, гладит своими высохшими руками зеркало и плачет:
— Это наше зеркало — говорит. Оно отражение моей мамочки помнит, когда мы в счастии жили. Пока эти не пришли, антихристы.
— А ну отойди, буржуйка недобитая. Её это зеркальце, видали?! В тюрьму опять захотела? — разоралась жена огэпэушника.
Стыдно мне стало. Да много их сирых, большевиками обиженных. Я-то что? Вперёд смотреть надо, куда Ленин показывает. Социалистические обязательства перевыполнять!
Вынес я всю мебель, дома отреставрировал на скорую руку. Подмарафетил политурой. В комиссионку уже хотел везти. Но там мебель пока не принимали, все проходы шкафами завалены, товара мелкого на полках не видно. Приятель мой Стас покупателя хорошего нашел. Из Тбилиси или из Бакы, не помню точно. Краснощёкий такой и смуглолицый. Глаза у него углями загорелись. Поторговался он не долго. Цену дал хорошую. Видно было, что «запал» на мебелишку. Выдавала его жена. Она раскраснелась и переминалась с ноги на ногу, нервозно колыша своими необъятными бёдрами. Я им уступил немного, изображая из себя добренького. И так деньжищи бешеные выручил. Машину можно было купить.
Приехал он мебель забирать. Всё погрузили в контейнер. Последним зеркало это понесли. Несут его так осторожно, плашмя положили. По молодости я с восхищением любовался своим отражением в зеркалах и решил заглянуть в него на прощание. А из зеркала на меня эта старушка с Крюкова канала смотрит, только молодая. Красивая как ангел. Смотрит так, не моргая, и… плачет.
Тай-брейк
В дождливую погоду до Валеркиного дома можно было дойти пешком за пятнадцать минут от самого Невского, прячась от мокрых, колких капель под прикрытием сводов галереи Гостинки и Апрашки. Но советский народ был так избалован регулярным движением трамваев, что идти пешком считал ниже своего достоинства. Слово гулять никак не относилось к пешему передвижению по улицам. Гуляли по набережным каналов и Невы. Или в парках в поисках уединённой скамеечки, на которой можно было вдоволь наобниматься. Жил он на углу улиц Садовой и Майорова, рядом со старейшей в Питере пожарной каланчой. При царе пожары были обычным делом и пожарных размещали поближе к жилищу. Из таких же практических соображений мой приятель выбрал себе институт поближе к дому, не обращая внимания на почти оскорбительное тогда название ЛИИЖТ и полное пренебрежение с его стороны к профессии железнодорожника. Не в пример мне, который из-за героической профессии лётчика-космонавта и модного названия ЛИАП таскался на лекции полтора часа на громыхающем трамвае №15 через весь город. Валера был в семье, по мнению его отца, непутёвым сыном и, видимо, уклоняясь от родительской опеки, рано женился. А зачем ещё? Не из-за любви же?! Правда жена его, Татьяна, была круглолица и мила. Но это не было в СССР таким дефицитом, как дублёнка. На танцах, куда мы часто ходили всей компанией, Таню не надо было прижимать, до онемения напрягая свою руку. Она сама прижималась так, что потом приходилось исчезать в туалет и проверять не проступили ли у тебя на брюках какие-нибудь пятна.
Жили молодые в маленькой комнатке большой коммунальной квартиры на четвёртом этаже. Каждый визит к ним сопровождался скрипом дверей многочисленных комнат и бесконечным шипением их обитателей. Но в комнате молодожёнов можно было расслабиться и рассмотреть Валеркино добро. То есть те вещички, которые присылали ему в посылках родственники из Америки. По такому вот случаю я и притащился к нему, случайно встретив его на Невском и соблазнённый рассказом о новой партии колониальных товаров. Под звуки музыки модных пластов мы рассматривали приехавшее с другого конца света вожделенное барахло. Родственники у Валеры были добрые, но рачительные и брали на распродажах не то, что ему было нужно, а то, что дешевле стоило. На сей раз, не подозревая кто и как играет у нас в теннис, в посылку запихнули белые теннисные туфли огромного размера с изображением лаврового веночка на пятке.
— Бери, старичок! Фред Пери! Известная фирма! Они и в Америке дорого стоят. А я тебе за пятнашку отдам. Размер твой. А таких больших людей в Питере больше нет.
— Так ведь не ходовой товар-то. Смотри, залежатся туфельки-то. Давай за червонец.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.