
Бесплатный фрагмент - Иллюзивная материя бытия
Пособие по развитию внутреннего зрения

Озеро
Человека с детства учат, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, а Солнце несется куда-то по бесконечности Вселенной — и так устроен мир. Какое бесполезное знание, какая бессмысленная космология, какое невинное научное заблуждение! Этот мир важен физикам и ракетостроителям, а для обычного человека Солнце каждое утро поднимается над горизонтом на востоке и целый день движется по дуге небосклона, пока не опускается за горизонт на западе, и земля под ногами не вращается и не качается, а служит твердой опорой ногам, домам и мыслям.
А если ясной летней ночью человек ляжет на теплую от дневного зноя землю так, чтобы над головой была Полярная звезда, то все небо поплывет вокруг человека. Человек — в центре Вселенной. Ракетостроитель скажет, что это зрительный обман, который ведет в никуда, это иллюзии придуманного, несуществующего мира, физика говорит об обратном. С точки зрения физики, счастье, любовь, дружба, отчаяние, вера — тоже иллюзии: нет их формул, определений, доказательств. Но человек, кто бы он ни был: гениальный музыкант, врач, священник, участковый в районном отделении полиции, офицер госбезопасности или ветеран войны в Афганистане, и где бы этот человек ни жил: в Москве, Чикаго или в самой отдаленной сибирской деревне, — всем и везде нужны эти иллюзии. Люди путаются в этих иллюзиях жизни, как в лабиринте; они избегают одних и стремятся к другим, но как бы лабиринт ни запутывал и ни уводил куда-то в сторону, все опять возвращаются к исходной точке, и в этом неизменное постоянство жизни.
И непонятно, все эти земные иллюзии существуют, потому что существует человек, или человек существует только потому, что есть эти иллюзии? Это и есть основной вопрос нашего мироустройства, а как вращается Земля, не имеет никакого значения.
Я родился в столетнюю годовщину отмены крепостного права в России и в год запуска первого человека в космос. Это произошло 15 марта, в 1961 году от Рождества Христова, в сорок четвертый год советской власти, что делает меня совком по определению.
Я родился в Москве — это для меня Родина, это для меня Россия, это место, куда я всегда возвращаюсь. Я люблю эту планету под названием Москва: именно там школа на Крымской площади, там Первый медицинский институт на Пироговской улице, там Литературный институт (он же Грибоедов из известного романа) на Тверском бульваре. Москва: прямая перспектива переулка, как милость последняя врага, я на тебя насаживаюсь грудью до переулка у самого пруда, и возникает боль меж ребер от запаха закатного луча, настоянного в стенах и асфальте, чуть теплых, как горелая свеча…
За семестр обучения в Литературном произошло несколько мистических, то есть не объяснимых простой логикой вещей. Жизнь изменилась — медленно, как поворот парусника, когда тело корабля чуть отстает от команды штурвала. Литературный отправил меня искать себя: «Иди туда, не знаю куда… И если найдешь, то будешь счастливым и все сложится, а не найдешь…»
Я отправился на поиски себя. Я с трудом понимал, что это значит, я наивно подсознательно представлял себе, что есть какое-то удивительное место в мире, и, явившись туда, я обрету покой, себя, у меня откроются глаза, все встанет на свои места. Позже я стал думать, что это количество мест, в которых я должен побывать, что количество мест переходит в качество познания. Я искал себя в бостонском такси и Гарвардском университете, в университете в Вермонте и в самом центре северной части Западного полушария, на дне Карибского моря и в Нью-Джерси, в поисках себя я заглядывал в подводные пещеры Юкатана: а вдруг я там прячусь где-то между огромных валунов доисторического обиталища древнего человека, затопленного океаном, — я искал еще во множестве мест, но все эти поиски не вносили никакой ясности в то, чего я ищу и как узнать, что я нашел то, что мне нужно. Было смутное ощущение, что я играю в какую-то игру или играю какую-то роль и не могу остановить эту игру, как сюжет сна разворачивается без нашей воли, и мы, безвольные, сохраняя сознание, к своему ужасу, наблюдаем собственную приближающуюся катастрофу. В такие моменты хочется проснуться. Я проснулся, когда внезапно понял до смешного простую истину. Однажды я обнаружил, что потерял свой крестик, с которым никогда не расставался с того момента, как мама надела мне его на шею. Я не сразу заметил потерю, но когда заметил, стал лихорадочно вспоминать, когда и где я его потерял, — и я понял, что потерял его, когда пытался донырнуть до дна озера. Я опускался вертикально вниз головой, разгребая воду под собой руками и втискивая свое тело в глубину, и именно в этот момент, видимо, крестик и соскользнул с моей шеи. Я стоял на берегу озера, примеряя глазами место, где я плавал, пытаясь по ориентирам на берегу найти, где я нырял, и вдруг простая мысль определилась в голове, как будто маленькие осколки разноцветного стекла сошлись вместе в ясную картинку мозаики: искать надо там, где потерял, а не там, где светло и все хорошо видно.
Я, русский человек с грузинской фамилией, стоял на берегу такого подмосковного озера в самом центре Америки, абсолютно потерянный и запутанный, и вдруг понял, что я должен делать. Надо вернуться — вернуться в институт, вернуться в школу, вернуться в детство, ведь где-то там я искривился, как в кривом зеркале, и таким искривленным остался, где-то там что-то произошло, что я перестал быть самим собой, а может, я вообще никогда не был самим собой, может быть, я родился таким. Интересные мысли во второй половине жизни. Прошло больше двадцати лет после Литинститута, мой одноклассник стал знаменитым на всю Россию, а я все еще решаю, кто я.
Итак, вперед назад! Мединститут: я во времена мединститута нашел не ту женщину и женился на ней. Она виновата? Нет, виноват сам: не тот я нашел не ту женщину. Значит, все уходит еще глубже — в школу. Школа — хорошо расположена, многому там научился, много было сволочных учителей, в целом, болезненный период жизни. Самое главное, чему я научился в школе, это блефовать. Я сдал выпускной экзамен по блефованию. Надо было писать сочинение, нужен эпиграф, идиоты преподаватели подумали бы: ну где ученику десятого класса взять эпиграф без первоисточника? Я иногда думаю: за что они нас так ненавидели? Я придумал эпиграф сам, подписался Феликсом Дзержинским. Темы сочинения и эпиграфа не помню. Лениным подписываться было стремно, слишком он был на виду в то время, Троцким — равносильно преступлению, а Дзержинским — в самый раз: ну кто читал что-то, написанное верным ленинцем, Железным Феликсом? И главное, кому надо это все проверять? Это был сданный экзамен по солженицынской туфте. Но сломался я где-то в школе, до школы: мама, бабушка, дедушка — все светло, безоблачно и спокойно. От этого периода жизни у меня осталась только фотография дедовского дома в качества фона на рабочем столе компьютера, самого дома уже нет. Школа… Из школы я вышел уже не собой. Почему я пошел в медицинский? Потому что я мог туда поступить. Почему я пошел туда? Потому, что мог поступить? Боялся призыва в армию.
И вот ответ: из школы я вышел со страхом внутри, страх завелся в какой-то момент моего пребывания в школе, трудно сказать, в какой точно, и это оказалась не страшная психиатрическая фобия чего-то конкретного, даже если очень абсурдного, а домашний, мягкий, оберегающий и уберегающий страх, страх как удерживающее русло жизни, как основной инструмент послушания. Я по-детски наивно думал, что перебросил всю систему через бедро, когда придумал свой эпиграф, посмеялся в душе надо всеми, но в реальности система очень ловко перебросила меня. Из-за страха перед призывом я поступил в медицинский, из-за того же страха я учился в нем, из-за страха обидеть хорошую девочку я женился на ней, из-за страха оставить двоих очень замечательных и любимых детей я жил не с тем человеком. Так вышло, что в моей жизни не оказалось страсти — страсти к работе, страсти к человеку, страсти к жизни. Все было спокойно и благополучно. Страх, который многие называют здравым смыслом, уберег меня от всяческих невзгод — и от самой жизни.
После рабочего дня, проведенного в офисе с больными, одетый в свой офисный, на заказ сшитый костюм, я стоял на берегу озера и смотрел на его всегда плоскую поверхность, которая в силу своей полной бескомпромиссности является уровнем отсчета горизонтальности для окружающего мира, и поэтому весь мир вокруг с деревьями, облаками и даже ветром отражается в озере, а не наоборот.
Страх как здравый смысл. В конце концов, я в самом буквальном смысле спас жизни сотням умирающих людей, я вырастил двух замечательных детей — есть какое-то оправдание жизни, но еще не поздно, потому что пока жив, никогда не поздно что-то изменить. Первое, что нужно человеку, — это свобода. Свобода — это отсутствие страха. Я посмотрел себе под ноги: перед мысами моих дорогих начищенных туфель едва плескалось озеро, у самого берега в негустых водорослях размеренно плавали мелкие рыбешки. Я распустил узел галстука на шее, расстегнул удушающую верхнюю пуговицу на воротнике сорочки — так дышится легче; достал телефон из кармана пиджака и бросил его на землю — это компромисс — и спокойной, гуляющей походкой вошел в озеро.
Позже, когда я снимал с себя мокрый костюм, и выливал воду из туфель, и сушил волосы, я смеялся, смеялся над своей глупостью и полным отсутствием здравого смысла. Переодевшись в сухое, я взял свой тонкий, как бритва, компьютер, опустился в глубь дивана и открыл экран. На нем высветилась фотография дедовского дома. Я открыл чистый белый файл и в правом верхнем углу напечатал: «Павел Гигаури», а потом, сбросив несколько интервалов посередине листа, написал: «Озеро».
За крестиком позже пришлось нырять с аквалангом.
Весна семьдесят шестого
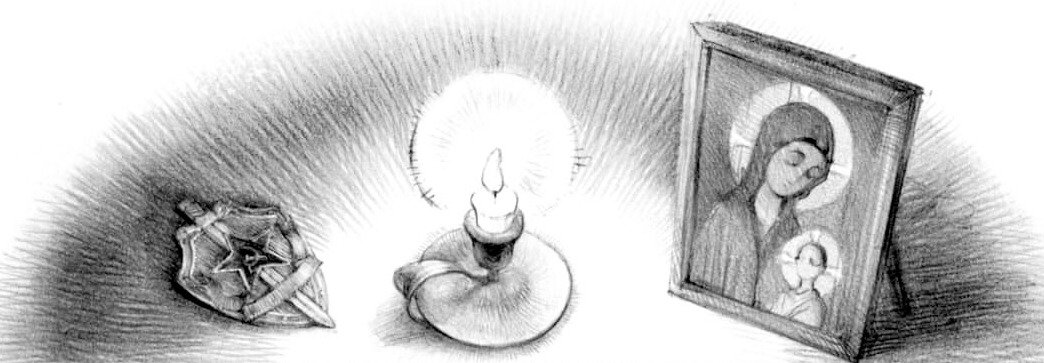
На душе у майора госбезопасности Петра Самойлова было тяжело. Если бы позволяли приличия или обстоятельства, он бы завыл, как волк, — протяжно, на весь запас дыхания, чтобы с исходящим изнутри звуком выпустить наружу эту самую тоску.
Тоска пришла после смерти матери. Она умерла в феврале, прошло уже больше месяца, но тоска не унималась, и, как назло, весна не приходила. Казалось, время перестало приводить в движение смену годового цикла — вся природа застряла где-то между зимой и весной.
Майор потянул за ручку тяжелую церковную дверь, которая медленно, как бы сопротивляясь, открылась. Он пришел в церковь к своему агенту-информатору, настоятелю церкви отцу Иоанну. Это была специализация майора — религиозные деятели. Служба в церкви кончилась, люди уже разошлись, только несколько бабулек суетились вокруг. Майор подошел к одной из них и спросил:
— Где святой отец?
— Какой святой отец? — удивилась старушка в сером вязаном оренбургском платке. — Это ты про священника, что ли? Какой он тебе святой отец! Он отец Иоанн, а не святой отец, — заворчала старушка и громко, с досадой, вздохнула. — Он сейчас из алтаря выйдет, — добавила она, с любопытством разглядывая майора.
Он коротко кивнул.
— А ты по какому делу-то к батюшке? — не унималась старушка.
— По личному, — ответил майор не глядя.
Он делал вид, что рассматривает иконостас, давая понять навязчивой бабке, что разговор продолжать не собирается.
— Ты постой здесь, он сейчас выйдет, — примирительно пробормотала старушка.
У майора появилась досада на эту назойливую бабку, и в голове возник простой вопрос: «Вот почему моя мать умерла, а эта, явно старше моей матери, живет?»
В церкви царил полумрак, электрические лампочки тускло светили из дальних углов, свечи перед иконами в массивных медных подсвечниках дрожали и мерцали в глазах святых, оживляя их скорбные лики.
Наконец появился отец Иоанн. Это был невысокий сутуловатый мужчина. Окладистая борода, скрывая часть лица, не давала определить точного возраста; нос картошкой держал на себе массивные очки в темной оправе.
Старушки моментально окружили его, по очереди прося благословения перед уходом. Они прикладывались к руке, а священник крестил их, склоняясь к их головам. Одна из них — та самая, что пыталась говорить с майором, — что-то сказала священнику и кивнула в сторону майора. Отец Иоанн подошел и, узнав его, тихо сказал:
— А, это вы…
— Да, это я, — подтвердил майор. — Вот решил проведать, посмотреть, как дела идут.
— Да у нас все по-прежнему, ничего нового. Никаких беспорядков нет. Люди рождаются, женятся, грешат, каются, болеют, умирают, — тихо пропел отец Иоанн.
— Да, — неопределенно ответил майор, а потом неожиданно для самого себя сказал: — Вот и у меня мать умерла. Около месяца назад.
— Очень вам сочувствую. Родителей тяжело терять, в каком бы возрасте они ни были. Как вашу матушку звали? Я молебен по новопреставленной отслужу.
— Ирина. Может, это вам странным покажется, но она верующая была.
— Почему странным? Для меня, напротив, странно, когда люди не верят. Ничего странного в этом мире нет, пути Господни неисповедимы. Нам не дано понять многих вещей. Вот почему Господь забрал ее сейчас, а не через десять лет или не десять лет назад? Мы этого никогда не узнаем, но надо верить, что все делается Господом нам на пользу, во благо, хотя порою это не очевидно.
— В чем для меня польза, что она умерла? Это вы перегибаете, просто так говорите.
— Многие вещи мы не понимаем и, возможно, никогда не поймем, — спокойно ответил отец Иоанн.
— Не знаю, нет в этом здравого смысла, — не зло, а как-то лениво ответил майор.
— Ну и ладно. Я отслужу молебен за упокой души новопреставленной Ирины. А уж кто верующий, кто неверующий, Господь разберется.
Глаза майора и отца Иоанна встретились.
— У меня есть клюквенная настойка, пойдемте помянем вашу матушку, — торопливо, как бы стесняясь своего предложения, проговорил священник.
— Пойдемте, — неожиданно согласился майор.
— Сейчас я двери закрою, — заспешил отец Иоанн.
Он закрыл главный вход в церковь и пригласил майора следовать за ним. Они прошли в маленькую комнатку рядом со служебным входом. Арочный потолок, беленые стены. Через побелку, как мускулы через кожу, выступают неровности кирпичей, иконы пред лампадой под низким потолком, вдоль стен — раскладной диван, крошечный столик, рядом — единственный стул с легкой дугообразной спинкой, простой книжный шкаф с вынутыми стеклами, вешалка, узенький высокий шкафчик с мутными стеклянными дверцами.
Отец Иоанн подошел к шкафчику и достал графин с гладкими стенками и длинным горлышком, закупоренный круглой стеклянной пробкой. В нем плескалась, как показалось в полумраке комнаты, красная жидкость. Он достал батон, столовый ножик, початую банку меда и большую плоскую тарелку. Отрезал два кусочка хлеба, помазал их медом — мед тянулся из ложки длинным, медленным, почти застывшим потоком, — только перелив света отмечал его движение. Наполнил две граненые рюмки. Потом повернулся к иконам и тихо, нараспев начал читать: «Отче, иже еси….»
Майор молча наблюдал за происходящим, как бы погрузившись в легкое забытье. Он очнулся, когда услышал имя своей матери. Священник закончил молитву и, уже повернувшись к столику, предложил майору рюмку. Тот взял и вопросительно посмотрел, отец Иоанн тоже поднял рюмку, перекрестился и сказал:
— Вечная память новопреставленной рабе Божией Ирине, — и, перекрестившись, выпил.
— Вечная память, — повторил майор и тоже выпил.
У него перехватило дыхание, красная клюковка словно загипнотизировала, расслабила, а потом неожиданно ошарашила своей крепостью.
— Ух, — выдохнул он, — хороша!
— Давайте, хлебушком с медом. Мед хороший, с пасеки, — угощал отец Иоанн.
— Да. Спасибо, — отозвался майор и взял хлеб с медом, стараясь не испачкаться. — Мама у меня была очень хороший человек, она меня и сестру воспитала — вырастила, выучила обоих. Отец алкоголик был, тихий, безобидный алкоголик. Ни нас с сестрой, ни маму не обижал, но и толку от него не было. Он умер, я еще мальчишка был. А мама была кроткая, терпеливая, но твердая. Что их с отцом связывало — не знаю. Мама вертелась как белка в колесе, на двух работах, по сути. Она чертежница была, полный день отработает, а потом еще домой чертежи брала, зарплата-то маленькая, а двоих детей растить надо.
— Досталось ей, — согласился отец Иоанн. — На таких женщинах, как ваша матушка, вся Россия держится! Мужики-то, сами видите, горькую пьют, семьями не занимаются. Грех один.
Отец Иоанн наполнил рюмки:
— Давайте еще по одной в память о вашей матушке, чтоб ей все грехи простились и пребывала она во Царствии Небесном до скончания времен.
Отец Иоанн выпил и закусил оставшимся кусочком хлеба с медом.
Майор тоже выпил и тоже закусил. Он поднял глаза на иконы.
— А какие у мамы грехи? Всю жизнь работала, нас воспитывала, не гуляла, не пила, потом с внуками сидела… Ни о ком дурного слова не сказала.
— Не знаю, — отозвался отец Иоанн. — Для одного — живую душу загубить ничего не стоит, а для другого дурная мысль в голове — большой грех. Человек сам свои грехи знает, для этого и исповедь существует.
— Исповедь… Исповедь… Она хотела исповедаться перед смертью…
— И что? — настороженно спросил отец Иоанн.
— Да ничего! Я не разрешил священника приводить, — резко ответил майор.
Отец Иоанн оторопело уставился на него:
— То есть как?
— А так, — почти огрызнулся майор, в душе жалея, что затеял этот разговор.
— К умирающей матери не пустить священника, чтобы она могла получить святое причастие перед смертью? И что — она так и умерла без причастия?
— Да.
— Несчастье какое! — почти шепотом проговорил священник и перекрестился, по его щекам потекли слезы. — Чего же ты испугался, миленький?
— Я не миленький, я офицер госбезопасности, — зло ответил майор, резко развернулся, открыл дверь и боковым зрением увидел застывшую маленькую ссутуленную фигуру. «Чтоб тебе!» — выругался про себя майор и вышел.
Наступил сороковой день после смерти матери. Майор вновь пришел в церковь. Ему подумалось, что ей было бы приятно, если бы она узнала, что он пришел в храм ради нее. Он тихо стоял у стены, около какой-то большой иконы — седобородый старик, на плечах которого, как погоны, кресты. Майор толком не мог понять службы: «Паки, паки Господу помолимся! Что это? О чем это?»
— Ты, наверное, генерал у них, — обратился майор к старику на иконе.
К иконе подошла молодая женщина. Не обращая никакого внимания на майора, перекрестилась, зажгла свечу от уже горящей и поставила перед святым. Потом опять перекрестилась, подошла совсем близко к иконе, поцеловала стекло с краю, приложилась к нему лбом и замерла на несколько секунд. А потом тихонечко, так же не глядя на майора, отошла. У нее был очень расстроенный, несчастный вид.
— Ты помоги ей, если можешь, — обратился майор к святому старику на иконе.
За прошедшие дни майор много думал о том, как получилось со смертью матери. Выходило, что он своей дорогой, любимой маме, которая жизнь положила на него и сестру (а в душе он был уверен, что она любила его больше, чем сестру, — это особая любовь матери к сыну), отказал перед смертью в такой важной для нее просьбе! Он вспомнил неподдельный ужас на лице отца Иоанна. Хотя, может, все выдумки и сказки, но раз для нее это было так важно, значит, это важно, и не его это дело. И уже ничего не исправишь, нельзя все открутить назад и изменить. Как муторно жить с этим! Всегда казалось, что за мать готов был жизнь отдать, а на деле и жизни не требовалось. Надо было все тихо организовать, и подумаешь… Все обошлось бы. Чего испугался? Что теперь делать? Как избавиться от этого гадостного чувства в душе?
Майор вновь поднял глаза на старика с крестами на плечах. Святой глядел прямо на него. Майор отвел взгляд: ему показалось, что если он продолжит на него смотреть, тот может шевельнуться или что-то сказать майору. Он понимал, что этого не может произойти, но было как-то не по себе.
Но что делать? Если там, за последней чертой, что-то есть и мама меня видит и чувствует, то она простит: мать всегда прощает — на то она и мать. А если там ничего нет и мама ушла из этого мира навсегда и полностью, ее тело сейчас где-то в холодной могиле начинает распадаться на первичные частицы материи, и все эти религиозные обряды ровным счетом ничего не значат, все это выдумка, что тогда переживать? Но ведь тогда получается, что горькой была ее последняя мысль в этом мире, и уже никакого утешения ей не будет.
Такой ход рассуждений не понравился майору, было приятней и теплей думать о том, что здесь осталась какая-то частица мамы — то, что люди называют «душа». Откуда-то из другого измерения она видит происходящее в его жизни, можно будет разговаривать с ней, и она все услышит и поймет. Он просто струсил: ему надо было вот-вот майора получать, а тут мамина смерть и все такое… Конечно же, дело не в том, есть ли жизнь там, за чертой, или нет, — дело в нем самом, он поступил недостойно. Недостойно по отношению к своей матери.
От этой, внезапно такой ясной, мысли внутри образовалась какая-то странная пустота. Майор опять поднял глаза на икону: «Это правда. Правда-то правда, но как дальше жить? По весне памятник хороший поставлю, молебен закажу. А зачем все это маме? Она скромным человеком была. Что ей нужно? Ее нет. Что можно сделать, чтобы эта тоска пропала, чтобы это жгучее чувство стыда ушло?»
И вдруг майора осенило. От неожиданности даже сердце забилось быстрее, а в душе радостно запульсировало. Он буквально услышал голос матери, она еще давно говорила ему: «Петя, окрестись, очень тебя прошу. Тогда мне и умереть спокойно можно будет!». «Мама, ну о чем ты говоришь? Я же партийный, в органах работаю», — отвечал он ей.
«Вот оно! — обрадовался майор. — Вот оно! Мама этого очень хотела, всегда очень хотела. Если я покрещусь, она будет рада или была бы рада». Тут в душе опять появился предательский страх: «А если начальство узнает?»
Старик на иконе невозмутимо смотрел прямо на майора, в его взгляде не было ни осуждения, ни страха, а только спокойствие, глубокое спокойствие. «Скажу начальству, что надо было для оперативной работы, чтобы было больше доверия. Выкручусь. Надо дождаться конца службы и переговорить с отцом Иоанном!»
Нетерпенье овладело майором, служба казалась нескончаемой. Время будто остановилось, перестало течь в привычном темпе, а просто открылось как бы изнутри, и перестала существовать граница между прошлым и настоящим. Он не мог точно сказать, где он, который час, — такое странное ощущение внутренней невесомости.
Но вот наконец-то служба закончилась, народ стал медленно расходиться. Майор опять посмотрел на часы и тут заметил, что они встали. Он с досадой покрутил завод, но головка была повернута до отказа. «А! Чтоб вас», — выругался майор.
Появился отец Иоанн, и майор подошел к священнику:
— Здравствуйте, отец Иоанн. Мне нужно переговорить с вами.
— Здравствуйте. Конечно. Я за вашу матушку молюсь все эти дни, на каждой литургии поминаю ее.
— Спасибо. У меня к вам дело. Личное.
— Да-да. Сейчас провожу прихожан.
Отец Иоанн был спокоен и вел себя так, будто и не было никакой размолвки между ними несколько дней назад. Все разошлись, и майор со священником остались одни.
— Тут такое дело… — замялся майор. — Моя мать всегда хотела, чтобы я окрестился. Я, конечно же, не мог. Но теперь думаю, ей было бы приятно, если…
Священник замер, не мигая смотрел сквозь стекла очков на майора.
И, стараясь не показывать удивления и волнения, тихо, с расстановкой сказал:
— Люди крестятся, потому что веруют в Господа.
Повисла пауза, которая начала разделять их, как бездонная черная пропасть. Майор в упор посмотрел на отца Иоанна. Но тот вскоре продолжил:
— Но пути Господа неисповедимы. Раз вы хотите креститься, окрестим вас. Я сейчас все приготовлю, и совершим таинство крещения.
— Что, прямо так и сейчас? — удивился майор.
— Конечно. Раз решили, то откладывать не надо. Впереди ночь, и ее надо пережить. Люди смертны. А вы еще и военный человек, подневольный. Всякое может произойти, и ваше крещение отложится на неопределенное время или вообще не состоится. Так и умереть можете некрещеным. А так мы все сделаем! А дальше — что Бог даст, но мы предназначенное исполнили. Хорошие дела вообще откладывать не надо, их нужно делать сразу, как случай представится. А не боитесь начальства? Вдруг узнают, да и влетит вам! — с доброй усмешкой спросил священник.
— Нет, не боюсь, — так же с усмешкой ответил майор. — А вы своего начальства не боитесь? — перевел вопрос майор.
— Я-то? Нет. Я начальства слушаюсь. Оно мне Господом дано. А бояться его мне нечего. Я вообще ничего не боюсь. Даже вас. Что мне может начальство сделать? В дальний приход отправить? Так везде люди живут, везде священник нужен. Ну сана лишат, так я же не начальству, а Господу служу, а веру у меня никто не отнимет — ни начальство, ни вы. Вот мой батюшка тоже священник был, при Сталине в тюрьме сидел, и что? Страдал много, но за веру, за Христа. И эта вера с ним так до его последнего дня и осталась. Каким именем креститься будете?
— Петр.
— Хорошее имя. Значит «камень». Апостол Петр три раза от Господа отрекался, а потом жизнь за Него отдал. Неисповедимы пути Твои, Господи! Давайте, помогите мне все собрать, главное — купель водой наполнить.
Выходил майор из церкви с маленьким крестиком на груди, с влажной головой и помазанным лбом и руками. «Ох, странно и чудно все это», — подумалось майору, на душе было тревожно, но и как-то радостно — мама была бы очень довольна.
Майор вновь появился в церкви через две с половиной недели. Пришел в начале службы и отстоял ее всю. Во время богослужения они встретились глазами с отцом Иоанном, и майору стало от этого как-то неловко, он почувствовал себя словно мальчишка перед строгим учителем: вроде ничем не проштрафился, а как-то не по себе. Он видел, как другие прихожане, когда священник обращается к ним и взмахивает кадилом, преклоняют головы, и сделал то же самое. Когда служба закончилась и все разошлись, священник подошел. Майор поприветствовал его и тихо начал:
— Отец Иоанн, я пришел сказать вам очень интересную вещь…
— Конечно, я слушаю вас, — кротко отозвался священник.
— Тут, можно сказать, как говорят у нас, целая операция была проведена… Я недавно с сестрой разговаривал о маме и сказал, что переживаю и себе простить не могу, что не дал ей исповедаться перед смертью… А она мне сказала, что когда они меня с моей женой отправили на дачу за вареньем, которого маме якобы очень хотелось попробовать перед смертью, в это время пригласили священника. И он сделал все, что положено. Представляете?
— То есть женщины государственную безопасность перехитрили? — с веселой усмешкой сказал отец Иоанн. А потом очень серьезно добавил: — Господь женам, которые с верой и молитвой к Нему обращаются, не отказывает. Это еще пошло с жен-мироносиц. Ваша матушка усердно молилась Господу, чтобы вы окрестились, вот вы и окрестились. Хотя она и умерла…
— Вы хотите сказать, что если бы я окрестился раньше, при ее жизни, то она не умерла бы? — с тревогой и легким раздражением спросил майор.
— Нет, этого я не говорил. «Если бы» в данном случае не работает. Все случилось так, как должно было случиться. Наше прошлое делает нас такими, какие мы есть. И помните, по чьей молитве вы крестились. Вы теперь можете жить спокойно, ваша совесть чиста. Все сложилось наилучшим образом.
Майор улыбнулся, посмотрел на священника:
— Спасибо вам за все, отец Иоанн. И всего вам самого доброго.
Он развернулся и пошел к выходу. У двери майор обернулся и увидел в тусклом свете свечей и слабых электрических лампочек сутулую маленькую фигуру отца Иоанна в длинной рясе. С собранными назад волосами, в больших очках, он стоял с поднятой рукой, крестя уходящего майора.
«Вот мужичок-боровичок!» — улыбнулся про себя майор и вышел в город, открыв тяжелую высокую дубовую дверь.
Во глубине сибирских руд

Тогдашние времена в стране называют по-разному, в зависимости от взглядов говорящего: сложные, кровавые, непростые, тяжелые, трагичные, — а я бы их назвал вурдалачными. К власти пришли вурдалаки и начали пожирать людей. Они собирались на шабаш на кладбище — в которое они превратили главную площадь страны. На главной могиле поставили трибуну, так что стоящие за ней были видны только по пояс, чтобы копыта были скрыты.
Вурдалаки взбирались на могилу и, стоя там, под завывания громкоговорителя смотрели, как по площади гонят плотное стадо людей. От ярости, исступления и жажды крови слюна текла по их подбородкам, языки свисали из клыкастых ртов — слишком им хотелось человечины, просто адски. И иногда они набрасывались на одного из своих, рядом стоящих, и клыками заживо рвали его на части. Под вой и вопли кровь с брызгами хлестала вокруг. Потом, утолив голод, с окровавленными ртами опять возвращались на свои места, озираясь на соседей по могильнику. А людей там, внизу, все гнали и гнали куда-то, и казалось, что нет защиты, нет спасения и что наступили последние времена.
В это самое время в дальней сибирской деревне, в такой дальней, что даже вурдалаки ленились появляться там, у работницы зверофермы родился ребеночек — сын. И ничего на первый взгляд необычного в этом факте нет, хотя, глядя из будущего, кажется непонятным: зачем рожать детей, когда правят вурдалаки? Зачем рождать бедных малышей на страдания, на съедение этим вампирам? Но люди всегда люди, во все времена они любят, вьют гнезда, обживаются, рожают детей.
Работница зверофермы Анюта, в девичестве Перелыгина, а в замужестве Михайловская, родила сына, которого назвали Сашкой. И ничего необычного в этом не было бы, если б не тот факт, что мальчик оказался черненьким — негритенком.
Эта новость очень быстро дошла до участкового, Петра Корнеевича Лисицына, или Корнеича, как звали его местные жители. Она очень озадачила его и насторожила. Корнеичу оставалось меньше года до пенсии, а эта неожиданность поставила все пенсионные планы под угрозу. Участковый быстро сообразил, что если начальство узнает, что у них родился негритенок, то понадобится объяснение: откуда в самой дальней сибирской деревне, среди тайги, где районный центр почти так же далеко, как Москва, вдруг взялся негр. Это пахло сроком. И было особенно обидно, что это в тот момент, когда уже, казалось, наступил конец службе и приблизилась долгожданная пенсия, когда можно было бы вздохнуть и расслабиться, начать жить, как нормальный человек!
Корнеич махнул рюмку водки с досады, достал револьвер из кобуры, проверил пули, прокрутил барабан, вложил пистолет в кобуру, надел портупею, тулуп и отправился в дом зоотехника Михайловского, чтобы разобрать ситуацию на месте.
Придя к зоотехнику, Корнеич застал там мать Анюты, Анастасию Мироновну Перелыгину, или Миронну, которая пришла помочь дочке. Михайловский был нездешний, он приехал в деревню по распределению после техникума, и родственников у него вокруг не было.
Походив вокруг да около для приличия, Корнеич напрямую брякнул Миронне:
— Покажи младенца!
— А че на него смотреть-то? Сглазишь еще! — решительно ответила она.
— Нет, я не черноглазый. Я представитель советской власти.
— Ну и что, что власти! Че те на него пялиться? Детей не видел, что ли? — не унималась женщина.,
— Покажи, говорю, — строго сказал участковый. — А то хуже будет.
— Не пугай нас! Пуганые!
Корнеич огляделся: зоотехника дома не было, Анюта где-то в избе притаилась, наверное, с младенцем.
— Ты в позицию не вставай! Давай показывай внука. Говорят, он негритенок. А это дело политическое. Будешь упрямиться, я сообщу в район, а те придут — сама знаешь кто — и ребеночка заберут, и родителей для дознания! Чем все это кончится, неизвестно! Поэтому не чуди — покажи внука. Мне нужно самому убедиться, а там надо думать.
— Ой, Господи! — запричитала Миронна. — Ирод же ты, Корнеич. Какой он негритенок, наговорят люди от зависти всякого, смугленький он, смугленький чуть-чуть.
— Сама Ирод! Я помочь хочу.
— Анютка, принеси Сашку, — прокричала Миронна.
Откуда-то из запечного пространства материализовалась Анюта с младенцем на руках, прижимая запеленатого кроху к груди. Два больших глаза перепуганно выглядывают из-за головы ребенка.
Корнеич, осторожно ступая, подошел к Анюте и, аккуратно приподняв пеленку, посмотрел на младенца.
— Смугленький, говоришь! — с издевкой передразнил Миронну участковый.
— Точно, смугленький, — примирительно поддакнула Миронна.
— Слушай, девка, — обратился участковый к Анюте, — мужа здесь сейчас нет, только мать твоя и я, а от меня, как от судьбы, не уйдешь. Скажи нам честно, где ребенка нагуляла? Мы никому не скажем!
— Ах ты, гад с пистолетом, ты что же такое на мою дочь думаешь? Я вот сейчас схвачу ухват и огрею тебя промеж глаз, — неистово вскричала Миронна.
— Петр Корнеич! Ну где я могла кого-то нагулять? Я ж ни разу в жизни из нашей деревни не отлучалась! — хлюпая, вторила матери Анюта.
— Все понятно, — махнул рукой милиционер. — Что с бабами разговаривать? — и направился к выходу.
Остановившись уже в дверях, сказал:
— Зоотехник домой придет — бегом ко мне! И еще… пусть по дороге за учителем зайдет. Все. Бывайте!
И вышел из избы.
Дома у Петра Корнеевича Лисицына, кроме него самого, собрались зоотехник Михайловский, фельдшер Иван Михайлович Свирюгин и учитель Аполлинарий Митрофанович Стяжевский.
Зоотехник — долговязый флегматичный малый, отец новорожденного. Фельдшер, который принимал роды у жены зоотехника, всегда осторожный во всем, мужчина сорока с лишним лет, располневший, с короткими топорщащимися усами, щеки подпирают маленькие карие глазки, отчего те кажутся глубоко посаженными. Учитель Стяжевский какого-то неопределенного возраста, хотя все знают, что ему за пятьдесят. Обладатель не по годам роскошной пшеничной шевелюры, с вечной ухмылкой на лице, за которую его недолюбливал участковый.
Этот последний был и самым образованным человеком в деревне, и учителем по всем предметам. Его сослали в эти края еще перед революцией, при царизме, и он так и остался жить здесь: инстинкт самосохранения подсказал Стяжевскому, что нужно удовлетвориться уже сделанным вкладом в дело революции и оставить другим поле деятельности в строительстве нового общества. Стяжевский был эсером, и поэтому в тридцатые годы им интересовались строители нового общества, зорко следящие за тем, чтобы поставка мяса в ВУРДАЛАГ шла бесперебойно. И вскоре он получил повестку явиться в районный центр, в ГПУ. Аполлинарий Митрофанович был человек умный, он не питал никаких иллюзий по поводу власти типа «разберутся, ведь я ни в чем не виноват» — он четко знал, что значит сия повестка, и не был трусливым человек: как-никак революционер. Сначала он решил просто послать этих гэпэушников куда подальше, им надо — пусть сами и приходят, и написать им что-то вроде: «Идите в задницу». Но потом, подумав, решился на компромисс и написал письмо в ГПУ, мол, всегда с нетерпеньем ждал момента, когда сможет явиться на зов в органы безопасности, но, к сожалению, призыв пришел слишком поздно, он не может предстать перед ними, потому что находится при смерти, и просит только об одном: чтобы похоронили его на площади перед зданием ГПУ. По какой причине — неясно, но повесток Стяжевскому больше не присылали.
Участковый рассадил всех приглашенных за столом, на который поставил большую бутыль самогона, вареную картошку в чугунке, шматок засоленного с чесночком сала, квашеной капусты, граненые увесистые стаканы и положил перед собой наган. Он молча разлил самогон — всем по полстакана.
Обведя всех взглядом, как бы благословляя, произнес:
— Будем здоровы! — и выпил.
За ним выпили остальные.
— Я собрал вас для того, чтобы…
— Сообщить пренеприятнейшее известие, — подхватил Стяжевский.
Корнеич сгреб револьвер — не за рукоятку, а за середину — и, направив ствол на Стяжевского, тихо, но угрожающе проговорил:
— Застрелю, еще раз перебьешь, — и продолжил: Тут дело государственной важности. У Анютки родился негритенок.
Стяжевский поднял руку, как ученик в школе, показывая своим видом, что принял угрозу участкового серьезно, но ему не терпится задать вопрос.
— Что? — кивнул ему участковый.
— В чем тут государственность?
— Ты умный человек, образованный, наших детей учишь… Ответь мне на один вопрос, и мы все пойдем по домам, допив бутыль. Откуда у Анютки негритенок?
— А я откуда знаю? Это его надо спросить, — учитель кивнул на Михайловского.
— Так вот, — продолжил участковый, не обращая внимания на учителя, — эта новость рано или поздно дойдет до района, и местный оперуполномоченный спросит нас, откуда в нашей деревне негритенок, и нам придется отвечать на этот вопрос.
— Ну, чего в жизни не бывает! — неопределенно высказался фельдшер, косясь то на зоотехника, то на револьвер.
— Чего не бывает! — передразнил фельдшера участковый. — А я тебе скажу, че бывает! Опер скажет, что у нас тут скрывается диверсионная вражеская группа, которую мы все покрываем!
— Ну что ты несешь, Петр Корнеич, — удивился фельдшер, — какая диверсионная группа у нас? Кто? Зачем? Против чего диверсия?
Стяжевский задумался и грустно сказал:
— А городничий дело говорит. Погорим мы все.
— Ну ты и контра, — прошипел участковый.
— А при чем вы все здесь? Это мое семейное дело! — неожиданно вспылил меланхоличный зоотехник.
— Я объясню тебе, — горячо заговорил Корнеич. — Ты, понятное дело, покрываешь всех и в заговоре со своей женой. Этот, — он указал на учителя, — вообще эсер. А я, представитель власти здесь, не заметил, как у меня под носом враг свил целое гнездо, целую диверсионную группу!
— А я здесь при чем? — перепуганно спросил фельдшер.
— А ты часть этой группы вражеских диверсантов, пособников империалистов, работаешь заодно с врачами-вредителями, которых сейчас судят в Москве, — зловеще прошипел милиционер.
— Одумайся! Что ты такое говоришь, Корнеич? — взмолился фельдшер.
— А то и говорю! Что никто отсюда не уйдет, пока мы не найдем хоть какое-то более-менее правдоподобное объяснение того, что у нас тут произошло, — примирительно сказал Корнеич и убрал револьвер со стола, сунул его в кобуру и повесил портупею на гвоздь в стене.
Потом опять разлил всем по полстаканчика самогона:
— Дай Бог, не последняя!
Все выпили, закусили, взгляды уперлись в Корнеича.
— Ну, начнем по порядку… Что ты, Сережа, думаешь обо всем? Какое у тебя объяснение происходящему? Твоя жена, твой ребенок? — обратился участковый к зоотехнику.
— Что я думаю, что я думаю, — начал Михайловский, — ума не приложу, что да откуда.
— Мы здесь все взрослые мужики, мы знаем, как дети делаются. У чернявого мужика — чернявые дети, у белого мужика — белые. А у тебя это дело не вписывается в схему. Какое у тебя объяснение? — продолжил участковый.
— Ну не знаю, честно! Мы поженились, она целка была. Никуда ни перед свадьбой не уезжала из деревни, ни после. Да она вообще никуда из деревни за всю жизнь не выезжала. Да вы и сами знаете, Петр Корнеич, все ж на глазах!
— Знаю, — печально согласился участковый. — Значит, получается, что у нас здесь в тайге завелся негр-шатун, который слоняется по округе и насилует наших баб. Что скажешь, фельдшер? — обратился участковый к фельдшеру. — Как тебе версия насчет негра-шатуна в наших таежных краях? Убедительно выглядит?
— Ерунда какая-то, — пробурчал фельдшер.
— Ну приди со своей версией, — предложил ехидно участковый, — ты из всех нас один имеешь знания по медицине, сообрази что-нибудь.
— Пока понятно, что нужен отец ребенка, и, как сами понимаете, чтобы он был негр. А его у нас нет, и нет никого черного вокруг. Мать только в деревне и была, никуда не отлучалась. И семья у Анюты здешняя, все белые, как сметана.
— Хорошо подытожил, — сказал Стяжевский, — единственное, что общего между нашей деревней и Африкой — это дед Никодим Африканыч…
— Ну что ты за человек такой! Деда на посмешище выставляешь! У него сын на войне погиб, он овдовел недавно, совсем один человек остался, а ты, язва, над ним насмехаешься, — с раздражением проговорил Петр Корнеич.
— Я не смеюсь над дедом, я смеюсь над нами, — с ухмылкой ответил учитель.
— Тихо, не перебивайте, — неожиданно строго сказал фельдшер. — Мы все зациклились на бедной Анюте…
— Ничего не понимаю, — растерялся Корнеич, косясь на Михайловского.
— Поясни, пожалуйста, — согласился Стяжевский.
— Я где-то читал, не упомню где, что иногда бывает, что негр был в семье несколько поколений назад, и все уже белые, а потом — бац! — рождается черненький ребеночек опять. Вот я думаю, Анютина семья здесь живет с сотворения мира, а вот Сергей приехал сюда из города, по распределению. Всякое может быть, — заключил фельдшер.
Все взгляды перекрестились на зоотехнике.
— Иван Михалыч, ты что хочешь этим сказать? — насторожился Михайловский.
— Ничего. Просто предположение. А вдруг у тебя в роду были негры, ты, может, даже этого и не знаешь.
— Как это не знаю? Я знаю своих бабок и дедов! — вспылил зоотехник.
— Я кто твои прапрапрадеды были? Знаешь? — спокойно спросил Аполлинарий Митрофанович.
— Нет, — неуверенно ответил Михайловский.
— Вот видишь. Это зацепка! — констатировал учитель и налил себе самогону.
— Ты че только себе наливаешь, контра недобитая? — незло спросил Корнеич и, взяв бутыль в руку, налил остальным.
— Ты, Сережа, не горячись, а спокойно расскажи нам о своей семье, кто, откуда и прочее, от этого наша жизнь зависит и жизнь твоей семьи, — участливым голосом палача проговорил Корнеич и выпил молча, ни с кем не чокнувшись.
— Мы жили в Пскове, эвакуировались, я отслужил, вернулся, там же техникум закончил.
— А твои дед и бабка? — спросил фельдшер. — Откуда они?
— Ну точно не из Африки! Простые деревенские люди, перебрались из какой-то деревни в город работать на фабрике, еще до революции.
— В Псков из Псковской области? — поинтересовался Аполлинарий Митрофанович.
— Кажется, да, это по отцовской линии. А по материнской линии — те жили в Пскове, на той же фабрике работали. Какие негры в Псковской области? Или в Пскове на фабрике?
— Да, конечно, негров на псковской фабрике не было. Что они, дураки что ли? — задумчиво, медленно проговорил Стяжевский.
— Что ты на трудового человека клевещешь, пролетариат обижаешь? — с нажимом произнес участковый.
— Я вот что тебе, городничий, скажу! — громко начал Стяжевский.
— Я не городничий! — в голос вскрикнул Петр Корнеевич.
— Хорошо, околоточный, я тебе скажу вот что: был негр в Псковской области! — торжественно объявил учитель.
Если бы он чуть промедлил с этим заявлением, то мог бы получить по физиономии за околоточного, а заодно и за городничего.
— Говори же! — вскричали все почти одновременно.
— Как твоя фамилия? — обратился Стяжевский к зоотехнику и сам же ответил: — Михайловский. Фамилия деда, отца, который пришел в Псков из какой-то деревни в Псковской области. Какой деревни? Михайловское. А кто жил в Михайловском?
— Кто? — совсем растерялся участковый.
— Пушкин? — как-то неуверенно ответил Иван Михайлович.
— Пушкин! Конечно, Пушкин! — неистовствовал Стяжевский. — А Пушкин любил женщин, в том числе и деревенских баб тоже.
— Ты опять клевещешь! И теперь на нашего Пушкина, — угрожающе глядя исподлобья, проговорил Корнеич.
— У него был один сын от крепостной, его назвали Павел, могли быть и еще, и кто точно знает сколько, — продолжил Аполлинарий Митрофанович. — А насчет клеветы я тебе, Петр Корнеевич, так скажу: ты хотел объяснения, откуда «во глубине сибирских руд» негритенок, точнее арапчонок, родился. Вот тебе объяснение. А если оно тебя не устраивает, то езжай завтра и сдавайся в ГПУ или как оно там сейчас называется.
— Не горячись, — ответил милиционер. — Давай подытожим, как все это будет выглядеть на бумаге!
— Очень просто! — подхватил учитель. — Сергей Михайловский — потомок незаконнорожденного сына Пушкина. Это он скрывал ото всех, чтобы не привлекать внимания, насмешек. Доказательств у него нет, но в семье как бы жило такое предание. И фамилию Михайловский его прапрадед получил, когда переехал в Псков, потому что был из деревни Михайловское, которая в свое время принадлежала Пушкиным. Это литературная часть, а дальше твоя часть, Лысенко, — обратился Стяжевский к фельдшеру.
— А что я? Я где-то читал…
— Стоп! — перебил его Стяжевский. — Не бубни, я где-то читал… А наукой описаны случаи, когда цвет кожи передается через несколько поколений. Понял?
— Да, — согласился фельдшер.
— А что? Неплохо, — воспрянул духом Корнеич. — А я не стал особенно распространяться на эту тему, чтобы не привлекать внимания к некоторым подробностям частной жизни нашего самого любимого поэта. Так, завтра соберемся опять — сейчас уже поздно — и все напишем, как рапорт, на всякий случай. Если меня дернут, потому что кто-то уже стукнул оперу, — и он многозначительно обвел глазами присутствующих, — то я буду готов. А ты, брат Пушкин, — он обратился к Михайловскому, — запомни всю историю. А сейчас на посошок и — до завтра.
Участковый вышел в сени проводить гостей. Они оказались под летящим лунным снегом в свете больших звезд на ясном-ясном небе. Холодный ночной воздух нагревался в легких и возвращался наружу в виде клубов пара, своим видимым движением нарушая неподвижность и прозрачность окружающего.
— Завтра собираемся опять, — напутствовал всех участковый.
Но завтра, то есть на следующий день, до деревни наконец дошла весть, что умер Сталин, и все забыли об арапчонке Саше. В тот день в деревне никто не плакал, кроме маленького Сашеньки, но он плакал совсем по другому поводу.
Смычок
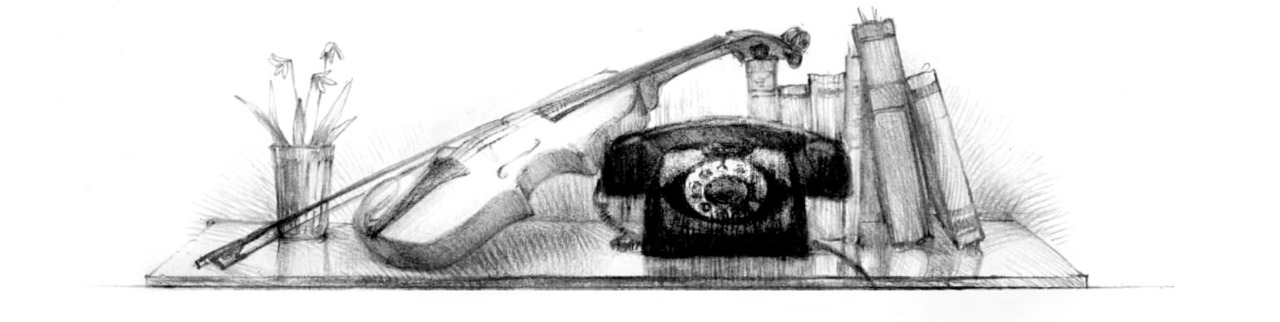
Я выхожу на сцену. В моих руках скрипка и смычок. Зал замер. Сотни людей разных возрастов, национальностей, профессий, размеров, судеб, сидящие напротив сцены, со взмахом моего смычка превращаются в одно гомогенное живое существо, одну живую массу.
Я играю. Молниеносная виртуозная согласованность слуха, зрения, памяти, мышц рук, пальцев, и где-то между этими рефлексами — мой дар, мой гений. Таких, как я, в мире трое, может, пятеро. Я играю. Музыка сродни танцу, только танцовщик движется под музыку. А здесь я сам порождаю звуки, все мышцы непроизвольно сокращаются и расслабляются, подчиняясь одной цели — извлечь звук из этого старинного инструмента. Я открываю плотину внутри себя, энергия моего дара вырывается наружу, пожирает меня, но одновременно рождает музыку. Когда я играю, я не принадлежу себе, я не принадлежу никому.
Когда же я не играю, то я тоже не принадлежу себе, а принадлежу разным музыкальным обществам, академиям, администраторам. А еще Комитету государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик. Я информатор КГБ.
С самого детства я знал, что я другой, не такой, как все. Всегда чувствовал: что-то отличает меня от сверстников, но не мог понять, что именно. Я рос с каким-то секретом внутри, чувством, что не могу полностью включиться в игры с друзьями, что существует какая-то дистанция между мною и остальными — всем миром.
Когда я стал подрастать, то начал думать, что это мой дар делает меня одиноким, отдаляет от остальных, делает меня одиноким экзистенциально и повседневно.
Вся жизнь проходила между просто школой, музыкальной школой, домашними занятиями на скрипке — и не было времени на обычную детскую жизнь, да я и не хотел ее особенно. Я заметил, что взрослые относятся ко мне иначе, нежели к остальным детям. Во всех музыкальных экзерсисах, конкурсах я был первым. В моем присутствии обо мне говорили так, будто меня нет, с легким придыханием и закатыванием глаз. Но, помимо моего дара и музыки, было что-то еще, что наплывало на меня из какой-то глубины, пугало меня, отчего я съеживался, словно не выдержав пристального взгляда. В какой-то момент, не помню когда точно, я догадался, что со мной, но не сказал себе правды, а продолжал делать вид, как будто ничего нет.
Все на свои места поставил мой дед. Он заведовал кафедрой в московской консерватории, неординарная личность, человек, сконцентрированный только на себе самом, громкий, его всегда было много в комнате, он всегда был окружен людьми, особенно женщинами, — помню заплаканные бабушкины глаза.
Мы жили в двух шагах от консерватории, я и сейчас там живу — в большой дореволюционной квартире, где была дореволюционная мебель, и даже номер телефона был такой же, как в двадцатые годы, только прирос цифрами спереди по прошествии времени и технического прогресса — я видел объявление моего прадеда, частнопрактикующего врача в годы НЭПа, с номером телефона, опубликованным в одной из московских газет.
В квартире жили я, моя мама, мои дед и бабушка, моего отца там не было. Отца я вообще не помню. Согласно истории, которую мне преподнесли, отец спился. Он был консерваторский музыкант, дед не любил его, и в итоге брак распался. Только однажды я слышал, как дед сказал маме: «Твой алкоголик и бездарь!» — это было о нем. Мама плакала. Дед особенно не выбирал выражений, не щадил чувств других. Все, что имело значение, — это его чувства и переживания.
И вот однажды, когда я пришел домой чуть раньше и тихо вошел в квартиру, все сидели в столовой и пили чай (дед не позволял пить и есть на кухне — только в столовой). Я подошел к дверям, никто не слышал меня, все были поглощены разговором, и услышал дедовскую фразу: «А мальчик-то наш голубой…»
Я отшатнулся, голова закружилась, я почувствовал, что вот-вот могу потерять сознание, и по стеночке быстро, стараясь опередить обморок, добрел до своей комнаты и плюхнулся на кровать. Мысли путались, крутились в голове. Что сейчас произошло? Что я услышал? Я, наверное, все не так понял… Я лихорадочно стал искать объяснение дедовской фразе, хватаясь за каждую соломинку, и в конце концов, абсолютно изможденный, уснул.
Когда я проснулся, мир был другим, в нем не было надежды ни на что, не было любви для меня. И то, как это произнес дед, и то, как зашикали на него мама и бабушка, — все говорило о том, что их худшие опасения — правда, и это худшее опасение — я. И весь мой дар угас, поблек, стал незначительным по сравнению с тем, что обрушилось на меня. И если быть честным с самим собой, то это правда.
Я избегал думать об этом, избегал вопросов к себе, но это существовало помимо меня — так, что другие замечали. Я не знаю, откуда оно пришло ко мне и когда, важно, что это реальность, в которой я должен жить. Зачем мне мой талант, музыка, когда моя реальность словно нереальность, словно все это не со мной?
Говорят, что Чайковский покончил жизнь самоубийством. Я его понимаю. Тогда и я стал думать о самоубийстве. Мои мысли кружились вокруг идеи: «А как будет мир без меня? Как встретят эту новость мои мама, бабушка, дед? Что скажут в моих школах? Как лучше всего это сделать?»
Трудно сказать, к чему бы все это привело, но однажды дед позвал меня к себе в кабинет. Впервые. В этом было что-то новое, официальное, значимое и страшное. Дед сидел за своим массивным дубовым столом со множеством бронзовых фигурок. Он указал на кожаное кресло напротив. Я сел.
Я боялся любого поворота событий. Вдруг дед начнет поносить меня и чего-то требовать? Собственно, чего? Будет ужасно, если попробует говорить по душам. Тоже нелепость. О чем говорить? Сердце мое билось где-то в горле и гнало кровь напрямую в голову, не оставляя ничего для других органов, отчего все тело стало онемелым и ватным.
— Послушай меня внимательно, — начал дед. — Я в музыке всю свою жизнь. Я видел множество людей, посвятивших себя музыке, талантливых и не очень, но ты самый талантливый из всех, кого я когда-либо слышал. Живи своим талантом, живи своим даром, Даром с большой буквы (дед первый привнес это слово в мою жизнь), вся твоя жизнь — ради этого дара. Все для него! Остальное в жизни не имеет никакого значения! Тебе предстоит еще много работы, много труда во имя твоего дара. Не для совершенствования дара, а для совершенствования себя, чтобы вместить в себя полностью ниспосланный тебе дар. Понимаешь?
Я молча качнул головой. Внутри разлилось теплое чувство безопасности: «Кажется, пронесло». Сначала я не обратил внимания на слова деда про дар и только чуть позже, когда стал переваривать, проговаривать про себя нашу беседу, точнее, дедовский монолог, понял истинное значение его слов. Возможно, дед спас меня от самоубийства, точно определив перспективы, обозначив шкалу ценностей на всю оставшуюся мою жизнь.
Природа коснулась меня своим дыханием, вдохнула в меня уникальный дар. Может, это компенсация, плата за это? Случайная аберрация? Или что-то еще? Но так случилось: я — не как все. И что? Все в этой жизни хотят любви, понимания, семьи, уюта — ничего из ряда вон выходящего, уникального. Не все хотят играть. Тех, кто может играть по-настоящему хорошо, мало, и совсем единицы могут играть так, как это должно быть, так, как это должно звучать, и это мой дар — играть так, как это должно звучать в природе, в Абсолюте гармонии — так, как это было замыслено. Чего я больше хочу: любви, уюта, семьи или играть?
Однозначно, если бы я должен был решать, то, конечно же, выбрал бы музыку! И так потекла моя жизнь. Я никогда не сомневался в своем даре, работал много, до помрачения ума, порою выпадая из реальности. Все шло своим чередом: я поступил в консерваторию, я — лучший в классе. Я скромен и не заносчив, я знаю — я лучший, никому не завидую, мне не надо разыгрывать из себя гения, мне ничего никому не надо доказывать, нужно только играть, брать в руки скрипку и играть — все остальное не имеет значения. Спасибо, дед.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.