
Бесплатный фрагмент - Игра как жизнь. Часть 3
Ярославль, 1948-1958
Предисловие ко второму изданию
Второе издание третьей части подготовлено для электронной версии книги. Текст заново переработан. Многие иллюстрации в этом издании воспроизведены в цвете, а не в черно-белом варианте, как это сделано в бумажной версии.
Структура книги осталась прежней. Стержнем повествования является жизнь семьи Белкиных-Христофоровых в период 1948–1958 гг., рассказанная от имени младшего из сыновей — Сергея.
В этот период глава семьи — Н. И. Белкин — работал заместителем директора Ярославского сельхозинститута. Поскольку в 1957 году институт был переведен в Уссурийск, отдельная глава описывает процесс перевода института и его становления на новом месте в период 1957–1958 гг. В нескольких главах описывается жизнь семьи — ее быт, связанный с проживанием в разных местах: учхозе Новоселки, в стенах учебного корпуса института, в отдельной квартире. Много внимания уделено описанию процесса роста, развития и воспитания детей — Павла, Александра и Сергея, а также студенческим годам старшего сына Н. И. Белкина — Владлена, ставшего впоследствии известным русским советским поэтом. Рассказано об учителях, соседях, врачах — тех, с кем общались и дружили. Есть главы, связанные с городом Харьковом: в его пригороде на даче родственников семья ежегодно проводила летние месяцы. Несколько глав посвящено родине Н. И. Белкина — деревне Молоково Костромской области, особенностям жизни и быта.
Основу повествования составили воспоминания автора и его брата Павла, а также большой семейный архив, в котором хранятся не только фотографии, но и много документов. В книге 440 иллюстраций, на которых они представлены.
Как и в предыдущих частях, составлена «хроника страны и мира» — краткие сведения о событиях отечественной и мировой истории периода 1948–1958 гг. Взгляд на движение «колеса истории» помогает осознать исторический контекст, понять причины радикальных перемен в судьбах людей, живших в переломные моменты истории. В заключительной части наряду с хроникой событий показана общая атмосфера времени и жизни людей в те времена: о чем говорили, о чем думали, какие песни пели и какие фильмы смотрели.
Вступление
Воспоминания — это не прошлое, вернее — не только прошлое. Это настоящее — для меня, вспоминающего. И это будущее — для тех, кто это когда-нибудь прочтет впервые.
Перед вами третья часть повествования — исследования, — которое можно было бы назвать «Род Белкиных-Христофоровых в контексте мировой истории XVIII–XXI веков».
Одна ветвь рода — Белкины — русские, корни которых происходят из Костромского края, вторая ветвь Христофоровы — греки, ведущие свою историю от античных эллинов, в древности освоивших Северное Причерноморье, Крым, затем переселенных в пределы Российской империи, во вновь созданный город Мариуполь.
На иллюстрациях представлены развороты обложек бумажных изданий трех томов «Игра как жизнь». В первой части повествования рассказано о периоде с XVIII века до революционных событий и Гражданской войны XX века.
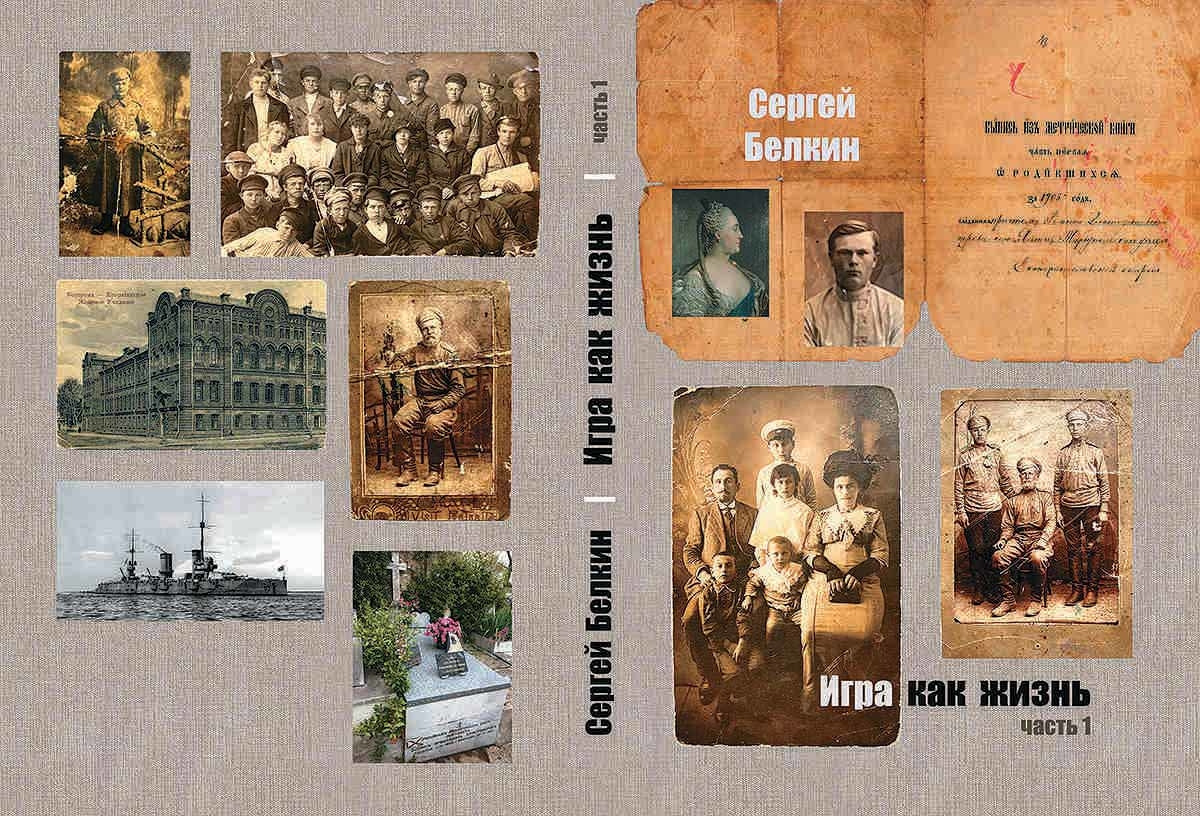
Во второй части описано довоенное, военное и послевоенное время: с 1923 по 1948 год.
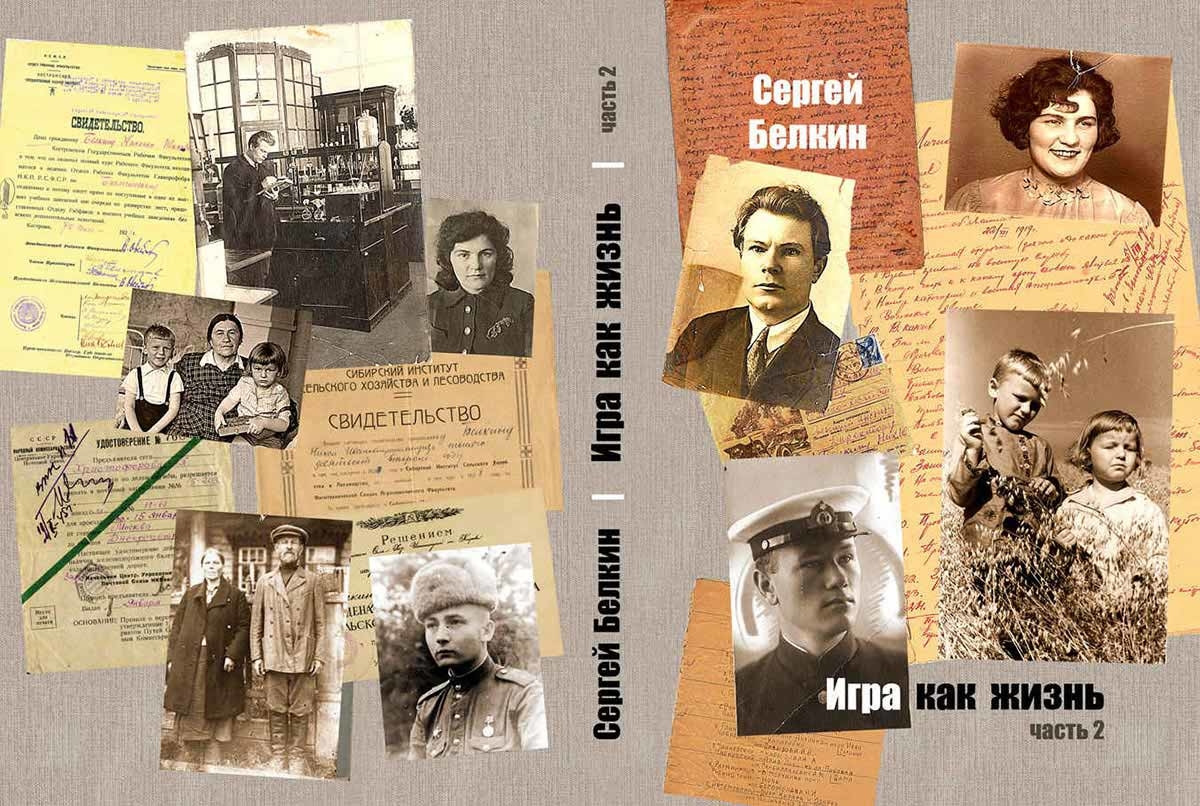
Третья часть охватывает период 1948–1958 — годы, прожитые в Ярославле.
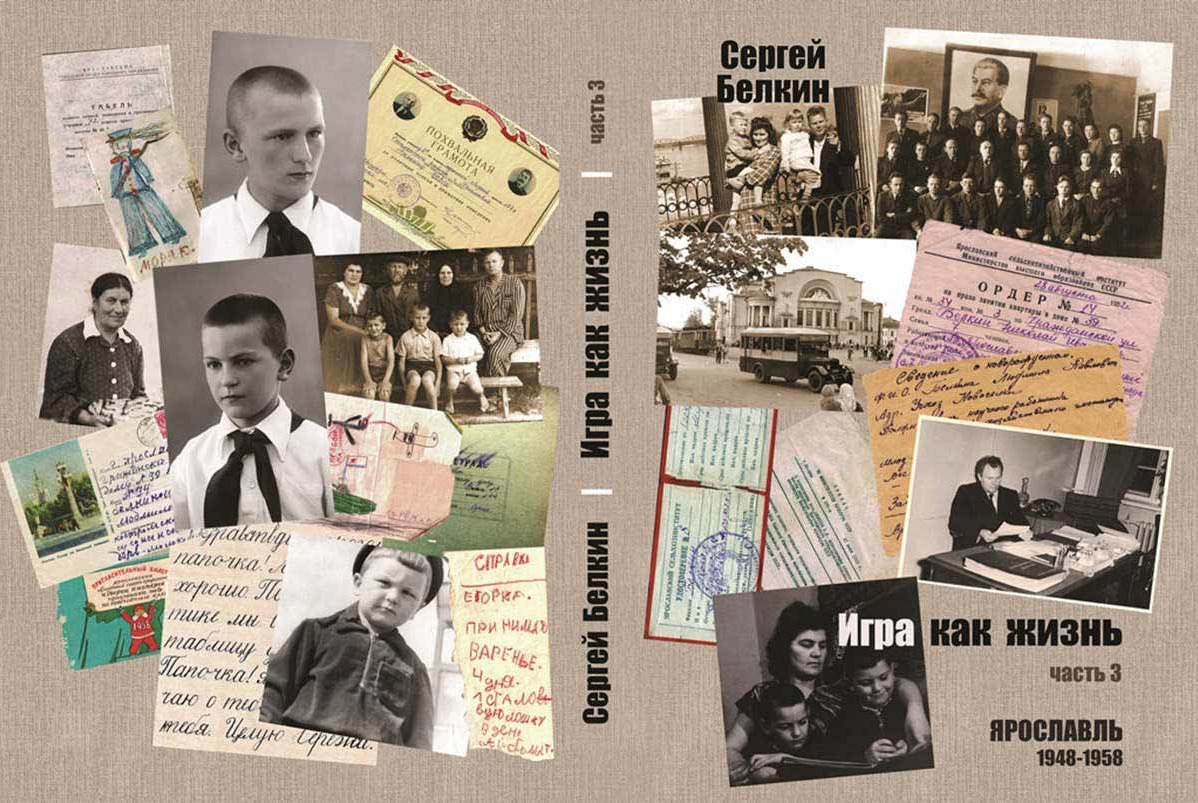
Ещё раз поясню выбор такого, как бы «неуклюжего», названия — «Игра как жизнь»: привычнее звучало бы — «Жизнь как игра». Перестановкой слов я стремился «переставить» и смыслы, сместить акценты. Судьбы людей во многом подчинены историческим событиям большого масштаба: переселение народов, расширение империи, войны, революции. Если смотреть на исторические события как на элементы «Большой Игры», ведущейся некими субъектами истории — эта метафора получила широкое распространение в современной теории геополитики, — то жизнь отдельного человека оказывается под сильным влиянием этой самой Игры с большой буквы: Игры в жизнь, Игры — подобной жизни, Игры — как жизнь, которая бывает и жесткой, и жестокой… Так что пусть «глаз цепляется» за неуклюжее название и возникает желание задуматься: почему же автор так его сложил?
В трех частях книги показано — как исторические события этих веков вовлекали в свои вихри жизни людей, формировали их судьбы. Удалось с документальной точностью проследить жизнь Николая Белкина и Людмилы Христофоровой, — встреча которых без вмешательства исторических факторов была бы маловероятной. Встреча, однако, состоялась и на свет родилась семья. Жизнь этой семьи оказалась очень насыщенной и поучительной. Ее описание составлено на документальной основе и семейных воспоминаниях.
Повествование ведется от первого лица: автор — сын Николая и Людмилы. «Персонажами» являются старшие братья автора — Владлен, Павел и Александр, а также многочисленные родственники. По отцовской линии это дедушка Иван Константинович и бабушка Анна Матвеевна, их дочери Мария, Глафира и Прасковья, семьи дочерей. По материнской — бабушка Люба (Любовь Ивановна), братья и сестры Людмилы: Леонид, Валентин, Виталий, Елена, Ксения, их семьи. Подробные сведения о каждом приведены в предыдущих томах.
География жизненных путей охватывает многие города. У отца — Кострому, Иваново-Вознесенск, Омск, Днепропетровск. У матери — Мариуполь, Днепропетровск. Военные годы прошли в эвакуации — в Саратове и Уфе. Встреча в Днепропетровске Николая Белкина и Людмилы Христофоровой — наших отца и матери — привела к рождению семьи. Последующая судьба влекла их по новой траектории: из Днепропетровска пришлось — вместе с родившимися там сыновьями Павлом и Александром — переезжать в Ярославль.
Работая над этой частью, я погрузился в прекрасный мир нашей семьи, города и страны — мир в котором интересно, насыщенно, не всегда просто, но всегда счастливо жилось многим. Я стремился донести и до читателя те образы и эмоции, которыми мы жили в прошлом и которые я заново переживал, работая над книгой.
* * *
До переезда в Ярославль родители жили в Днепропетровске, там они и познакомились ещё до войны. Отец — Николай Иванович Белкин, бывший до войны директором Днепропетровского сельхозинститута, — вернулся в разрушенный войной город в 1944 и приступил к возрождению института. Вскоре к нему присоединилась и Людмила Павловна Христофорова, с которой они и в период эвакуации — в Саратове и Уфе — были вместе. В Днепропетровске в августе 1945 года у них родился сын Павел, а в декабре 1947 — Александр. Я родился в 1950 году уже в Ярославле. В предыдущей второй части книги подробно описана их жизнь — и работа отца, и быт семьи до переезда в Ярославль. Там же рассказано и о тех драматических событиях, которые вынудили Николая и Людмилу Белкиных покинуть Днепропетровск, искать работу и жилье, переезжать в другой город с двумя маленькими детьми. Описана и сама процедура перевода Н. И. Белкина из Днепропетровского сельхозинститута в Ярославский. Представлены выразительные документы той эпохи, в которых хорошо видна работа государственного аппарата тех лет. Отец все препятствия преодолел, невзгоды выдержал, продолжая упорно трудиться, заботиться о семье и стремиться к своим целям. Шаг за шагом он двигался вперед, добивался результатов и в своей научной работе, и в других делах. Главным делом на новом месте стал, конечно, Ярославский сельхозинститут: его становление, развитие. Главной заботой — студенты: отец был и всю жизнь оставался превосходным, талантливым, ответственным и любимым студентами преподавателем. Главной мечтой оставалась наука, а главной любовью — семья.
Отец
Ярославль
Каким был Ярославль в эти годы? Поделюсь не только своими детскими впечатлениями, но и куда более информативными воспоминаниями старшего брата Павла, хранящимися в семейном архиве. Здесь они процитированы почти в полном объеме. Помимо воспоминаний в нашем архиве сохранилось немало документов, писем, фотографий. Кроме того, использованы и фотографии той поры, взятые из открытых источников в интернете. Например, на фото 4–8 — старая пристань, площадь перед театром им. Ф. Волкова, весенний двор, павильон для полоскания белья на Волге, зимний вид улицы, взятые на сайте https://360yaroslavl.ru и https://humus.livejournal.com.
Эти фотографии позволяют представить — каким был город в далекие пятидесятые…



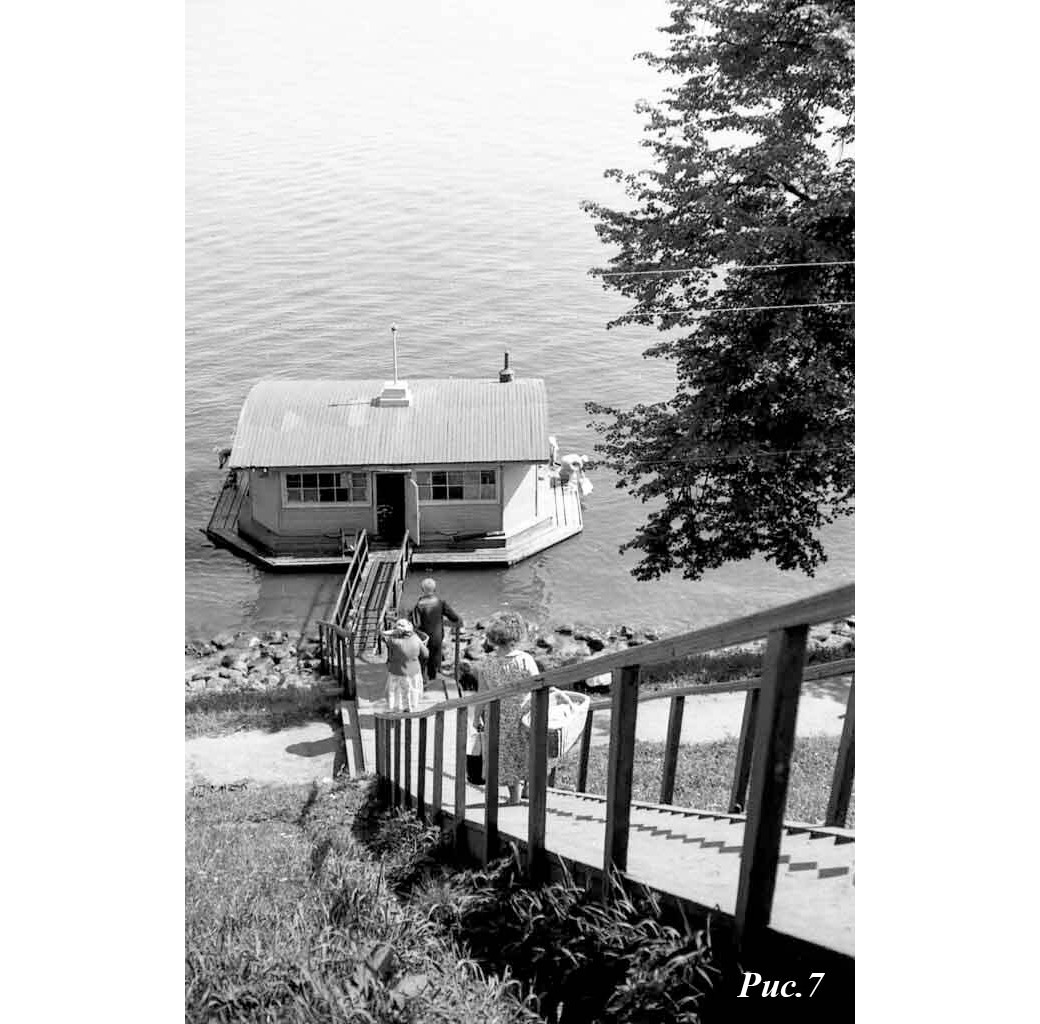

Прежде чем опереться на семейные воспоминания и архивы, заглянем в 49-й том Большой советский энциклопедии, вышедший из печати в 1957 году. В статье о Ярославле рассказано и об основании города в 1010 году Ярославом Мудрым, и о столичном статусе города в Ярославском княжестве, и о создании в начале XIX века Демидовского лицея, и о появлении железной дороги в его последней четверти. Упомянут и столь любимый горожанами и туристами арочный железнодорожный мост через Волгу, построенный в 1913 году. Сказано, что город был одним из крупнейших центров русского зодчества и изобразительного искусства, а также о том, что созданная здесь в 1750 труппа Ф. Г. Волкова положила начало первому профессиональному публичному русскому театру.
Разумеется, в энциклопедии не забыли и о революциях 1905 и 1917 годов, равно как и о «белогвардейском мятеже» 1918 года. Отмечено, что в годы Великой отечественной войны ярославские предприятия играли важную роль в снабжении основных оборонных отраслей. Например, шинный завод поставлял 70% шин страны всех типов, автомобильный завод выпускал самосвалы, остальные заводы выпускали широкий спектр продукции: электромоторы; осколочно-фугасные снаряды и 82-мм мины; суда и военные катера; синтетический каучук и латекс; сжатый воздух, кислород, хлор, азот; лаки и краски; оборудование для железных дорог, компрессоры; обувь и полушубки для армии и др. Неудивительно, что город подвергался налётам немецкой авиации: всего их было совершено 13, враг сбросил на город 1146 фугасных и 1832 зажигательных бомб. В результате этих налетов погибло свыше 400 человек и около тысячи ранено.
В энциклопедии дана краткая справка и о существовавших в городе учебных заведениях. В этом томе (№49, «Эволюция–Яя»), вышедшем, повторю, в 1957 году, но подготовленном к печати на год раньше, среди высших учебных заведений города упомянуты технологический, педагогический и медицинский институты. А вот Ярославского сельхозинститута — нет, как будто его и не было никогда! В последующих изданиях БСЭ, равно как и в современной электронной версии этого многострадального и такого важного — не только для нашей семьи — института тоже нет.
А ведь он был!
Похоже, именно мне выпала честь и ответственность рассказать об этом институте хотя бы то, что смогу. Его более полная история, надеюсь, ещё будет кем-то написана. Архивы института ждут исследователей. Возможно, ныне существующая Ярославская сельхозакадемия, возникшая через двадцать лет после ликвидации ЯСХИ, найдет эту тему важной и нужной для собственного развития. Формально Сельхозакадемия не является преемницей ЯСХИ: она создана заново. Но на ее сайте есть страничка, в которой упоминается ЯСХИ как предшественник в деле развития сельскохозяйственного образования в области. Это вселяет надежду в то, что полноценная история ЯСХИ будет когда-нибудь написана. А пока я расскажу то, что знаю.
Ярославский сельхозинститут
В сороковые годы в стране было свыше полусотни сельскохозяйственных институтов. В принципе, покидая Днепропетровск, отец мог искать работу в любом из них. Направления всех его поисков мне неизвестны, но в семейном архиве случайно сохранилось свидетельство того, что он обращался или планировал обратиться, в частности, в Казань, где имелся институт сельского хозяйства и лесоводства. Ярославль, возможно, привлекал его тем, что это было близко к его родине — Костроме и области, — где жили родители и сестры. Да и сам город, думается, отцу был вполне по нраву. Но главными мотивами были, разумеется, не симпатии, а сама возможность трудоустройства с предоставлением жилья. Должности, на которые отец мог претендовать, были конкурсными. Подавать заявление можно было только туда, где объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Мало того: необходимо, чтобы министерство согласовало как увольнение с предыдущего места работы, так и прием на новое место, — таков был тогда существовавший в стране порядок.
Отец, будучи доцентом и кандидатом сельскохозяйственных наук, принял участие в конкурсе на заведование кафедрой агрохимии и почвоведения Ярославского сельхозинститута, выдержал его и был принят на работу в ноябре 1948 года. К этому времени у него уже был накоплен большой опыт работы, в том числе и в должности заведующего кафедрой. Так что он уверенно погрузился в разработку учебных планов, подготовку курсов, оснащение лабораторий и пр. Трудился, видимо, отец, как всегда, хорошо, поэтому уже в июне 1949 года его дополнительно назначают деканом агрохимического факультета.
Ярославский сельхозинститут (ЯСХИ) появился незадолго до этого: в марте 1944 года было принято решение Совнаркома СССР, а с ноября того же года начались занятия на двух факультетах: агрономическом и зоотехническом. Первый набор 1944 года состоял всего из 70 студентов. То есть в 1948 году это был совсем ещё молодой, можно сказать, юный вуз, только лишь готовившийся выпустить первых специалистов. Думаю, что возможность принять участие в развитии института, формировании его кафедр, организации учебного и научного процессов привлекали отца, накопившего уже немалый опыт именно такой работы. К 1948 году у отца был десятилетний стаж работы руководителем — ректором, деканом, заведующим кафедрой в Днепропетровском сельхозинституте.
Институт с момента создания разместили в типовом 4-этажном здании средней школы в доме №103 по ул. Володарского. В этом здании разместилось все: и администрация, и учебные аудитории, и лаборатории и даже небольшое общежитие. Сейчас в этом здании расположился факультет архитектуры и дизайна Ярославского политеха (технического университета). На современной фотографии (рис.9) — вход в здание; вдалеке виден и второй такой же вход. Раньше всё выглядело несколько иначе: перед входами была более широкая площадка, слева и справа от входов на постаментах были установлены большие шары. В таком же точно здании на параллельной улице располагалась и наша школа №44, о которой речь впереди. У нее тоже были декоративные шары у входа, но и там они не уцелели.

Первым директором Ярославского СХИ с 1944 по 1946 гг. был Смирнов Виталий Максимович. Сколько-нибудь подробных сведений о нем у меня, к сожалению, нет. После него институт возглавил Анисимов Александр Архипович и оставался на этом посту до 1952 года. Александр Архипович не только работал с моим отцом, но и был нашим соседом: его квартира располагалась под нашей. Впрочем, это было недолго: новым директором института стал Герасимов Кузьма Прокопьевич, который заменил Анисимова не только на посту, но и в квартире, став нашим новым соседом: он вселился в ту же квартиру, которую до него занимал Анисимов. В этой должности Кузьма Прокопьевич пробыл вплоть до 1957 года — года перевода института в Уссурийск.
У нас есть возможность заглянуть в прошлое и своими глазами увидеть фрагменты жизни института, поскольку в семейном архиве сохранилось немало фотографий.
Начну с фотографии, сделанной, вероятно, около 1950 года (фото 10). В центре — отец, Н. И. Белкин, его окружают преподаватели и студенты. Никого из них я, к сожалению, опознать не могу, но фото мне представляется ценным из-за его способности донести до нас атмосферу времени, рассмотреть детали интерьера, выражения лиц, праздничную одежду и прически у женщин и девушек.

Ещё одна фотография того же года (фото 11). На обороте надпись: «Доценту Белкину Николаю Ивановичу от студентов 1-й группы 3-го курса агрономического факультета ЯСХИ». Снова в центре — Н. И. Белкин. Справа от него, вероятно, С. П. Плетюхин, слева — А. П. Красинский, далее — вероятно, Е. А. Сокольников. Некоторые студенты ещё в гимнастерках, другие — в пиджаках и даже с галстуками. Интересно, что двое в первом ряду — в валенках: видны заправленные в валенки брюки. На плакате с левой стороны снимка вблизи портрета Сталина призыв: «Силы демократии и социализма непобедимы!»

Представления о жизни института дадут нам и фотографии с торжественного собрания 26 ноября 1950 года, на котором профессору Алексею Петровичу Красинскому вручают ценный подарок: радиоприемник (рис. 12 и 13).

Узнаю модель: это радиоприемник «Балтика», один из самых распространенных в те годы. «Распространенных» не означает, что он был в каждой семье: далеко не в каждой! Должен сказать, что по своей ценности радиоприемник был просто-таки ошеломительным подарком! Уж и не знаю, в связи с чем, так щедро был награжден проф. Красинский (живший с нами в одном доме, во втором подъезде). Вручает приемник, видимо, А. В. Басов — о нем рассказ впереди. В центре стола президиума сидит улыбающийся директор Александр Архипович Анисимов, по левую от него руку спиной к нам привставший для получения подарка проф. А. П. Красинский. На другом фото с того же собрания (рис.13) ему пожимает руку наш отец — Н. И. Белкин. Он улыбается и выглядит молодо и задорно, на нем круглые — по моде тех лет — очки и вполне ещё густая шевелюра: и то сказать — ему здесь всего-то 48 лет! Слева — проф. А. И. Круглов.

Эти фотографии тоже передают атмосферу времени: портрет Сталина, стол президиума, накрытый скатертью (красной, надо думать), горшки с цветами, драпированный задник и второй ряд президиума, узнаваемые конические плафоны на лампах — такие встречались повсюду, занавеска на окне и багет, к которому она прикреплена. Ну и лица людей: это тоже очень важно подмечать. Хоть это и официальная обстановка с соблюдением всех тогдашних ритуалов, лица-то — живые и искренние!
А теперь — об А. В. Басове. Вот фотография, сделанная на параде 7 ноября 1950 года (рис. 14). На фото: слева Басов Александр Васильевич — заведующий учебной частью ЯСХИ, секретарь парторганизации; Белкин Николай Иванович — декан агрономического факультета, Круглов Александр Иванович — профессор и декан зоофака — зоологического факультета. Сведения о том, кто какую должность занимал, не очень точны. В имеющихся у меня источниках встречаются противоречивые данные. Скажем, на одной из виньеток зоофака 1953 года Басов подписан как «зав. кафедрой», а деканом зоофака указан — Хмельницкий В. В.

Фотография 7 ноября вполне традиционная для тех, да и последующих лет: на всех демонстрациях любили вот так фотографироваться. Люди общаются, пока колонна стоит, — а движение всегда было кусочно-непрерывным: постоят — продвинутся, постоят — продвинутся. В эти моменты и фотографируются, иногда — поют, пляшут и втихаря выпивают. Настроение царит веселое! В последующие годы, уже на моей памяти и с моим участием, на демонстрациях 1-го мая и 7-го ноября происходило то же самое. Менялось лишь оформление колонны, лозунги на транспарантах и портреты «вождей». На этой фотографии — Сталин. Через три года он умрет, в качестве «первого лица» станут носить портрет Маленкова, потом — Хрущёва. Изображений Сталина будет становиться все меньше и меньше, а через 7–8 лет его портреты, бюсты и памятники исчезнут отовсюду. Кроме историко-политических примет времени, есть и иные. Мне, хоть я и не историк моды, интересно рассматривать одежду: фасоны, материалы. У отца — двубортное драповое пальто с каракулевым воротником на подкладке из ватина, шарф, галстук, шляпа: классический, стандартный набор тогдашнего руководителя. Стоящий справа проф. А. И. Круглов в кожаном пальто и кепке: совсем нетипичная — для профессора — одежда. Скорее, так мог быть одет директор завода. Стоящий слева А. В. Басов выглядит и вовсе франтом: на нем хорошо сшитое и хорошо сидящее пальто из дорого материала. Он явно следит за своей внешностью, даже залом шляпы — продуманный, неслучайный. Вот у отца — залом шляпы такой, какой складывается «сам собой», без тщательного выравнивания полей и изгибов…
Познакомимся с биографией А. В. Басова, и нам станет ясно, что все эти мелочи — вовсе не мелочи.
Александр Васильевич Басов (1914–1988) с шести лет остался сиротой и воспитывался в детском доме. Окончил рабфак в Новочеркасске, затем — сельхозинститут в Вологде. Стал научным работником Вологодского института эпидемиологии и микробиологии, затем директором совхоза. В Ярославском сельхозинституте он начал работать в конце 1940-х годов: преподавал, был завучем и секретарем парткома, кажется, заведовал кафедрой. Вскоре после этих фотосъемок — в марте 1951 года — переехал в Новочеркасск. (В Википедии пишут, что в 1951 году он был директором ЯСХИ, но это не так: после А. А. Анисимова директором стал К. П. Герасимов.) В Новочеркасске он работает в Зоотехническом институте, становится кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом, а с 1954 года — он уже на партийной работе. С 1954 по 1962 год Басов прошел путь от секретаря по сельскому хозяйству до первого секретаря Ростовского областного комитета КПСС. Тут в его судьбе стали происходить исторические события. Вернее — исторические процессы налетели на Александра Васильевича: по нему ударило ставшее впоследствии знаменитым «восстание Новочеркасских рабочих». А. В. Басов не сумел договориться с забастовщиками и спустя несколько часов после начала забастовки покинул Новочеркасск. Удар был такой силы, что забросил Александра Васильевича на обратную сторону земного шара: он стал советником при правительстве Кубы по вопросам животноводства! Через три года он — министр сельского хозяйства РСФСР. Но ненадолго: в 1965–1971 годах А. В. Басов — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Румынии, в 1971–1973 — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Чили. Тут его настиг ещё один удар истории: отмечают, что его приезд в Сантьяго осложнил советско-чилийские контакты и негативно сказался на развитии ситуации, закончившейся свержением президента Чили Сальвадора Альенде. Пришлось пару лет отсиживаться в центральном аппарате МИД СССР. Но потом — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Австралии и по совместительству на Фиджи вплоть до выхода на пенсию.
Оставил свой след не только в истории — моей и отечественной, — но и в воспоминаниях коллег по работе. Известный дипломат и переводчик Виктор Суходрев писал о нем: «Фантастический человек. Про него ходило столько забавных рассказов, что из них можно составить отдельную книгу. Например, я слышал о том, как он, будучи послом, приворовывал апельсины в супермаркетах, выпрашивал себе подарки в поездках по стране и тому подобное. Сотрудникам посольства часто приходилось краснеть за своего шефа».
А теперь вновь взгляните на его фото ярославского периода и согласитесь, что здесь была бы уместна банальная фраза «ничто не предвещало…»
Жизнь нашего отца складывалась иначе, нежели у А. В. Басова, например. Начало было чем-то похожее: рабфак, сельхозинститут, совхоз, научная работа, преподавание… Но Басов довольно рано сориентировался и нацелился на партийную работу. Для успешной партийной карьеры хорошо иметь нормальную трудовую биографию, высшее образование, ещё лучше — ученую степень; важно также проявить себя в общественной работе, попробовать чем-то руководить. При наличии этого и личных устремлений остается добыть одно: поддержку влиятельного лица, какого-нибудь партийного босса. Не знаю, кто эту роль сыграл в жизни Басова, но не сомневаюсь, что эта роль кем-то была сыграна. После этого общественное положение — статус — становится самым высоким: партноменклатура. Карьера таких персон может быть не только успешной внешне, но и вполне содержательной и полезной. Но может и не сложиться.
Если продолжить сравнение с отцом, то главным отличием было то, что отец считал самым привлекательным для себя «статусом» — саму деятельность, ее содержание. То есть, — научную работу, а не «погоны», должности и пр. Ради возможности заниматься наукой отец готов был от многого отказываться. Административная деятельность и руководящие посты, которые он занимал с того же возраста, что и упомянутый Басов, — лет с 35 — не вступали с его стремлением к научной работе в непримиримое противоречие, хотя он часто говорил, что административная работа «мешает», не дает уйти в науку целиком. Но административная работа что-то отнимала, а что-то давала — в смысле возможностей заниматься наукой. Да и прибавки к зарплате за административные нагрузки тоже играли свою роль. А вот партийная работа отца не привлекала. Я чувствовал в его словах, в интонации, с которой он об этом говорил в последние годы жизни, критическое отношение к партработникам. И оснований у него для этого накопилось немало. Среди прочих — те партийные — именно и прежде всего по партийной линии — преследования в Днепропетровске, которые вынудили его круто ломать судьбу, менять место жительства.
Вернусь к трудовым будням Ярославского сельхозинститута.

Фотографии дают нам возможность увидеть как проходили заседания руководства в кабинете директора института в 1957 году (рис. 15). Второй слева, в центре за столом — директор института Герасимов. Справа от него стоит Н. И. Белкин, заместитель директора по научной работе; далее вправо — проф. Круглов Алексей Иванович, крайний справа — проф. Ильин Сергей Семенович. Слева сидит — проф. Трусов Сергей Михайлович.
В семейном архиве уцелело немало разных записок, тетрадок и прочего, что сопровождает работу преподавателя. По некоторым из них можно судить, скажем, об отношении к бумаге, тетрадкам и прочим самым обычным вещам. В условиях послевоенного восстановления экономики многого из этих «обычных» вещей не хватало, бумагой дорожили. Даже официальные документы — приказы, справки, удостоверения и пр., печатали на половинке листа писчей бумаги, если текст можно было уместить. Самостоятельно сшитые тетради тоже не были редкостью. Сохранился, например, журнал успеваемости студентов по курсу «Агрохимия. Практические занятия», сделанный отцом из листов бумаги, сшитых вручную нитками (рис. 16).
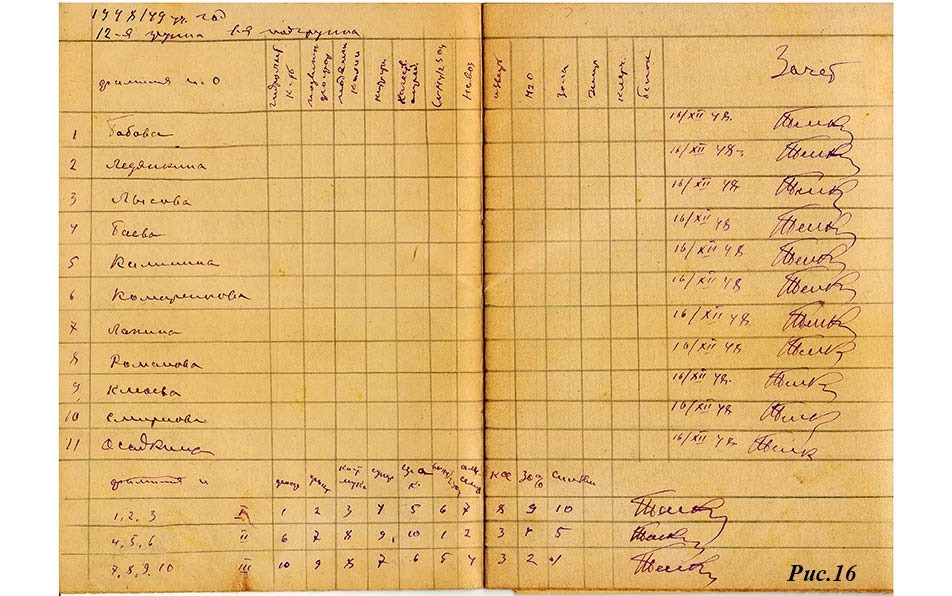
Теперь, спустя семь с лишним десятилетий, разглядывая эти старые бумажки из семейного архива, понимаешь — как много за этим стоит, если отнестись к ним с интересом и любовью. Эти музейные артефакты способны воскресить связанные с ними события, реалии, переживания. Отношусь к этим «ненужным бумажкам» как к семейным сокровищам, помогающим хранить любовь и гордость за своих предков. Соприкосновение с ними соединяет с той непростой жизнью, которую они прожили.

ЯСХИ обучал не только студентов. На регулярной основе действовали «Курсы председателей колхозов Ярославской области». Одна из групп сфотографировалась с руководителями и преподавателями института (рис. 17). В центре группы отец в элегантном сером двубортном костюме. Посмотрите на лица председателей колхозов: умные, приятные, располагающие к себе люди. Так их, во всяком случае, воспринимаю я. Отмечу, что фото сделано у входа в здание института.
Дух времени передают и виньетки — формальные композиции из фотографий выпускников и преподавателей, делавшиеся повсеместно «на память». В нашем архиве их сохранилось немало, думается, они представляют значительную документально-историческую ценность.

В качестве иллюстрации размещу здесь виньетку выпуска 1948–1953 гг. зоологического факультета (рис. 18). На ней можно увидеть лица не только студентов, но и профессорско-преподавательского состава, прочитать их фамилии (нижний ряд, к сожалению, срезан при сканировании), — такой информации нет пока в доступных мне материалах по истории института. В семейном архиве хранится ещё несколько виньеток разных лет. Перечислю их — для будущих возможных исследователей истории ЯСХИ, которым я смогу эти материалы предоставить:
— Четвертый выпуск ученых-агрономов 1947–1952 гг.
— Агрономический факультет, IX выпуск 1952–1957 гг.
— Агрономический факультет, выпуск 1954 г.
— Агрономический факультет, выпуск 1955 г.
— Пятый выпуск ученых-зоотехников 1948–1953 гг.
— Зоотехнический факультет, IX выпуск 1952–1957 гг.
— Зоотехнический факультет, выпуск 1954 г.
Интересны и фотографии, на которых запечатлены разные этапы исследовательской работы и учебного процесса (рис. 19–22). На фото 19, например, «собака Павлова» — учебно-исследовательский эксперимент по изучению условных рефлексов. На других фото можно увидеть студентов в лабораториях, запечатлен процесс изучения волокон льна и т. п.




Иллюстрацией к теме «учебный процесс» может служить и сохранившаяся тетрадка «Практические занятия по ботанике с 14/II по 20/II1948 г.» (рис. 23). Это тетрадь Людмилы Белкиной, моей мамы. Ещё в Днепропетровске она какое-то время училась в сельхозинституте. Позднее, имея уже двух детей, какое-то время пыталась продолжать образование, потом эти попытки прекратила, но иногда в анкетах в графе «образование» писала «незаконченное высшее» — в те времена это была официально разрешенная ступень подготовки. Тетрадь маме было, видимо, жалко выбрасывать — уж больно аккуратными выглядели сделанные в ней записи и рисунки, возможно приятна была и просто память о незавершенной попытке обучения.
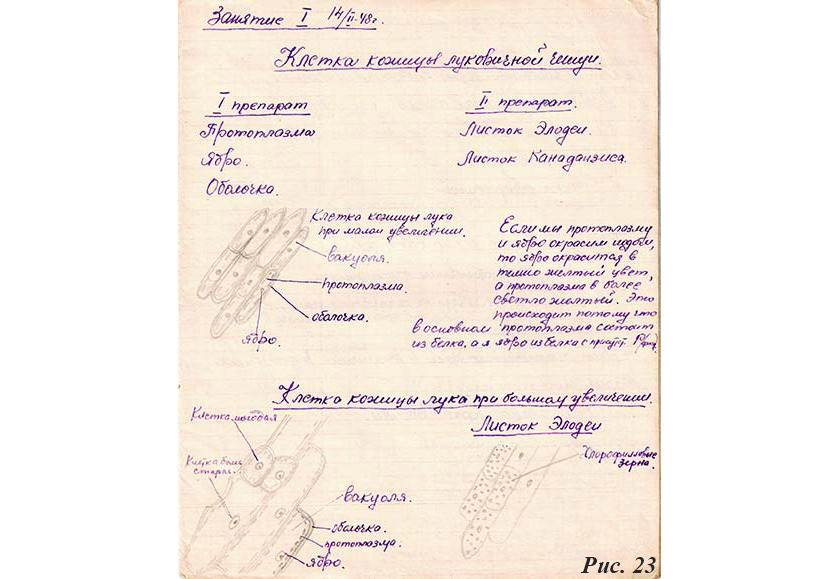
Направлениями научной работы отца были агрохимия — влияние удобрений на рост растений, их урожайность и пр., и физиология растений, в частности — проблема зимостойкости, ставшая темой его докторской диссертации. Исследования состояли в проведении экспериментов, призванных определить роль различных факторов в формировании тех или иных признаков и свойств растений. Эксперименты проводились на различных растениях, преимущественно сельскохозяйственных культурах. На одной из сохранившихся фотографий отец запечатлен среди высоких подсолнухов, которые, видимо, были одним из объектов исследования. Надо сказать, что для климатических условий Ярославля, подсолнухи выглядят действительно очень большими (рис. 24). Фото примечательно, в частности, и тем, что сделано 3 июля 1950 года: за 6 дней до моего появления на свет!

Выполняя административные обязанности — доцента, заведующего кафедрой и декана, — отец не прекращал научно-исследовательских занятий, работая над докторской диссертацией. Так, за два года — 1951–1952 — им написано четыре статьи. Две из них в списке трудов отмечены как «рукописные» (раньше это было принято), а две — опубликованы. Статьи «Тимирязев — великий ученый-дарвинист» и «Весенний уход за посевами» подготовлены в рукописном варианте, а «Политмассовая работа во время производственной практики» («Высшая школа», 1951) и «Ферментативные показатели зимостойкости озимых пшениц в связи с закаливанием и удобрением» («Биохимия», т. 16, вып. 6) — печатные. Две из них относятся, скорее, к педагогической деятельности, но две другие — к научно-исследовательской. Не стану здесь реферировать научные публикации, а вот о работе — докладе — подготовленном в порядке педагогической, политмассовой работы, расскажу. Назывался он «О долге советского студента».
Всякий, кто учился или работал в советском вузе, представляет себе чем была заполнена трудовая деятельность преподавателей и руководителей института. Жизнь регламентирована по дням и часам: существует расписание занятий, ему подчинено всё. Надо готовиться к лекциям и читать их, надо подготавливать лабораторные и практические занятия, затем проводить их. Надо также руководить курсовыми и дипломными работами, уделяя персональное внимание студентам и дипломникам. Кроме этого надо проводить исследования и эксперименты, писать научные статьи и защищать диссертации. Так что у добросовестного и продолжающего развиваться преподавателя свободного времени почти не оставалось. К таким — добросовестным и продолжающим развиваться — относился и отец.

В обязанности преподавателя входила просветительская и воспитательная деятельность. В институт приходили экскурсии школьников: на фото 25 — ученицы школы №37 г. Ярославля. Важной частью работы преподавателей было то, что называлось политико-массовой работой, так называемой политучебой. В каждой студенческой группе регулярно проходили политзанятия, на которых студенты по очереди делали доклады о текущем политическом положении, основываясь на материалах, опубликованных в газетах, прежде всего — в «Правде». Готовились и распространялись методические указания, брошюры и т. п. — «в помощь пропагандисту и агитатору». Время от времени поводились и большие собрания, на которых присутствовали студенты всего факультета. Они посвящались важным событиям: изучение материалов очередного партийного съезда или пленума, изучению речей партийных вождей и т. п. На таких собраниях, часто проходивших в формате «открытого партийного собрания» (то есть такого, на котором присутствуют не только члены партии, но и все остальные), выступали руководители института и приглашенные лекторы. Видимо, к одному из подобных собраний отец подготовил доклад «О долге советского студента», сделанный 26 марта 1951 года студентам агрофака. В архиве сохранился черновик, написанный на отдельных тетрадных листочках карандашом. Доклад целиком здесь приводить не буду (объем доклада — 56 страниц), приведу его фрагмент, показавшийся мне интересным и даже актуальным.
Американский образ жизни — вот идеал, к которому должны стремиться все государства, теряя свою национальную самостоятельность.
Американский журнал «Харперс Мэгэзин» опубликовал десять заповедей безупречного поведения государственного служащего. Эти заповеди полны горькой иронии: «Не ходи на собрания. В том числе и на танцы, чтобы тебя не обвинили в посещении антиправительственных сборищ. Не читай книг и журналов, даже географических. Для тебя будет безопаснее честно признаться, что ты не знаешь, где находится Россия и что она собой представляет… Не слишком критикуй фашистов и старайся избегать общества тех, кто откровенно высказывается на эти темы…»
Один из ученых — Торндайк — провел анкету среди студентов, преподавателей и безработных, окончивших колледж. С помощью анкеты исследовались виды страданий, неудач и лишений. <…> Вопросы, которые могут задавать только люди с американским образом мышления, настолько они умилительны и циничны: 1) За какую сумму вы согласились бы лишиться переднего зуба? — Преподаватели и студенты согласны за 5 тыс. долларов, а безработные — за 4,5; 2) За какую сумму вы согласились бы потерять всякую надежду на загробную жизнь? — Студенты и преподаватели согласны за 6,5 тысяч долларов, а безработные за… 50 (!) тысяч; 3) За какую сумму вы согласитесь потерять зрение? — Никто не согласился быть слепым ни за какую сумму; 4) За сколько бы вы согласились плюнуть на портрет своей матери? — Студенты и преподаватели согласны за 10 тысяч, безработные — за 25 тысяч долларов.
Очень выразительные примеры, а в докладе много подобных поучительных сведений. Когда-то мне, возможно, думалось, что эта американская анкета не претендует на слишком широкие обобщения, что американское общество не столь цинично в своем стремлении к обогащению. Сейчас, когда я увидел и узнал многое, в том числе и об американском обществе, я соглашусь с тем, что это вполне репрезентативная картина. Надо признать, что не только я, но и большинство людей моего поколения, прожив половину жизни при социализме в СССР, а вторую — при капитализме в России, поняли, что пропаганда об ужасах капитализма, которой нас пичкали в молодые годы, оказалась во многом правдивой.
Работа
К работе в Ярославском сельхозинституте отец приступил 1 сентября 1948 года, пройдя по конкурсу на должность заведующего кафедрой агрохимии. Через год — в августе 1949 года — назначен деканом агрономического факультета, оставаясь при этом и заведующим кафедрой. Спустя ещё год — назначен заместителем директора по учебной и научной работе. Соответствующие записи внесены в трудовую книжку, сохранилось и служебное удостоверение 1950 года (рис. 26–27). Интересно и фото, сделанное на работе (фото 28): отец пишет перьевой ручкой, на столе — чернильница-непроливашка.
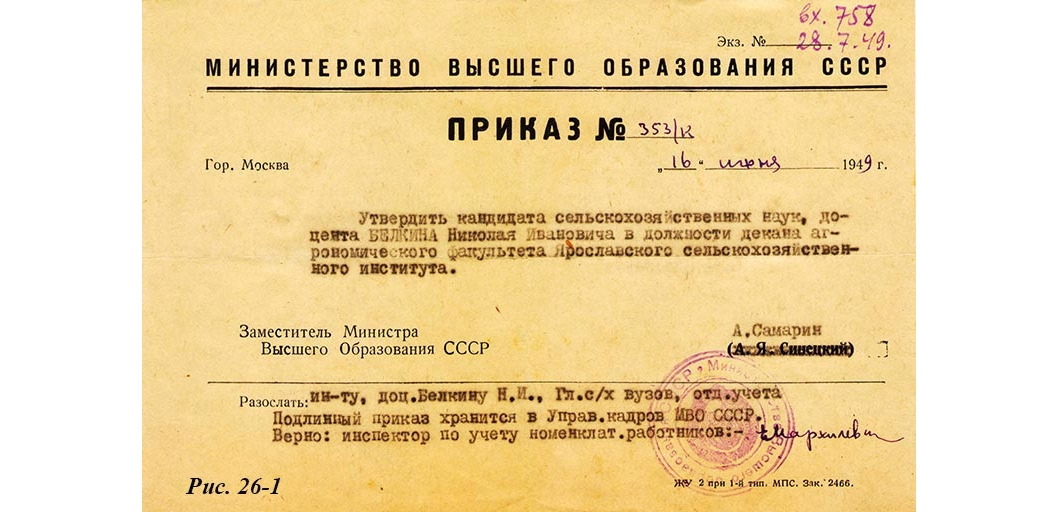
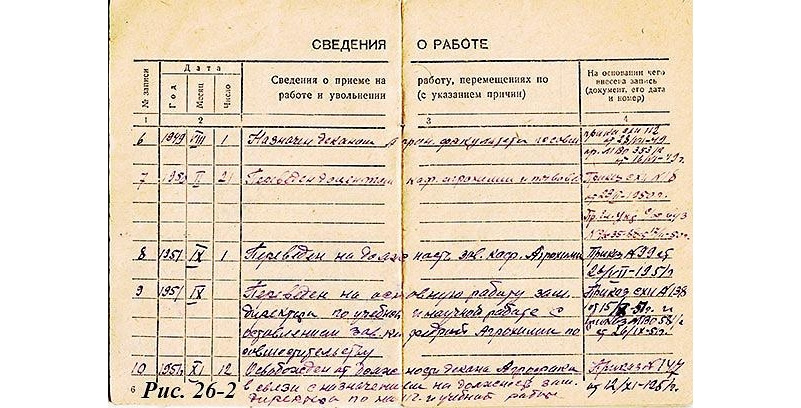


В эти годы отец стремился к завершению важного этапа научной работы: оформлению докторской диссертации. Материалов проведенных исследований было уже много, но для подготовки диссертационной работы к защите нужно было ещё немало потрудиться. Административная работа и учебная нагрузка этому, разумеется, мешали. Время на науку выкраивалось с трудом, поэтому естественной формой продолжения научной работы была бы докторантура. В период докторантуры с отрывом от производства докторанту выплачивалась стипендия в размере должностного оклада, но не более какой-то установленной суммы. Докторант при этом освобождался от своих должностных обязанностей и мог полностью сосредоточиться на подготовке докторской. При этом он брал на себя обязательство докторскую диссертацию в указанный срок полностью завершить и представить к защите. В архиве сохранилось заявление с просьбой о докторантуре. Вот его текст.
Директору Ярославского сельхозинститута тов. Герасимову К. П. от зам. директора по учебной и научной работе и зав. кафедрой агрохимии и физиологии растений, доцента Белкина Н. И.
Заявление
Прошу направить меня в 2-годичную докторантуру для окончания экспериментальной части и литературного оформления диссертации на тему: «Биохимическая характеристика зимостойкости озимых пшениц».
Из прилагаемого плана работы первая часть выполнена полностью, и результаты ее опубликованы; из 2-й части изучены только два сорта из 6-ти; третья часть не начата.
Учитывая сложность изучаемого вопроса, а также его новизну, считаю, что для окончания экспериментальной части и литературного оформления всей работы потребуется не менее двух лет.
Полученные мной результаты позволяют (с некоторым дополнением) разработать новый, оригинальный метод определения зимостойкости озимых пшениц (вероятно также и других растений). В первоначальном плане 4-я часть отсутствовала, поэтому эту часть следует рассматривать как дополнение.
Кроме того, сверх плана по данной теме исследовано влияние азота, фосфора и калия на зимостойкость озимых пшениц и вскрыта природа их действия.
28 мая 1955 года
Доцент Белкин Н. И.».
К этому прилагалась «Тема», «План работ» и «Характеристика». Сделаю несколько выписок из «Характеристики», составленной в 1951/1952 учебном году:
Белкин Н. И., 1902 г. рождения, русский, из семьи крестьянина, член КПСС с 1940 года, работает в Ярославском Сельхозинституте с ноября 1948 года в должности заведующего кафедрой агрохимии и физиологии растений, с августа 1950 года — в должности декана агрофака и зав. той же кафедрой, а с сентября 1951 года — зам. директора по учебной и научной работе и зав. той же кафедрой. <…>
Тов. Белкин оказывает постоянную помощь производству лекциями, статьями в областную газету, выступлениями по радио, многочисленными анализами почв и удобрений и т. д.
При постоянном усилии тов. Белкина Н. И. как зам. директора коллектив научных работников приступил к разработке комплексных тем большого значения, а институт положил начало регулярному изданию своих научных трудов.
Директор К. П. Герасимов
Секретарь парторганизации К. Ф. Новикова
К сожалению, отцу возможность уйти в докторантуру не предоставили, и пришлось продолжать совмещать большую учебную и административную нагрузку с работой над докторской. Это, разумеется, отдаляло сроки выхода на защиту и обретения ученой степени.

На фото 29 — отец за рабочим столом в своем кабинете. На переднем плане лежит толстая книга — это переплетенная машинописная рукопись докторской диссертации под названием «Зимостойкость растений». Название диссертации потом придется изменить, а под этим названием выйдет монография, но произойдет это только лет через десять.
На обороте фотографии (рис. 30) мама описала должностной рост отца, — думаю, фиксировала просто «для памяти».
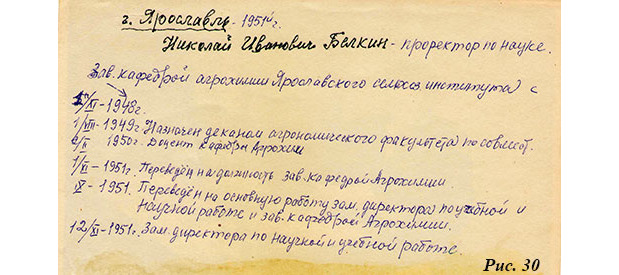
Приведу ещё две фотографии (рис. 31 и 32). На первой — отец за столом лаборатории, на второй — выступает на конференции. В те времена ещё не были распространены слайды и проекционная аппаратура. Все, что надо, делалось вручную в виде бумажных плакатов, прикрепленных к деревянным рейкам. Такой плакат, снабженный веревочкой, можно было подвесить или держать в руке — как отец на фото. Все плакаты, а также реечки и веревочки отец делал сам. Потом то же самое, когда пришло время, делали и мы — Павел, Саша и Сережа.
Совсем ещё маленьким ребенком я запомнил номер рабочего телефона отца, помню его до сих пор: 2-41-12. И позволял себе иногда звонить папе на работу, хотя это в семье не поощрялось, родители учили, что: телефон для деловых разговоров, а не для болтовни. Ещё я любил бывать у папы на работе, но это случалось нечасто. Однажды, помнится, я просидел целое партийное собрание — видимо, меня некуда было деть, а в другой раз я сидел на папиной лекции. Про партийное собрание я запомнил только то, что длилось оно невероятно долго и меня все жалели, хоть я и сидел не один, а с мамой (она тоже была членом партии и присутствовать на собрании была обязана), а про лекцию запомнилось только внимание ко мне со стороны студентов, больше — студенток.

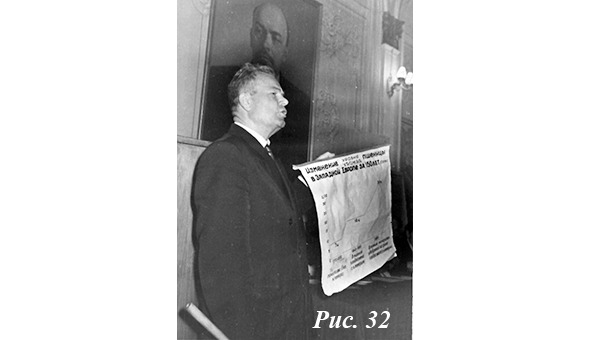
Отцу всю жизнь приходилось много ездить. Да и всей семьей мы ездили немало. Странным образом в семейном архиве сохранились железнодорожные билеты разных лет. «Странным», потому что большинство людей подобные вещи не хранит. Во всяком случае, не хранит их десятилетиями, перевозя с собой из города в город. Но у нас в семье немало подобных вещей. Главным собирателем и хранителем архива была, конечно, мама. Вряд ли у нее имелось осознанное стремление к созданию семейного архива, скорее, это просто проявление черты характера: ничего не выбрасывать «на всякий случай». Одно могу сказать: подобное — иррациональное — отношение ко всякой бумажке передалось и мне: берегу все. И вот теперь, рассматривая многое из нашего архива, в частности, — эти билеты, — без всякого самооправдания считаю их интересными документами эпохи, вполне заслуживающими и коллекционирования и музейного хранения. Из многих хранящихся билетов на рис. 33 детские билеты 1948 года: Днепропетровск-Ярославль через Москву. На них имеются все полагающиеся штампы, подписи и пробивки компостеров. Видимо, это билеты Павлика. Есть билеты на поезд Москва-Владивосток, причем сидячие. Это, скорее всего, поездки поездом дальнего следования до Костромы. Имеется и квитанция за штраф 10 рублей, взысканный на Ярославском вокзале «Всполье»: за провоз излишней ручной клади.
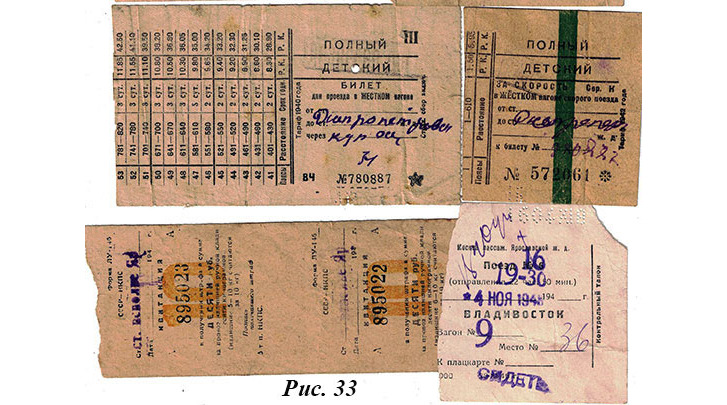
Иногда случайная запись в блокноте может рассказать очень многое — и о времени, и о людях. Вот, например, запись о расходах из записной книжки отца. Запись без даты, но по косвенным признакам я отнесу ее к началу 1950-х годов. Видимо, она велась в одной из командировок:
Билет — 121, обед — 14, транспорт — 2, блокнот — 4, обед — 12, курица — 13, портвейн — 38, колбаса — 22, кино — 6,5, книги — 20, пиво+закуска — 8, билет — 84, перчатки — 10, постель — 20, транспорт — 3, театр — 64, щербет — 4, вино — 36, дорога — 23, обед — 9.
Цифры — это цены в рублях. Итого за командировку — 513 руб. 50 коп. Поразмышляю. «Билет», — думаю, железнодорожный, а «транспорт», — видимо, трамвай или автобус. Обращаю внимание на спиртное: отец никогда не был замечен в пристрастии к выпивке. Тем не менее, видим, что он употребил и «портвейн», и «пиво», и «вино». На втором месте по стоимости после железнодорожного билета — театр!
Для справки: средняя зарплата по стране в послевоенные годы была около 650 руб. в месяц — примерно как до войны. Зарплату отца я не знаю, но она была больше средней по стране. Заглядывая в доступные интернет-источники, получаю примерную оценку: доцент института — 800–1000 рублей в месяц. Пишут, что в 1946 году произошло повышение зарплат — и в среднем по стране, и для лиц с высшим образованием. Скажем, зарплата доцента, кандидата наук возросла до 3000 руб.; профессора, доктора наук — до 5000, директора института — до 8000 руб. Известно, что зарплата Сталина составляла 10 тысяч рублей в месяц.
Из сохранившихся документов того времени приведу приказ, в очередной раз утверждающий отца в должности заведующего кафедрой. Дело в том, что каждые, кажется, пять лет надо было заново проходить конкурс на заведование кафедрой: подавать соответствующие документы, представлять их на утверждение и пр. С какого-то момента заведующий кафедрой становится «исполняющим обязанности»: прежний срок утвержденной должности истек, а новый ещё не наступил. Вот и выпускается соответствующий приказ об утверждении «исполняющим обязанности» заведующего кафедрой (рис. 34).
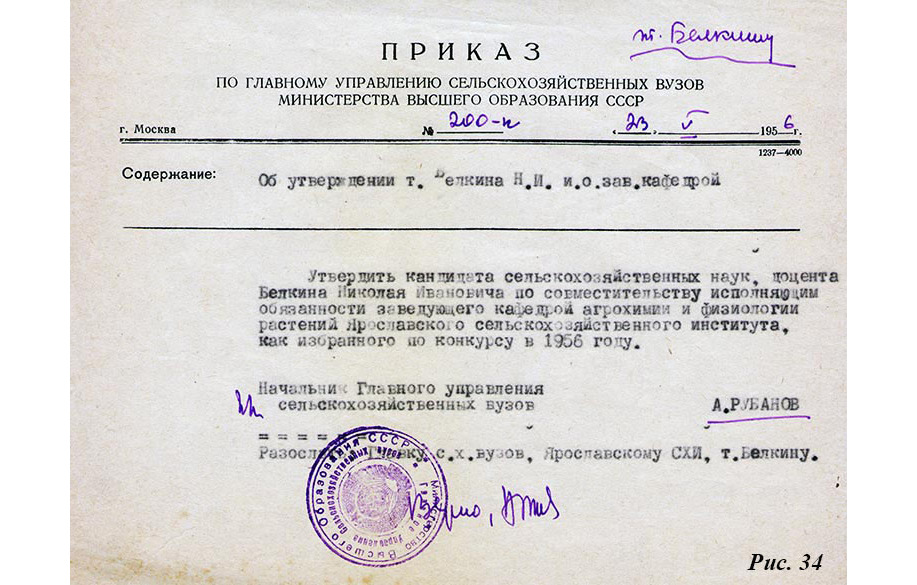
Весной 1956 года казалось, что докторская диссертация уже скоро будет представлена к защите, и впереди ещё много лет нормальной плодотворной работы: отцу ещё только 54 года! Да и в стране уже началось то, что впоследствии назовут оттепелью: только что прошел знаменитый ХХ съезд партии, породивший, наряду с разочарованиями, и позитивные ожидания. (Подробнее об этом я пишу в заключительном разделе «Хроника страны и мира». )
В июне 1956 года в Москве, в Большом Кремлевском дворце прошло Всесоюзное совещание работников сельскохозяйственной науки, в котором отец принял участие. Это было весьма представительное и торжественное событие. Сам факт его проведения Большом Кремлевском дворце говорил о его высоком статусе. Совещанию предшествовали важные дела: в апреле с поста Президента ВАСХНИЛ был снят Т. Лысенко. К сожалению, потом он снова обрел покровительство Хрущева и вернулся и на свою должность и к своей пагубной для науки деятельности, но тогда, в июне 1956 года многое представлялось оптимистичным. С критическим по отношению Лысенко докладом выступил министр сельского хозяйства В. В. Мацкевич, буквально в дни работы Совещания прошло заседание Президиума Академии наук СССР, принявшее решение о создании в составе Института биологической физики АН СССР лаборатории радиационной генетики, заведовать которой ею поручили Н. П. Дубинину — активному оппоненту Лысенко. В течение года стали выходит статьи, поддерживающие развитие генетики, опубликован перевод статьи Френсиса Крика о строении ДНК.
Совещание сыграло свою важную, позитивную роль. Отмечу, что в президиуме Совещания присутствовали Л. И. Брежнев, Н. В. Цицин, С. М. Буденный, А. Ф. Иоффе, Т. С. Мальцев, А. Н. Несмеянов, Л. А. Орбели — политические и научные «тяжеловесы».
В нашем домашнем архиве сохранился Пригласительный билет отца — участника Совещания (рис. 35). Есть и фото связанного с этими переменами события местного масштаба: участники конференции, посвященной решениям ХХ съезда КПСС в области сельского хозяйства, прошедшей в том же году Ярославле (рис. 36).


Бурных — драматических! — событий в отечественной сельскохозяйственной науке и после 1956 года было немало. Лысенко то «восходил», то «закатывался». Но не одна лишь «лысенковщина» сотрясала сельхознауку и образование.
Летом 1956 года мало кто знал, что Ярославскому сельхозинституту жить осталось недолго: через год он будет ликвидирован: рассказ об этом впереди. А пока институт включается в «выполнение решений партии», направленных на развитие сельского хозяйства. В это время активно внедряются новые методы экономического стимулирования. Министерство сельского хозяйства проводит в апреле 1957 года Производственно-экономическую конференцию в ЯСХИ. В бумажном издании приведена копия Программы конференции, представляющая интерес для историков науки.
Семейная библиотека
Надо отметить, что отец был весьма образованным человеком. Он всегда много читал, всю жизнь собирал домашнюю библиотеку. Вернее — домашние библиотеки. О судьбе довоенной библиотеки я писал во втором томе. После войны он принялся снова покупать книги. Эту любовь к книгам и стремление к воссозданию домашней библиотеки в полной мере разделяла и мама. Она с самого раннего детства приучала нас не только читать и любить книги, но и пользоваться словарями и энциклопедиями. Буквально настольной книгой для каждого из нас стал четырехтомный «Словарь русского языка» под редакцией проф. Ушакова. На всю жизнь и я, и мои братья запомнили надписи на корешках каждого тома: «А–КЮРИНЫ», «Л–ОЯЛОВЕТЬ», «П–РЯШКА», «С–ЯЩУРНЫЙ». Каждый том был надписан мамой еще до войны: «Л. П. Христофоровой». Кроме того, в одном из томов хранился плакат времен Великой Отечественной войны. Он оказался там, видимо, случайно, но остался как объект архивного хранения. Это известнейшая работа Корецкого «Воин Красной армии, спаси!» Там нарисована женщина, прижимающая к груди ребенка, на которого направлен немецкий штык со свастикой. Я искренне, по-настоящему боялся этого плаката — как жуткой возможности наступления изображенного на нем события непосредственно со мной и мамой. Мы также часто пользовались «Энциклопедическим словарем» Ф. Павленкова 1907 года издания. Вспомнив о нем, приведу здесь статью о Ярославле и фото разворота страниц словаря (рис. 37):
Ярославль — губ. гор. Ярославской губ.; 70½ т. ж.; 50 учебн. заведений, в т. ч. Демидовский юридический лицей, кадетский корпус, развитая фабрично-заводская промышленность (бумагопрядильная, мукомольная и пр.); свыше 80 фабрик с производством на 25½ мил. руб.; общ. взаимн. кредита, гор. общ. банк, гор. ломбард.
Сведения, думается, не только любопытные, но и полезные.
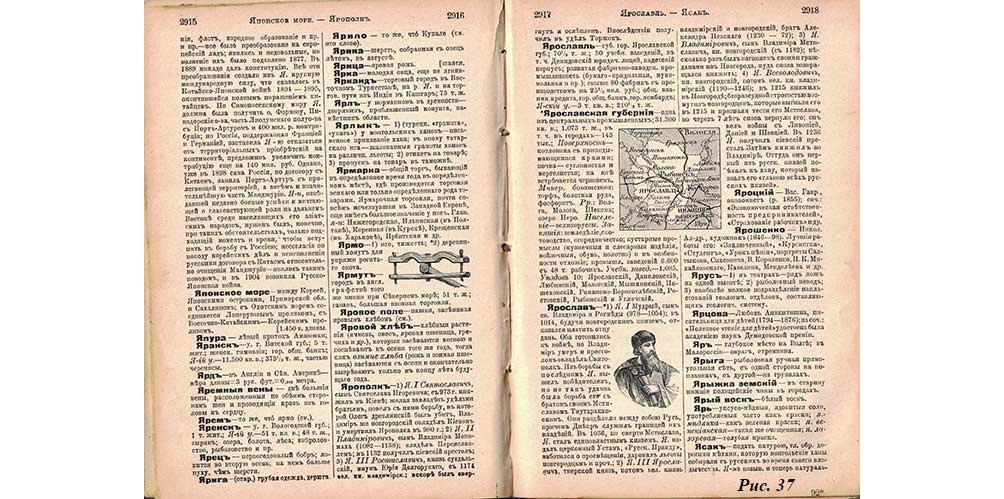
В доме были и другие энциклопедические издания, например, трехтомный «Энциклопедический словарь», изданный в 1953–1955 годах издательством «Советская энциклопедия». Особой ценностью была и остается «Литературная энциклопедия», выходившая в 1920–1930 годы (рис. 39).
С детства перед нашими глазами были отцовские книги по философии и истории науки. Часть из них была впоследствии прочитана, некоторые все ещё ждут своей очереди, но многие из них и сейчас со мной. Назову некоторые из числа довольно редких изданий.
1. Г. Ф. Г. Гегель. Философия духа. — Москва, «В Типографiи Семена», 1864 год;
2. Ф. В. И. Шеллинг. Система трансцендентального идеализма. — Москва, «Соцэкгиз», 1936;
3. I. Г. Фихте. Избранные сочинения, т. 1. — Москва, «ПУТЬ», 1916;
4. Франциск Бэкон. Новый органон. — Ленинград, «Соцэкгиз», 1935;
5. Ренэ Декарт. Космогония. — Москва, ГТТИ, 1934 (рис. 38);
6. Гегель. Философия природы. — Москва, 1934;
7. Поль Таннери. Исторический очерк развития естествознания в Европе. — Москва, ГТТИ, 1934;
8. Э. Геккель. Мировые загадки. — Москва, 1935;
9. А. Л. Погодин. Почему не говорятъ животныя. — Москва, Издательство М. О. Вольфъ;
10. Очерки исторiи естествознания в отрывках изъ подлинныхъ работъ. — Санкт-Петербург, 1897;
11. Ю. Липперт. Исторiя культуры. — Санкт-Петербург, 1889;
12. Э. Геккель. Естественная исторiя мiротворенiя. — Лейпциг — Санкт-Петербург, «Мысль», 1908;
13. В. В. Лункевич. От Гераклита до Дарвина. — Том 1, 1936; Том 3, 1943;
14. Ф. Энгельс. Диалектика природы. — 1936;
15. Эразм Роттердамкий. Похвальное слово глупости. — Москва–Ленинград, Academia, 1932.
Некоторые книги, к сожалению, утрачены. Например — «Вымершие чудовища» Гетчинсона с изображениями динозавров, ихтиозавров и прочих. В семейный эпос эта книга вошла как любимая у маленького Сашеньки: он ее часто требовал как награду или поощрение за что-нибудь.
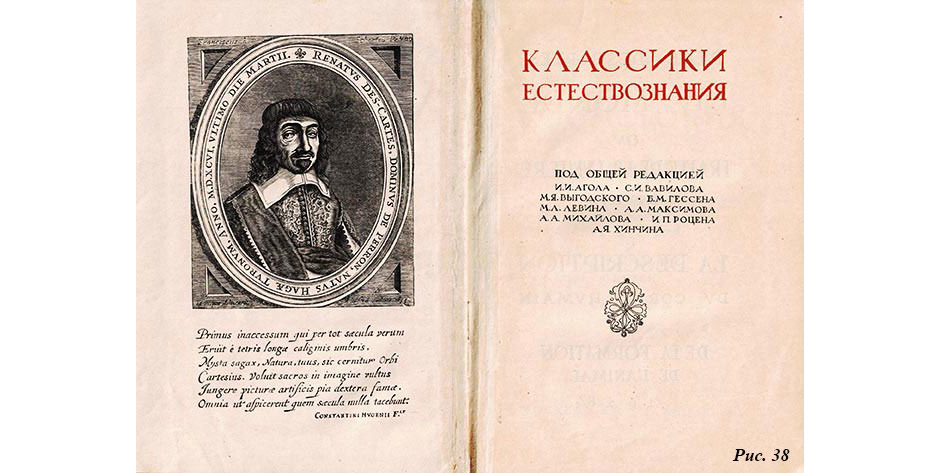
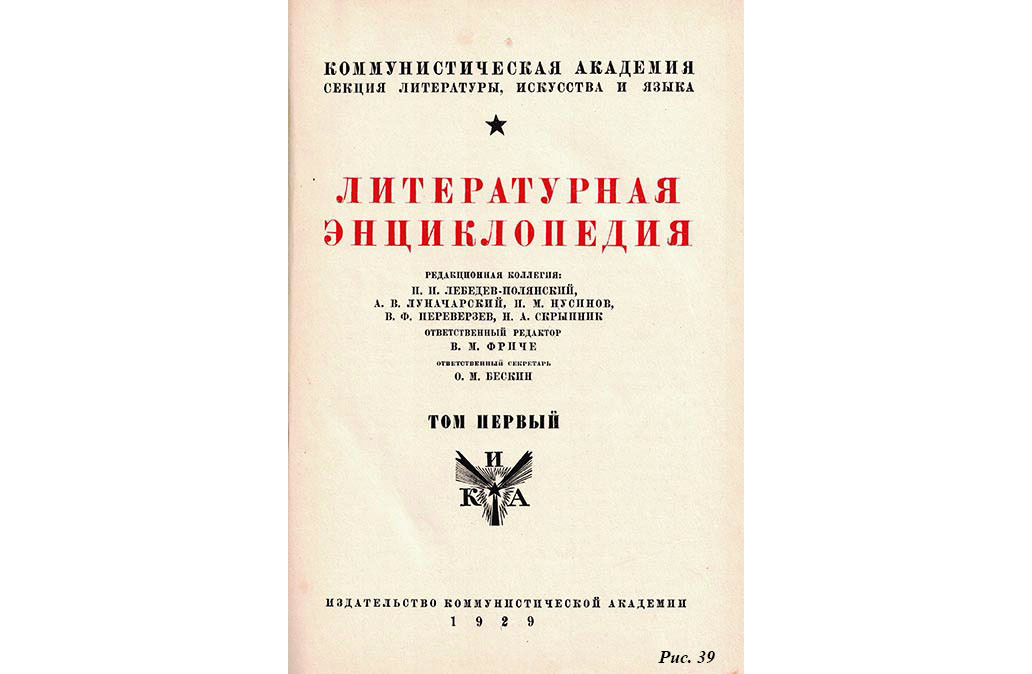
Хочется также упомянуть некоторые книги отца научного содержания, среди которых были и те, которые удалось вновь обрести после утраты в ходе оккупации Днепропетровска. Оставленная там библиотека была разграблена, но некоторые книги после войны удалось найти в местных букинистических магазинах и опознать по штампу-экслибрису «Н. И. Белкин»: П. Маевский. Флора Средней России. — Москва,1918; В. Н. Любименко. Курс общей ботаники. — Берлин, 1923; А. Е. Ферсман. Химия мироздания. — Петроград, 1923; И. И. Котюков. Физическая химия. — Томск, 1930; Д. И. Менделеев. Основы химии. — Москва–Ленинград, 1931; С. Глесстон. Успехи физической химии. — 1936. Вспомню и новые, послевоенные книги: А. Л. Гурвич. Теория биологического поля. — Москва, 1944; Г. Д. Смит. Атомная энергия для военных целей. — Москва, 1946; И. В. Мичурин. Сочинения в 4-х т. — Москва, 1948; П. П. Митрофанов, С. Е. Северин. Учебник физической и коллоидной химии. — Москва, 1948; П. А. Костычев. Избранные труды. — Москва, 1951.
Помню, как мой детский интерес вызывали сочинения Мичурина: там были цветные иллюстрации выведенных новых сортов слив, вишен, яблонь, груш. До сих пор перед глазами картинка «Бере зимняя Мичурина», а рядом с ней аппетитнейшая «Бере рояль»…
Перечисленные книги — лишь небольшая часть того, что стояло на полках у отца. Значительная часть научной библиотеки отца была им в конце жизни передана на кафедру почвоведения и агрохимии Кишиневского госуниверситета.
Библиотека художественной литературы восстанавливалась после войны медленно, хорошие книги не так-то просто было купить. Первоочередное внимание уделялось русской классической литературе. Из Днепропетровска был привезен Пушкин — известный однотомник большого формата, изданный в 1936 году, а также четвертый том из шеститомного собрания сочинений Пушкина — письма. Из старых книг сохранились, например, «Стихотворения» С. Я. Надсона — роскошное издание 1912 года в красном «сафьяновом» переплете, «Рудин» Тургенева без обложки, «Ярмарка тщеславия» Теккерея 1933 года издания, второй том «Русских сказок» под ред. Азадовского издательства Academia 1932 года, «Огонь» А. Барбюса 1935 года. Сохранилось несколько маленьких дешевых брошюр типа: Шарль Диль «Византийские портреты» книгоиздательства «Польза» 1913 г., Ги де Мопассан «Бродяга» издательства «Сеятель» или изданная в 1943 году «Зоя» Маргариты Алигер. Уже после войны были приобретены собрания сочинений Горького, Гоголя, Тургенева, Лермонтова, Белинского, Писарева, однотомники Островского, Грибоедова, Тютчева, Фета и многие другие. По крайней мере, все годы обучения в школе ни я, ни мои братья не только не прибегали к помощи библиотеки, но и обеспечивали произведениями, которые надо было прочесть «по программе» всех друзей, соседей и т. д. Когда в начале шестидесятых годов маме — с огромным трудом — удалось оформить подписку на ныне знаменитое издание «Библиотека всемирной литературы» в 200 томах, папа внимательно просмотрел проспект издания и, к моему огромному изумлению, прокомментировал все (!) произведения, включенные в это издание. Он их не только читал, но и судил о том, оправдано или нет включение именно этого, а не другого произведения того или иного автора в «Библиотеку». И пусть мое удивление и восхищение не покажется наивным. Книгочеев и эрудитов у нас в стране достаточно, но не каждому выпал столь сложный и тернистый путь к образованию и культуре, как моему отцу, начавшему процесс чтения только в 18 лет: до этого он грамоты не знал.
Книги в нашей семье всегда играли очень важную роль. Все любили читать, и были приучены бережно относиться к книгам. Каждый из младших братьев Белкиных читал книги, ранее прочитанные старшим братом, книги, как правило, оставались целыми, чистыми, хотя бывали и исключения. Несколько книжек подверглись раскрашиванию цветными карандашами. В сказках Андерсена, например, расцвечивали одежду персонажей, зелень деревьев, черепичные крыши. Так поступать не полагалось, мама за любые попытки что-то подчеркнуть или пририсовать ругала, но, видимо, в отношении некоторых книг — допустила. Особо бережно относились к подарочным изданиям — таким, например, как «Руслан и Людмила» с иллюстрациями Николая Кочергина. Каждая картинка неоднократно рассматривалась, обсуждались детали. Руслан, Рогдай, Черномор, Наина, Фарлаф… Именно эти образы всех персонажей навсегда для меня остались «правильными». К таким же каноническим образам относятся, скажем, иллюстрации А. М. Лаптева к «Приключениям Незнайки и его друзей». Знайка, Незнайка, Гусля, Цветик и прочие малыши и малышки остались в памяти как единственно возможные образы персонажей, ставших в детском сознании практически реальными существами (рис. 40). Ещё одна книга — «Приключения Буратино» с иллюстрациями А. Каневского — сформировала первые образы Буратино, Мальвины, пуделя Артемона, папы Карло и прочих персонажей. А иллюстрации Конашевича и Васнецова, Лебедева и Чарушина! Много, очень много других детских книг из семейной библиотеки я должен был бы вспомнить, если бы стремился к полноте описания. Но я к этому не стремлюсь и ограничусь упоминанием еще некоторых книг, имевшихся дома в пятидесятые годы. Например — «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера с иллюстрациями Е. Кибрика издания 1948 года. Эту роскошную книгу мы с братьями очень любили. Любимы были и «Робинзон Крузо» Д. Дефо с иллюстрациями Жана Гранвиля 1954 года издания, и «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 1955 года издания с иллюстрациями П. Луганского… К этим и другим подростковым книгам я пришел чуть позже, а в пятидесятые моя библиотека состояла в основном из сказок.


Зачитанные до полной обтрепанности «Сказки братьев Гримм» 1951 года издания с иллюстрациями В. Н. Минаева — из тех книг, которые аккуратно раскрашивать цветными карандашами разрешалось. Подобная ей по древности и ветхости книга — «Сказки» Г. Х. Андерсена 1943 года с рисунками В. Конашевича, которые тоже частично подверглись раскрашиванию (рис. 41). Обе эти книги мною сохранены. Стоят на полке и некоторые другие: «Русский богатырь Илья Муромец» (1952), «Стихи и сказки Пушкина» из серии «Школьная библиотека» (1955), «Индийские сказки» (1955), «Маленький Мук» В. Гауфа (1955), «Сказки разных народов» (1958), «Английские народные сказки» (1957), «Туркменские сказки об Ярты-Гулоке» (1956), «Итальянские сказки» (1959). Любил я и книгу Т. Габбе «Город мастеров» (1958) с пьесами «Город мастеров», «Хрустальный башмачок», «Оловянные кольца», «Сказка про солдата и змею», «Авдотья Рязаночка». Многие эти пьесы широко шли в театрах страны, по ним снимались кинофильмы, но для меня долгие годы первым и единственным впечатлением были прочитанные пьесы, а не увиденные спектакли или фильмы. Полагаю это очень важным и благотворным для развития интеллекта: кинообразы — это чужой продукт, он входит в сознание в готовом виде, процесс самостоятельной генерации облика персонажа и пространства, в котором он существует, на основе только текста — не возникает. А это очень важный процесс развития мышления. Вспомню ещё одну — неожиданную! — детскую книжку: «Кот в сапогах» Шарля Перро. Что тут неожиданного? — Только то, что она была на украинском языке и называлась «Кіт у чоботах».
В домашней библиотеке были, разумеется, русские классики — В. Жуковский, И. Крылов, Л. Толстой, Н. Некрасов, А. Чехов, Н. Лесков, А. Толстой, А. Куприн, А. Мамин-Сибиряк и др. Были дома, конечно, и многие книги «главных» советских писателей для детей: К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, В. Маяковского, Б. Житкова, А. Гайдара, Л. Кассиля, Л. Пантелеева, А. Рыбакова.
Я не стану перечислять все детские и подростковые книжки, которые были в нашей семейной библиотеке в тот — ярославский — период времени. Все я и не вспомню: многое утрачено (кому-то «дали почитать»), что-то сходу и не вспомнится, потому что хранится в семейных библиотеках моих братьев (теперь их детей и внуков). Но об одной книжке — вспомню, потому что это была, видимо, первая прочитанная мною самостоятельно книга: «Медведь — липовая нога». Книга — брошюра в мягкой обложке с колченогим медведем на обложке — не сохранилась. Но я помню, как ее читал, уже зная все буквы и умея складывать слова. Было мне тогда года четыре. В некоторых «сложных» случаях я подбегал с книжкой к маме или бабушке, мне подсказывали, как слово читается, и я прошел весь текст от начала до конца. До сих пор помнится зловещее «Скы́рлы, скы́рлы…» Знаю, что впоследствии был снят мультфильм по этой сказке, что сказку принято считать страшной и т. п. Но я страха при чтении в нежном дошкольном возрасте не испытывал, а мультфильма никогда не видел: он появился, когда я был уже взрослым.
Книги, которые ребенку читают в раннем детстве, по всей видимости, обладают особой ролью в формировании самых важных ценностей, которым человек руководствуется в дальнейшей жизни. Представления о добре и зле, о должном и недолжном, о надлежащем поведении и отношениях людей — вот что закладывается в первые пять-семь лет жизни. Спасибо родителям и братьям, окружившим мое детство замечательными, «правильными» книгами. Потом появлялись новые книги. Своим детям мы с женой тоже старались читать и рекомендовать как старые, так и новые книги — те, которые считали «хорошими». Хотелось бы, чтобы семейная традиция чтения детских книг сохранялась и в последующих поколениях.
Записные книжки
В семейном архиве хранится множество записных книжек и блокнотов разных лет — несколько десятков. На рис. 42 — лишь несколько из них.

Заглянем в одну из них: маленькую записную книжку в черном шелковом переплете с тисненым орнаментом в стиле модерн и надписью по диагонали Notes. На рис.42 она в левом верхнем углу. Фактуру тиснения по шелку, к сожалению, при воспроизведении передать не удалось. Это папина книжечка, заведенная, видимо, еще в довоенное время. К сожалению, ни одной даты с указанием года я в ней не обнаружил. Полистаем ее вместе.
Обращают на себя внимание записи, показавшиеся мне сперва непонятными: 1/1 Омск, вокзал 100/18; 1/2 Омск, вокзал внутр. 15/18; 1/3 Челяб. практ. стдтв.; 1/4 Челябинск вокзал 101/18 и т. п. Потом догадался: это записи объектов и условий фотосъемки. Подобные по смыслу есть и на других страницах (фото 43) — это сюжеты фотосъемки в Молоково: «гармонист», «хозяин», «художник», «мама стирает», «две Маруси идут», «Граня на работе», «бабы сжимают лен», «молотят», «Белкин Иван», «наш дом», «пруд в заулке», «пасека и отец», «Алексеевское», «Мама», ну и так далее. Часть из этих фотографий я впервые увидел только сейчас, когда оцифровал архивные пленки. Некоторые из них опубликованы в главе, посвященной Молоково.
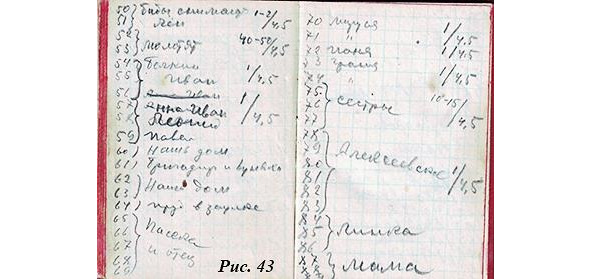
По всей книжке разбросаны имена и адреса: Галя, г. Томск, 2-я Вокзальная, №29, кв. 4; Одесса. Рождественский п., №10, кв. 9, Нутович Полина; Житомир, Хлебная ул., д. 46, т. Синюк Лина; Касса в Днепропетровске: телеф. 10—41; Киев, ул. Ленина, 46, ин-т УНДИСОС, Иван Леонтьевич Калоша. Что скрывается за этой звучной аббревиатурой — УНДИСОС — я не знаю, разгадать не сумел. Бо́льшая часть записей в книжках, конечно, рабочего, делового характера. Например: «Работа с солонцами только началась. Около 20% солонцов — гипс, доменный шлак (силикат Ca) известь, фосфорит на фоне навоза и без него». Далее формулы, схемы, цифры… Потом опять адреса: Квалификац. Комиссия НКЗ СССР, Покровские ворота, Колпачный пер., д. №5, во дворе; Москва 123, шоссе Энтузиастов, Владимирский поселок, городок ИТР, д. 6, кв.; Воронову.
Сейчас, когда я живу в Москве, эти адреса наполнены для меня зримым содержанием. Если в Колпачном переулке дома все те же, только хозяева в них сменились, то «Владимирского поселка» давно нет, есть несколько Владимирских улиц, плотно застроенных высокими жилыми домами. Заглянем в Колпачный и подивимся — порадуемся — и тому, что мы увидим, и той многосвязности нашей истории, которая производит порой мистическое впечатление свой цельностью, непрерывностью и непредсказуемостью. Скажем, указанный в записи отца адрес Колпачный переулок, дом 5 — это городская усадьба А. Л. Кнопа, куда батюшка ходил в некую Квалификационную комиссию Наркомата земледелия. Решил поинтересоваться, что это за здание, что там теперь. И вот что оказалось.
Усадьба построена в 1900 году по заказу Андрея (Иоганна-Андреаса) Львовича Кнопа, сына Иоганна Людвига Кнопа, переехавшего в Россию из Англии в 1839 году как представителя компании De Jersey&Co. С 1846 года Кноп занялся импортом английских паровых машин для текстильных фабрик, в чём достиг больших успехов, а в 1852 году основал «Торговый дом Л. Кноп». В 1877 году император Александр II за развитие русско-английской торговли жаловал Кнопу баронский титул, а его сыновья Андреас (Андрей Львович) и Теодор (Фёдор Львович) приняли российское подданство. Дела Кнопа шли исключительно успешно: его предприятие имело почти монопольное положение на российском рынке, а продажа оборудования на условии получения паёв к концу XIX века сделала его совладельцем более 100 мануфактур. В те годы широкое распространение получила поговорка «Где церковь, там и поп, а где фабрика — там Кноп».
Усадьба Андрея Львовича Кнопа была выстроена по проекту Карла Треймана в неоготическом стиле с элементами поздней английской готики. Главное здание было стилизовано под английский замок с гранёной зубчатой башенкой и щипцовыми фигурными завершениями, фасад которого был украшен щитами с баронскими гербами.
С началом Первой мировой войны Кнопы, наряду с немецкими предприниматели, попали под гонения. После революции 1917 года большинство представителей этого рода эмигрировали, другие были сосланы в Сибирь и расстреляны. Особняк Андрея Львовича Кнопа был национализирован, первоначально там располагалось представительство Украинской ССР, затем его сменил Комитет по высшему техническому образованию при ЦИК СССР, в здании располагалась приёмная председателя ГОЭЛРО Глеба Кржижановского. С 1936 года дом №5 по Колпачному переулку занял Московский городской комитет ВЛКСМ. После начала Великой Отечественной войны в 1941 году здесь принимали заявления от добровольцев, выдавали путёвки на фронт, формировали команды ПВО, санитарные дружины и отряды разведчиков и диверсантов, работавшие в тылу врага. В числе отправившихся отсюда на фронт были Зоя Космодемьянская, Наталья Ковшова, Мария Поливанова.
А что в этом «английском замке» в наши дни? В наши дни, увы, это здание не миновала участь быть «хапнутым» дельцами-узурпаторами: с середины 1990-х годов в особняке размещался дом приёмов компании ЮКОС, а потом и по сей день здание перешло в собственность некой «Глобал Риэлти», основным владельцем которой является кипрская офшорная компания… Так одна несправедливость — революционная «экспроприация экспроприаторов» 1917 года — спустя семь десятилетий сменилась новой несправедливостью: грабежом 1990-х. И если несправедливости 1917 года нередко искупалась переходом частной собственности в общенародную, переводом здания в общественное пользование, то гнусность алчного грабежа 90-х не имеет оправдания.
Вот так одна строчка — служебная — в отцовской записной книжке отозвалась эмоциями, ассоциациями, поиском информации.
Гуляя по Москве, едучи в метро, сидя в зале Большого театра, МХАТа или Консерватории, нередко задумываюсь о том, что здесь до меня бывал отец, смотрел на эти стены, эти дверные ручки трогала его рука, сидел на этом сидении он, тут, возможно, слушал Лемешева, Нежданову или Качалова… Отец часто бывал в Москве, любил театры, не упускал возможности посмотреть все, что было интересного в то время. Он видел и слышал всех знаменитостей драматической и оперной сцены, и это было важной частью его жизни.
Бывая на Садовом кольце рядом с Министерством сельского хозяйства, я тоже вспоминаю отца и особые лифты в этом ведомстве, двигающиеся без остановок непрерывной цепочкой кабинок без дверей: там я был вместе с папой. Лишь недавно я узнал, что лифт такой конструкции называется «лифт-патерностер»: от первых слов молитвы «Отче наш» (Pater noster), намекая на подобие лифта — четкам.
Отче наш, отче мой, отец мой… Я пытаюсь представить отца идущим или сидящим рядом со мной прямо сейчас, и мне это удается. Ясно вижу коренастого мужчину среднего роста с красивым русским лицом, зачесанными назад седеющими и редеющими волосами, в костюме, читающим газету сквозь очки… Я представляю его стоящим прямо сейчас за моей спиной: он молча смотрит на экран монитора, читает мною написанное, слегка улыбается и почесывает нижнюю губу… Мы не виделись вот уже более полувека. Но я не решусь спросить его, что он думает о написанном, побоюсь узнать, что он думает о том, как я прожил свою жизнь, о том, что я делал, сделал и делаю…
Во втором томе я описывал одну из служебных поездок отца во время войны, основываясь на его письме к маме. В одной из записных книжек — на фотографии она в верхнем ряду в центре — обнаружил ту железнодорожную схему его маршрута со станцией Бердяуш, которую пытался восстановить по описанию в письме (фото 44).
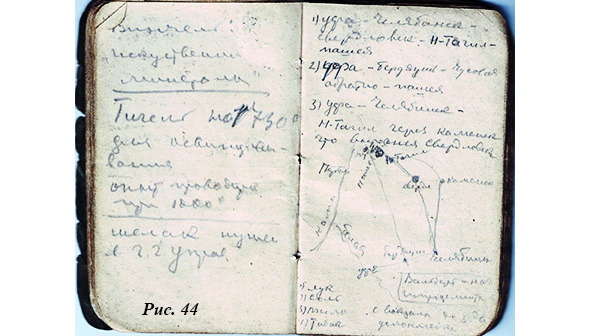
В записных книжках и на листочках, в них вложенных, наряду с адресами и телефонами разных людей и организаций встречается немало интересных записей. Вот, например, одна из таких.
Литература по курсу стилистики:
— Сталин. Вопросы ленинизма — главы о национальной культуре.
— Акад. Шахматов. Очерк современного русского языка.
— Ломоносов. Стихотворения. Под ред. акад. Орлова.
— Виноградов. Язык Пушкина.
Ну и так далее — Лафарг, Даль, Томашевский, Рыбников, Горький, Чехов и другие, всего 19 наименований. То есть к своим литературным упражнениям отец относился, как и ко многому другому, серьезно. Я бы сказал — академически. Столь же серьезно он, видимо, относился и к другому своему природному дарованию, хоть и не ставшему настоящим увлечением: рисунок и живопись. Вот список книг на страничке, вырванной из тетради. Называется он так: «Как пользоваться масляными красками».
— Д. Киплик. Техника живописи. М. 1950, изд-во «Искусство».
— А. Белютин. Начальные сведения по живописи. М. 1955, изд-во «Искусство».
— А. Белютин. Основы изобразительной грамоты (в 2-х частях). М. 1957, изд-во «Советская Россия».
— А. Винер. Материалы и техника живописи советских мастеров. М. 1958, изд-во «Советский художник».
— А. Винер. Как пользоваться масляными красками. М. 1951, изд-во «Искусство».
— А. Винер. Масляная живопись и ее материалы. М. 1951, изд-во «Искусство».
— Сборник статей по технике живописи можно приобрести, обратившись по адресу: Москва, Центр, ул. Кирова, 6, отдел «Книга — почтой».
Вывод из этого я делаю один: отец явно помышлял о том, что когда-нибудь он займется-таки живописью…
Как мне это напоминает самого себя, свои увлечения, намерения, не воплотившиеся фантазии… И нет у меня ни сожалений, ни тем более сетований на сей счет: да, многое и моим родителям, и братьям, и мне самому не суждено реализовать, хотя потенциал был и, что называется, «просился наружу». Но есть мечты и надежды, а есть — реалии текущих дел, задач, проблем… Талантливый, одаренный человек всегда переполнен мечтами и фантазиями, но лишь малой части из них суждено стать хоть в какой-то мере и форме осуществленными, материализованными. И это — нормально: мечты должны быть всегда, они сами по себе, оставаясь мечтами, стремлениями, попытками — ценность и двигатель жизни.
Во втором томе я приводил цитаты из романа, который отец сочинял во время войны. В одной из записных книжек есть запись структуры романа, его оглавление.
Уполномоченный обкома
(роман)
Пролог
1) Поручение
2) Приятные тревоги
3) Шаткая почва
4) Выдержка исчерпана
5) Перед пропастью
6) На все педали
7) Последнее средство
8) Точка опоры найдена
9) Подвижное равновесие
10) Иначе не должно быть
Эпилог
Названия глав говорят о том, что в сюжете романа имелись интрига, «двигатель», развитие… Мне нравятся названия глав, я бы их характеризовал одним словом: лихо! В духе времени и со знанием дела. Рукопись романа сохранена в семейном архиве, пока не расшифрована: ждет своего часа.
Привлекает внимание и запись о ценах на рынке. Предположительно это сделано в период эвакуации в Уфе.
1) Картофель 50 р/кг
2) Мука белая 250 р/кг
3) — {ˮ} — простая 125 р/кг
4) Масло топл. 700 р/кг
5) — {ˮ} — слив. 650 р/кг
6) Молоко 60 р/литр
7) Мясо скотск. 200 р/кг
8) — {ˮ} — свиное 350 р/кг
Базар:
1) Воскресенье — хорошо.
2) Понедельник — средне.
3) Пятница — плохо.
Оценки качества «базара» заслуживают внимания: отец интересовался — какой день «базарный», а какой — нет.
Встречаются в блокноте и записанные отцом наблюдения:
— Уфа. В столовой: — Приходите в августе, тогда накормим хорошо.
— В Иванове на вокзале человек сел за стол и потребовал от официанта: — Дайте рацион.
— Человек, загруженный чемоданами и другими вещами, бежит за трамваем. Ему очень неудобно, трудно, он бежит очень смешно, неуклюже. И это он чувствует. Очевидно, чтоб скрыть свою неуклюжесть и показать, что ему бегать — пара пустяков, он бежит и посвистывает. От этого он становится еще смешнее.
— Морщины, или длинными изгибами линии, как изображаются морские течения, с подворотом к уху, мимо его — до глаз. Глаза все окружены морщинками, лоб испещрен мелкими линиями. Их я насчитал 13. Высыхающие, бескровные губы…
— Что солиднее ему казалось: дать им 5 трешек или три пятерки? Он решил, что эффектнее будет, если он даст червонец и пятерку.
— Дубовые рощи на склонах в оврагах кажутся гигантскими лишайниками.
— Владикавказ. 31/VII в 7 утра вышел из дому, за час дошел до горы, за полчаса взошел, на ней сидел ½ часа.
Две записи вызвали у меня размышление. Первая: «1 кгр мяса съем — ещё одного сделаю, ½ бутылки водки выпью — ещё одного сделаю» — о чем это? Видимо, «подслушанное» в чьем-то разговоре. В другой записи зафиксировано великолепное выражение: «формантная глупость». Чтоб оценить ее неочевидную образность, надо знать, что такое «форманта»: это некая опорная, резонансная частота в звуковом спектре, она определяется геометрией и иными особенностями голосового аппарата вокалиста, и, в известной степени, является присущей ему индивидуальной характеристикой. Так что «формантная глупость» — довольно изящный образ, яркая метафора.
Наконец, запись какой-то, совершенно фантастической, поездки (рис. 45):
— Дорога:
18.07. Омск — Уфа 20.07;
21.07 Уфа 3 ч. ночи, до 24 ч. 22 мин. Мичуринск;
Мичуринск — Воронеж, 3,5 часа, выехал 25 в 8–40, приехал в 10–10 25-го.
Выехал из Воронежа 27-го в 19–45;
Приехал в Краснодар 28.07 в 12 час. дня;
Выехал в Орджоникидзе 29.07 в 9 ч. 10 м. вечера, приехал в Орджоникидзе 30.07 в 1 дня;
Из Орджоникидзе в Новороссийск выехал 1.08 в 7 ч. вечера;
В Новороссийск прибыл 2-го в 6 час. вечера;
Выехал 5.08 в 9 час. вечера в Симферополь, прибыл 7-го в 12 часов дня;
Выехал 8-го в 3 часа ночи в Одессу, приехал 9.08 в 12 ч.;
Выехал 12.08 в 10 ч. утра, приехал в Днепропетровск 13.08 в 3½ ч. ночи,
Выехал 16.08 в 9 ч. вечера, приехал в Белую Церковь17.08 в 10 ч. утра;
Выехал в Киев 17.08 в 5 ч. дня, приехал 17.08 в 11 ч. ночи.
Выехал из Киева в Полтаву 20.08 в 9 ч. веч., приехал в Полтаву 21.08 в 7,5 утра;
Выехал из Полтавы в Харьков 21.08 в 7 ч. веч., Приехал в Харьков 21.08 в 11,5 веч.;
Выехал из Харькова в Москву 23.08 в 6 ч. веч., приехал в Москву 24-го в 1 час дня. Выехал в Иваново 3.09 в 10 ч. 25 мин. вечера, приехал в Иваново 4.09 в 9 час. Утра;
Выехал в Кострому 5.09 в 9 ч. утра…
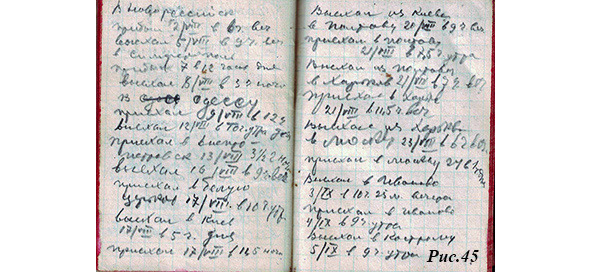
На этом запись обрывается. Но можно с уверенностью предположить, что и в Кострому папенька добрался, и из Костромы снова куда-то укатил. Что это было? — Не знаю… За полтора месяца объехал полстраны: 18 городов! Около 10 тысяч километров!
В архиве есть тетради с записями отца, озаглавленные «Литература», «Философия» и др. Сделаем выписки из тетрадки под названием «Изречения»:
— Несравненно легче быть добрым для всех, чем для одного.
— Действия женщины похожи часто на скачки блох: та же решительность и непоследовательность.
— Легче быть любовником, чем мужем, потому что труднее быть умным постоянно и каждый день, в то время как время от времени, урывками это возможно.
— Дружба двух женщин — ничего больше, как заговор против третьей.
Отец не указывал авторов изречений — видимо, он делал эти выписки исключительно для себя, находясь, похоже, в довольно игривом настроении. К сожалению, дат нигде нет.
Добавим выписки из тетради «Философии»:
— Истина заключена не в устах того, кто ее утверждает, а в предмете, о котором говорится. Хуан Уарте.
— Мнения правят миром. Дидро.
— Если немец не спасет современную культуру человечества, то вряд ли ее спасет другая европейская нация. Фихте.
Ну, и так далее. Записи сделаны карандашом, плохо различимы на рыхлой пожелтевшей бумаге, так что не всегда понятный папин почерк в этих тетрадях зачастую просто не читается. Я привел здесь выборочно те записи, которые смог разобрать, расшифровывая полуистлевшие буквы. В тетради их гораздо больше, но время их не пощадило.
Из маминой записной книжки можно тоже извлечь немало важных — для архивиста и мемуариста — сведений:
— День рождения Елены Ивановны Мусабековой 21 мая, а Нели — 31 марта.
— Маргарита Георгиевна Сташко родилась 26 июля 1870 года, а Елена Петровна Сташко — 7 июня 1912 года.
— Кирицев Вадим А. Москва 57, городок ВИЭМ, барак 6, кв. 24. Ехать метро до ст. Сокол и автобусом №20 до «Городок ВИЭМ», дома комсостава, бараки завода Энергоприбор, недалеко от магазина №6.
— Что нужно купить в сентябре: салфеток — для тумбочек; портьеру на дверь; занавесочку в кухню; скатерть для обеда, чая; занавески к кроватям 3 шт.
А вот запись о важном событии: «23 сентября 1954 года Павлик принят в пионеры» — вступление в политическую организацию не является банальным фактом!
Напоследок — ещё одна выписка. На этот раз не из стандартной записной книжки, а из «Полевого дневника» — существовало такое специальное полиграфическое изделие для научных работников, выпускаемое Академией наук СССР. Это книжечка в твердой обложке, формата 10 на 15 см, толщиной около сантиметра, страницы которой собраны из листов разных сортов: в клеточку, чистые, а также блок листов миллиметровки и блок — кальки. Вещь, надо сказать, просто отличная. На фотографии 42 она справа внизу в развернутом виде. В доме их было несколько, досталось по книжке и каждому из нас. «Дневник» отца полностью исписан именно «полевыми» записями: об удобрениях, почвах, растениях и т. п. Как всегда — много разных адресов — коллег, организаций и пр. Но на одной страничке перечислены адреса объектов, явно не связанных с наукой: Горького 56, «Пионер». Детский мир. Пассаж. Ленинский пр., 78. Арбат, 29. Пятницкая, 3.
Это — магазины. Видимо, у отца было семейное поручение что-то в Москве купить. Судя по наличию в списке магазина «Пионер» — в нем продавали все, что нужно любителям самоделок: конструкторы, инструменты и т. п. — нужно было приобрести что-то подобное. Скажем — пилочки для лобзика. Интерес представляет не перечень, а приписка, явно обращенная к самому себе: «Опять ты полез не куда тебе надо».
Журнал «Америка»
В первые месяцы 1957 года я впервые в жизни встретился с пропагандой американских ценностей. Дело в том, что именно тогда начал выпускаться и распространяться (только среди «начальников» не ниже определенного уровня) журнал «Америка». Папа относился к числу тех, кому такой журнал разрешалось получать, и он принес домой первые номера — с №2 по №6. В дальнейшем отец категорически отказался от журнала, характеризуя его как пропагандистский: «Слишком многое приукрашивают». Так оно, несомненно, и было. Думаю, однако, что в семьях будущих активистов перестройки этот журнал внимательно и трепетно читали вплоть до его (журнала) конца. И формировали свое «западничество» не без его влияния. (Это не чистое умозрения: я таких людей знал немало.) Американская пропаганда была довольно эффективной, свое дело делала и, в конце концов, сделала. СССР распался не по одной этой причине, но и не без влияния тех, кто видел в Америке одни достоинства, а в СССР — одни недостатки, к тому же — неисправимые. Уж не знаю, какова роль журнала «Америка» и моего «отлучения» от него, но при распаде страны я остался ее патриотом, а «дети всего Арбата» погрузив ее в хаос, не только успели при этом изрядно нажиться, но и активно формировали и распространяли неприязненное отношение к своей стране и ее истории.
Журнал, при всей моей критике его пропагандисткой направленности, был интересным, хорошо сделанным. Не скажу, что я многое в нем читал — и тогда, и впоследствии, — но картинки рассматривал с интересом, и от одного этого представление о США, конечно, становилось позитивным. Советская контрпропаганда, хоть и была по содержанию во многом правдивой, своих целей достигала далеко не всегда, да и доверие к ней со временем только снижалось. Теперь об этом говорят как о «проигрыше в информационной войне».

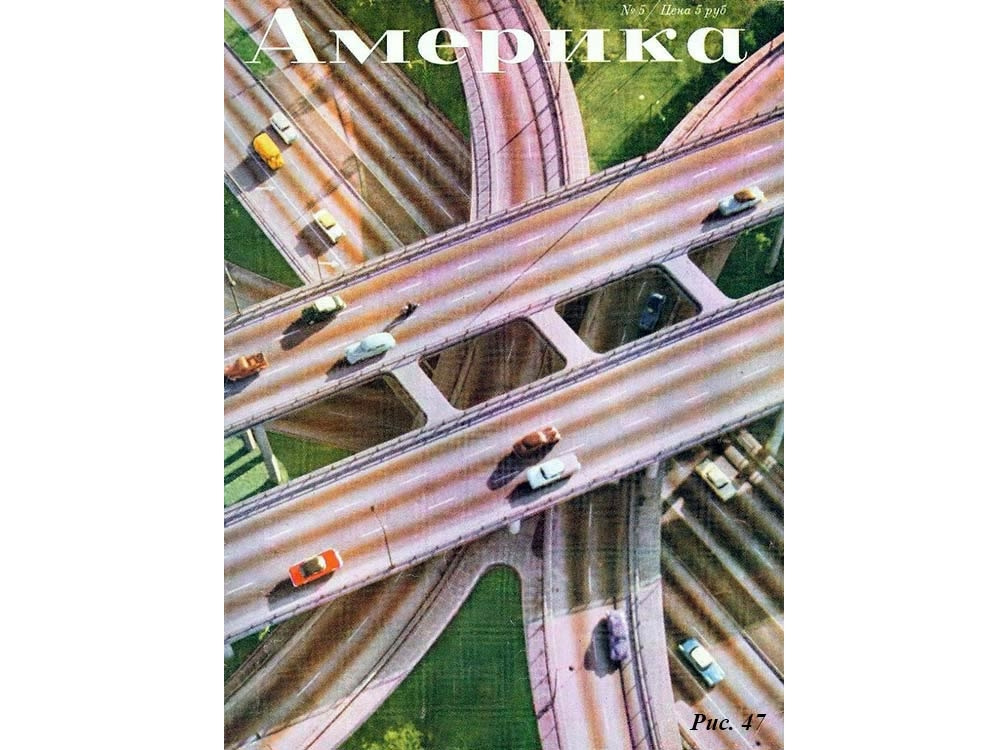
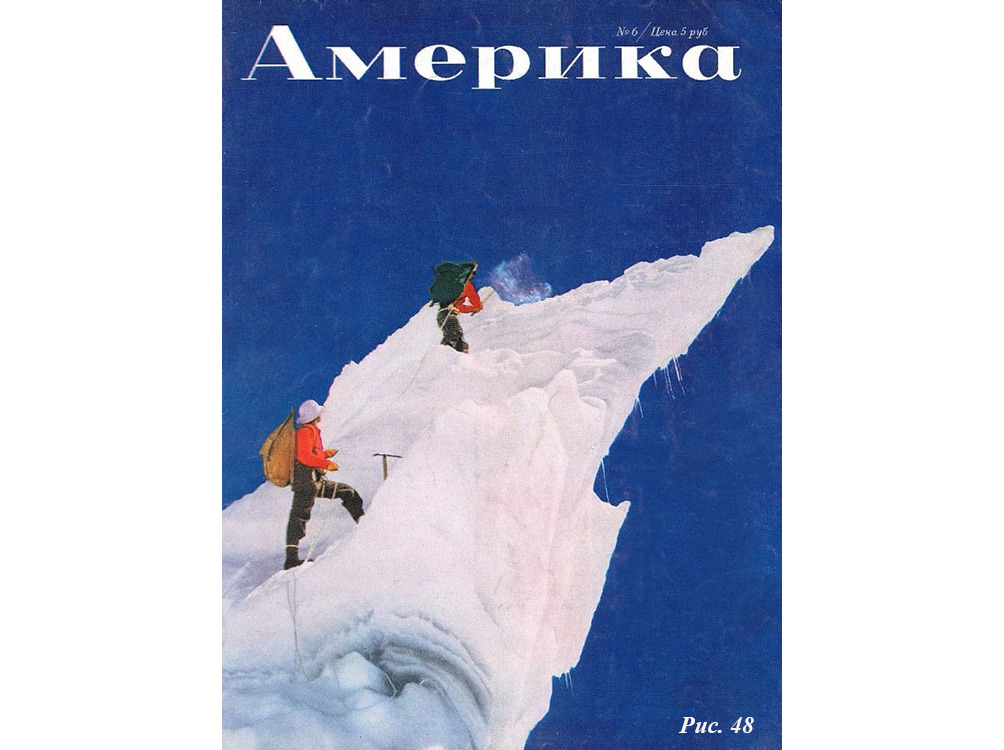
На рис. 46—48 обложки некоторых первых номеров журнала «Америка», попавших в мои детские руки. Они и сейчас выглядят впечатляюще, а уж тогда и вовсе как нечто исключительное. Эти и другие номера хранились у нас долгие годы, однако в результате переездов оказались утраченными… Полистай я их сейчас, возникло бы много ассоциаций. Но, увы — ничего, кроме моей памяти у меня не осталось. А в памяти лишь разрозненные имена, заголовки, картинки. Вспомню хотя бы о некоторых из запомнившихся.
Статья с картинками «Питер Пэн на цветном телевидении». Много ярких цветных фотографий телевизионной постановки незнакомой мне истории про Питера Пэна и прочих персонажей. У нас эта сказка — бродвейский мюзикл — не была известна, поэтому я лишь по картинкам догадывался о содержании. Там был мальчик Питер Пэн, который умел летать, крокодил, проглотивший будильник и много пиратов во главе с одноруким капитаном Крюком. Все это вызывало детский интерес, равно как и факт существования цветного телевидения: у нас оно появилось лет на десять позже.
Интересен для меня, ребенка, был и материал про Уолта Диснея с множеством цветных фотографий — как персонажей мультиков, так и процесса работы студии Диснея. Там было много совершенно незнакомых мне персонажей: Микки Маус, какие-то утята, кошки и собаки… Я тогда ещё не видел ни одного не то что диснеевского, а вообще никакого мультфильма. Кажется, один раз в клубе «Гигант» перед началом взрослого фильма показывали какой-то мультик (слова такого в моем обиходе не было), из которого мне запомнился дракон, испускающий лучи из глаз и пламя из пасти. Наверное, это был китайский мультфильм, впрочем, и в этом я не уверен. Так что знакомство с миром мультипликации в моей жизни началось с журнала Америка… В той статье были ещё и кадры из мультфильма «Петя и волк», что поставило меня в тупик: это же русское имя! Да и на картинках там стилизованные под каких-то русских бояр персонажи. Это было мне непонятно: выходит, в Америке делают русские фильмы? (На самом деле так и было: описывался диснеевский мультик на музыку и сказку С. Прокофьева.)
Запомнились и репортажные материалы, где говорилось о «простых американцах». Например, в статье «Работа, которой нет конца» рассказывается о бесконечной покраске одного из протяженных вантовых мостов (кажется, Сан-Франциско–Окленд): как только бригада завершит окраску, приходит время возвращаться в исходное место и снова красить, так за это время красочный слой успевает разрушиться и коррозия ускоряется. Или публикация про то, как «небоскреб одевается стенами за один день» с выразительными фотографиями процесса навешивания стеновых панелей на скелет небоскреба. Помню, что разглядывание лиц на фотографиях вызывало удивление: они, оказывается, «такие же, как и мы», — в прямом смысле физиономического и прочего сходства. Это не было до той минуты для меня несомненным фактом. Американцев в журнале «Крокодил» и в газетных карикатурах художника Б. Ефимова изображали иначе: мало на нас похожими. А тут, в журнале, нормальные, простые человеческие лица, обычная одежда, истоптанные башмаки у дедушки и бабушки, сидящих в креслах на веранде своего дома. Или репортаж о мальчике, который помогает своему отцу-фермеру, а дополнительно в его обязанности входит чистка обуви для всей семьи, за что он получает от отца небольшие деньги: сей факт производил сильное и неодобрительное впечатление. А мальчик хороший, и фотография, где он сидит в прихожей и начищает башмаки, — интересная. Вообще — дома и улицы разглядывать было очень интересно, а уже цветные фотографии (репортаж «Центральный парк в осенних красках» производил ошеломляющее впечатление) — и подавно. Рассматривать всякие машины и механизмы, независимо от их назначения было познавательно. Запомнилось имя одного из героев статьи о дизайне: Реймонд Лоуи. Имя «Реймонд» — меня смешило: почти «Ремонт». Запомнился и номер, в котором был материал под названием «Джаз в красках». Много забавных цветных фотографий совершенно незнакомых мне персон — «звезд джаза». Сейчас я уже могу описать эти картинки с именами: Чарли Паркер в шляпе с полями и с саксофоном, Дюк Эллингтон за роялем на фоне сидящих за пультами оркестрантов в белых костюмах, Дэйв Брубек — «един в двух лицах» (наложенные друг на друга изображения анфас и в профиль), Нат Кинг Коул — в смокинге, с бабочкой и белоснежной улыбкой… Была там и толстая негритянка с полузакрытыми глазами в ярко-красном платье, про которую было сказано, что «ее голос перекрывает джаз-оркестр с силой тромбона», — что казалось невероятным! Это была Элла Фитцджеральд. Среди прочего — большое цветное фото негра с надутыми щеками и выпученными глазами, дующего в трубу. Это был некий (тогда для меня именно — «некий») Луи Армстронг… Это имя мне ни о чем не говорило, но «рожа» запомнилась. Надо сказать, что этот номер «Америки» впоследствии продавался за большие деньги. Сейчас — за ещё бо́льшие. Жаль, что и он не сохранился: теперь это коллекционная редкость. Воспроизведу здесь это знаменитое фото Луи Армстронга, сделанное в свое время для обложки журнала «Лайф» (рис. 49).

Подводя итог воспоминаниям о журнале, повторю, что на мое отношение к Америке он повлиял. В долгой последующей жизни соответствующий раздел моего внутреннего мира, моей памяти пополнялся разнообразными сведениями об этой стране, включая и личные впечатления от ее посещения. Общая картина сформировалась весьма разнообразной и в информационном, и в эмоциональном смыслах: что-то нравилось, что-то — нет. Полагаю, что у меня сложилось достаточно (для меня) полноценное представление об этой сложной и, несомненно, великой и влиятельной стране. Разумный человек, конечно, не свободен от корректировок своих оценок и ощущений по мере течения жизни. Но, смею думать, что в тотальную зависимость от влияния мозаично меняющихся идеологий и политической конъюнктуры я пока не впал.
Отдых. Прогулки с отцом
Вспоминаются два основных вида отдыха отца: дневной сон — по мере возможности, не каждый день, и прогулки — тоже по мере наличия свободного времени. К отдыху, конечно, относится и чтение художественной — да и всякой иной, не относящейся к работе — литературы. Изредка отец ходил в кино, чаще — в театр. Бывая, скажем, в Москве, он непременно старался сходить в Большой театр, в МХТ, в Малый… В Ярославский театр им. Ф. Волкова они с мамой тоже, конечно, ходили. В семейном архиве сохранилось несколько театральных программок (рис. 50—51). Две из них — спектакли Белорусского Большого театра, который, был на гастролях в Ярославле: балеты «Спящая красавица» и «Эсмеральда». Ещё одна программка — опера «Фра-Дьяволо» в исполнении Куйбышевского театра оперы и балета (предполагаю это исходя из биографических сведений дирижера С. Бергольца, указанного в программе спектакля; сведений о самом театре в ней нет). Сохранился и Пригласительный билет на торжественный вечер, посвященный 60-летию А. Д. Чудиновой — актрисы театра им. Ф. Волкова, Народной артистки РСФСР (фото 52). В программе вечера драма «Филумена Мартурано». Случайно сохранившиеся программки говорят о том, театральная жизнь в городе была вполне насыщенной.

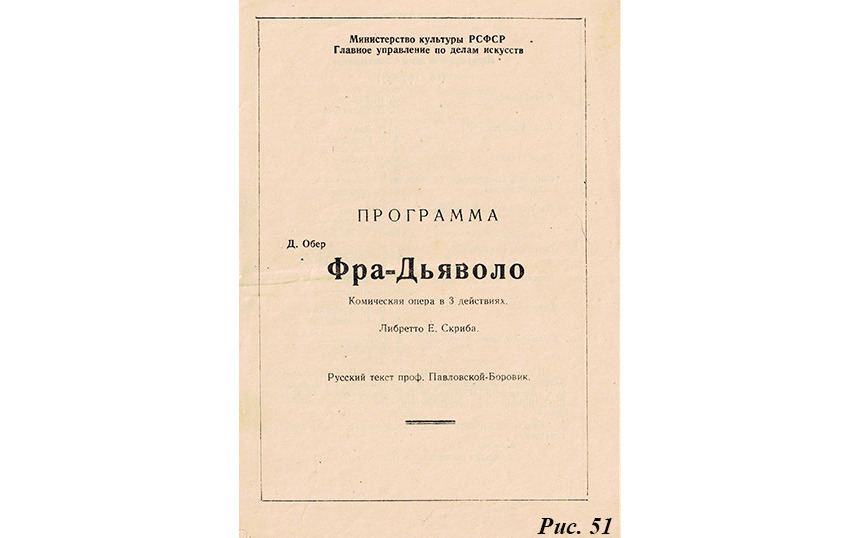

Свой ежегодный отпуск отец проводил по-разному. Напомню, что в советское время оплачиваемый ежегодный отпуск преподавателей составлял 48 рабочих дней, что составляло почти два месяца дней календарных. Часть отпуска отец мог провести с нами на Харьковской даче дяди Коли и тети Лены, когда приезжал на несколько дней, чтобы забрать нас домой. Подробнее об этой даче, Харькове и нашей жизни в летнее время — в главе «Южный». Часть отпуска он продолжал работать в лаборатории, на опытных станциях. Регулярно на какое-то время ездил к родителям в Молоково, попутно навещая сестер в Костроме и Кинешме. Периодически, но не каждый год, отец ездил в санатории и дома отдыха.
Приведу здесь необычный для нашего времени документ, призванный свидетельствовать, что человек находится в отпуске (а не просто болтается без дела), что он едет в определенное место (и ему может быть продан железнодорожный билет) и т. п. Об этом издавался приказ, и выдавалось удостоверение.
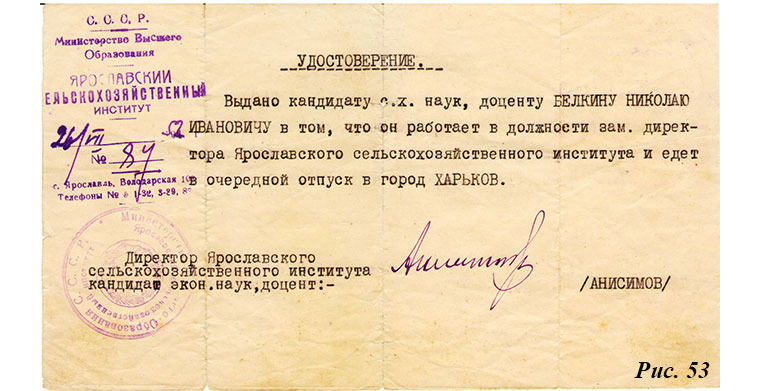
В семейном архиве сохранилось «Курортные карты», медицинские справки, а также фотографии, сделанные во время отдыха. За годы их накопилось немало. Санаторно-курортные фотографии стали традиционной частью советской культуры, они имелись почти в каждой семье, как индивидуальные, так и коллективные на фоне достопримечательностей. Такие фото довоенного времени я опубликовал во втором томе. Продолжу публикации и здесь, добавляя не только фотографии, но и сохранившиеся документы. По окончании отдыха и лечения в санатории, заполнялся обратный талон к путевке — документ строгой отчетности, который надо было возвратить в профсоюзную организацию по месту работы. Там же указывался диагноз заболевания и результат лечения. У отца написано «миокардиодистрофия с недостаточностью митрального клапана», выписан «с улучшением».
В семейном архиве сохранилось два таких талона: 1949 года из санатория «Им. 4-й пятилетки» в г. Хоста и 1953 года — из санатория «Воробьево» в Калужской области (фото 54—55). Почему эти талоны отец не сдал, как положено, в профком — не знаю, но благодаря этому мы имеем возможность увидеть, как эти документы выглядели.
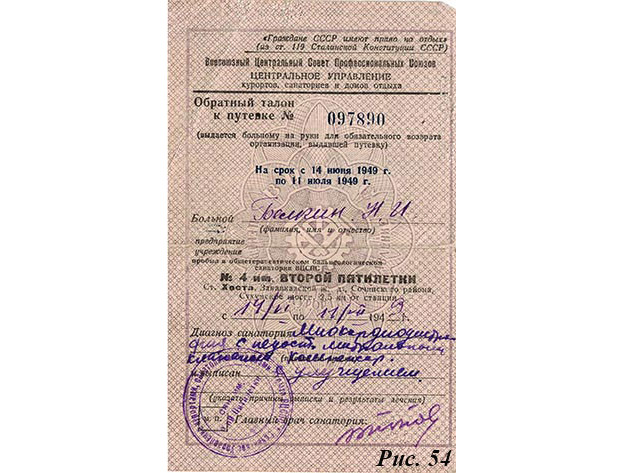
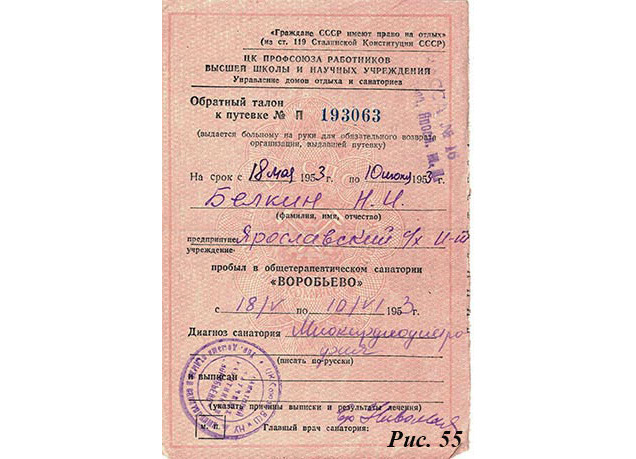
Находясь в санаториях и домах отдыха отец не только лечился, выполняя все предписания врачей, но и продолжал работать. Он всегда брал с собой толстые папки с рукописями, продолжая их править, запасался книгами и журналами. Не упускал возможности и посещения местных достопримечательностей. И всегда вел записи. В архиве обнаружились листочки с заметками, сделанными отцом во время одной из поездок на отдых.
— Вчера я приехал в Пятигорск, нашел квартиру на краю города на самом высоком месте, у подножья Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли… Вид с этой стороны у меня чудесный. На западе пятиглавый Бештау сияет как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет <нрзб> … Шумит целебный ключ, шумит разноязыкая толпа <нрзб> … А там долгим амфитеатром громоздятся горы все синее, и ты <нрзб>, а на краю горизонта тянется цепь снеговых вершин: начинает Казбеком и оканчивается двуглавым Эльбрусом.
(Прим. С.Б. — «Последняя туча рассеянной бури» — это, видимо, цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Туча»: Последняя туча рассеянной бури! Одна ты несешься по ясной лазури, Одна ты наводишь унылую тень, Одна ты печалишь ликующий день.)
Потом идет беглая запись популярной среди местных экскурсоводов «Легенды о Бештау» и пр.: «…Витязь Бештау и прекрасная Машук…» Далее и без того неразборчивый почерк отца образует и вовсе нерасшифровываемый текст — с сокращениями и т. п.
Среди тех же листочков придуманный (или записанный с натуры?) диалог:
— Вы, вероятно, или <нрзб> учитель… Или думаете о другом. О чем вы думаете, отрываясь сиюминутно от книг и поднимая голову?
— Я смотрю на вас и думаю, вот такое же <нрзб> описывается в этой книге. Вы современная княжна Мери.
Она сконфуженно принялась за работу, но <нрзб> никак не найдет надлежащее место. С этими словами я молча беру ее левую руку с часами: «Можно узнать время?» Она опешила, видимо, намереваясь рассмотреть, затем так же <нрзб> улыбнулась. Это была улыбка <нрзб> согласия с моей просьбой. Любовь, как и все, что развивается, должно <нрзб>…
Фраза оканчивается каким-то словом, которое разобрать мне не удалось: так и не знаю — что же «должно происходить с любовью»?.. Расшифровка осталась незавершенной. Но даже эти фрагменты интересны и выразительны, раскрывают многое из того, чем были заполнены мысли (и чувства) отца. Отмечу: на тех же листочках выписаны английские дифтонги с транскрипциями: ai, ay — эй (paid, play) и т. п. Немецкий отец учил ещё в институтские времена, а английский принялся изучать уже в зрелом возрасте.
Случалось отцу отдыхать и в зимнее время. Сохранились фото, сделанные в домах отдыха: отец шагает на лыжах в заснеженном парке (рис. 56) и стоит под елкой (рис. 57).
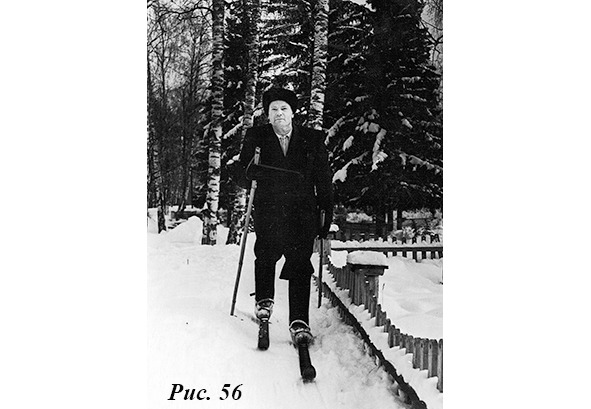
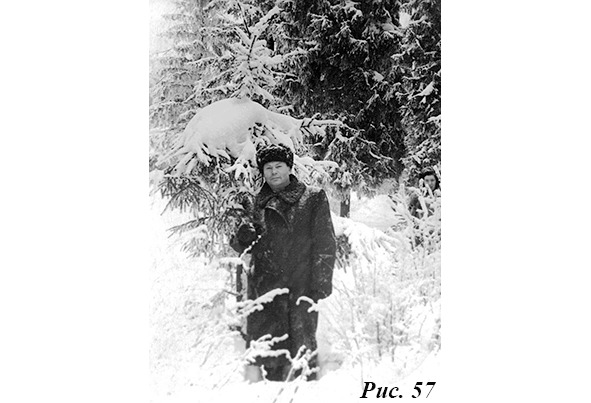
Хочу отметить, что при всей занятости отец о нас — детях — не забывал. Не могу сказать, что уделял нам много внимания, но, по мере возможности, все-таки уделял. Среди приятных событий были те, когда отец куда-нибудь с собой брал. Скажем, на работу (когда не с кем оставить) или — на демонстрацию. На «папину работу» меня брали, а вот на демонстрации — нет: слишком мал был. Демонстрации — 1-го мая и 7-го ноября — бывали продолжительными, утомительными и проводились в любую погоду, что для маленьких детей не всегда было безопасно. Детей постарше — например, Сашеньку — брали. Вот фото 1955 года: в центре спиной к папе стоит Саша в пилотке (рис. 58).

Со мной отец время от времени просто гулял: мы отправлялись на берег Волги. Основных маршрутов было два. Первый — по улице Победы. Выйдя со двора, мы переходили на другую сторону Гражданской (ныне — проспект Октября), всякий раз осматривая бородатых атлантов, держащих балкон в знаменитом на весь город двухэтажном особняке купца Дунаева. Это сейчас я знаю, что это бывший особняк Дунаева, а тогда это просто был «дом напротив» с бородатыми дядьками, удерживающими балкон. Что в нем тогда располагалось, точно не знаю, но мне кажется, что там была дирекция махорочной фабрики, забор которой примыкал непосредственно к дому. Махорочная фабрика и была построена купцом Дунаевым. Наш путь пролегал мимо окон цехов, в которых работали набивочные автоматы. Можно было посмотреть, как машины набивают табаком бумажные гильзы. Летом окна были открыты, доносился шум станков и запах табака. На окнах была мелкая сетка, но размер ячейки позволял просунуть в нее сигарету. Что время от времени и происходило. Забавы ради рабочие могли изготовить длиннющую неразрезанную сигарету — хоть метр длиной. Слишком длинная, она, однако, ломалась под собственным весом, а вот сигарета сантиметров в 25–30 вполне себя держала, и ее можно было раскурить. Все это я не раз видел, когда рабочие своим знакомым передавали подобные сувениры. Дальше наш путь шел прямо до конца улицы, завершавшейся спуском к Волге. Сейчас это место радикально изменилось, потому что построен Октябрьский автомобильный мост. А раньше моста не было, к воде вел мощёный Пятницкий съезд. На воде была пристань, и работал перевоз на другой берег Волги — в Тверицы. К перевозу съезжались телеги, грузовики, сходились люди. Прямо тут, по берегу, мы прогуливались. Помню, как отец обратил мое внимание на небольшую лодку, изготовленную из сварных металлических листов. Она покачивалась на волнах вблизи берега. Отец задал мне коварный вопрос: «Почему она не тонет? Ведь она из железа, а железо — тонет?» Не помню, что я ответил… Ясно, что я тогда ни про закон Архимеда, ни про плавучесть судов ничего не знал и знать не мог. Не запомнилось и то, как именно отец разъяснил причину этого «загадочного» явления.
В зимнее время этот же маршрут тоже не был лишен привлекательности: по бокам Пятницкого съезда ребятишки накатывали ледяные желоба, по которым можно было скатываться прямо на попе. Помню, что мне это делать было страшно: казалось, что горка высокая, скорость большая, можно разбиться. Но — скатывался. Такие же желоба были накатаны и на другом — главном — спуске к Волге, который назывался, да и сейчас называется, Красный съезд. По его краям росли двухсотлетние липы, стволы которых разрушались от старости, поэтому поврежденные места заделывали битыми кирпичами и цементом, а иногда ещё и сверху покрывали жестью. Считалось, что так продлевается жизнь этих почтенных великанов. Но путь к Красному съезду — это уже другой, второй маршрут наших прогулок с отцом. У этого маршрута имелись разные варианты достижения одной цели — Стрелки. Можно было дойти до Красного съезда и пройти по набережной мимо беседки — так чаще всего и поступали. Но иногда отец выбирал более длинный путь: сворачивал с Гражданской на Ушинского, потом, пройдя по бульвару, уходил в какой-нибудь переулок, пересекал Трефолева и выходил к церкви Ильи Пророка. И мы оказывались уже в длинном сквере, окончанием которого и была Стрелка. Сейчас этот маршрут в его окончании преградит вновь построенный Успенский собор, а раньше сквер завершался клумбой, вокруг которой были дорожки и садовые скамейки (рис. 59).

Там отец усаживался и либо погружался в свое чтение — газет, научных статей и т.п., предоставляя меня самому себе, — либо читал мне что-то специально для этого взятое из дома. Хорошо запомнилось, как он читал мне из сборника «Childrens Stories» сказку «The Three Pigs»: да-да, на английском языке! Более или менее прилично отец знал немецкий — именно немецкий был главным международным языком науки и в XIX, и в ХХ веке, в первой его половине. Только исход Второй мировой войны изменил баланс — и самих научных исследований, и научной литературы — в пользу английского. Отец занимался английским, стараясь повысить свой уровень. Думаю, что того уровня, который требовался для чтения статей по специальности, он вполне достиг, а вот с разговорным языком, надо полагать, оставались проблемы. Впрочем, как у абсолютного большинства советских граждан. Разговорному языку учили плохо, да и надобности в этом ни у кого не было: за границу мы не ездили и с иностранцами не общались. Разговорным английским владели только профессиональные переводчики. Даже у специалистов — окончивших языковые вузы и работавших преподавателями английского в школах и вузах — чаще всего разговорный английский оставался в зачаточном состоянии. Оказываясь за границей, в Англии или Америке, они обескураживались тем, что ни они не понимают англичан и американцев, ни их толком не понимают. Я не раз слушал такие истории от тех из них, кто оказывался за рубежом в более поздние — шестидесятые и семидесятые — годы. Так вот: отец читал мне сказки вслух, старательно выговаривая английские слова: Three Pigs live in a house near wood. The three Pigs are brothers. До сих пор помню его голос, гримасу и усилия в произнесении звука [ð] … Книга эта сохранилась. Обложка оторвалась и потерялась, а основной блок жив и здоров. Сохранились и усилия –мои и братьев — по раскрашиванию иллюстраций цветными карандашами. Воспроизведу здесь одну страничку (рис. 60), а заодно и обложку другой книжки из семейной библиотеки — «Английские народные сказки» на русском языке (рис. 61).
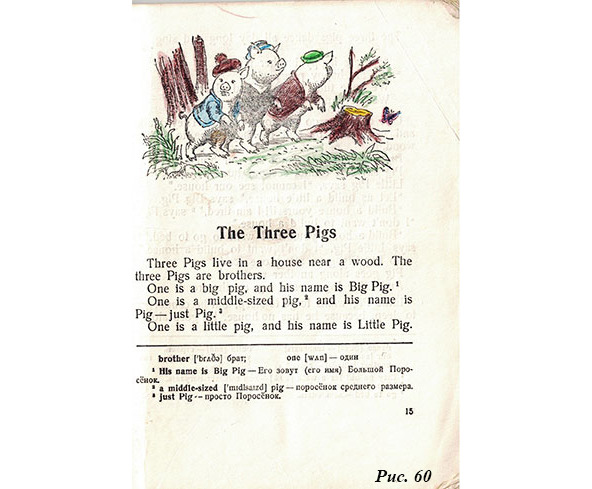

Но чаще отец погружался в свое чтение, и я просто разглядывал Волгу. В зимнее время она была огромной белоснежной пустыней, и только вдоль нашего — городского, высокого берега — и в самые лютые морозы оставалась незамерзающая полоска шириной несколько метров. Говорили, что так происходит из-за того, что крупные заводы сбрасывают в Волгу много теплой и даже горячей воды. Через незамерзающую часть Волги устраивали понтонный мост, а по оставшейся замерзшей части люди ходили пешком (рис. 62).

Летом же по реке проплывало много всего: баржи, большие и маленькие пароходы, туда-обратно — в Тверицы — сновали речные трамваи «Бабушкин» и «Пчелка»… А в Которосли, вблизи впадения в Волгу, денно и нощно трудилась драга, выгребавшая со дна песок и ил, намывая рядом с собой песчаные острова. Думаю, она постоянно углубляла дно в том месте, где должны проходить суда. Тот «Парк Стрелка», который сейчас так любят горожане и туристы, в те времена не существовал. Большой «полуостров» намыли уже в семидесятые годы, разбили там парк, укрепили берег, соорудили фонтаны, установили памятник «1000 лет Ярославлю». А в те времена всего этого великолепия не существовало: был пустой песчаный мыс — что-то вроде отмели при слиянии двух рек у высокого берега. Это место использовали разве что как пляж в летнее время. Благоустроенного спуска от смотровой площадки вниз не было, была кое-как пробитая ногами извилистая земляная тропа. А Стрелкой в обиходе называли не этот мыс, а верхнюю часть — там, где смотровая площадка. Когда по радио пели песню «На Волге широкой, на Стрелке далекой гудками кого-то зовет пароход…» я не сомневался, что речь идет о «нашей» Стрелке. То, что дальше в песне поется «Под городом Горьким, где ясные зорьки…» меня с толку не сбивало.
Прогулки с отцом запомнились на всю жизнь. Что в них было такого особенного? — да ничего… Случай с чтением английских сказок — это редкий эпизод. Не припомню, чтобы отец как-то целенаправленно чему-то учил, что-то во мне воспитывал… Он чаще молчал, что-нибудь свое читал и лишь иногда мог на что-то обратить внимание или ответить на мои вопросы (рис. 63). Помню ещё одно событие: отец с тремя сыновьями отправился на лыжную прогулку. У каждого в семье были лыжи. У Павлика и Саши — купленные в магазине, обычные «школьные» лыжи. У отца и у меня — лыжи, когда-то давным-давно изготовленные дедушкой Иваном. Отцовские — длинные и весьма широкие: не менее 15 см! Мои — маленькие, детские. Крепления на наших лыжах тоже были «деревенские»: поперечная петля, в которую вставлялся валенок. В какой-то погожий снежный день отец собрал нас, и мы вышли на проспект Шмидта (теперь — проспект Ленина). По своей геометрии он был бульваром, то есть по его середине проходила пешеходная часть, по сторонам которой были озелененные летом и заснеженные зимой полосы. Вот по ним мы и отправились на прогулку.
Стоит вспомнить ещё один вид совместных прогулок — посещение бани. Поскольку дома горячей воды не было, то в баню ходили регулярно. Баня располагалась примерно там, где сейчас какая-то транспортная служба, вблизи мечети на ул. Победы. В баню мы шли дворами: переходили Гражданскую сразу напротив дома и углублялись во дворы и пустыри за махорочной фабрикой. Там, в частности, были грядки с картофелем, проходя мимо которого каждый из нас, благодаря отцу, запомнил латинское название растения: солянум туберозум. Внутреннее устройство бани и процесс помывки я помню смутно, а вот буфет, в который мы заходили после мытья, помню хорошо, потому что мне там полагалось получить так называемую «коврижку» — двуслойный бисквит с повидлом посередине.
И ещё вспоминается, как отец читал нам вслух.
Был, например, период, когда он нам почти каждый вечер главу за главой читал «Калевалу». Мы втроем спали в одной комнате. После того, как нас укладывали, папа садился посередине, раскрывал книгу большого формата и нараспев, старательно выговаривая непривычные финские имена, читал:
Мне пришло одно желанье,
Я одну задумал думу —
Быть готовым к песнопенью
И начать скорее слово,
Чтоб пропеть мне предков песню,
Рода нашего напевы.
Я собрал все эти речи,
Эти песни, что держали
И на чреслах Вяйнямёйнен,
И в горниле Ильмаринен,
На секире Каукомъели,
И на стрелах Ёукахайнен,
В дальних северных полянах,
На просторах Калевалы.
Их певал отец мой прежде,
Топорище вырезая…
Их певал отец мой прежде… Были и другие «читки». Например, «Сирена», «Жалобная книга», «Предложение», «Дачный муж», «Медведь», «Хамелеон» или «Злоумышленник» любимого им А. П. Чехова. Впрочем, такие чтения случались, к сожалению, далеко не каждый день: по большей части отец сидел у себя в кабинете и работал.
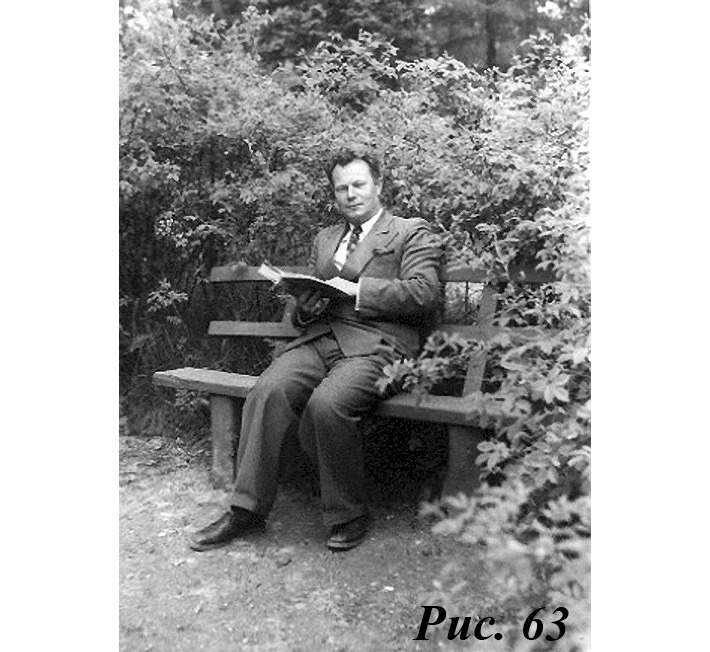
Когда была возможность, папа спал днем — полчасика или около того. Помню, как он однажды, это было уже в Кишиневе, проснувшись, но, все ещё не вставая, неожиданно запел, оставаясь в своей любимой, как он говорил, позе: на спине и руки за голову. Пропел какой-то романс от начала до конца.
Папа никогда не курил, редко и мало пил спиртного. При каком-то торжестве, в застолье он поддерживал компанию, но собственного желания и стремления выпить, как мне помнится, у него не возникало. Вот у меня, например, такое желание периодически возникает, а у него — нет. Хотя в цитированных выше записях расходов из записных книжек имеются и «пиво» и даже «портвейн». Так что, думаю, иногда он, все-таки от расслабляющего воздействия алкоголя не отказывался.
По утрам папа всю жизнь делал зарядку. Чаще всего это происходило на кухне, пока все ещё спят. Гимнастический комплекс упражнений был им отработан, видимо, в молодые годы. Среди прочего мне помнится, как он изображает колку дров: расставив ноги, поднимает две руки, сцепленные ладонями вверх, и резко бросает их вниз, слегка при этом приседая и делая шумный выдох. Он был очень крепок физически. Говорил, что особенности его развития сложились в детстве, когда ему пришлось лет с шести помогать своему отцу пилить тёс, причем работая снизу. Напомню тем, кто не знает: «пилить тёс» — это распиливать бревно вдоль на доски. Бревно водружается на высокие козлы, там же находится старший — мастер. Он направляет пилу и следит за точным ее движением, строго соблюдая ширину каждой выпиливаемой доски. Тот, кто тянет книзу огромную пилу, стоя внизу, напрягает и, соответственно, тренирует мышцы плечевого пояса и спины. Отец был кряжист и широкоплеч.
Периодически отец вспоминал, рассказывал что-то из деревенской жизни. Скажем, подробно описывал обряд сватовства и свадьбы. Запомнилось — потому что казалось смешным, — как показывают невесту, приподнимая платок, накинутый на ее голову. При этом вопрошают: «Хороша невеста иль нехороша?» По обычаю, надо было в ответ не только нахваливать невесту, но и бросать деньги. Рассказывал отец и про то, как бывал шафером на венчании в церкви: держал «венец» — венчальную корону — и как это было непросто физически: надо высоко держать руки, корона тяжелая, процедура длительная, а венчальный венец бывает и трехкилограммовым…
Отмечу, что, несмотря на то, что и отец, и мать были крещеными, в детстве посещали церковь, как их многочисленные предки во многих и многих поколениях, сами они верующими не были. Их мировоззрение основывалось на научной, материалистической картине мира и было вполне устойчивым, гармоничным. Потребности «утешения» с помощью религиозных образов и обрядов на моей памяти не возникало.
В речи отца сохранялись некоторые элементы костромской манеры. Слышалось легкое «оканье», проскальзывали особенности ударения в некоторых словах. Скажем, не «на ло́шади», а «на лошади́», не «в о́череди», а «в очереди́», или «ревишь» вместо «ревёшь»: «Ну что ты ревишь»? Иногда он мог то, что все называют миской, назвать чашкой. Или о том, что должно куда-то вместиться, мог сказать — «уберётся»: «В этот чемодан всё не уберётся». Или об одежде, обуви или ёмкости (кастрюле, например), имеющей дыры, мог сказать «худая», «прохудилась». Впрочем, это уже довольно распространенное выражение. В целом речь отца была, конечно, городской, литературной, правильной и богатой, но некоторые костромские словечки и обороты проскальзывали. Характерна была и общая манера говорить: неспешно, певуче.
Случалось, что отец усаживал всех нас за рисование, показывал и подсказывал: сам он хорошо рисовал. Сохранился только один из рисунков таких домашних уроков, уже Кишиневского периода (подписан 3 мая 1959 г.). Это рисунок Павлика, причем далеко не самый лучший. Тем не менее, опубликую его — просто как память о событии. Голубая ваза с «золотыми» ободочками был установлена на подставку для цветов, окрашенную морилкой под красное дерево. Рисовали ее и я и Саша, но наши рисунки не сохранились.

Долгие годы в семейном архиве хранились графические работы отца, выполненные им ещё до войны. Одна из них — перерисовка тушью тонким пером маминой фотографии большого формата, примерно 30 на 40. Вторая — тоже перерисовка — довольно сложной многофигурной композиции с какой-то старинной гравюры с пасторальным сюжетом: двое — юноша и девушка — под сенью ветвистого дуба с многочисленной тщательно прорисованной листвой. Обе эти работы, к сожалению, оказались в архиве брата Саши и ныне, вероятно, утрачены.
Ещё одна традиция складывалась и прививалась в семье. Подарки ко дням рождения и прочие поздравления сопровождались самодельными рисунками, надписями и т. п. Размещу здесь одно из нескольких сохранившихся поздравлений — поздравление Павликом мамы с новым 1958 годом (рис. 65).
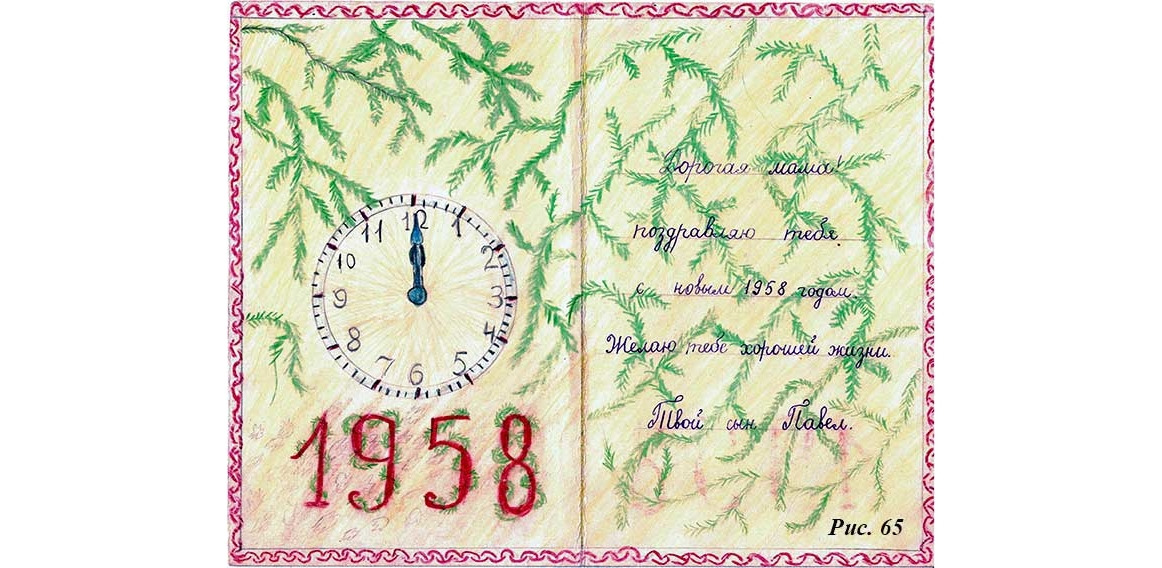
У отца было и ещё одно «проявление внимания к детям»: он регулярно измерял наш рост. Делалось это так же, как в большинстве семей и, думаю, во всем мире: ребенок становился у стены или у двери, к голове сверху приставляли книгу, стараясь держать ее горизонтально, и карандашом проводили на стене линию. Во многих семьях такие «линии роста» скапливались годами и превращались в своего рода музейный экспонат. Было это и в нашей семье, во всех квартирах, где довелось жить. Есть такое и сейчас: линии роста моих детей сохраняются на торце одной из дверей в квартире…
Отец же, как профессиональный научный работник, экспериментатор-исследователь не ограничился одними лишь линиями на стене, а завел, можно сказать, лабораторный журнал, в котором расчертил не только таблицу с цифрами (рис. 66), но и график на миллиметровке. И название этому дал вполне в научном духе: «Динамика роста детей». Первая запись в таблице сделана в 1950 году, последняя — в 1966. На графике, который я здесь не воспроизвожу, были также указаны данные родителей: «Папа — 170; мама — 158 по состоянию на 25 мая 1957 года».
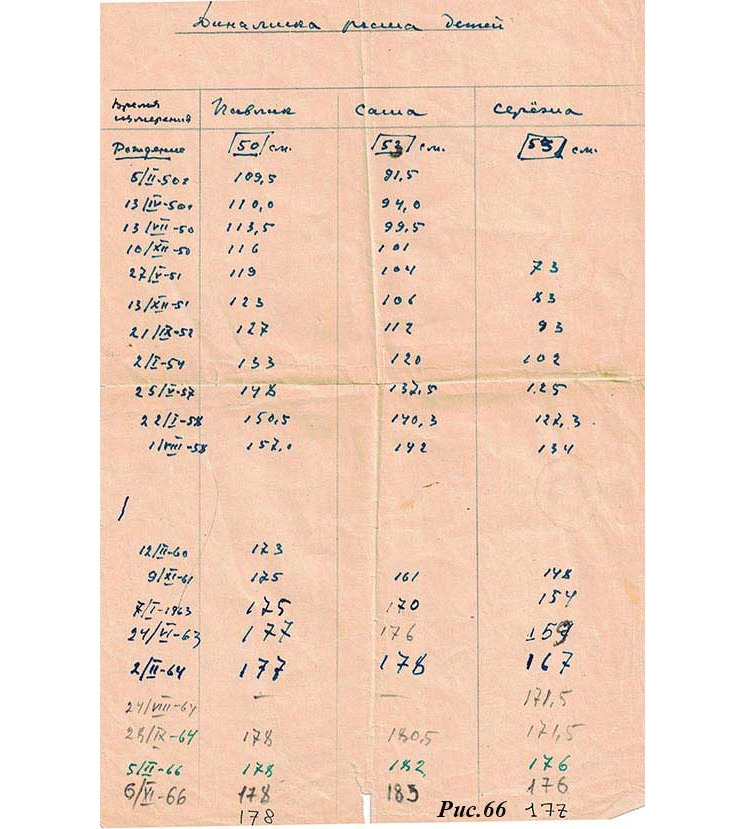
Прогулки с отцом продолжались и в последующие годы, уже в Кишиневе. Гулять со мной он ходил на Комсомольское озеро, в Долину Роз и на бассейн «Локомотив». Надеюсь, мое перо мемуариста добежит и до этих воспоминаний.
Не знаю, каким образом отцу удалось сформировать во мне такое глубокое, непреходящее чувство любви к России: русской природе и вообще всему русскому? Не он один, конечно, повлиял, это в нас пестовала и матушка. Мама действовала напрямую, вслух проявляла свою любовь к России, к русским людям, русской культуре, языку, подталкивала к соответствующему чтению, знаниям. Отец же ничего такого не говорил. Но во мне живет переживание — как некий момент истины: во время одной из совместных прогулок мы с ним стоим на каком-то возвышении, откуда открывался вид на долину, перелески, речушку… Он молчал, мы просто стояли и любовались, и что-то вошло в меня, родилось во мне и осталось жить там навсегда. Свершилось таинство рождения иррационального чувства любви к своей стране.
Фотографирование
В этой книге много фотографий. Большая часть из них — любительские, сделанные отцом и Павлом. В следующих томах будут и фотографии, сделанные Сашей и мной. Наш семейный опыт увлечения любительской фотографией стоит отдельного рассказа. В этом томе — первая часть этого рассказа, относящаяся преимущественно к пятидесятым годам. Хотя в описании некоторых фотографических процессов я опираюсь и на собственный опыт, обретенный в более поздние времена.
Отец увлекся фотографией ещё в двадцатые годы, когда учился и работал в Омске. Во втором томе повествования есть несколько его фоторабот тех лет. После переезда в Ярославль у отца своего фотоаппарата не было, но он мог пользоваться институтской фотокамерой Exakta — изделием знаменитой германской компании, ставшей впоследствии называться Praktika. Постепенно отец обзавелся и всем необходимым оборудованием. Красный фонарь довольно необычного вида — в деревянном футляре со стенкой из красного стекла, кюветы разных размеров, фотоувеличитель, бачок, колбы, воронки, химреактивы. Всем навыкам обработки фотопленки и процессу печати фотоснимков он обучил сперва Павлика, потом и нас с Сашей. Как это было им организовано в Ярославле, я не помню, но хорошо помню, как в нашей квартире в Кишиневе отец оборудовал фотолабораторию, использовав для этого ванную комнату. Он изготовил из досок откидной стол, прикрепленный одной стороной к стене, сделал над ним стеллажи, так что всё, что нужно было под рукой. Красный фонарь висел под стеллажами, на стол, поднятый до горизонтального положения и зафиксированный деревянной ногой, устанавливался увеличитель, рядом располагались кюветы, тут же была ванна и краны с водой.
Раствор приготавливался в большом — литровом — стеклянном химическом мерном стакане. Проявитель и закрепитель в виде порошков, упакованных надлежащим образом, покупался в фотомагазинах. Дома упаковки вскрывались и засыпались в емкость согласно инструкции: метол-гидрохиноновая или фенидон-гидрохиноновая смесь для проявителя, тиосульфит натрия — для фиксажа, он же закрепитель. Затем порошки надо было залить водой и, помешивая, растворять. Помешивать следовало специальной стеклянной палочкой (папа принес с работы из кафедральной лаборатории) и при определенной температуре, для чего требовался водяной термометр. Затем раствор надо было отфильтровать, используя фильтровальную бумагу, уложенную в стеклянную воронку.
Проявлять и закреплять следовало как пленку, так и фотоотпечатки, а для этого надо было готовить разные проявители и закрепители, хотя потом появились универсальные. Пленка проявлялась в специальном бачке из темного непрозрачного пластика (бакелита). Внутри бачка имелась катушка со спиралеобразной нижней стенкой. Надо было научиться в полной темноте, наощупь вынуть отснятую пленку из фотоаппарата и аккуратно, не прикасаясь пальцами к ее поверхности, держа ее только за кромку, вставить конец в запорное устройство катушки и медленно навернуть, вставляя край пленки в спиральную канавку. Затем катушка с пленкой помещалась в бачок, закрывалась крышка, и в специальное отверстие заливался проявитель. Отверстие для залива жидких реактивов и носик для выливания сделаны так, чтобы свет никоим образом не мог проникнуть внутрь. Проявлять надо было минут около десяти, время от времени вращая катушку за ось, торчащую из крышки. Затем проявитель выливался, заливалась вода. Пленка промывалась. Потом заливался закрепитель, надо было вращать ещё минут десять, потом снова промыть, и пленку можно вынимать. Тут наступал момент истины: становилось видно, что получилось, а что нет, какие кадры получились более или менее неплохими, дающими надежду на то, что снимок удастся напечатать. Затем пленка просушивалась: подвешивалась на бельевой веревке за прищепку.
Следующий этап — печать фотоснимков на фотобумаге. Это священнодействие происходит при свете красного фонаря: красные лучи не засвечивают фотобумагу. Пленка вставляется в фотоувеличитель, его лампа просвечивает выбранный кадр, через систему линз проецируется негативное изображение на плоскость — фоторамку, лежащую на подставке фотоувеличителя. Выбирается размер будущей фотографии — путем перемещения фотоувеличителя вверх-вниз по своей вертикальной штанге-стойке. Изображение наводится на резкость, затем лампа в увеличителе выключается. В рамку вкладывается фотобумага нужного формата (6 на 9, 9 на 12, 9 на 14, 13 на 18, 18 на 24 или 24 на 30 — это наиболее распространенные форматы в СССР). Затем лампа увеличителя включается и начинается отсчет времени, необходимого для экспозиции. Делают это, просто считая вслух или про себя «один-два-три-четыре…». Определяют нужное время на глаз, исходя из плотности негатива и методом проб и ошибок. Если дал времени слишком мало — недодержка, на снимке будут лишь бледноватые контуры, слишком много — передержка, все быстро начнет чернеть при проявке. В процессе экспозиции иногда применяются нестандартные приемы. Например, можно рукой частично перекрыть светопоток в той части кадра, которая кажется слишком прозрачной. При этом рукой или предметом надо непрерывно двигать, чтобы не получить проекцию неподвижной тени. Существовало множество подобных уловок, призванных улучшить не слишком удачно снятый кадр. Экспозиция завершается, когда выключателем гасится лампа. Бумага вынимается из рамки и погружается в кювету с проявителем. Кювету слегка наклоняют, погружая край листа так, чтобы обратная волна быстро и равномерно намочила всю поверхность. Теперь надо покачивать кювету и наблюдать за ходом собственно «проявления» — появления изображения. В момент, когда кажется, что достигнуто оптимальное качество картинки, бумагу вынимают, промывают в кювете с водой (она стоит посередине между проявителем и закрепителем) и затем погружают в раствор фиксажа. Там фотография должна полежать минут 10–15, после чего ее можно вынуть, снова промыть и вынести на свет божий, чтобы всем показать полученный результат. Потом фотографии сушат — иногда просто развешивая или раскладывая, иногда — глянцуют, накатывая резиновым валиком на стекло, предварительно обработанное спиртом. Завершается процесс обрезкой краев фотоснимка, если в том есть необходимость. Для этого применяются резаки, в том числе — фигурные, дающие затейливый резной край фотоснимка.
Согласитесь, что этот процесс настолько отличается от современной цифровой съемки на телефон с мгновенным просмотром результатов, что следует признать: это два совершенно разных по всей своей философской сути не только вида деятельности, но и явления. Столь радикальное отличие процесса рождения и появления фотоизображения делает и сами фотоизображения отличающимися друг от друга на квазирелигиозном уровне — как священное и профанное.
Игру в метафоры можно продолжить и иным образом. Те фотографии, которые мы производили сами, погружаясь в вышеописанный процесс, не отличались высоким качеством, они были часто недостаточно резкими, контрастными и т. п. Можно сказать — туманными, но можно и — мистическими (mist — туман по-английски). Современные цифровые фото не требуют никаких знаний и навыков, не говоря о трепете и длительном тревожном ожидании: получится или нет? Современные технологии автоматически выдают превосходное (в техническом отношении) качество изображения. То есть снова возникает мысль о двух процессах и их результатах — профанном (ясном, рациональном, технологичном) и сакральном (мистическом, многозначном, непредсказуемом по своему появлению на свет и неопределенном по результату).
Приведу пример одного из ранних (1956) года опытов Павлика, забавный тем, что на один и тот же кадр фотопленки произведено две фотосъемки (рис. 67). Такое было возможно в фотоаппарате «Смена», в котором перемотка кадра осуществлялась вручную и, если забыть перемотать, то на уже отснятый кадр наложится следующий. На этом кадре две композиции. Одна — я и мама читаем журнал, на другой — Саша или Сережа с баранками на шее. И тот и другой сюжет были отсняты и без наложения, я привожу их в этой книге.

Наряду с любительскими фото в семейном архиве и в этой книге немало фотографий, сделанных профессионалами. Иногда это фотографии, сделанные в фотоателье, нередко — «официальные», сделанные институтским, например, фотографом. Есть и профессиональные фото, сделанные в ходе специально организованной, как сейчас сказали бы, фотосессии. Об одной такой я уже рассказывал в предыдущем томе, но хочу ещё раз о ней вспомнить.
Речь идет о серии фотографий, сделанных за несколько дней до моего рождения, в первых числах июля 1950 года. Папа, мама, Павлик и Сашенька выехали, как они потом рассказывали, на бричке, запряженной лошадью, которую звали Тайга, из учхоза в город. С ними был и фотограф — студент Саша Соколов (об этом имеется запись в маминой «Общей тетради», Павел в цитируемых далее «Воспоминаниях» предполагает иное). По дороге было большое поле с уже высоким овсом. «В овсах» они и фотографировались. Но прежде чем показать фотографии «в овсах», посмотрим на фотографию, очень похожую, как будто из той же серии, но это другая съемка, происходившая в июне 1950 г. (фото 68). Фотографировал, думаю, папа сам. Возможно, тогда и пришло в голову организовать фотосессию, пригласить фотографа и нарядить детей.

А теперь перейдем к знаменитой — во всяком случае, в пределах нашей семьи и в кругу близких родственников — серии фотографий «в овсах» (рис. 69–72). Мы любили рассматривать эти фотографии спустя годы и десятилетия, снова и снова вспоминать отдельные эпизоды. В детстве я огорчался, что «меня тогда ещё не было», но потом смирился… В своих «Воспоминаниях» Павел уделил этому эпизоду абзац.
Мы ехали на тарантасе, мама записала даже кличку лошади — Тайга. Снимал нас папа, либо один из сотрудников института, известный как хороший фотограф. На набережной Волги в беседке фотографировал уже папа. Саша очень не любил фотографироваться и закрывал глаза, чтобы его не снимали. Взрослым легко удавалось его перехитрить. Саша не мог долго стоять, зажмурившись, вскоре он открывал глаза, и его тут же фотографировали. Как правило, он понимал, что его обманули, и громко плакал. Это также сохранилось на карточках. В те годы у него были длинные светлые волосы, некоторые взрослые думали, что перед ними девочка. Наименее осторожные это и говорили, вызывая у Саши горькие слезы. Было немыслимо предположить, что через несколько лет его волосы станут толстыми и черными, а их хозяин будет развлекать одноклассников на уроках труда, подравнивая себе прическу слесарными кусачками.

Два красивых златокудрых ребенка на рис. 69 — мои братья. Сашенька закрыл глаза, не желая фотографироваться. Павличек одет в красивую расшитую красную косоворотку, которую сшила, побывавшая в гостях родственница Ася Малич.
Теперь посмотрим ещё на два портрета. На первом (рис. 70) — Павлик, прищурившийся от солнечных лучей. Все такое русское: и небо, и дали, и овес, и косоворотка, и мальчик…

На следующем снимке (рис. 71) портрет Сашеньки. На этот раз его все-таки удалось застать на мгновение врасплох: не успел ни заплакать, ни закрыть глаза.

А вот и вся семья, погрузившаяся в овес: Павличек сел поближе к маме, Сашенька — на коленях у папы (рис. 72). Все веселые, здоровые и молодые… А на горизонте можно разглядеть храм в селе Кресты. Он и сейчас там стоит (Крестобогородская церковь). Только все вокруг застроено, в том числе и поле, а мимо храма пролегает Московский проспект.

Эта памятная поездка завершилась в Ярославле, на Волжской набережной, в знаменитой беседке (рис. 73–75).



Новосёлки
После переезда из Днепропетровска в Ярославль в ноябре 1948 года жизнь в бытовом отношении не стала лучше. Пришлось покинуть хорошую квартиру в центре Днепропетровска, лишиться привычного круга друзей и знакомых… И вместо этого оказаться в совсем иных — несопоставимо худших! — жизненных условиях в пригороде Ярославля — Новосёлках, поскольку там находился Учхоз: Учебное хозяйство Ярославского сельхозинститута. Только там институт смог предоставить хоть какое-то жилье. Туда со всем имуществом и переехали. А велико ли было имущество? Как ни странно, но на этот вопрос можно дать ответ, потому что в семейном архиве сохранился удивительный документ: опись перевозимого имущества (рис. 76). Вот чем владела семья Белкиных (орфография подлинника сохранена).
О П И С Ь
Домашних вещей гр. Белкин Николай Иванович со ст. отправления Днепропетровск на ст. назначения Ярославль.
1. Место; Пионино б/у; 3000 руб.
1. -“-; Шифанер зеркальн. б/у; 1000 р.
4 места; места ящики с книгами; 2000 р.
1 место стол обеденный; 1 место стол обеденный; 200 р.
Кровати английские с сетками; 2 шт. б/у; 400 р.
Кровать железная с сеткой; 200 р.; Итого; 6 800 р.
Всего на сумму шесть тысяч восемьсот рублей.
Отправитель (подпись)
Днепропетровск, 29 октября 1948 г.
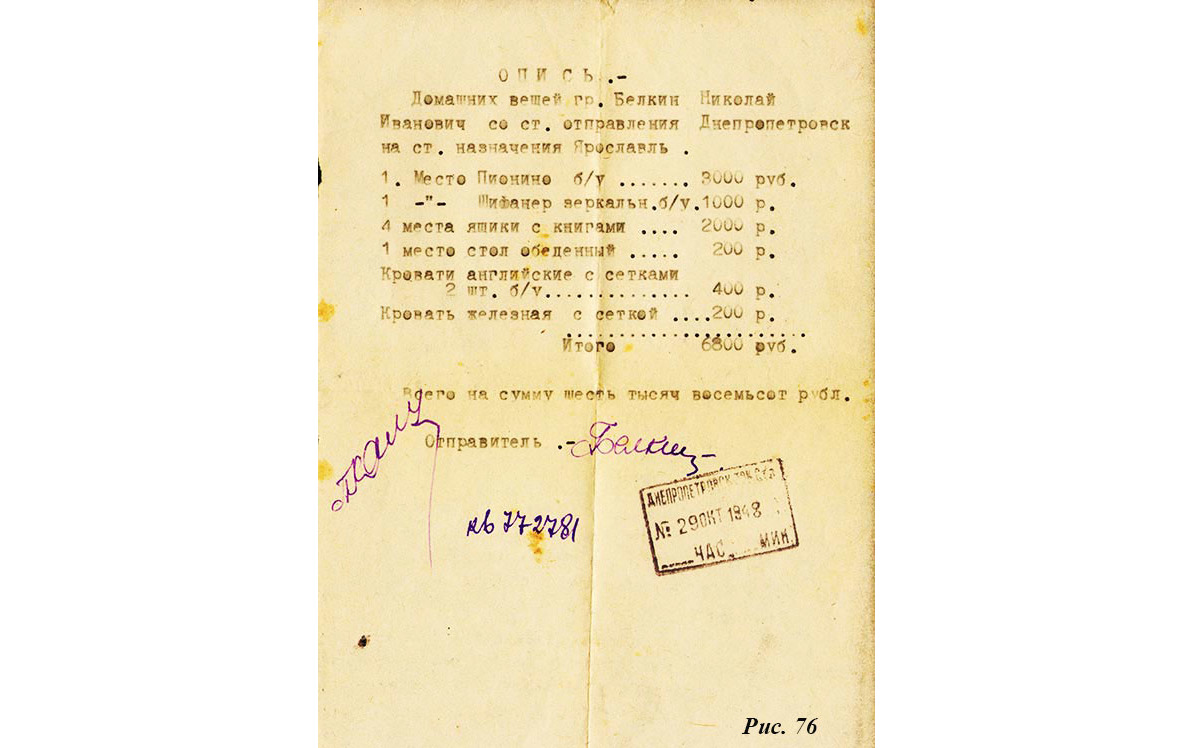
Пианино и его непростая судьба во второй части удостоилось отдельной главы, и повторять его историю здесь не буду. А про его будущее — расскажу здесь, не полагаясь на ещё не написанные воспоминания. Этому «пианино-путешественнику», изготовленному в Одессе, обретенному в Днепропетровске, через десять лет предстоит снова отправиться в контейнере вместе с другими вещами в город Кишинев. Здесь оно простоит лет двадцать пять, но его уже мало беспокоили. Так, время от времени кто-то (преимущественно из гостей) побренчит — и все. Настал день, когда, несмотря на такую биографию, несмотря на то, что этот инструмент стал просто-напросто членом семьи, я его продал. За 75 рублей. Произошло это в восьмидесятых годах. Бригада из шести кандидатов наук (Синяк, Белоусов и другие), надрываясь из последних сил, смогла вытащить его из дома, погрузить на грузовик, отвезти в комиссионный магазин и выгрузить. Пропили после этого не всю выручку — рублей двадцать пять удалось принести домой. Честно говоря, пианино жалко до сих пор. Я очень привязываюсь к вещам. Антропоморфизм как взгляд на мир присущ мне на бессознательном уровне.
Про «шифанер» — тоже скажу, поскольку люблю описывать те предметы, которые меня окружали и окружают. Это слово сейчас почти вышло из употребления и повсеместно заменено на «платяной шкаф». Уловить тонкие отличия «шкафа» от «шифоньера» непросто (признаться, и не нужно, — но если хочется…). Это слово происходит от франц. chiffonnier «шкафчик (для белья)», от chiffon «тряпка, тряпьё». Сейчас, когда пытаются описать отличия, придумывают разные признаки. Одни пишут, что у шифоньера непременно должно быть зеркало (что неверно), другие, что его отличительной особенностью является наличие выдвижных ящиков, что тоже не всегда так. Не буду участвовать в умножении толкований, скажу лишь, что шифоньер — разновидность шкафов. Шкаф для одежды и есть шифоньер. Одно слово (Schaff) пришло из немецкого языка, другое — из французского. Только и всего…
Наш шифоньер был двухдверным платяным шкафом. Одно отделение — пошире — для одежды, второе — поу́же, со вставкой-окошечком из стекол с фацетом (обработанными гранями) — с полками для белья. Эта дверца плоховато держалась, и стеклышки при каждом повороте дверцы позвякивали. Но сам шифоньер был довольно крепким: мы на него залезали и прыгали со шкафа на кровать. Шифоньер — как и пианино — приехал из Днепропетровска, но из Ярославля в Кишинев ему отправиться не довелось: его кому-то подарили.
Упомянутая в описи кровать — полуторная, очень старая, с металлическими спинками с облупившейся масляной краской. Та часть, на которой спали, являла собой пружинный матрац, положенный поверх металлической «диагональной» сетки. Видимо, не все у этой кровати было исправным, потому что матрац снизу подпирали ещё и коробки, или чемоданы. Что имели в виду под названием «кровати английские» — не знаю, но железные детские кроватки были. С этим имуществом семья Белкиных и приехала в Ярославль.
В Новоселках отцу предоставили две комнаты в каменном доме, принадлежавшем до революции графу В. Н. Коковцеву, министру финансов и премьер-министру Российской империи, уже встречавшемуся нам на страницах этих воспоминаний. Вот как эти комнаты и сам дом описывает в своих «Воспоминаниях» Павел:
Наша квартира, естественно, без удобств, была на втором этаже и состояла из двух комнат. В первой комнате перегородкой отделялась маленькая прихожая, она же использовалась как кухня. Вторая комната (спальня) имела балкон, ее редкой особенностью была стенка, покрытая желтым мрамором.
Кроме кроватей (родительских) там был лишь какой-то стол и, может быть, этажерка. В первой комнате стояли пианино, большой обеденный стол, с которого я стащил скатерть, печка, стулья и высокий комод.
Первые годы жизни отопление было исключительно печное, причем в спальне печки не было. Не помню, чтоб я замерз, но маленький Сергей точно простудился около балконной двери, вероятно, недостаточно утепленной на зиму. Я ее запомнил по большой карте Африки, которой заклеили дверь. Некоторые слова я уже читал, запомнились Египет, Ангола и Англо-Египетский Судан, выделяющиеся своими цветами на зеленых и лиловых пространствах, которые доминировали на континенте в ту колониальную эпоху. Потом, ориентировочно в 1950 году, нам провели паровое отопление. Мое внимание очень привлекала газовая сварка, на которую смотреть запрещалось, но выполнить полностью это предписание не сумел.

Дом графа был двухэтажным с несколькими входами-выходами. На рис. 77 видна его тыльная сторона. Продолжим цитирование:
Сколько семей жило в разных местах нашего дома, вспомнить нелегко. Если входить с улицы к нам, то на первом этаже был магазин, в котором продавались и продовольствие, и промтовары. На втором, кроме нас, жила семья профессора-энтомолога Брандта. У них была коллекция насекомых, которые меня не очень заинтересовали. Саша запомнил настенный коврик, который нам подарила его жена — художница. (Прим. С.Б. — о Нине Брандт я пишу в главе «Письма». ) На холсте, обшитом какой-то широкой темно-коричневой каймой, была нарисована маслом Красная Шапочка в лесу. Я же запомнил лишь женщину, сочинявшую детские сказки и читавшую их мне с целью апробации на знакомом ребенке. Сказки я искренне хвалил, но все же чувствовал, что они чем-то отличаются от тех, которые мне читали другие.
Мимо нашей квартиры шла узенькая лестница вверх, где жила тетя Фая с дочерью Алей и сыном Вовой. Там же жила некая Капа, которую я совсем не помню внешне, но о ней очень много говорили как о большой моднице. Вовка с гордостью показывал мне ее туалетный столик, на котором среди разных побрякушек лежал флакон с зеленым одеколоном (или духами?), изготовленный в форме грозди винограда. Аля была старше меня, она училась в школе и частенько учила уроки на лестнице, повторяя тихонько текст учебника. От нее я услышал впервые слово «Европа», конечно, засмеялся. Мои фонетические ассоциации Але были вполне понятны, но она меня заверила, что написано именно так. Запомнилось мне и какое-то застолье у тети Фаи, где я сидел с взрослыми, и мне налили стакан коричневой, вкусной браги. В центре стола стояла большая ваза с хлебом, который все доставали, накалывая на вилку.
Второй вход в дом с крыльцом приводил в правление учхоза. Именно там мы прятались, когда на площадку перед этим входом выскочил сорвавшийся с цепи разъяренный бык по кличке Пилот. Хорошо помню, как пошатнулся сарай после удара его могучего лба, а затем пришла зоотехник Елена Петровна Сташко и навела порядок. Вся деревня знала, что она не боится ни собак, ни быков. Ее спокойные, ласковые слова укрощали всех животных; также покорно пошел за ней и бык.
Третья дверь принадлежала директору учхоза Шайхутдину Гайнуддиновичу Гильматдинову и вела в его квартиру. Я помню его дочку Карину, наши мамы хотели, чтобы мы играли вместе. Однако этого не случилось, вероятно, из-за разницы в возрасте. Она была старше. Не способствовало сближению и мое поведение. Шаловливые мамы как-то начали просить меня поцеловать Карину, но услышали в ответ, что я брезгую. Карина меня ничем не отталкивала, но мне очень хотелось употребить взрослое слово, как выяснилось потом, не совсем правильно понимаемое.
Четвертая дверь вела в квартиры нескольких семей: Сурниных, Пахомовых и других преподавателей Ярославского сельскохозяйственного института. Пятая дверь открывала дорогу к лестнице, ведущей на второй этаж. Там жили Елена Петровна с пожилой мамой, Маргаритой Георгиевной, Лебедевы, еще кто-то, и кинозал. Именно на лестнице к ним кто-то из мальчишек показал мне экспериментально, что все кошки в падении легко переворачиваются на ноги.
Между кинозалом и нашей квартирой была дверь. Прежде чем ее заделали, к нам могли заглядывать зрители перед сеансом, даже тогда, когда все уже укладывались спать. Конечно, регулярной демонстрации кино не было, однако, несомненно, показывали «Молодую гвардию» (первую серию видел и я) и «Радугу» — по разговорам взрослых избыточно жестокий фильм про войну.
Воспоминания Павлика — самое ценное и достоверное из всего, на что я мог бы опереться при подготовке этой книги. Читаю я их сейчас, конечно, со слезами на глазах и щемящим чувством благодарности. Продолжу цитирование воспоминаний Павла:
Одни из самых ранних воспоминаний — красивые снегири за окном. Мы наряжаем елку в спальне — потом ее ставили только в первой комнате. За окном солнечный морозный день. Остается ночевать у нас Владлен, его укладывают на три стула около печки. Вечером приходит с работы отец, уже темно, но он идет со мной кататься на лыжах по замерзшему пруду или на санках с горки на лед другого пруда, заставляя меня поднимать их вверх. «Любишь кататься, люби и саночки возить». Отсутствие Саши позволяет предположить, что он был еще очень маленьким.
Летних воспоминаний тоже много, хотя в июне мама, как правило, увозила нас к дяде Коле в Сад (пос. Южный, впоследствии город, Харьковской области). Возвращались мы обычно с папой. Запомнилась прогулка с Владленом в ближний лес. Часть пути он меня нес, показал, как прятаться от дождя под кустом и как выглядят ядовитые волчьи ягоды. Чаще, конечно, гуляли с мамой, но немало и без взрослых. Около пруда на склоне у нас был огород, я помогал папе сажать лук, морковь и репу. Репку я очень любил, частенько мы с деревенскими мальчишками таскали ее с грядок и поедали, несильно заботясь о чистоте. Достаточно было поболтать в пруду. Играли с нами и Пахомовы — Вова и Надя. Бывали и ссоры. Обычно между одногодками — Сашей и Вовкой. Если за брата заступалась Надя, старше их на год, то уже тогда вмешивался я, еще на год старше. Все заканчивалось ее ревом.
Интересного в учхозе было много. Силосная башня, около нее — малоизвестная ныне забава под названием «гигантские шаги». Колесо на вершине столба, способное вращаться вокруг вертикальной оси. От колеса спускаются веревки, на которых можно не только висеть, но и, разбежавшись, вертеться вокруг столба вместе с колесом, отталкиваясь от земли гигантскими шагами. Ну и, конечно, лошади, коровы, козы и другие животные. Всеобщее оживление наступало, когда на практику прибывали студенты, однажды с ними приехал академик Скрябин.
Одно время была у нас свинья Танька, которую закололи, как мне кажется, в декабре. Во всяком случае, было холодно, пруд замерз. На его берегу мясник ударил свинью бревном и положил в костер. Разделывал он ее долго, у меня и других мальчишек особого интереса это не вызвало. Хотелось лишь подержать его ножи, но это не удалось. Несколько дней шло приготовление колбас, «сальтисона» (этого слова нет ни в одном из моих словарей, пишу на слух, как говорили бабушка и теща) и многого другого, столь же вкусного.
Дом этот стоит и по сию пору, недавно появилась надежда на его реставрацию и, возможно, восстановление парка с каскадом из трех прудов, его окружавших (см. Егорова Т. С. Новым Годом, старая усадьба! // «Северный край», Ярославская областная газета, 12 января 2010 г.). Добавлю и рассказ Павла о его посещении «нашего дома» уже в новейшее время — в июле 2020 года. Две фотографии из этой поездки размещу здесь. На первой (рис. 78) — Павел стоит под «нашим» балконом. Справа — Алексей Белкин, внук Павла.

В письме от 12 июля 2020 года Павел вспомнил эпизоды из детства, связанные с этим балконом:
Я вышел туда в домашних тапочках, которые были связаны из не слишком толстой верёвки. Очень хотелось погрузить ногу в корыто с дождевой водой, которую мама собирала для стирки. Знал, что нога промокнет, но это нимало не тревожило в летний день. Так и сделал. Ощущение оказалось скорее приятным. Свидетелей не было.
Второе воспоминание — это разговор папы с проходившим мимо хозяйственником (иного названия придумать не могу). Папа просил у него железо, «пару листиков». Вскоре получил и с гордостью нам поведал, что из него удалось сделать очень нужные вещи. Одна из них — это домашняя печка типа буржуйки и трубы к ней.
Вторая фотография (рис. 79) — в «нашей» комнате, ныне ставшей музеем Коковцевых. На этом фото Павел с директрисой музея Г. И. Сенюковой.

Вот ещё одна цитата из письма Павла:
Значительную часть перегородок, которые существовали в наши времена, убрали. В нашей спальне ремонт сделали, только она теперь соединена с ранее отгороженной комнатой, где жили то ли Пахомовы, то ли кто-то ещё из сельхозинститута. Дверь на наш балкон заперта, туда по понятным причинам не ходят. Лепнина под потолком во всех комнатах сохранилась с дореволюционных времён. Трубы парового отопления проводили у меня на глазах, кажется, в 1950 году.
Заглянул в соседнюю комнату, тоже нашу. Там идёт ремонт, пустота. Печки, у которой спал Владлен, а нас купали в корыте, давно нет. Вероятно, её разобрали сразу же после нашего выезда. Именно в этой комнате стояла этажерка, большой стол в центре, а между двумя окнами новогодняя ёлка и радиоточка в виде знаменитой чёрной тарелки. Я посетил наш дом с папой летом 1957 или 1958 года. Мы заходили в нашу квартиру, в то время там был детский садик.
Горько мне перечитывать это письмо… Через месяц после его получения я приехал в Кострому, мы отметили 75-летие Павла. Он, как всегда, был молод, здоров, полон планов. А через 5 месяцев его не стало: коронавирус. Горько сознавать, что эту книгу он не увидел, хотя в работе над рукописью принимал самое активное участие с самых первых моих опусов в конце 1990-х годов вплоть до редакции 2019 года. Он читал текст, вносил поправки, делал исправления, уточнения и замечания. Его соучастие придавало мне сил и уверенности в том, что я это пишу не напрасно. Теперь, когда не стало моих братьев, меня поддерживают память о них и вполне религиозное по своей сути ощущение не прекратившегося общения.
Вернусь к повествованию. Итак, Белкины переехали в Учхоз Новоселки и погрузились в ожидавшие их трудности быта. Впрочем, большинству населения жилось нелегко: время послевоенное. Жилья не хватало, у многих не было не то что квартир, но даже своей отдельной комнаты в коммуналке. Некоторые занимали всего лишь угол в общей с другими комнате. Так что какого-то особого трагизма в положении нашей семьи не было. К тому же отец был, несомненно, человеком волевым, мужественным, умным, умелым и опытным. Он шаг за шагом начал все заново. Великое счастье — и для него, и для всей семьи — было то, что во всех трудностях рядом с ним была любимая и любящая жена, наша мама. Она взяла на себя всё что смогла: и воспитание детей, и домашние хлопоты. Важную роль играла и теща — бабушка Люба. Она приезжала по очереди ко всем своим детям — дочерям и сыновьям, — когда рождались внуки и внучки, когда требовалась ее помощь. Приехала она и в Новоселки.
В конце 1949-го или в начале 1950-го, стало ясно, что в семье возможно появление третьего ребенка. Павел вспоминал об этом периоде так:
В какой-то момент вечером, в спальне, родители сообщили, что у нас будет маленький братик (интересно всё же, почему не сестричка?). Нас это привело в очевидный восторг, и мы немедленно дали ему имя Сергей. Относительно недавно узнали, что у старшей дочери дяди Коли — Аллочки — родился сын Сергей. Спрашивается, а мы чем хуже? Родители посмеялись и утвердили. Сергей родился в железнодорожном роддоме у вокзала, мы гуляли около пруда и долго ждали, когда же мама с ним приедет. Запомнилось, что папа ждал с нами, если я не путаю.
С первых дней многие соседи отмечали маленького братика как существо, очевидно, превосходящее нас во всех отношениях. Он и крупнее, и здоровее, и умнее. В экипировке Сережи появились штанишки-мишки, которых у нас, кажется, не было. Сегодня этот вид одежды называют ползунки. На его день рождения 09.07.51 явились некоторые соседи, подарили подарки, из которых я запомнил лишь разноцветную пластмассовую погремушку.
Каким был братик Павлик летом 1950 года видно на фото 80. На этой групповой фотографии, сделанной, наверное, папой, Павлик — крайний слева. Остальных детей я опознать не смогу, но ясно, что это те самые соседские ребятишки, о которых Павлик писал в своих воспоминаниях. Старая ива, склонившаяся над водой пруда, тоже вошла в воспоминания.

Я родился!
То, что я родился, несомненно, относится к разряду случайностей. Если учесть, что у родителей уже были два сына, да еще был старший сын отца от первого брака, то к моему появлению на свет можно было особо и не стремиться: род продолжен, семья большая. Но любовь решила по-своему. Случилось это событие 9 июля 1950 года в железнодорожной больнице города Ярославля. Почему именно в этой больнице? Думаю, потому что именно в ней было ближайшее к дому родильное отделение. Если из Новосёлок по Суздальскому шоссе направиться в город, то по дороге, но уже в городской черте, будет «Дорожная клиническая больница станции Ярославль». Она и сейчас там стоит. Не знаю, сохранила ли она статус железнодорожной. Но раньше система железных дорог неслучайно называлась государством в государстве, поскольку обладала обширной автономной инфраструктурой, состоявшей из медицинских учреждений, школ, производственных мощностей и всего прочего. Отметим, что моё случайное появление на свет именно в железнодорожной больнице теперь, спустя десятки лет и множества событий, выглядит символичным: всю жизнь я прямо или косвенно оказываюсь связан с железной дорогой и ее учреждениями.
Вот первая запись раздела «Серёженька» маминой «Общей тетради», к которой я ещё не раз буду обращаться (рис. 81): «Родился Серёженька: 4 кгр — вес, длина — 53 см. 9 июля 1950 года в 8 часов утра».

Сохранился и самый первый в моей жизни документ, выданный ещё в родильном отделении (рис. 82). Имени у меня пока еще не было: просто — «мальчик».
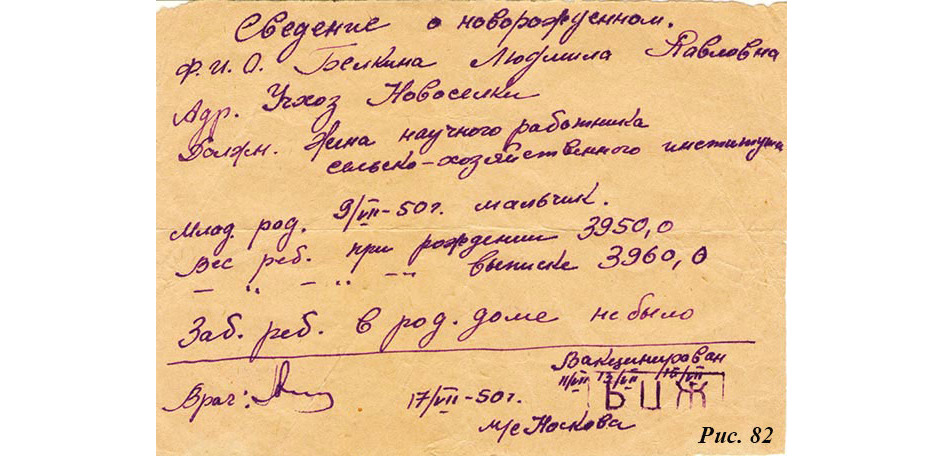
Сведения о новорожденном
Ф. И. О. Белкина Людмила Павловна
Адр. Учхоз Новоселки
Должн. Жена научного работника
Сельско-хозяйственного института
Млад. род. 9/VII-50 г. мальчик.
Вес реб. при рождении — 3950,0
Вес реб. при выписке — 3960,0
Заб. реб в род. доме не было
Врач: /подпись/
Вакцинирован БЦЖ 11/VII 13/VII 15/VII
17/VII-50 г. м/с Носкова
Можно удивляться тому, что этот документ сохранился. Но, зная отношение нашей мамы к документам вообще, тем более относящихся к детям, я не удивляюсь. Хорошо, что у меня и у моей жены такое же отношение ко всем этим «бумажкам»: все бережно храним. Надеюсь, что и в следующих поколениях этот подход к семейным архивам и семейной памяти сохранится.
Неплохо звучит мамина, так сказать, должность: жена научного работника. В этом чувствуется еще не позабытый привкус дореволюционного стиля: «вдова действительного статского советника», или «жена купца 1-й гильдии», наконец, «супруга его сиятельства графа Н.» и т. д.
Динамика привеса вызывает удивление и восторг — для тех, кто понимает. Дело в том, что в норме так называемая биологическая потеря веса в первые дни после рождения. У меня ее, как видите, не было. Вес начал набирать сразу, что и продолжаю успешно делать без перерывов до настоящего момента. (Потому, наверное, с симпатией отношусь к поговорке: «Пока толстый похудеет, худой — сдохнет!»).
Имя я получил, на мой взгляд, прекрасное. Взгляд на имена моих предков показывает, что все они почерпнуты из довольно узкого круга русских православных имен, причем видно, что не последняя роль в выборе имени отводилась благозвучию в сочетании с отчеством, а также с учетом того, чтобы и от присваиваемого имени легко образовывалось отчество. Как видите, у нас нет не только Арнольдов, Витольдов или Анжелик, но даже ни одного Валерьевича. Я думаю, это неплохо.
Судя по дате в справке, домой меня выписали 17 июля. Мама вспоминала, что и рожалось ей хорошо, и лежалось в этой больнице тоже хорошо — детей и мамаш было не так много, внимание уделялось всем, уходить домой никто не торопил.
А дома нас ждали бабушка Люба, папа, Павлик и Сашенька. Все очень радовались моему появлению на свет. Я сразу попал в надежные и опытные руки бабушки Любы. Да и мама была уже не молодой-неопытной: все-таки я — третий. Активное участие принимали и соседи — Елена Петровна и ее мать Маргарита Георгиевна Сташко. На дореволюционной фотографии, сделанной во времена, когда они жили в Петербурге, Маргарита Георгиевна ещё молодая дама (рис. 83). Во втором томе я написал главу «Дело Пронцетиса» — частично выдуманную, частично, основанную на реальной судьбе Елены Петровны и Маргариты Георгиевны. Ко времени моего рождения Елена Петровна освободилась из ссылки, работала животноводом в Учхозе и смогла взять к себе свою мать — Маргариту Георгиевну — уже тогда частично парализованную. Маргарита Георгиевна была искренне и глубоко верующей католичкой. С моей православной бабушкой она не вступала в конфликты, свойственные Католической и Православной церквям. Бабушки меня перекрестили — каждая по-своему — и вознесли приличествующие случаю молитвы. Маргарита Георгиевна поэтому считала меня своим крестником, что давало основания моим братьям иногда, в шутку, относить меня к католикам. (Вообще-то в католицизме крещение мирянами признается как полноценное, что было когда-то узаконено одним из римских пап.) Мой крестильный крестик имеется до сих пор. Я толком и не знаю, чей это крестик — Маргариты Георгиевны или бабушки Любы. Как бы то ни было, но крещен я был двумя мирянками, что в отдельных случаях (угроза немедленной гибели, например) и православными церковными канонами допускается. Возможно, то, что я крещен был представительницами двух разных ветвей христианства, представляет для ревнителей конфессиональной чистоты некоторую трудность. А может, и нет. Я к этому отношусь с иронией…

Факт моего крещения документально не подтвержден, а вот государственная регистрация рождения была осуществлена как положено. Регистрировать новорожденного следовало по месту прописки, а Учхоз Новоселки административно-территориально относился к ведению Телегинского сельсовета (а не города Ярославля, как стало позднее). Так местом моего рождения, указанным в свидетельстве о рождении, стало село Крест Телегинского сельсовета. (Об истории этого села я написал в предыдущем — втором — томе.)

Свое повествование о наших предках я начал писать давно. В 2000 году это уже была толстая рукопись, которую я в нескольких экземплярах распечатал и переплел, озаглавив «Русские, греки…». Павел основательно «прошелся» по всей рукописи ещё до ее помещения в переплет. При этом и не только исправлял неточности, но и, время от времени, вписывал свои замечания на полях. Одно из них касается моего появления на свет. Видимо, размышлений у отца с матерью на сей счет было немало: и без третьего ребенка живется нелегко. Прямо скажем — трудно. Ни жилья нормального, ни уверенности в будущем: личная судьба только что показала, что готова на неожиданные и опасные зигзаги. В своей ремарке — в том месте, где я описываю свое появление на свет — Павел кое-что добавил.
Маргарита Георгиевна имела, как она считала, веские основания считать Серёжу своим крестником, поскольку она — вероятно, не только она — отговаривала маму прерывать беременность. И ещё. Мама шла зимой в метель к врачам, но по пути упала. Подумала, что природа не одобряет ее сомнений-размышлений, вернулась и решила оставить ребенка.
Ну, что ж: элементы холистического мироощущения (это я сегодняшний оперирую подобными категориями, а не моя мама) способны украсить любую биографию. Сформулирую это в возвышенной поэтической форме: Любовь и Счастье не покинули нашу семью, вопрос «рожать или не рожать» решился благоприятно — с точки зрения меня, родившегося…
Приведу и другие ремарки Павла. На рис. 85 копия одной из страниц рукописи с записями Павла, касающимися моего появления на свет и первого дня рождения. Там же он нарисовал подаренную мне погремушку. Кроме того, он обратил внимание на мои слова, описывающие возвращение в Ярославль из Харькова в конце лета 1951 года. Я писал так: «После ласкового, теплого, изобильного юга в окружении любящих и заботливых родственников было, наверное, довольно тоскливо возвращаться в суровую северную осень, напоминающую южную зиму, возвращаться в неприспособленное жилье. Это, однако, мои домыслы: никаких жалоб со стороны родителей я не помню». Павел возмутился: «Нечего приплетать ностальгию кишиневцев! Мы каждый раз изо всех сил рвались домой. Никаких суровых осеней у нас не было, как нет их и сейчас у всех людей, одетых по погоде».
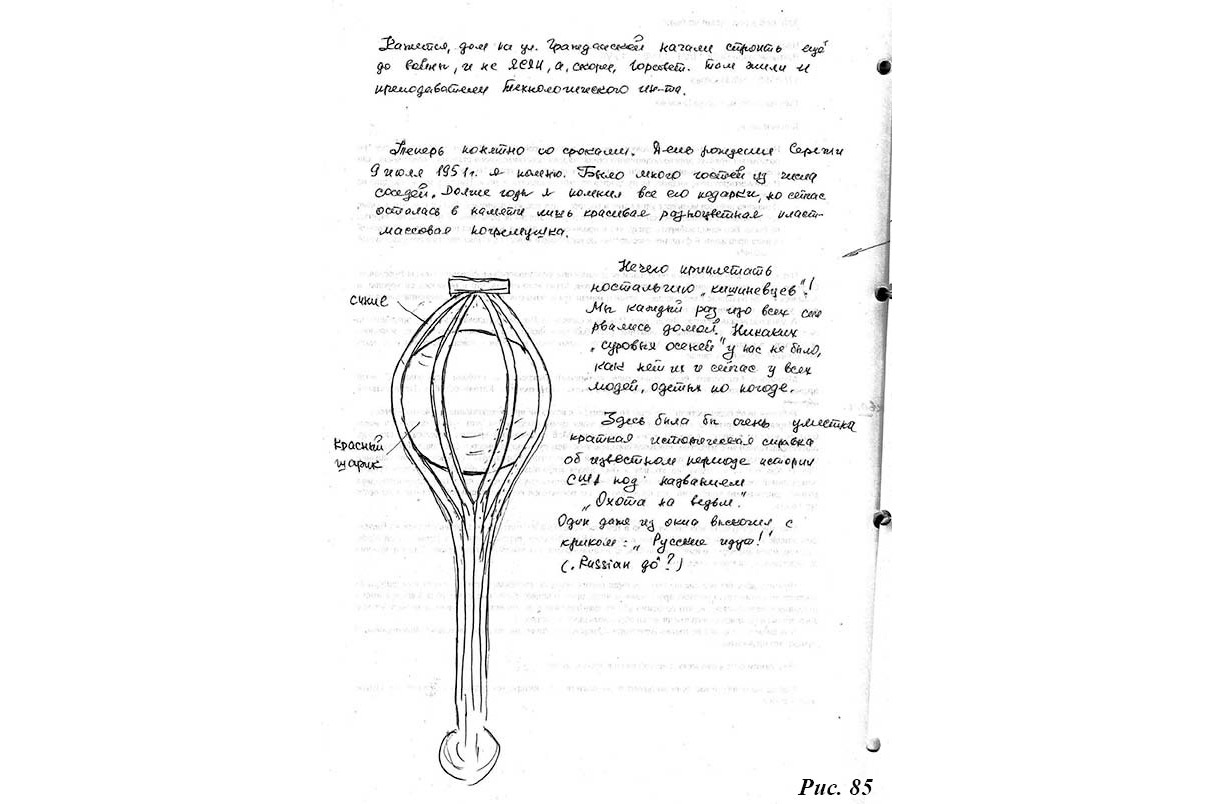
Ещё один интересный документ, связанный с моим рождением, сохранился в семейном архиве (рис. 86): Решение о назначении государственного пособия от 25 ноября 1950 г. В нем сказано, что «в связи с рождением третьего ребенка многодетной матери назначено единовременное пособие в размере 200 рублей.
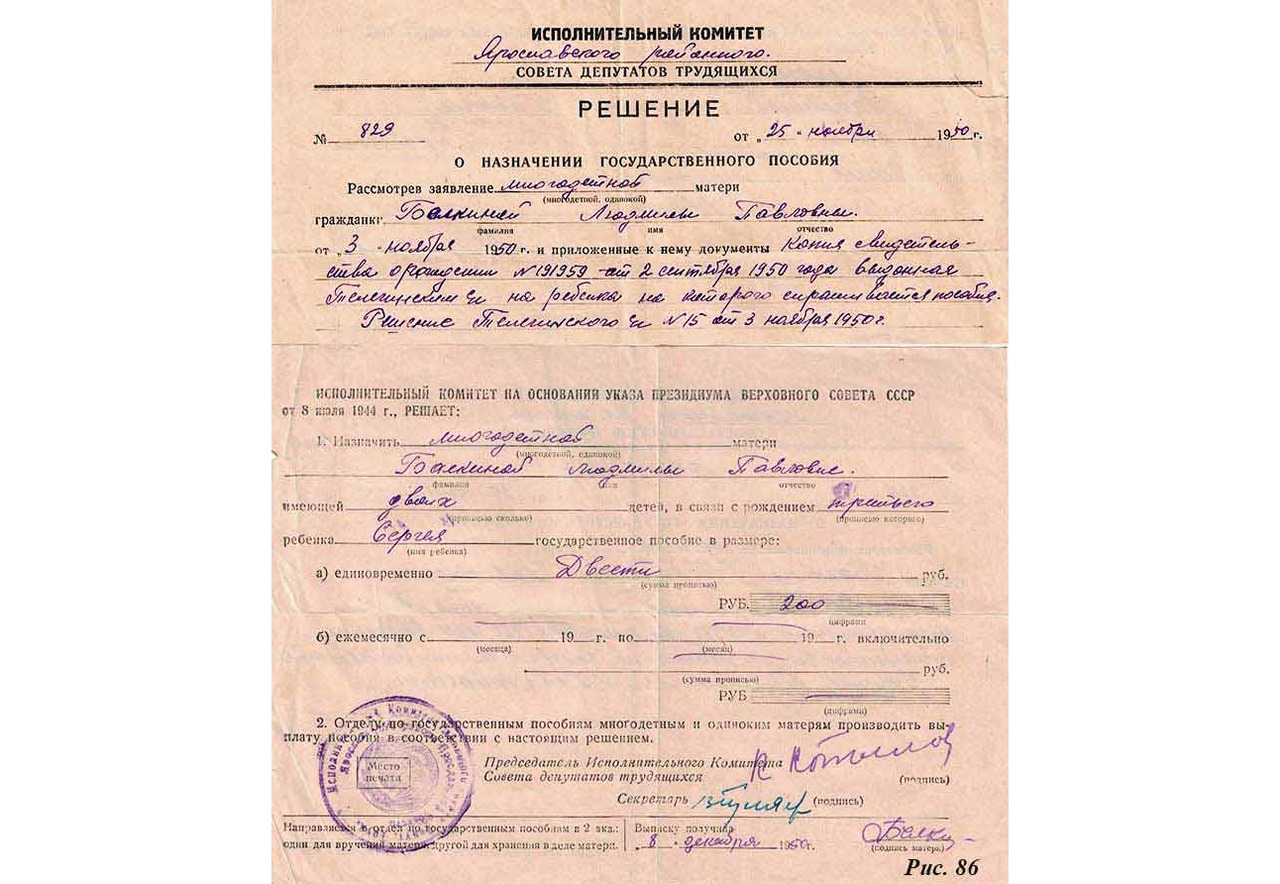
Жизнь в учхозе
Из родильного отделения Ярославской железнодорожной больницы меня привезли в описанные выше комнаты в бывшем доме-усадьбе Коковцевых. О том, как мы там жили, Павел рассказал замечательно. Его воспоминания, в которых описаны и наш быт, и соседи, и много разных эпизодов, ставших частью семейных воспоминаний и легенд на долгие годы, — бесценны. Продолжу цитирование:
Второго мая (год не помню) мама гуляла с нами, точнее, больше сидела на маленьком острове ближнего пруда, а мы бегали вокруг. День был настолько душным, что все ждали грозу. К ночи дождались. Было так страшно, что родители держали меня на руках и успокаивали, обещая, что больше грохотать не будет. Электричество отключили, вспышки молнии были очень эффектными. И, наконец, когда я собирался перестать плакать, поверив родителям, раздался такой гром, что дом вздрогнул. Молния ударила в сарай на другом берегу пруда, это примерно в 100 м от нас. Утром мы ходили смотреть, как дымятся остатки большого деревянного строения.
Со временем я стал выходить на улицу только с Сашей, оберегая его от неприятностей. Это очень умиляло окружающих, и они любили спрашивать, сколько же мне лет. От ответа еще больше веселились, поскольку я говорил, что мне будет 5 лет в августе. Значит, это был 1950 год. (Прим. С.Б. — На фото 87 Павлик летом 1950 г.). Неприятностей же я опасался двух. Первая — реальная, постоянно подстерегающая. Младший брат всё брал в рот, особенно картонные пробки от водочных бутылок и прочее, что валялось у входа в магазин, т.е. в наш дом. Вторая — коршун, способный унести Сашу неизвестно куда, а то еще и съесть. Коршун представлялся мне достаточно большой птицей, однако совершенно неспособной хоть как-то повредить мне. Вероятно, это действие сказок, где гуси-лебеди могут унести маленьких, но я-то уже большой.

Однажды у нас с Сашей перепуганная мама обнаружила вшей. Несколько дней нам обрабатывали головы керосином. Процедура неприятная (сейчас уж и не знаю почему), но мы ее терпели. Правда, Саша разок оказался обманутым, когда радостно подбежал к маме с какими-то ласковыми целями, а она, крепко схватив, стала протирать ему голову противной жидкостью. Тогда он заплакал и горько произнес ставшую впоследствии бессмертной фразу: «Не для этого я к тебе пришел». Эта фраза вошла в семейную фразеологию и нередко нами (братьями) использовалась в подходящих случаях.
В Новоселки снова приезжал дедушка Иван, ходил с отцом по опытным делянкам института. Побывали у нас и тетя Граня, а также Ася (может быть, мамина двоюродная сестра), которая сшила мне красную косоворотку, зафиксированную на фотографиях.
Немало игр было у нас и в доме. Рано утром мы бежали рисовать, вопреки требованиям родителей умываться и одеваться. Рисовали красками и карандашами, чаще всего Ленина и Сталина, иногда и в мавзолее, хотя младший из них был жив. Места в доме было, как нам казалось, много, можно было легко катать по полу перевернутые кверху ножками скамеечки и ловить их. Саша мог заиграться и довести дело до неприятностей. Мама начинала его ругать, но я обязательно заступался и говорил, что она сама виновата. Почему ему раньше не предложила сходить на горшок?
У входа в квартиру стоял ящик с картошкой. Как-то раз родителей долго не было дома, скорее всего, мама задержалась у тети Фаи. Александр придумал новую игру: бросать картошку на дверь и давить ее ногой на лету. Проказа требовала определенной ловкости, поэтому думаю, что картошки мы испортили немного. Автор игры называл это «делать па́хло». Мне больше нравилось втыкать в картошку нож, но согласился и на его вариант. Досталось нам от мамы здорово.
«Па́хло» — ещё одно слово, вошедшее в семейный лексикон. И не только слово, но и сам процесс-игра: я тоже сподобился «играть в па́хло» — но уже в Саду у дяди Коли и тети Лены. Вместо картошки использовались подгнившие яблоки-падалица. Продолжу цитировать Павла.
Довольно долго я играл деталями пульверизатора, постепенно с помощью взрослых разобрался в его устройстве, однако собрать и проверить в действии не мог. Наконец, попалась на глаза банка с отверстием подходящего диаметра. Тогда я набрал туда воды — естественно, холодной, — закрыл пробкой с распылителем, подсоединил грушу и пошел испытывать. Лучшего объекта, чем бабушка Люба, не нашлось. Подойдя к ней сзади, я пустил струю воды ей за шиворот. Закричала она от неожиданности очень громко, вероятно, свое любимое междометие: «Ву́си, ву́си». Почему-то меня никак не наказали.
В те годы у нас появился электрический фильмоскоп (подарок дяди Лени) и диафильмы. Потом купили и ручной, направляемый на свет, который нравился мне гораздо больше. Многие ленты сохранились, даже вторая серия знаменитого фильма «Повесть о настоящем человеке», у которой первые два кадра слизнул двухлетний Саша. Любил я слушать радио — большую черную «тарелку», ожидая перечень товаров, на которые будет очередное снижение цен. Меня интересовал двухколесный велосипед, о них говорили в конце, и дождаться было нелегко. Обычной нормой было снижение на 25% или 50%, цифры запомнил, хотя и не понимал, что такое проценты. Изредка бывал в гостях у Лебедевых, их старший сын показывал мне магниты своего электроконструктора и другие игрушки. Впоследствии они жили напротив нас на улице Гражданской, сын поступил в МФТИ и успешно окончил.
Очень распространенной и популярной игрой были кубики с картинками, которые нужно было составлять, родители уделяли таким играм много внимания. Купили нам и мозаику похожего назначения: шесть картинок, которые нужно было сложить из картонных элементов. До сих пор помню первые три: разноцветная бабочка на синем фоне, Баба-яга в ступе с помелом и слон на желтой песчаной дорожке.
Вечерами мы играли довольно долго, иногда засыпая на ходу. Мама или бабушка Люба раздевали нас и относили в кроватки. Случалось, я делал вид, что уже сплю, потому что не хотел раздеваться самостоятельно. Реже мама укладывала нас спать в назначенное ею время. Эта процедура сопровождалась пением колыбельных песен, как правило, по заказу слушателей. Основной репертуар я обозначал цветами, вероятно, так повелось еще в Днепропетровске. Зелёной песней было «Полюшко-поле», синей — «Раскинулось море широко», красной — «Утро красит нежным цветом…», черной — «Темная ночь».
Упомянутое бабушкино междометие «ву́си, ву́си» — что-то, видимо, из ее греческого быта и языка. «Цветные песни» — замечательное детское изобретение Павлика, мы — младшие братья — тоже к этой маркировке песен впоследствии приобщились. Фильмоскоп, о котором Павлик вспоминает, вероятно, сохранился в семье его детей и внуков до сих пор. Помню его хорошо: громоздкий, черный, со стеклянным круглым окошечком сбоку: оно было окрашено прозрачным красным лаком, который постепенно трескался и осыпался. Внутрь устанавливалась обычная большая бытовая электрическая лампочка, но поярче, желательно не менее «ста свечей». Нижняя часть корпуса представляла собой матерчатую занавесочку — шторку. Она не пропускала свет, сохраняя затемнение в комнате, но давала возможность проходить воздуху, обеспечивая конвективное охлаждение. Долгие годы этот фильмоскоп служил нам верой и правдой, пока не появились современные устройства. Одно из них — с дарственной надписью бабушки Любы на обратной стороне крышки футляра — хранится у меня до сих пор.

На фото 88, сделанном папой 5 октября 1950 года бабушка Люба с внуками Павликом (слева) и Сашей (справа). Вспомню ещё одну вещь, ставшую частью семейных преданий, — разновески: на фото 88 Саша держит их в руках. Разновески — это стандартный для любой лаборатории, где используются аналитические весы, набор гирек от 1 до 20 граммов. В набор наряду с гирьками входили и плоские алюминиевые разновески весом 100, 200 и 500 мг, и почти совсем невесомый «гусарик» — проволочный завиток весом 10 мг. Все это размещалось в деревянном футляре, внутри которого для каждой гирьки имелась полость, оклеенная мягкой тканью. В набор входил и пинцет: гирьки брать руками не полагалось: пот и жир, имеющиеся на пальцах, не только оставляют отпечатки для криминалистов, но и изменяют вес гирек и особенно — легчайших разновесок. Гирьки были блестящими, полированными. Неудивительно, что маленький Сашенька влюбился в них и не хотел расставаться. Так — с разновесками в руках — он и запечатлен ещё на одной фотографии (фото 89).

Для тех, кто не знает или позабыл, что такое разновески, помещу фото, взятое из Интернета (рис. 90). Продолжу цитирование воспоминаний Павла.

Приятными событиями были путешествия в город, когда родители — как правило, мама — брали меня с собой. Для этого требовалось пройти пешком 4 км до вокзала, а далее можно было ехать на трамвае или троллейбусе. Дорога шла полем, недалеко от нее стояли жилые домики, несколько дальше — птицеферма. К восторгу взрослых маленький Саша называл ее «курицебазой», что может свидетельствовать о врожденном умении проникать в суть вещей. Бывало, я хныкал, особенно по дороге назад, от усталости, но мама умела меня успокаивать и отвлекать, чаще всего пением песни «Эх, дороги, пыль да туман». Относительно недавно, то есть 22.05.99, мы проделали примерно такой же путь. Костромской таксист высадил нас на углу ул. Фрунзе и Суздальского шоссе, это почти у вокзала. Шли мы больше часа, почти не блуждая, хотя дорогу я точно не помнил. Практически все застроено домиками Суздальского поселка, последние две-три сотни метров заставлены справа гаражами, а слева — то же поле. Вход в Новоселки узнал и сын, которого я водил туда в 1981 году из дома Елены Петровны.
В городе я радовался не только обилию впечатлений, но и возможности съесть пирожное, которое мама часто мне покупала. Наиболее запоминались, конечно, магазины, особенно на улице Кирова. Иногда мы возвращались другой дорогой. От вокзала шли по Московскому шоссе до села Кресты, а оттуда менее 1 км вниз под гору до нашего дома в Новоселках. Шоссе в этой части было сплошь застроено деревянными одноэтажными домами. Я очень любил разглядывать таблички на них, там изображались различные средства тушения пожаров, имеющиеся в данном доме: багор, лопата, ведро, песок и др. Сейчас этих домов нет, на их месте стоят многоэтажные, сохранилась только церковь села Кресты, которая хорошо была видна из нашего дома.
Описанную Павликом дорогу через Суздальский поселок помню и я, но уже в более поздние годы, когда мы ходили в гости к Елене Петровне и Маргарите Георгиевне Сташко, живших в домике по адресу 1-й Суздальский пер., д. 27.

На семейной фотографии, сделанной летом 1951 года под упоминавшейся старой ивой на берегу Новоселковского пруда, вся семья в сборе (фото 91). Я уже появился на свет и стал центром — этой фотографии и семьи. Крепко стою на ножках, держа в одной руке барабанную палочку, а другой что-то показываю. Фотографию в свое время обрезали, чтобы вставить в овальную рамку. Долгие годы она пребывала среди разных предметов, стоявших на крышке пианино: часы с боем, мраморные слоники, другие фотографии в рамках, изящная узкая и высокая, прямоугольного сечения стройная ваза синего стекла «на один цветок» и т. п.
Паровозный свисток
В июле и августе 1951 года мы поехали к тете Лене и дяде Коле! Вот уж событие так событие: мое первое в жизни путешествие на поезде, через Москву — в Харьков!
В маминой «Общей тетради» имеется запись: «Ездили в Сад из Ярославля в 1951 году на два месяца с 25 июля по 25 сентября. Я с Павликом, Сашенькой и Сереженькой. Очень хорошо загорели, окрепли». Стало быть, в году, когда я пишу эти строки (2021), я могу отметить юбилейный срок моего знакомства с Москвой — 70 лет! Для меня это важно: я очень люблю Москву, любил ее всегда, где бы ни доводилось жить. Однако для переезда в любимую Москву понадобилось прожить на свете более сорока лет (поселиться в Москве удалось только в 1992 году).
Ежегодные поездки в Харьков стали семейной традицией на многие годы, а сама дача дяди Коли и тети Лены — почти сакральным объектом всеобщей любви и приятных воспоминаний на всю жизнь. Свои мысли и воспоминания об этих поездках на протяжении всего десятилетия 1950-х годов я объединил в главе «Харьков. Сад. Южный».
О той первой поездке у меня, конечно, личных воспоминаний нет, но в семейном эпосе существовала история, связанная с ней. Начну с записи в маминой тетради.
25 сентября 1951 года возвращались из Харькова, где прожили в Саду 2 месяца, в Ярославль. Поезд отправляется в 11 часов вечера. Сережа сильно испугался паровозного гудка, плакал сильно, потом все как будто бы прошло. 27 сентября 1951 года стали замечать небольшое косоглазие, причину не знаю.
Мама разумно пишет: «причину не знаю». Но потом кто-то принялся высказывать предположение, что причиной мог быть испуг от паровозного гудка. И такая версия допускалась тогдашней медициной. Прокомментирую спустя семь десятилетий. Связь косоглазия с испугом от свистка — чушь, разумеется, полная. Явление детского косоглазия имеет иную природу и давно довольно успешно лечится, но в те времена лечить не умели. Мама показала меня врачам вскоре после переезда из Новсёлок в город — весной 1952 года. Прогресс в этом вопросе аккуратно отставал от моего взросления: лет в пять говорили — «вот, если бы вы в три годика обратились», в семь — «вот если бы в пять», в десять — «вот если бы в семь»…
В три года, однако, совершенно точно обращались, и не куда-нибудь, а в клинику глазных болезней имени Гельмгольца в Москве на Садовой-Черногрязской. Она и по сей день там, а у меня в семейном архиве по сей же день хранится ответ профессора Сергиевского на обращение. Подробнее об этом и встречах с другими врачами в главке «Глаза и зрение».
Новогодняя ёлка
Если моя жизнь в первые два-три года жизни ограничивалась семьей и теми людьми и местами, куда меня могла взять с собой мама, то у старших братьев уже было кое-что поинтереснее: у них была своя жизнь во дворе и даже далеко за его пределами, в городе. Через несколько лет и я кое к чему приобщусь, но в первые годы все, в том числе и праздники, происходило в пределах семьи. Были праздничные застолья, отмечались дни рождения и государственные праздники — 7 ноября и 1 мая, — дарились подарки маме и бабушке ко дню 8 марта. Разумеется, праздновался и Новый год. Я не помню, как это происходило в Новосёлках, но Павел описал.
Как и сейчас, главным праздником был Новый год. Елку приносил папа, вероятно, из ближайшего леса. Игрушки уже были, картонные, ватные и из тонкого разноцветного стекла. Интересно, что на елке зажигали свечи, не слишком опасаясь пожара. Подсвечники были двух сортов. Старые темно-зеленые (может быть, еще довоенные) иглой втыкались прямо в ветку. Более новые крепились к ней зажимом типа «крокодил». В обоих случаях сверху вставлялись свечи и ненадолго зажигались. В дальнейшем их сменили электрогирлянды. Подарили мне однажды и конфетти, но не сказали, что делать с этим устройством. Играл я с игрушкой не одну неделю. Сначала разорвал патрон и несколько дней перебирал разноцветные бумажные кружочки. Потом использовал патрон как трубку для различных целей. После его износа или просто наигравшись, я разобрал и патрон. Внутри были два склеенных картонных диска на ниточке, их можно было легко крутить. Как-то вечером наступила роковая минута, это было в нашем сарае, в присутствии родителей и почти в темноте. Я решил зачем-то отделить один кружок от другого. Раздался взрыв, сарай осветился яркой вспышкой, левая ладонь обожглась так сильно, что плакал я до ночи весь вечер. Особенно болела тонкая кожа между большим и указательным пальцами.
Как же хорошо, что Павлик все это описал! Благодаря его записям и воспоминаниям о нашей жизни, которые всегда звучали в семье и от родителей, и от братьев, я тоже представляю ту атмосферу, в которой прошли первые полтора года моей жизни.
Вспоминая ёлочные игрушки, могу сказать, что кое-что с тех самых пор удалось сберечь. Например — два больших стеклянных шара: с васильками на белом фоне. Шары окрашены краской, которая постепенно облупилась, и сейчас на них остались только фрагменты белого фона и васильков, нарисованных кистью вручную. Сохранился самодельный Кот в сапогах (фото 92). Делали его папа и Павлик. За основу взяли готовый контурный рисунок и раскрасили цветными карандашами. Затем рисунок вырезали ножницами, потом по его контуру вырезали картонную основу и на нее наклеили раскрашенного кота. Сверху приделали петельку из черных ниток — чтобы можно было вешать на елку, — и кот готов. Сделано это было до моего рождения, так что кот достиг уже немыслимого даже для сказочного кота возраста — далеко «за семьдесят». Храню его до сих пор среди многих других старых елочных игрушек. Добавлю, что его размер — сантиметров 20 в высоту. Я его давно не вешаю за веревочку, а усаживаю верхом на ветку вблизи ствола.

Кроме семейных праздников, были и события, происходившие в городе. Павлик описал празднование Нового года в Ярославском дворце пионеров. Он бывал там не один раз, в том числе и тогда, когда меня туда ещё не приводили. Позднее, годика в три-четыре, и мне посчастливится там побывать. В семейном архиве сохранился билет на елку нового 1958 года (рис. 93).
Важнейшим же событием было посещение новогодней елки во Дворце пионеров. Туда возил нас чаще папа, иногда на санях. Повидав новогодние елки в Кишиневе и Костроме, я теперь вижу, что до ярославской им далеко. Представление начиналось в зале с обычной интермедии — пришествия на сцену Деда Мороза. Нас особенно интересовало, каким транспортом он на этот раз прибудет. Возможные варианты — сани, автомобиль, корабль. Слово «ракета» тогда означало лишь сигнальное устройство, выпускаемое из ракетницы. Эра полетов в космос еще не началась, лишь с годами ракета стала транспортным средством, в том числе и для Деда Мороза.

После представления на сцене артисты цирка появлялись непосредственно у елки, то есть среди нас. Тут и фокусники, и эквилибристы, и клоуны, и прочие. Действо продолжалось долго, нетерпеливые, как мы, могли много раз выбегать в коридор и заходить в другие комнаты, где было всё остальное. Обязательно работали карусель, гладкая деревянная горка, комната кривых зеркал, набор аттракционов, позволяющих продемонстрировать свою ловкость, например, бильбоке. Великолепная комната сказок: невысокое сооружение, где в рост могли стоять только дети. Внутри полумрак, фанерные стенки разрисованы башнями, замками далеких восточных и западных стран. На полу подушки, на них полагается сидеть. Потом туда пробирается «бабушка» в старинной одежде и начинает рассказывать сказки. Бывал и фотограф, творчество одного из них зафиксировано в семейных архивах и не требует комментариев для посвященных (рис. 94).

Периодически мы возвращались в зал к елке и смотрели на очередных артистов. До сих пор не могу спокойно проходить мимо этого дома в Ярославле, с дорическими колоннами у входа. Именно на их примере папа еще тогда объяснял нам разницу между упомянутыми, ионическими и коринфскими.
…Мне тоже довелось получить этот «урок архитектуры» от отца. Позднее моим постоянным учителем в этой области культуры стал брат Саша, выросший до профессора архитектуры. Ему я обязан очень многим — не только знаниями, но и особым навыком: умением смотреть и видеть. Возвращаясь ко входу во «Дворец пионеров» — до революции здесь было коммерческое училище имени Ярослава Мудрого, построенное по проекту Н. Д. Раевского в 1914 году, — я бы уточнил: это все-таки тосканский ордер. Не идеальный, но — тосканский, а не дорический. Эти ордера похожи, а те, колонны, что обрамляют вход, внесли дополнительную путаницу: сама колонна гладкая, без каннелюр, как в тосканском ордере, а капитель больше похожа на дорическую. Колонны второго этажа — ионические во всей своей классической красоте (рис. 95).

В январе 1952 года отец привез из города мебель. Ею был занят почти весь кузов открытого грузовика. Сейчас я могу вспомнить только шесть березовых стульев (один из них существовал свыше 30 лет, если не более) и детский диванчик, который пришел в негодность лет через десять. Вероятно, там был буфет, а, может быть, и новые кровати. 2-го февраля мы переехали в город, непосредственно в здание папиного института.
Воспоминания Павла подошли к одному из важных рубежей всей нашей жизни — переезду из Новосёлок в город. Об этом — в следующих главах.
Ярославль
Переезд в город
Отец продолжал трудиться в институте. Свой каждодневный путь на работу — «четыре километра до трамвая» — он проделывал, опираясь на палку, поскольку ноги, вследствие поражения бруцеллезом, отказывались ходить. Отец иногда «приводил их в чувство» обливая спиртом и поджигая его. Болевой шок, вызванный ожогом, возвращал на время ноги «к жизни». Полагаю, что когда отец поступал на работу в Ярославский сельхозинститут, существовала договоренность о том, что жилье в Новоселках предоставляется на первое время, а потом дадут что-то получше. Напомню, что в те времена граждане не были собственниками квартир. Все квартиры в стране принадлежали или государству, или предприятию, а гражданам их предоставляли в пользование в порядке очереди. Очереди формировались по месту работы. Чтобы встать в очередь, надо было соответствовать неким критериям, считаться «нуждающимся», в связи с чем действовали некие «нормы». В разных городах нормы были разными — в зависимости от фактического положения дел. Например, в Москве в 1970-е годы основанием для постановки в очередь считалось менее 5,5 кв. м. на человека, а в послевоенные десятилетия — и того меньше. Таких граждан брали на учет и формировали очередь: по мере ввода в строй нового жилья, очередь двигалась. Обычно такое «движение» составляло несколько лет. Были и категории «внеочередников»: Герои Советского Союза, например, инвалиды, матери-героини и т. п. Они образовывали свою очередь, которая двигалась несколько быстрее общей.
Фактическое обеспечение жильем в пятидесятые годы составляло около 5,1 кв. м. на человека в среднем по стране. Иногда особо ценных работников приглашали на работу с предоставлением жилья сразу же. И это были не только директора или другие начальники, квартиру могли дать и учителям и врачам, если в этом населенном пункте в них была острая нужда, и возможность предоставить жилье имелась. Отец относился к «ценным работникам», и жилье ему предоставили сразу — в Новоселках. А вот улучшение жилищных условий — это уже другой процесс, и у него тоже были свои правила.
Первым этапом улучшения жилищных условий стал переезд из Новоселок в институт. Произошло это в феврале 1952 года. В маминой тетради есть запись: «Живем со 2 февраля 1952 года в институте. Из Учхоза уехали. Наконец-то». Вот и все письменные эмоции. В действительности, надо думать, эмоций было куда больше. При всей романтичности проживания в бывшей усадьбе графа Коковцева бытовые условия были крайне неблагоприятные, жить было трудно, а если учесть, что на руках было трое маленьких детей, то маме можно только посочувствовать. Но мама была хорошей женой, матерью и умела создать в семье атмосферу радости, как бы ни было трудно.
Фраза «живем в институте» означает в самом прямом смысле в институте, то есть в учебном корпусе Ярославского сельхозинститута, в котором отгородили часть коридора и поселили в аудиториях несколько семей сотрудников — из числа остро нуждающихся. Я считаю, что как временная мера такое решение квартирного вопроса было вполне нормальным. И хоть мы все — семь человек (наша семья, бабушка и няня) — жили в двух комнатах, это не было чем-то особенно плохим. Большая часть городского населения России жила тогда не лучше. А в крупных городах большинство жило в коммуналках, красочно описанных многими мемуаристами. Но страна восстанавливалась, жилье строилось, и постепенно, люди переселялись из худших условий в лучшие. Помимо прочего, жизнь в институте — это была жизнь в городе, а не в пригороде. Это означало не только очень важную возможность пользоваться магазинами, рынком и прочими благами цивилизации, но и поликлиникой. Чем матушка и воспользовалась, обратившись к окулистам по поводу замеченного отклонения глазика. Вот как медицина того времени пыталась меня лечить от косоглазия: «…В апреле-марте стали лечить глазок Сереженьке. Приняли 17 сеансов ионо-форез-электризации, но пока ничего не изменилось». С прискорбием докладываю, что и спустя многие десятилетия ничего не изменилось. А что касается ионофореза — позднее его стали называть еще и электрофорезом, — то неудивительно, что никакого эффекта он не оказал. Я и представить себе не могу, на что в этом случае рассчитывала тогдашняя медицина. Ионофорез — метод направленного переноса ионов в электрическом поле. В медицинской практике этот метод использовали, чтобы доставить ионы лекарственного вещества, растворенного в воде, в глубокие подкожные слои. Не берусь даже предполагать, какими лекарствами собирались лечить косоглазие… Впрочем, применение электричества в медицинской практике хотя и началось довольно давно, но к середине ХХ века все ещё делало первые шаги.
Жизнь в институте
То, что мы жили в главном здании Ярославского сельхозинститута, — действительно необычный факт для любой, даже экзотической, биографии. Дирекция, аудитории, лаборатории, кафедры и все прочее в этом здании продолжали свою работу, студенты приходили на занятия, работники — на работу, а мы — несколько семей — жили в отгороженном закутке. Здесь я снова прибегну к «Воспоминаниям» старшего брата, в которых это описано достаточно подробно и весьма точно. У меня тоже есть личные воспоминания об этом периоде, видимо, это мои самые первые впечатления из всего, что помню. Поделюсь ими, но сперва — цитаты из текста Павла. В нем много важных деталей и подробностей, о которых мог рассказать только он.
Ярославский сельскохозяйственный институт находился на улице Володарского, в доме №6 и занимал четырехэтажное здание из серого кирпича (сейчас там один из корпусов Политехнического института). Здание проектировалось с изрядным запасом прочности, как и все учебные заведения, которые в случае войны были или будут госпиталями. Точно такое же здание стоит на параллельной улице Мологской (теперь это улица Победы), в нем располагается средняя школа №44, в которой учились мы с братьями. Часть четвертого этажа в институте отгородили, там были устроены временные «квартиры» для преподавателей. Нас там проживало 3 или 4 семьи. Ближние к нам — Каретины, с их сыном Алешей, моложе меня на один год, я часто играл. Он довольно неплохо пел песню «Летят перелетные птицы», когда вечерами мы сидели во дворе, иногда с родителями. В другой семье тоже был мальчишка, но постарше, с ним играли реже, по моим понятиям он слишком зазнавался, а бывало, и доводил меня до слез (без рукоприкладства). Наша семья занимала две комнаты. Одна из них представляла собой маленькую аудиторию, которую полностью занимали четыре кровати по углам, стол в центре и этажерка у окна. Расстановка привычная для многих общежитий. Другая комната (кухня) являла собой часть коридора между двумя перегородками — глухой и с дверью. Окно спальни выходило в институтский двор, из коридора и кухни виднелись крыши города и моя школа. Туалет был общий в конце коридора. Унитаз с бачком надолго поразил мое воображение своим техническим совершенством. В Новоселках такого не было, а в Днепропетровске я его не запомнил.
Жизнь в институте имела множество удобств. Во дворе можно было наблюдать занятия, проводимые военной кафедрой. При особом везении студентам давали винтовки и пулемет (думаю, неисправные). В углу двора стояла давно разбитая легковая машина, однако на ней сохранились привлекательные для нас хромированные детали. Родители долго не могли выбросить их из дома. Двор окружали удобные для лазанья заборы, в некоторых местах были сарайчики с чердаками, куда мы легко пробирались. Особенно понравился чердачок над помещением с титаном, туда мы часто лазили с Вовкой Полетаевым, жившим в соседнем доме. В фасадной части двора были деревья, кусты и лужайки, на которых студенты иногда играли в волейбол. Однажды кто-то из них буквально оглушил меня мячом, которого я совершенно не заметил. Очнулся уже на руках одного из них. Убедившись, что я видимым образом не пострадал, студенты отпустили меня бегать дальше.
Самое интересное было в здании, по которому нам никто не мешал ходить. Большие стенды с муляжами домашних животных, снопы растений и прочие учебные пособия, размещенные в коридорах. Наконец, всегда можно было зайти к отцу в его кабинет заместителя директора института. В большинстве случаев он был занят, но ближе к вечеру иногда и мне уделял внимание. Почему-то не помню рядом Александра. Произвел впечатление «фокус», показанный мне папой в какой-то химической лаборатории. Назывался он «превращением воды в молоко». Действительно, папа слил две бесцветные жидкости из двух пробирок в одну, и получилась молочно-белая. Глядя на мое недоумение, сотрудники лаборатории весело смеялись, а я запомнил новое для себя слово «химия».
Иногда по вечерам папа брал меня с собой в аптеку. Там он регулярно покупал минеральную воду «Боржоми», прописанную ему врачами от язвенной болезни. Для меня такие прогулки были серьезным поощрением, особенно в хорошую погоду тихим зимним вечером по довольно ярко освещенному проспекту Шмидта. На тротуарах было много ледяных дорожек, по которым я с удовольствием катался. Убегал я от отца ненадолго, с ним было очень интересно, потому что он знал ответы почти на все интересующие меня вопросы.
Самым же интересным было посещения фотолаборатории. Отец увлекался фотографией еще с аспирантских времен. Своего фотоаппарата у него тогда еще не было, но он мог пользоваться институтским. Я его помню — большой тяжелый, кажется, немецкий «Exact», с хорошей светосилой 1:2. Папа печатал фотографии и объяснял мне то немногое, что стоило объяснять семилетнему ребенку. Иногда даже разрешал класть фотобумагу в проявитель или закрепитель, не забывая сообщать и другие названия — вираж и фиксаж. Кажется, первое из них в наше время забыто.
К этому времени я уже научился читать и писать. Считается, что я освоил чтение самостоятельно, постоянно спрашивая у родителей, где какая буква. Не уверен, что это было так, но занятий со мной явно не было. Во всяком случае, летом 1952 года я читал легко и даже выпросил у родителей деньги на покупку книжки в институтском ларьке. Называлась она «В старом городе Лахоре», читать ее было неинтересно, но уж очень хотелось что-то купить самому. До этого, годом раньше, я прочитал «Каштанку» А. П. Чехова и всю жизнь считал ее своей первой книжкой. Сохранилось и мое письмо отцу (неотправленное), который был тем летом в короткой командировке. Несмотря на ошибки можно понять, что Сережа тяжело заболел (название болезни искажено до неузнаваемости), и папа должен срочно приехать. (Фото сохранившегося письма приведено в главе «Детские болезни»: «Сереженька заболел апенгитам» — прим. С.Б.).
Прерву цитирование и приведу фотографии этого (1952) года. На одной из них (рис. 96) — Саша (слева), Павлик (справа) и Люда Христофорова, двоюродная сестра — посередине. На второй (рис. 97) — упоминаемая в воспоминаниях Павла няня — Галя Московцева. Продолжу цитирование.
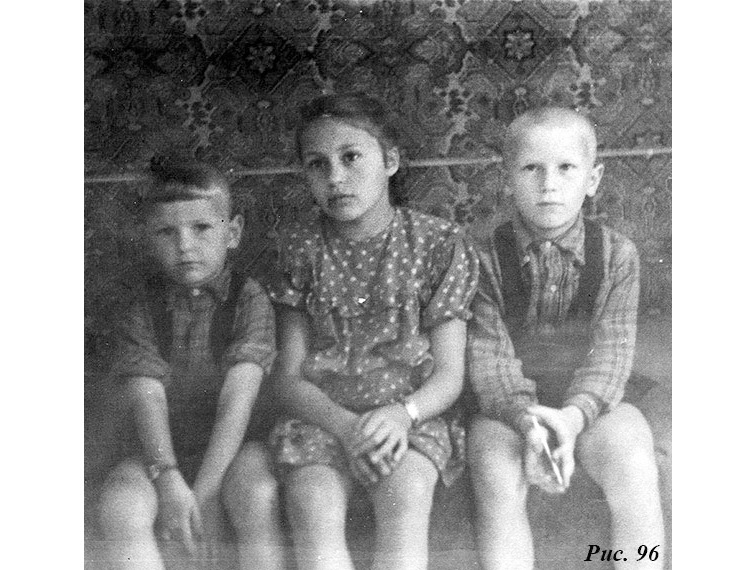

Первые годы жизни Сергея у него была няня, она же домработница. В те годы довольно часто ими становились девушки из деревни, желающие переехать в город. Для крестьян это было не так просто, поскольку они не имели паспортов (окончательно их выдали всем только в 1979 году). Исключение составляли парни, отслужившие армию, или лица, отпущенные правлением колхоза. Для несовершеннолетних строгих правил не было, поэтому девицы, чаще 15-летние, отправлялись в город и жили в какой-либо семье на правах домработниц. После этого они получали паспорт по месту жительства в городе, устраивались на работу, иногда шли учиться и т. д. По такому же пути пошла и наша Галя Московцева, которая не только нянчила Сергея вплоть до поездки летом в Харьков, но и играла с нами. Запомнилась одна из ее частушек: «Девочка-бутончик пьет одеколончик». Вечерами мы бегали по институтским коридорам, когда они пустели. Приятным исключением были торжественные собрания, после которых выступала студенческая самодеятельность. Нелегко было выслушать отчетный или еще какой доклад директора, но приходилось терпеть, зато потом начинался концерт. Любимцем публики, в том числе и нас, был студент, хорошо читавший басни Сергея Михалкова.
Я, между прочим, этого студента, его выступления помню. Думаю, видел его в более поздние времена, когда мы уже жили на Гражданской, но продолжали бывать в институте на каких-то торжественных мероприятиях с концертом самодеятельности. Басню, которую читал студент, тоже помню: «Заяц во хмелю». В басне заяц, приглашенный в гости к Ежу, напился допьяна:
«Да что мне Лев! — кричит. — Да мне ль его бояться!
Я как бы сам его не съел!
Подать его сюда! Пора с ним рассчитаться!
Да я семь шкур с него спущу
И голым в Африку пущу!..»
Студент в этом месте начинал шататься, изображая пьяного зайца, и срывал аплодисменты. Концовка басни тоже была по-эстрадному ударной. Заяц повстречал Льва, перепугался и тут же стал изворачиваться:
«Да я… Да вы… Да мы… Позвольте объясниться!
Помилуйте меня! Я был в гостях сейчас.
Там лишнего хватил. Но все за Вас!
За Ваших львят! За Вашу Львицу!
Ну, как тут было не напиться?!»
И, когти подобрав, Лев отпустил Косого.
Спасен был хвастунишка наш!
Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного,
Но обожал… подхалимаж.
За этим следовали оглушительные аплодисменты и выход студента-артиста на поклоны: в желто-коричневой клетчатой рубашке с коротким галстуком, длинным волосами, зачесанными назад: они ниспадали при поклонах, обнажая начинающее лысеть темя.
Повторю вслед за Павлом: вечерами, когда институтская жизнь затихала, нам становились доступны другие пространства здания. Ясно, что я бродил не один, а с кем-то из взрослых. Как и Павел, я помню пустынные институтские коридоры, стеклянные шкафы и стенды с муляжами, помню то ли чучела, то ли выполненные из папье-маше фигуры животных, помню стоящие на полу сельскохозяйственные орудия: борону, прицепную косилку с острыми зубцами и необычным железным седлом, какие-то детали других сельхозорудий…
Яркое воспоминание — спортивная штанга. В коридоре бБыл выделен уголок для занятий штангой. Она лежала, как мне помнится, не на полу, а на какой-то то ли подстилке, то ли дощатом невысоком помосте, рядом с ней — блины. Поднимал штангу, то есть регулярно этим занимался, парень по имени Лётик — кажется, сын одного из преподавателей, живших, как и мы, в институте. Видимо, это уменьшительное от какого-то «нормального» имени, возможно — Алексей: Лёша, Лётик. Запомнилась фраза, сказанная кем-то из взрослых: «Лётик — атлет!» В те времена слово «атлет» нередко произносили по-простонародному — атлёт. Так что запомнилось нечто «благозвучное»: Лётик — атлёт. Мне дозволялось катать штангу, не возбранялись и попытки ее поднять (помню это!).
В этой самой моей ранней памяти хранятся и другие отдельные эпизоды, причем без начала и без конца, то есть просто какие-то фрагменты виденного, ничем особо не примечательные. Воспроизводятся в памяти как обрывок киноленты. Иногда изображение немного мутное, не во всех частях «кадра» цветное, а иногда удивительно четкое, с мельчайшими деталями. Я буду вставлять в повествование и такие фрагменты воспоминаний. И не буду при этом заботиться о смысле и практической пользе. То есть на вопрос: «Ну кому это может быть интересно?» — я отвечаю: «Всем, а почему и зачем — не знаю и знать не хочу». Вот одно из самых ранних «видений» (ударение ставьте где хотите: любой вариант — верный).
Действие происходит в институте, в той комнате, которая была нам предоставлена под жильё. Я вижу прямоугольный стол — обеденный, наверное. Рядом со столом мама и бабушка. Они разговаривают друг с другом и со мной. Мама улыбается. В руках у бабушки огромный зеленый эмалированный чайник… Кажется, она его только что сняла то ли с примуса, то ли с керосинки… Видимо, я в этот момент у кого-то на руках по другую сторону стола — наверное, у своей няни Гали. Мама черноволосая, молодая.
И ещё эпизод: на этом столе стоит стул. На стул забирается папа и вкручивает лампочку в патрон, свисающий с потолка на витом проводе.
Всё. Конец фильма. Думаю, это было не позднее начала осени 1952 года. То есть мне чуть более двух лет. Основание для датировки одно: время переезда в новую квартиру.
Как память это хранит — я не спрашиваю, потому что память, вероятно, хранит абсолютно всё, что видели глаза. Но не всё существует в режиме надежного доступа и воспроизведения. Зачем этот эпизод находится в моей оперативной памяти, причем вот уже восьмое десятилетие кряду, — этого я не знаю. Хотя иногда и размышляю об этом…
Новая квартира
Процесс улучшения жилищных условий на переезде в институт не остановился. Институтское «жилье» вообще-то и не соответствовало никаким нормам, это было временное решение. Нормальное жилье — это квартира.
Два института — сельскохозяйственный и технологический — строили дом для своих преподавателей на улице Гражданской. Это одна их центральных улиц города, о чем свидетельствует ее дореволюционное название — Дворянская. К 7 ноября 1952 года дом был сдан, и наша семья переехала. Нам дали трехкомнатную квартиру на четвертом, последнем, этаже. Новый адрес навечно вписался в мою память: «Гражданская-39-квартира-34».
После стольких лет, трудностей и неудобств получить большую, отдельную квартиру — это, действительно, очень здо́рово. Обретение квартиры, несомненно, воспринималось родителями как долгожданное счастье! Можно было начать планировать жизнь на годы вперед, задуматься об «улучшении быта», то есть о покупке мебели, или, как тогда говорили, «обстановки». Удивительно, но мама сберегла ордер, и он по сей день хранится в семейном архиве (рис. 98):
28 августа 1952 г.
ОРДЕР №14
на право занятия квартиры в доме №39,
кв. №34, ком. №3 по Гражданской улице.
Гражд. Белкин Николай Иванович; Семья 7 человек. Работающий в: Ярославском с/х институте; в качестве: зам. директора, зав. кафедрой, доцент, кандидат наук. Занимаемая площадь: 45,09 кв. м.
Директор Ярославского
сельскохозяйственного института (Анисимов)

В Ордере указано: «Семья 7 человек…»: папа, мама и трое детей, бабушка Люба и няня Галя Московцева. Площадь в 45 кв. м. не кажется большой, но по тогдашним правилам указывалась лишь жилая площадь, то есть коридоры, кухня и санузел в нее не включались. Думаю, что квартира целиком имела не менее 70 кв. м. У квартиры было две особенности, более мне в жизни не встречавшиеся. Во-первых, размеры балкона: мы на нем катались на велосипеде «Орленок» по кругу! Длиной он был восемь метров, а шириной около двух с половиной. Вторая особенность — дровяная печка, точнее, плита, на кухне.
Новый 1953-й год мы встретили уже не в институте, а в своей новой квартире! В моей памяти об этом событии воспоминаний не сохранилось. Но, думаю, что была и ёлка, и новогодние угощения. Не запомнилось мне и то, какой квартира была в самые первые дни и как наполнялась мебелью. Я поделюсь своими более поздними воспоминаниями, но прежде прочитаем то, что описал Павел.
Ходить в школу стало вдвое, если не втрое, ближе. Обосновались мы несравнимо просторнее. Все удобства, санузел совмещенный. Ванны не полагалось, но их со временем все установили сами. На кухне была обычная дровяная печь, хотя можно было использовать примусы, керосинки, керогазы и электроплитки. Газа и электрических печей не было. Был зимний холодильник — шкаф у окна, высотой как обычный стол, имеющий отверстие в стене на улицу. Его использовали как обеденный стол. Самая большая и светлая комната с выходом на балкон стала детской, там стояли наши кроватки, постепенно их поменяли на взрослые с панцирной сеткой. Кроме кроватей были этажерка и мой письменный стол. Вначале отец принес из института какой-то списанный полуразбитый аудиторный стол, потом мне купили простенький голубой столик с одним центральным ящиком. Уроки делать за ним было нелегко. За спиной резвились братья-дошкольники, по-прежнему желающие играть со мной, а не идти гулять, как требовала мама. Этот стол простоял недолго, куда он делся, не знаю, но я его довольно сильно изрисовал чернилами. В те годы были распространены обычные перьевые ручки, которые макали в чернильницы. Иногда чернильницу-непроливайку носили в школу, чаще же чернильница была прямо в парте, а уборщица, именуемая в те годы «техничкой», регулярно подливала туда чернила из большой бутылки. Авторучки существовали в мире взрослых, в том числе и шариковые с латунными стержнями. Именно такую мы подарили папе в день рождения.
Сейчас ясно, что в те годы уроки чистописания, так мучавшие нас, оказывали очень существенное влияние на развитие координации движений и вообще умственных способностей. Стальное перо давало линию переменной толщины в зависимости от нажима, поэтому каллиграфический почерк имел гораздо больше индивидуальных особенностей и даже принадлежал к какому-либо стилю. Переход на широко распространившиеся шариковые ручки не только упростил обучение, но и обеднил письменность.
Вскоре мне купили настоящий письменный стол. Всю жизнь жалею, что мама отнесла его в комиссионный магазин, когда я учился в Москве. Стол был однотумбовый, покрытый дерматином и имел три ящика, запирающиеся на ключ. Ясно, что он был деревянным, фанерованным, ибо древесностружечных плит еще не изобрели. Радость моя была велика и неповторима, этот стол я уже по-настоящему берег и убирал в его ящиках без напоминания. Да туда никто и не заглядывал. Через три года после меня в школу пошел Саша, ему тоже купили похожий, но с четырьмя ящиками, закрываемыми одной дверцей, также с замком. Такие столы стоили 100–110 рублей. Для сравнения приведу цены тех лет. Буханка хлеба 1–2 руб., литр молока на базаре 2–3 руб., проезд на троллейбусах или трамваях: 20 коп. за одну остановку, 30 — за две и до 1 р. 80 коп. по всему маршруту. Мороженое стоило 65 копеек фруктовое, 90 коп. — молочное, 1 р. 10 к. — сливочное и 1 р. 30 к. — пломбир. Небольшое коническое «Эскимо» в шоколадной оболочке — 1 р. 10 коп. Фотоаппарат «Смена»: 80–90 рублей. Среднюю зарплату назвать не смогу, но рабочие, как правило, получали вокруг 1000 рублей, а отец — в 3–4 раза больше. Во всяком случае, фотоаппараты «Смена» или «Любитель» не были редкостью, в обычном школьном классе всегда были их обладатели, а лыжи и коньки имели почти все.
Второй комнатой была родительская, она же папин кабинет. Там стояла высокая до потолка полка с книгами, большой двухтумбовый письменный стол с толстыми резными ножками и красивой лампой (Сергей ее сберег), старый высокий комод, родительская полутораспальная кровать и дедушкин сундук у окна на балкон. Я любил лежать на сундуке около батареи и читать, когда папа сидел за столом и работал. Однажды меня отвлек его торжествующий возглас: «Выиграл!» Первый и последний раз в жизни ему удалось выиграть 1000 рублей в 2%-е облигации Государственного займа, которыми в те годы выдавали часть зарплаты. На мой вопрос, много ли это, папа ответил, что теперь мы сможем купить диван и еще останется. Осталось же примерно 400 рублей, на которые отцу купили (или сшили) костюм.
Третья комната стала гостиной. В ней стояли пианино, большой обеденный стол, буфет и диван с откидными валиками, на котором спал приходящий в гости Владлен. Через некоторое время туда перенесли и мой письменный стол с подаренной Аллой настольной лампой. Были и отсутствующие в современных квартирах столики-подставки с цветами или вазами. В этой комнате устанавливалась новогодняя елка, здесь я подвергался обучению игре на пианино, иногда мы там вместе обедали, но обычно это было на кухне. Однажды осенью во время совместного обеда произошел забавный случай: под столом что-то грохнулось на пол. Это был институтский фотоаппарат, который наш папа, опасаясь воров, спрятал под столом. Он приколотил тонкими реечками аппарат к столу снизу и уехал за нами в сад. После возвращения о нем забыл, пока тот не свалился на пол. Камера была сделана прочно и не пострадала.
Нечто величественное представлял собой балкон, он занимал почти весь торец дома: 2,6 на 8,8 м. согласно измерениям 24 мая 2000 года (лучше поздно, чем никогда). Мы легко катались по балкону на подростковом велосипеде «Орленок».
Первое время в туалете стоял большой ларь для картошки, а мыться мы ходили в баню. Это мероприятие у нас считалось едва ли не праздничным. Баня располагалась сразу же за махорочной фабрикой на улице Победы (сейчас она там же, но не работает, около нее построена новая мечеть). Когда-то меня еще маленького там купала мама в женском отделении, но потом нас всех троих водил в баню папа. Он покупал билет в отдельную ванну, реже в общее или душевое отделение. Вначале отмывал нас по очереди, а потом и вытирал, постепенно приучая делать это самостоятельно. По дороге в баню где-то росла картошка, папа сообщил нам ее латинское название «solanum tuberosum». До сих пор помним.
Упомянутый Павлом большой балкон стал, помимо прочего, местом регулярных фотосъемок. На одной из первых — 1955 года — я на игрушечной лошадке (рис. 99).

Квартиру я тоже описывал — до того, как Павел составил свои воспоминания. Но его описание точнее и полнее. Так что из своих описаний, существующих в рукописях, я сюда добавлю совсем немногое, а кое-что ещё раз повторю, но уже своими словами. Кроме того, я нарисовал по памяти план квартиры, указав примерные размеры, а племянник Коля Белкин воспроизвел его по всем правилам своей профессии архитектора (рис. 100).
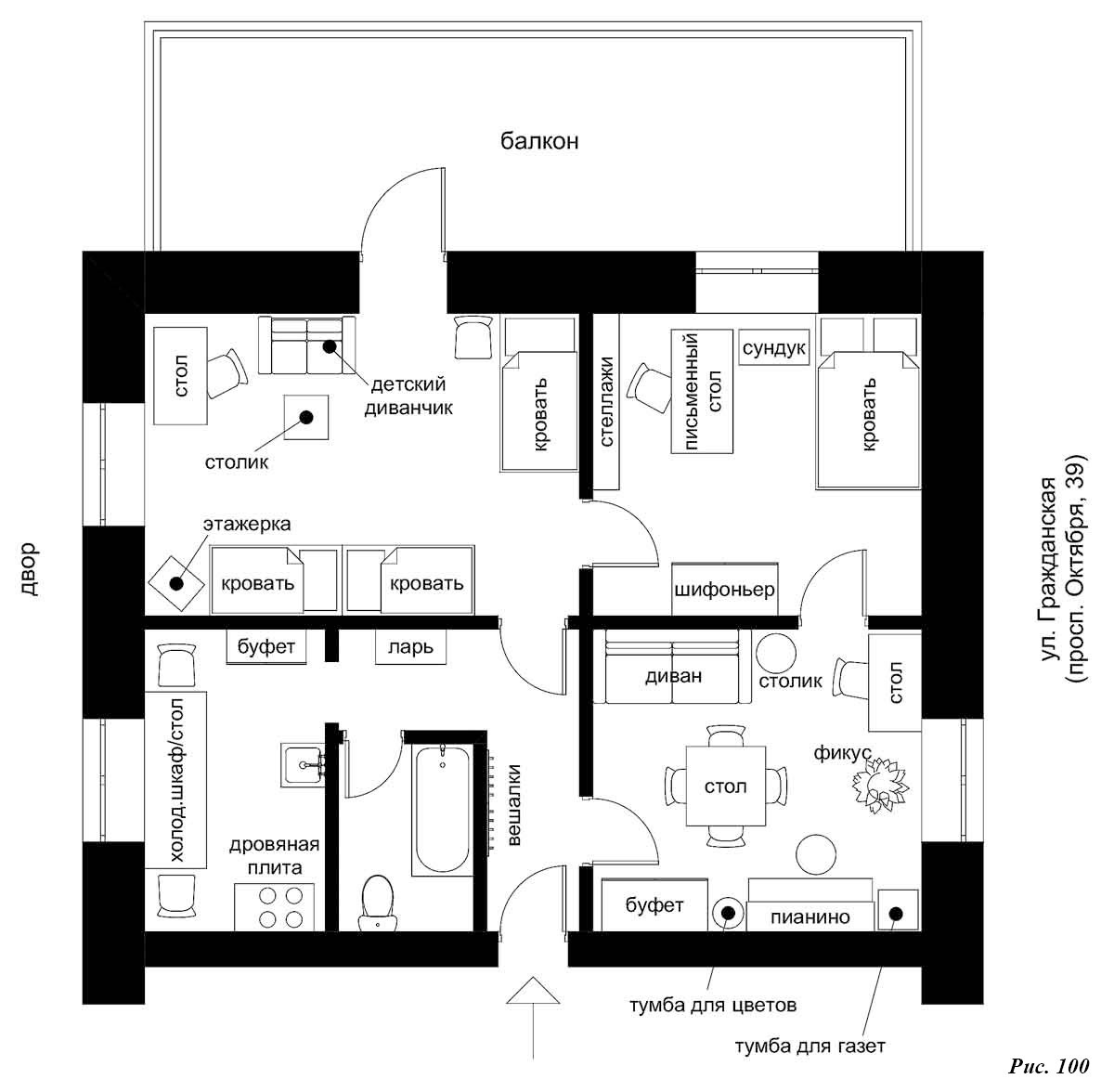
Вот как я описал квартиру и мебель.
Первая комната — направо из коридора — гостиная. В ней стояли: пианино (то самое, из Днепропетровска!), диван, буфет, обеденный стол и письменный стол Павла, изящный круглый столик на одной резной ножке и подставка для цветов. Окно выходило на Гражданскую.
Вторая — самая большая — комната отдана детям: из коридора — прямо. Там стояли три кровати, стол Павлика, этажерка с книгами, а также детская мебель: диванчик, хохломской столик и креслице. Позднее появился Сашенькин письменный стол, а Павлику купили новый и поставили его в гостиную (чтобы младшие братья не мешали учить уроки). Кажется, все. Из этой комнаты были выход на балкон и окно во двор.
Третья комната — в углу, соединенная дверьми как с детской, так и с гостиной. Она же — родительская спальня. Окно выходило на балкон. В комнате стояли: папин письменный стол, сработанный собственноручно папой стеллаж для книг, сундук, сделанный дедушкой Иваном, шифоньер, вывезенный из Днепропетровска, родительская полутораспальная кровать. Сперва была старая кровать, позднее купили новую — хромированную. Павел даже помнил, как они с мамой покупали ее в магазине вблизи Московского вокзала. Потом эта кровать переехала в Кишинев. На ней суждено было папе умереть в январе 1970 года.
Упомяну стулья костромской работы — один, вроде бы, жив до сих пор и находится в Кишиневе в квартире родственников. Стулья были сделаны из березы, очень прочные. Они — шесть штук — были куплены ещё в Новоселках и, как напомнил Павел, привезены отцом вместе с детским диванчиком. И ещё одну вещь вспомню: большой ковер, лежавший на полу в гостиной, размером примерно 3 на 2 метра. Его мама купила у спекулянтов где-то в середине 1950-х. Я при этом присутствовал, поэтому смутно, но помню, что сделка происходила во дворах на противоположной стороне Гражданской, вблизи рынка. Ковры были дефицитом, стоили дорого и считались признаком достатка и предметом роскоши. Потом ковер был с нами все годы в Кишиневе. И на стене висел, и на полу лежал. Затем я перевез его в Москву… Кажется, Сашенька отвез его на дачу и он, возможно, там ещё существует. Ковры живут долго, если за ними ухаживать. А за этим ковром мы ухаживали.
Мы — дети — жили здесь легко и свободно, нам многое разрешалось. Большое пространство детской комнаты позволяло играть в подвижные игры. Среди прочего хорошо помню использование стульев и табуретов для возведения разных сооружений — «домиков». Помню, как мне разрешалось опутать нитками, разматывая катушку, вообще все пространство, протягивая «провода» поперек комнаты от кровати к этажерке, от этажерки к дверной ручке, от ручки — к другой кровати: «строил электростанцию». По завершении «строительства» надо было все разрушить, налетая с разбегу на «провода»: они рвались, покрывали собой домашнюю одежду, но главным результатом был восторг от содеянного и процесса его разрушения!
Неизъяснимым остается один памятный поступок. У мамы было красивое шелковое — крепдешиновое — платье с зелеными цветами. К платью прилагался тоненький поясок, сделанный из этой же ткани. Однажды я взял его и маленькими ножницами терпеливо разрезал на мелкие кусочки. Потом эти кусочки столь же терпеливо запихал в замочную скважину двери между столовой и кабинетом. Хорошо помню, как я это делал. Сидел под одноногим круглым столиком и старательно стриг, потом — запихивал, проталкивая кусочки теми же ножницами. Мотив поступка неясен до сих пор. (Современные детские психологи тут, конечно, оттоптались бы, рассказывая о глубинных причинах деструктивного поведения детей…) Единственное, что могу сказать, в этом не было ни мести, ни страхов. Это было актом творчества! Я точно был доволен содеянным и готов был не без гордости продемонстрировать результаты и своего замысла, и его исполнения. Меня, конечно, ругали, но не так уж и сильно. Стоит, наверное, вспомнить, что родители никогда не рукоприкладствовали. О попытке — вернее, угрозе — меня за что-то «выпороть ремнем» помню. За что — не помню, но как отец стоит надо мной с ремнем в руках, а я извиваюсь на полу, стараясь не подставить задницу, помню. Но отец так и не ударил. Повторю: он вообще никогда не бил ни меня, ни моих братьев. И мама не била. Ругать — ругала, а битья в семье не было. Самое страшное, что со мной в порядке наказания учинила мама, это угроза за что-то (опять не помню — за что именно) обжечь мою ладонь на электрической плитке. Мама даже схватила меня за руку и потащила к стоящей на столе в кухне плитке с раскаленной докрасна открытой спиралью. Это было очень страшно! Но угроза в действие приведена, разумеется, не была. Сейчас пытаюсь вспомнить, чем же я мог так прогневать матушку, что она пустилась на такие меры устрашения? Но вспомнить уже не могу…
Ещё одна «шалость» вспомнилась. Мы с Сашенькой сидим в гостиной за обеденным столом. Обед уже закончился. Мы остались вдвоем и наслаждаемся арбузом. Арбуз уже нарезан на ски́бки (так в южнорусских краях называют арбузные дольки, привилось это слово и в нашем семейном лексиконе). Делал это обычно папа, демонстрируя свое мастерство. Сперва он срезал «крышечки» — сверху и снизу арбуза, потом, удерживая форму одной рукой, другой разрезал весь арбуз на одинаковые дольки и только в самом конце позволял арбузу «раскрыться», и он, словно цветок, распадался на лепестки из скибок. Поскольку арбуз находился в миске подходящего размера, результат выглядел весьма «художественно» — как некий экзотический цветок. Мы с Сашенькой мирно лакомились арбузом, но в какой-то момент стали кидаться обглоданными скибками и увлеклись этим настолько, что быстро изгадили все вокруг: и обломки арбузных корок, и потоки сока, и семена — все было разбросано не только по столу, но и по полу. Нас за это ругали. Сашеньке попало больше: он же старший!
Папа, когда был дома, почти все время работал. Все мое детство прошло под постоянное напоминание: дети, тише, папа работает. Тем не менее внимание семье, конечно, уделял. Не помню, чтобы он, скажем, ходил по магазинам или занимался домашними делами — уборкой, приготовлением еды. Но время от времени он брался приготовить картофельное пюре и делал это с энтузиазмом и качественно. И детям он тоже регулярно уделял внимание. Рассказываю об этом в главе «Прогулки с отцом».

Продолжу описание своего погружения в картины детства.
…Ножки папиного письменного стола напоминали тыковки, вырезанные из мореного дуба. Или тюрбаны сказочных волшебников — какими их рисовали в детских книжках (фото 101 — из интернета: это не тот самый стол, но очень похожий). На столе стояла мраморная электрическая лампа на высокой ножке-колонне с молочно-белым абажуром. Была там и чернильница — куб из темного литого стекла с металлической конической крышечкой, тоже похожей на головной убор, но только клоуна, а не восточного мудреца. Рядом — пресс-папье промокашка из серого с разводами мрамора… Ещё там была кожаная папка, застегивающаяся хлястиком с кнопкой. С ней папа ходил на работу. В ней были рукописи, газеты, журналы. Папка эта, кстати сказать, мною сохранена до сих пор. На столе могли быть стопки рукописей и диссертации в дерматиновых переплетах. В том числе и папина диссертация — «Зимостойкость растений». Очень толстая. На столе был и телефонный аппарат. Стандартный, черный карболитовый (бакелитовый) телефон с диском-номеронабирателем. Если снять трубку и набрать 2-41-12 — папа на работе поднимет трубку. А за спиной был стеллаж. Папа сделал его своими руками из досок. Он их строгал и покрывал морилкой, только я этот процесс помню смутно. Полки заполняли разные книги — научные и художественные. Нижнюю полку занимали одинакового размера книги на немецком языке — подписка какого-то научного журнала за много лет в твердых корешках «серобуромалинового» цвета.
Слева от стола — окно, а прямо под окном — сундук. Крупный — больше метра в длину. На нем вполне можно было лежать или, встав на коленки, смотреть в окно. Окно выходило на балкон, который можно было бы называть террасой — из-за выдающегося размера: на ней мы катались на велосипеде. Причем могли разворачиваться, не останавливаясь: так он был широк и длинен.
За сундуком, у противоположной от стеллажа с книгами стены, стояла полутораспальная металлическая кровать с панцирной сеткой. Спинки кровати украшали уже забывшиеся в деталях украшения — всякие завиточки, финтифлюшки и балясины. А ещё в этой комнате стоял шифоньер (уже упоминал, но — повторю: для целостности описания). С двумя дверцами. Одна широкая — для отделения, в котором висела одежда, вторая поу́же, с окошечком из наборных стеклышек, которые звенели при движении дверцы. В этом отделении были полки и шкафчики для белья и всякой всячины. Из этой комнаты, называемой кабинет, вели две двери. Одна на той стене, где стеллаж, вторая — между шифоньером и кроватью. Первая соединяла кабинет с детской — самой большой комнатой в квартире, вторая — с гостиной.

В гостиной стояли диван, пианино, обеденный стол, письменный стол Павлика, фикус в кадушке, китайский лимонник в большом горшке, старинная жардиньерка (подставка для цветов) с двумя уровнями: средний использовался как полочка для газет, на верхнем стопкой лежали ноты. Кое-что из этого видно на фото 102, на котором папа наливает маме вино: это было специальным позированием для Павлика, осваивавшего тогда азы фотосъемки. Диван был самой в те времена распространенной конструкции, которую теперь можно увидеть только в кино или в музее. У дивана имелась высокая плоская спинка, завершавшаяся полочкой, а по бокам — откидные цилиндрические валики. На фото 103 мама сидит на этом диване.

И ещё один замечательный предмет там находился: круглый столик на одной ноге. Он мне казался верхом красоты и изящества: покрытый темной морилкой и лаком, он производил впечатление изделия из красного дерева. Накрывался он накидкой — тонкой сетчатой тканью темного цвета обшитой лентой. К поверхности накидки прикреплены вырезанные из фетра листья и цветы. В центре столика стояла ваза.
Часть гостиной видна также на фотографии (фото 104), сделанной Павликом в 1956 году: Сережа, то есть я, с низкой баранок на шее. Виден край письменного стола Павлика с глобусом, фикус на подставке, пианино.

Боюсь, что я утомил читателя описанием предметов… Но, признаюсь, мне нравится это делать: вспоминать и описывать. И ещё одно за собой замечаю: по мере моего собственного взросления, происходящего параллельно с многолетним сочинением этой рукописи, воспоминания шаг за шагом все более и более становятся литературой, а мемуарная рукопись — книгой. И я все больше чувствую себя писателем, а это приятное чувство.
Дом и соседи
Наша квартира в доме на Гражданский и есть «дом моего детства»: с трех до восьми лет я жил в ней. Потом появится ещё один «дом детства» — квартира в Кишиневе, в которой я прожил с восьми до сорока двух лет. Оба этих образа сосуществуют в глубинах моего подсознания и всплывают в сновидениях.
Дом в Ярославле — это трехподъездный четырехэтажный дом на 36 квартир, по три на этаже. Стилистически такие дома теперь относят к «сталинским». Дом этот стоит на своем месте до сих пор. Время от времени в последние годы мы там бывали с братьями, заходили во двор, вспоминали, прикасались к стенам, смотрели на окна, всматривались в лица нынешних жильцов, стремясь опознать кого-то из старожилов… Но этого так и не случилось: сменилось уже не одно поколение. На современном фото (фото 105) дом снят со стороны ул. Гражданской (ныне проспект Октября).

Наша квартира и наш балкон — на правой стороне дома — на фото не видны. Хорошо видна левая сторона с точно такими же (но уже застекленными) двумя балконами на третьем и четвертом этажах, опирающимися на могучие столбы квадратного сечения. Я бы рискнул назвать их пилонами. На следующем фото (фото 106), тоже современном, венчает всю эту грандиозную конструкцию уже именно «наш» балкон: видно его ограждение. Современные жильцы на третьем этаже тоже свое пространство застеклили, а «наш» пока остается открытой террасой.

В те годы и дом, и двор, и соседи были, собственно, тем миром, в котором мы существовали. Приведу воспоминания Павла, указав предварительно, что наш подъезд был третьим.
В первом подъезде нашего дома на первом этаже жили Травниковы. Отец — татарин, изрядный пьяница. Жена и ее сестра его очень боялись, мог отлупить, что время от времени и делал. Правда, однажды, получив премию, не стал ее пропивать, как обычно, а отдал жене и посоветовал купить телевизор. Так они и поступили, правда, у него вскоре пропал звук, но их вполне устраивало одно изображение. Старший сын, Герка, 1946 г. рождения, был маленьким (19 кг к шести годам), но довольно проворным. Имя младшего сына я забыл, но помню первое слово, которое он научился выговаривать, — «гад». Также внизу была квартира Русаковой. В других жили Альтовы с овчаркой по имени Жером, Фарберовы с автомобилем, на третьем этаже дядя Сережа Воронин (дворник) с тетей Зоей и собакой Кроной. Где-то там же были и Громовы с двумя мальчишками. Некоторых девочек из этого подъезда я помню очень смутно, поскольку они с нами играли мало.

Во втором подъезде первый этаж был нежилым из-за магазина, на втором жил Сережа Великанов. Их окна выходили только на улицу, а Красильниковых — во двор. Выше размещались Саксины, Каретины, Ира Глазырина и другие. В этом подъезде я впервые увидел и услышал бродячего музыканта. Пожилой, аккуратно одетый скрипач долго играл довольно грустные мелодии на лестнице между вторым и третьим этажами. Вокруг него вертелось много детей. Взрослых не помню, в том числе вознаградивших его чем-либо.
В нашем третьем подъезде на первом этаже располагались Мусабековы, они получили, как и мы, трехкомнатную квартиру, напротив них — Пахомовы. В квартире между ними (№26) жили какие-то далекие от нас люди, может быть, Максимовы. На третьем этаже трехкомнатная квартира была коммунальной. Там жила Таня Захарова с родителями, одна комната некоторое время отдавалась студенткам сельскохозяйственного института. Вначале у них бывало шумно, от этого страдал Юсуф Сулейманович Мусабеков, чей кабинет находился непосредственно под ними. Однажды он не выдержал и поднялся к ним, но претензии высказал в более чем деликатной форме. Он лишь спросил, сколько человек здесь проживает. На вопрос, для чего это ему нужно, он представился и сообщил, что хочет каждой студентке подарить 8 марта мягкие домашние туфли. Потом комнату кому-то отдали.
Отец Тани Захаровой, инженер, был большим любителем приключенческой литературы. Она занимала у них целый книжный шкаф, изготовленный по специальному заказу. Именно у него я прочитал шеститомник Майна Рида, трехтомник Александра Беляева и многие другие.
Прерву цитирование для описания фотографии 107, на которой изображены Саша Белкин, Неля Мусабекова и Герка Травников, сидящие на скамейке во дворе. Фотографировал Павлик Белкин, 1956 г.
В кв. №29 жила Дарья Федотовна. Она часто приходила к нам в гости, особенно к бабушке Любе. Мы втроем играли в карты: в «дурака» или в «шестьдесят шесть». Сейчас я уже не смогу вспомнить правила второй игры, распространенной на юге страны. В следующей квартире жил знаменитый Юрка Ильин, сын профессора. К 20 годам его развитие соответствовало 12, именно тогда он тяжело заболел психически и пребывал в Ульяновском сумасшедшем доме несколько лет. Бывал буйным, совершал побеги, иногда и далекие. Ловили его даже в Москве на Красной площади. Потом его успокоили какими-то американскими препаратами, и он стал жить с родителями, также не лишенными определенных странностей. Иногда бывала у них и жена младшего 18-летнего сына. Кажется, ее звали Тася. Юрка очень любил угощать ее вареньем. При этом приговаривал, что ему непонятен существующий обычай, согласно которому каждому брату нужно заводить свою собственную жену. Вполне хватило бы одной на всех. Фраза стала крылатой, ее не раз использовали братья, когда уже я женился, а им хотелось пошутить. Во дворе Юрка был очень заметной фигурой. Родители денег не жалели, ему купили велосипед с мотором, который он постоянно разбирал и ремонтировал. Правда, по моим наблюдениям этим заняты почти все любители велосипедов, мотоциклов и автомобилей, необязательно отягощенные шизофренией. Был у него также фотоаппарат «Любитель», получались и примитивные изображения на негативах. Физически Юра был довольно силен, легко врубал топор в столб с нескольких метров, но умственно оставался ребенком. Особенно он симпатизировал маленьким детям, в их числе и нашему Сереже.
На третьем этаже, уже под нами, жил директор института. Сначала Анисимов, а потом — Герасимов. У второго был взрослый сын. Оба директора вели замкнутый образ жизни. Напротив них жили Граменицкие. Отец преподавал также в сельскохозяйственном, мама была учительницей немецкого языка, сын Алик заканчивал школу. Сейчас он доктор медицинских наук, профессор, занимается ультразвуковой диагностикой. О нем писали костромские газеты уже в 90-х годах, рекламируя гастроли ярославского специалиста в нашем городе.

Ещё раз прерву воспоминания Павла для описания фотографии 108, на которой у входа в Ярославский сельхозинститут стоят слева направо: доц. Д. А. Великанов, зам. директора института по научной работе доц. Н. И. Белкин, доц. Б. А. Граменицкий. Продолжу цитирование.
Удивительно, но не могу вспомнить, кто же жил рядом с нами. Напротив — уже упоминавшиеся Лебедевы. Сын окончил школу и уехал учиться в Московский физико-технический, часто приезжал на каникулы.
Чаще всего мы играли во дворе в обществе Алеши Каретина, Юсика (Юсуфа) и Нелли Мусабековых, Вовы и Нади Пахомовых, Оли Саксиной, Тани Захаровой и Геры Травникова. Первые годы я дружил с Сережей Великановым, но он был на два года старше, и не все наши игры были ему интересны. Иногда мы бывали у них в гостях всей семьей, когда Великановы приглашали многих соседей. Как правило, из детей были только мы с Сережей и могли надолго уединяться. Его мама очень вкусно готовила утку и угощала нас ею дополнительно на кухне. С Пахомовыми играли меньше, так как Надя, по нашему мнению, слишком зазнавалась. Дети ее за это часто наказывали, поэтому их папа присматривал за нами из окна квартиры на первом этаже. Чаще я играл с Алешей Каретиным, который очень рано остался без матери. Она умерла от какой-то болезни — наверное, от рака — уже немолодой. Старшие брат и сестра Алеши были совсем взрослыми. В 36 квартирах дома детей проживало немало, но я перечислил самых близких. Была и компания молодежи: старшие сестры Мусабековы, Алик Граменицкий, старший брат Оли Саксиной, Гора (Георгий) Красильников. К ним приходили друзья из других дворов, в их числе была и неизвестная мне в те годы Маргарита Модянова. Этот факт был установлен несколько лет назад. Маргарита Николаевна оказалась старшим преподавателем кафедры общей физики Костромского государственного педагогического института. Несколько лет назад она вышла на пенсию. Мы с ней не раз вспоминали наш двор, она дружила с одной из сестер Мусабековых. Мир тесен!
Основными нашими играми были прятки, лапта двух видов, городки, сделанные нашим папой, «классики» на асфальте. Длительной игрой были «казаки-разбойники». Одна команда пряталась куда-нибудь подальше, а другая находила ее, читая серию записок. Первая лежала на виду, в ней указывалось, где спрятана вторая записка, во второй, как найти третью, и т.д., лишь в последней (четвертой или пятой) говорилось, где же находятся прячущиеся. С годами появился настоящий крокет, его приобрела жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК). Кроме того, у нас был самодельный теннис, то есть площадка, перегороженная веревкой. На ней мы играли по теннисным правилам настоящим мячом, но самодельными «ракетками» из простых досок. В «чижа» играли редко. Нередко удавалось сделать бумажного змея, обклеив прямоугольный лист тонкими щепками. Запускали его всегда в сторону школы, над гаражом. У многих были велосипеды, на которых мы гоняли по двору, выезжать на улицу нам не разрешали. В те годы для проезда по городу требовался номер, выдаваемый велосипедистам в милиции. Были и специфические проказы. Больше всего доставалось механикам гаража за забором. Наиболее смелые из нас могли туда незаметно перелезть и спрятать или стащить деталь, необходимую для ремонта автомобиля. Немалой доблестью почиталось прыгнуть на крышу уборной в углу гаража, если там находился кто-нибудь. До сих пор поражаюсь ангельскому терпению всех механиков и водителей. Относительно невинной забавой было подкладывание гвоздя на рельсы под трамвай, который его легко плющил.
Самыми близкими нашими друзьями была семья Мусабековых. Их отец, Юсуф Сулейманович, в начале 50-х годов учился в московской докторантуре. Вскоре он защитил диссертацию по истории химии, но стал доктором химических наук, что разрешалось правилами тех лет, в дальнейшем измененных. Его мать была грузинкой, отец происходил из довольно знатного азербайджанского рода и когда-то считался известным бакинским юристом. Большую часть жизни профессор Мусабеков провел в России, его дети стали коренными ярославцами, не владеющими языком предков. Тем более что их мама, Елена Ивановна, была белоруской. Они жили под нами в такой же, как у нас, квартире, но на первом этаже. Кроме четверых детей (старшие дочери Елены Ивановны от первого брака, Юсик и Нелли) с ними жила сестра Елены Ивановны, тетя Валя, которая нас недолюбливала, а мы — ее. Юсик был моложе меня на один год, мы с ним часто играли во дворе или в наших квартирах. У них было довольно много игр, развивающих какие-либо умения или знания. Примерно в 1958 году Юсуф Сулейманович привез из ГДР детскую пишущую машинку без обычных клавиш. Для печатания текста нужно было передвигать ручку влево или вправо и нажимать ее после остановки у нужной буквы. Каждому положению ручки соответствовали три знака в различных регистрах, которые переключались левой рукой. В этой машинке не было отдельных литер, все они размещались на одной круглой бочкообразной головке, которая вращалась при перемещении ручки. В дальнейшем такие конструкции стала использовать фирма IBM для пишущих машинок с различными шрифтами на сменных головках. Ходили мы друг к другу и на дни рождения, которые устраивали наши родители. Неля была на год-полтора младше Саши, первые годы она с нами не играла, так как была для этого слишком маленькой. Она ездила на трехколесном велосипеде, к которому тетя Валя изготовила картонный номер с надписями «Неля» и «Ярославль», а мы уже гоняли на подростковых. Незадолго до отъезда из Ярославля разница в их возрасте стала не столь значимой, она чаще играла с нами и даже по-детски кокетничала с Сашей.
Юсуф Сулейманович умер где-то в 70-х годах заслуженным ученым, почетным членом Парижской Академии наук. Журнал «Наука и жизнь» не один год печатал забавные истории про ученых из коллекции профессора Мусабекова. Его помнят до сих пор очень многие ярославские преподаватели. Юсик трагически скончался в 80-х, отравившись чем-то у себя в гараже при не вполне ясных обстоятельствах. Вскоре умерла и Елена Ивановна. После развода с мужем, морским офицером, Неля вернулась из Североморска в Ярославль. Там она и живет с взрослой дочерью на проспекте Ленина, рядом с Таней Захаровой, у которой также взрослая и красивая дочь.
На первом этаже нашего дома был построен магазин, однако открылся он не сразу. Вначале его площади занимали другие организации, нам запомнились чертежники, выбросившие во двор остатки разноцветной туши, которую мы никогда не видели. Примерно через год открылся и промтоварный магазин, что немало оживило нашу жизнь. Появились во дворе тюки с ватой, на которые мы любили прыгать с пожарной лестницы, у продавщиц можно было раздобыть прекрасные круглые палки — на них наматывались рулоны клеенки. Не один месяц мы играли старым выброшенным во двор прилавком, прежде чем он превратился в груду досок. В редких случаях дефицитные товары давали во дворе, очереди занимались задолго до начала продажи. В одну из первых я успел встать за валенками под номером 19, причем эта цифра была написана мелом у меня на пальто. Оказалось, однако, зря. Родители сказали, что валенки нам не нужны, пока хватает тех, что скатал для нас дедушка Иван. Появилась во дворе загадка, сочинение которой Сан (В семье брата Сашу мы часто называли «Сан, Санка» — прим. С.Б.) приписывает Алеше Каретину: «Хвост длинен, глаза горят, шерсти нет, но скоро будет». Отгадка: «Очередь за шерстью». Довольно быстро во дворе были посажены две клумбы с цветами, много рядов акации и рябиновых деревьев вдоль забора, отделяющего от нас гаражей.
Снова прерву цитирование. Фотография 109 дает возможность увидеть Алешку Каретина (стоит слева), Павлика в центре и Сашу справа. О том, что на снимке есть и Сережа Белкин — спрятавшийся за Павликом так, что видна только попка, — знал я один. Теперь будут знать все. Двор пока выглядит не очень приветливо: весна, ещё мало растительности. За забором виден соседний жилой дом на углу Гражданской и Мологской (ныне — пр. Октября и пр. Победы). Фото сделано в мае 1954 г. Продолжу цитирование.

Заметным событием были редкие (раз или два в год) появления в нашем дворе точильщика. В те времена они ходили по городам с простым, но по-своему выдающимся точильным станком, который носили на спине. Конструкция была очень легкой, в основном деревянной, за исключением, разве что, подшипников. Точильный камень приводился во вращение ножной педалью с помощью ременной передачи. До сих пор помню их характерный клич: «Ножи точу, ножницы!» Похоже, что и сегодня те мастеровые не остались бы без работы и заработка.
Притягательной силой обладали подвалы нашего дома, особенно во втором подъезде, всегда затопленные водой. В нашем, третьем, было сухо, каждая квартира имела свой сарайчик для дров и разных вещей. На чердак мы попадали редко, как правило, он был заперт на замок комендантом. Им была тетя Зоя, а потом ее муж — Сергей Воронин. Дядя Сережа был личностью для нас привлекательной, особенно летом, когда можно было разглядеть все его татуировки, приобретенные в местах не столь отдаленных (кажется, за спекуляцию). На груди орел с раскрытыми крыльями, на руках Самсон со львом, женская головка с распущенными волосами и надписью «Люблю Катю», игральная карта, рюмка и бутылка с надписью «Что нас губит». Вероятно, были и обязательные в те годы сентенции «Не забуду мать родную» и «Нет в жизни щастя мне». Дядя Сережа поливал летом двор из шланга, естественно, иногда и нас, выгуливал свою собаку Крону, а зимой заливал каток, иногда и сам катался, как и многие взрослые. В зимние каникулы мы с удовольствием помогали ему вывозить снег со двора на улицу в большом ящике на полозьях. Оттуда его забирали машины. В немногих дворах — например, большого дома с аркой на Красной площади — появились снегоуборочные машины, которые произвели на нас немалое впечатление. Они представляли собой наклонный транспортер, забиравший снег большими скребками, похожими на человеческие руки.
И вновь прерву цитирование, поскольку наш фотоархив позволяет увидеть дворника Сергея Воронина с неопознанной девочкой на руках и мною — Сережей Белкиным, сидящим рядом. Фото 110 сделано папой на майские праздники 1954 года, поэтому в руках у нас флаги. Продолжим цитирование.

Однажды, лазая по заборам и крышам гаражей, нам захотелось сбросить снег с гаража Фарберовых. Зима шла к концу, понадобился лом, который быстро кто-то принес. С первого же удара я пробил крышу, не подумав, что она из тонкой жести. Давно наблюдавшая за нами жена хозяина сразу это увидела и выскочила ругаться. Больше мы туда не забирались. В основном зимние забавы были стандартными: коньки, лыжи, санки, сооружение крепостей из снега. Родители наваливали снег на клумбу и делали горку, потом ее заливали водой. Крона катала на санках тех, кто поменьше, если они могли в них удержаться на старте. Разгон у нее был очень быстрым. Другая собака — Жером, — проживавшая в бездетной семье Альтовых, к труду была неспособна. Конечно, не забывали мы играть в снежки и лепить снежные бабы. Игры редко проходили далеко от дома, пока мы учились в первых классах. В соседнем дворе была построена деревянная горка, которую зимой также заливали водой. Горизонтальная площадка, с которой мы съезжали, располагалась на высоте около 2 м., поэтому с нее можно было прыгать вниз в сугробы или на утоптанный снег. Однажды мы играли вдвоем с моим одноклассником Муратом Фасахутдиновым из 130-квартирного дома. Встал на ограждение, чтобы спрыгнуть, нога поскользнулась на оледенелых досках, и я упал, перевернувшись вниз головой. Ушиб был очень сильным, придя в себя, я увидел перепуганного Мурата и ощутил, что сделать вдох мне нелегко. Судя по тому, что несколько дней ныло левое запястье, а края зубов выкрошились, я упал на голову и руку. Чувствуя сильную слабость, я пошел домой в сопровождении товарища. В этот день была редкая для Ярославля температура воздуха — 42 градуса мороза, по дороге я сплюнул и попал на воротник пальто. Тут же попытался стряхнуть каплю рукой, но она затвердела практически мгновенно. Дома мама не заметила во мне никаких изменений, зато бабушка Люба тут же учинила допрос: «Немедленно расскажи, что с тобой случилось. На тебе лица нет!»
Лучшая горка стояла в Детском парке на проспекте Шмидта (ныне Ленина), там целый день катались дети, к вечеру появлялись и не вполне дети. Кто с девушками, кто с друзьями. С этой горки полагалось съезжать только стоя, часто группами. Случались и драки, и прочие выяснения отношений. Горка была длинная с хорошо отполированным льдом, дети поменьше не сразу ее осваивали и часто падали при переходе наклонной плоскости в горизонтальную поверхность. Привлекательным местом была и вторая деревянная горка — ниже, но круче, — с которой съезжали сидя. В другой стороне парка заливался большой каток. Летом там работали спортивные сооружения и игротека, где выдавали шахматы, шашки, домино, бильярд для тех, кто постарше, и другие игры. Однажды появился и старый фанерно-брезентовый самолет, по нему довольно долго лазили дети, прежде чем окончательно доломали. Потом построили тир с пневматическими винтовками. С тех лет сохранились лишь фонтаны да скульптуры с медвежатами и маленьким Лениным.
Добавлю к сказанному о доме и соседях и свои ремарки.
Поскольку дом строился для работников сельхоз- и технологического институтов, многие знали друг друга еще и по работе. Под нами жил директор сельхозинститута Анисимов, потом его сменил другой директор — Герасимов. В нашем подъезде жили профессора Троицкий и Ильин. Троицкий был, видимо, весьма пожилым человеком в образе ходульного кинематографического старорежимного профессора: седая бородка-эспаньолка, очки. Он жил вдвоем со своей также весьма интеллигентного вида старушкой-женой. Я захаживал к ним чайку попить: они почему-то меня очень любили. Не меньшим успехом, переходящим временами в настойчивое ухаживание, я пользовался в семье профессора Ильина: его жена, бывало, подкарауливала меня за дверью, чтобы неожиданно выскочить на лестничную площадку и затащить к себе. Она очень вкусно готовила и любила меня угощать. Помнится совершенно необыкновенный вишневый торт. Угощая меня, она рассказывала, сколько усилий требуется для его приготовления, как долго и как трудно приходится взбивать крем, вымешивать тесто… Что же до моего аппетита, то он был и остается настоящим праздником для тех, кто любит угощать: есть готов всегда, без ограничений с удовольствием и благодарностью. Кроме того, старший сын Ильиных — Юра, — несмотря на свой 20-летний возраст, был моим закадычным дружком, поскольку являлся умственно отсталым и часть жизни проводил в сумасшедшем доме. Видимо, его развитие остановилось где-то на уровне десяти–двенадцати лет, поэтому мне с ним было вполне комфортно. При этом внешне он выглядел как взрослый дядя, курил. Его главной страстью был велосипед с моторчиком, который он большую часть дня разбирал и собирал, потом, к концу дня, заводил и с оглушительным треском гонял по кругу во дворе. При этом полы его черного пиджака развевались, папироса в углу рта дымилась, глаза светились подлинным счастьем! Иногда он выезжал на улицу, существенно затрудняя движение транспорта, поскольку правил он не признавал, а по Гражданской ходили трамваи, шло интенсивное движение.
Жившая на втором этаже Дарья Федотовна тоже любила готовить. Она пекла пирожки и печенья и любила меня угощать чаем с вареньем. На третьем этаже жили Граменицкие. Павел о них вспоминает, но ни он, ни я не помним имени хозяйки, а именно она тоже была среди тех, кто любил меня заманить в гости. У нее были две притягательные вещи: телевизор (кажется, один из первых «Темпов») и съедобные сахарные цветы — из так называемого «фруктового сахара». Такие цветы мне больше не встречались: мягкие — видимо, свежие, — потом они затвердевают, — разноцветные, выполненные в виде букета: стебель, листья, чашелистики, лепестки. Я их с удовольствием поглощал, а однажды цветок мне был дан «с собой». Я принес его домой и поставил в стакан с водой: чтобы порадовать маму, когда она придет. Порадовать не довелось, а всплакнуть — пришлось: цветок бесследно растворился в воде.
Вспоминаю и другие кондитерские изделия, прежде всего — торт «Полено». Это было что-то невероятное: в нашу жизнь ворвалась баснословная роскошь — именно так я воспринимал появление на Волжской набережной кафе-кондитерской, в которой и увидел впервые сие изделие с контрастно неподходящим названием «Полено». Полено, то есть обрезок ствола дерева, предназначенного для отапливания печи, никак не связывался с утонченным искусством изготовления тортов и пирожных. Но тот, кто его придумал, считал иначе и изготовил торт в виде цилиндра, украсив его кремом, имитирующим поверхность березового полена, расположив по его краям грибочки и зеленую травку из крема. На самом деле это был простой бисквитно-кремовый торт, впоследствии тиражировавшийся по всей стране под названием торт «Сказка». Но я его впервые познал под именем «Полено». А сейчас — буквально только что — прочитал, что это типа древняя традиция, появившаяся, ясный перец, во Франции и являющаяся отголоском «языческого обряда сжигания рождественского полена»: да-да, так и написано — «языческого» и «рождественского» в одной фразе. Это взято из Википедии. И дальше там сказано так: «Большинство французов украшают свой стол маленьким макетом рождественского полена и оформляют в виде рождественского полена некоторые блюда. Так что в наши дни бюш де ноэль — это праздничный шоколадный рулет, украшенный сахарными фигурками и листьями». Ну, нет: моя история лучше, и я ее на ваш «бюш де ноэль» не променяю! «Полено» — наше, ярославское изобретение, появившееся в середине 1950-х годов в кафе на Волжской набережной! И всё тут! С этим я жил всю жизнь и отказываться от своего мифа не хочу!
Павел вспомнил семью Мусабековых. Не могу не добавить, что смогу, и от себя. Начну с описания фотографии 111, на которой мы с Нелей у нас дома сидим за детским столиком с хохломской росписью. На руках у Нели котенок по имени Тигрик. Фотографировал нас Павлик, 1956 г.

Нелечка Мусабекова и Танечка Захарова были моими подружками. Они обе были старше меня на год, поэтому дружба перешла в формальное соседство, как только они пошли в школу, а я еще нет. Но вот до этого я проводил то с одной, то с другой целые дни. Мы заходили друг к другу в гости. Таня жила на втором этаже с папой и мамой. Ее мама угощала нас гречневой кашей, посыпанной сахаром, чего я не любил, но аппетит был всегда сильнее вкусовых пристрастий. Папа Тани был интересен тем, что носил бородку и сам набивал себе папиросы, используя для этого специальное устройство и наборы пустых папиросных гильз, которые тогда продавались в табачных лавках. Видимо, моя первая в жизни кража была совершена именно в этом доме. Однажды Таньке купили новый набор пластилина, и в нем оказался невиданный доселе мною белый пластилин. Я не удержался от соблазна и кусочек, размером с горошину, утащил домой и, радостный, показал маме. Мамочка же, вместо того, чтобы обрадоваться вместе со мной, стала выяснять, откуда это сокровище, разрешили ли мне его взять и так далее. Потом она потребовала, чтоб я немедленно вернулся, возвратил пластилин и во всем повинился. Я ревел, сопротивлялся, но мама была неумолима. Пришлось спуститься вниз и, бормоча под нос, что вот, мол, «кусочек вашего пластилина прилип случайно к моему ослику», возвратить злосчастный предмет вожделения…
У Нелечки Мусабековой я, кажется, не крал ничего, хотя она нравилась мне не меньше Таньки. Правда, с Танькой я целовался, а с Нелькой нет, но это ничего не значит. Зато в семейном архиве имеется почтовый конверт, на котором печатными буквами красным карандашом написано: «СЕРЁЖЕ ОТ НЕЛИ» (рис. 112). Внутри лежит сложенный вчетверо бумажный квадратик, на котором тем же карандашом написано: «2-41-03. СЕРЁЖЕ» (рис. 113).

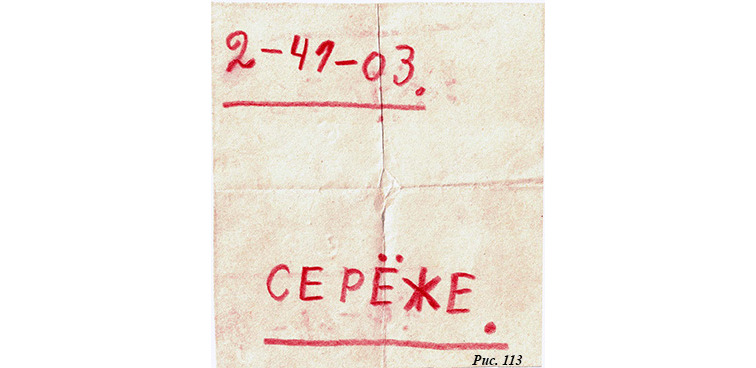
Окна Мусабековых на первом этаже были украшены ящиками с цветами — анютиными глазками. Кажется, они были первыми, кто стал так украшать свои окна в нашем доме. Мусабековы достойны воспоминаний как потому, что мы дружили семьями, так и по причине яркости личности главы семьи — Юсуфа Сулеймановича Мусабекова (10.04.1910–08.05.1970) — на фото 114.
Юсуф Сулейманович был химиком, доктором наук, профессором, известным историком науки. О нем немало сведений в Интернете, в частности, на сайте Ярославского университета, возникшего на базе Технологического института, в котором Ю. С. Мусабеков работал. Приведу основные.
Ю. С. Мусабеков родился в 1910 году в Тифлисе в семье адвоката. Позднее семья переехала в Баку, где он в 1927 году окончил педагогический техникум. Поступил на химико-биологическое отделение естественно-математического факультета Азербайджанского государственного педагогического института и окончил его по специальности химик-органик. Был оставлен в том же институте ассистентом, а позднее перешел в Азербайджанский сельскохозяйственный институт, где стал доцентом кафедры органической химии.
В 1939 г. был призван в ряды Красной армии в качестве рядового, вскоре ему присвоили звание инженера-капитана. В период 1941–1944 гг. Юсуф Сулейманович работал в санэпидемиологической лаборатории Западного фронта, руководил ее химическим отделением. За эти годы провел ряд исследовательских работ, разработал оригинальный способ определения калорийности пищи («оксидо-иодометрический метод определения калорийности пищи») и изобрел сухой спирт. После демобилизации в 1944 г. работал старшим научным сотрудником в Азербайджанском филиале Академии наук СССР. В том же году защитил кандидатскую диссертацию в Азербайджанском государственном университете имени С. М. Кирова. Через год прошел по конкурсу на заведование кафедрой органической химии Саратовского университета, откуда в 1946 г. был переведен в Ярославский технологический институт резиновой промышленности на должность заведующего кафедрой органической химии, которой он руководил до своей смерти. В 1955 г. защитил докторскую диссертацию и был утвержден в звании профессора.
Ю. С. Мусабеков в 1966 году стал членом-корреспондентом Международной академии истории и философии науки. Прекрасный оратор и популяризатор науки, он сопровождал свои лекции показом химических опытов, рассказами о жизни и творчестве великих ученых химиков. В годы войны Юсуф Сулеманович не только работал в лаборатории, но и участвовал в боях под Москвой, Смоленском, Витебском. Награжден орденом «Красной звезды», медалью «За оборону Москвы», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В семидесятые годы журнал «Наука и жизнь» публиковал короткие истории про ученых химиков под рубрикой «Из коллекции профессора Мусабекова». Им была написана книга «Занимательные истории из жизни ученых» (1967).
Для меня стало полной неожиданностью — спустя многие годы — узнать, что Юсуф Сулейманович был изобретателем сухого спирта — хорошо всем известных белых таблеток, которые широко использовались для розжига костров, печей и т. п. В годы жизни в Ярославле и много лет потом я ничего об этом не знал: об этом почему-то никто не говорил.

Супруга Юсуфа Сулеймановича — Елена Ивановна — дружила с нашей мамой. Долгие годы после нашего отъезда из Ярославля они переписывались. Фрагменты из этих писем я здесь приведу. Кроме дочери Нелли, у них был старший сын Юсик (Юсуф). Он тоже был товарищем в наших играх, поскольку был на год младше Павлика и на год старше Саши. Кроме того, у них жила незамужняя и бездетная сестра Елены Ивановны — Валентина Ивановна, тетя Валя, исполнявшая обязанности воспитательницы детей и помощницы по хозяйству.
Юсуф Сулеманович умер на пять месяцев позже нашего отца. Произошло это неожиданно. Елена Ивановна, приболев, вызвала врача на дом. Врачи, зная о ее проблемах с сердцем, приехали с электрокардиографом. Обследовав Елену Ивановну, они предложили сделать кардиограмму и Юсуфу Сулеймановичу — как бы «за компанию». Сделали, посмотрели и сказали: «Юсуф Сулеманович, да ведь у вас инфаркт». Он рассмеялся и сказал, что быть того не может, что у него ничего не болит. Но врачи были уверены в диагнозе, сказав при этом, что бывают и безболевые инфаркты. Ему предложили лечь в больницу, где он вскоре умер. Было ему всего лишь 60 лет.
В семейном архиве сохранилось письмо Елены Ивановны, в котором она описывает этот трагический период их жизни (первая страница письма на фото 115). В верхней строке письма мама уже позднее добавила «Умер Юсуф Сулейманович 8 мая 70 г.».
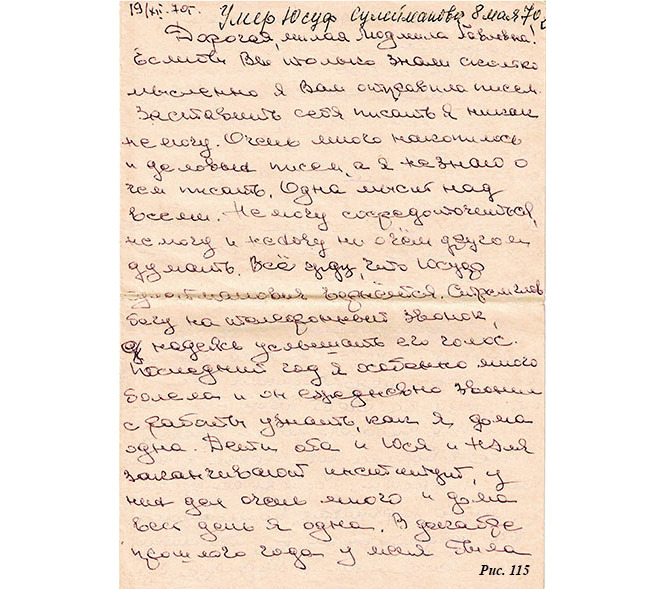
Вот его текст.
19/XII-70 г.
Дорогая Людмила Павловна!
Если бы Вы знали, сколько мысленно я Вам отправила писем. Заставить себя писать я никак не могу. Очень много накопилось деловых писем, а я не знаю, о чем писать. Одна мысль над всеми. Все жду, что Юсуф Сулейманович вернется. Стремглав бегу на телефонный звонок, надеюсь услышать его голос. Последний год я особенно много болела, и он ежедневно звонил с работы узнать, как я дома одна. Дети оба и Юся, и Неля заканчивают институт, у них дел очень много, и дома весь день я одна. В декабре прошлого года у меня была операция по поводу гнойного аппендицита. Два дня я ужасно мучилась, но боли были неопределенными, и никак не могли определить, что со мной. Наконец, нашелся решительный врач, и если бы операция была сделана на час позже, то был бы конец. Я потом долго лежала в больнице, и мне Ваше письмо показали только в марте месяце. С марта стал неважно себя чувствовать Юсуф Сулейманович. У него был диабет, и все свои недомогания он относил за счет этой болезни. Был под наблюдением врачей, и все говорили, что сердце у него как у юноши. Последнее время он много нервничал, волновался. Его представили в действительные академики в Париже, где он до этого был членкор. Его представили в заслуженные деятели науки, в членкоры в Академию Азербайджана. Он много имел аспирантов, много писал. 17-го апреля был приступ сердечный. В этот же день была сделана электрокардиограмма и нам позвонили из поликлиники, сказали, что все хорошо, можно ходить. 20-го апреля у меня был приступ, и 21-го мне сделали электрокардиограмму тут же дома. Врач предложила Юсуфу Сулеймановичу повторную электрокардиограмму сделать, и тут обнаружилось, что у него обширный инфаркт. Сразу его взяли в больницу. Чувствовал он себя хорошо. Лежал очень спокойно и все говорил, что напрасно согласился лечь в больницу.
В ночь на 3-е мая у него началось резкое ухудшение, и нас ночью вызвали в больницу. Было много консилиумов. Приезжал главный терапевт РСФСР. Но никто ничего сделать не смог. Был Юсуф Сулейманович три дня без сознания, и 8-го мая в 8 ч. 50 м. сердце перестало биться. Что было потом, только знаю из рассказов.
Могла ли я думать, что мне придется такое переживать? Время идет быстро, а мое горе никак не хочет уходить, и чем дальше, все тяжелее. Теперь уж одно желание — закончили бы дети поскорее институт. Очень боюсь за Нэлечку, не сорвалась бы она. Она и за меня боится, и мне надо много мужества при ней держать себя бодро.
Очень много хлопот с памятником. Заказала я его в Подмосковье, приходится туда часто ездить. Со знакомыми стараюсь видеться меньше, так я ни о чем другом не могу говорить. Понимаю, что это глупо, что это надоедает, что это никому не нужно, но у меня такая боль нестерпимая, что нет уже никаких сил.
Думала даже на работу устраиваться, чтобы чем-то отвлечься. Стала через военкомат собирать свои справки. Так даже о том, что была в армии, не могут найти, так как все архивы во время войны пропали. Пенсию мне дали обычную, 40% от его пенсии — 64 руб. Жить мы привыкли хорошо. Как говорится, на «черный день» не прятали, мне всегда казалось, что я умру раньше, и для кого-то не хотелось копить. А тут получилось так неожиданно, невероятно! Как будто ураган вырвал его у нас. И по этой причине надо бы поработать. Но Юсик категорически восстал и стал сам работать на полставки мл. механика.
Вот так мы и живем скучно, грустно. Теперь мы с Вами друзья и по несчастью, и как жалко, что находимся так далеко друг от друга. В этот тяжелый час мне очень недостает Вас. Пишите мне, дорогая Людмила Павловна, подробно о Вашей жизни. Кто из детей живет с Вами? Где Павлик, как Саша и Сережа? Передайте им привет.
Целую Вас крепко, всегда Ваша Елена Мусабекова.
К письму приложена вырезка из Ярославской газеты «Северный рабочий» с некрологом (рис. 116).

Напомню, что в январе того же 1970 года умер наш папа, о чем мама написала Елене Ивановне в письме, которое ей показали только в марте. Так что они с мамой стали вдовами в одно время, поэтому Елена Ивановна и пишет, что они «друзья по несчастью». Горестные беды, однако, не оставили эту замечательную семью. Через 16 лет, 4 февраля 1986 года, из жизни трагически ушел старший сын — Юсик, Юсуф Юсуфович Мусабеков. Елена Ивановна нашла в себе силы спустя почти год написать об этом в поздравительной новогодней открытке.
Дорогая Людмила Павловна!
С Новым годом поздравляю Вас и всю Вашу большую семью. Желаю всем вам доброго здоровья и благополучия во всем.
Меня беды преследуют одна страшнее другой. 4-го февраля будет год как трагически в своем гараже погиб Юсик. Не знаю, как живу и существую. Он был для меня всем: и единственной опорой, и радостью, и гордостью. И вот ничего не стало. Чем дальше, все больше чувствую эту большую утрату. Нэлечка сразу переехала с Севера, и теперь живем вместе. Валентина Ивановна тоже с нами. Почти ничего не видит и не слышит.
Будете в Москве, может, заглянете к нам.
Извините меня за неаккуратность в ответах на Ваши письма.
Целую Вас, Елена Ивановна.
Вот такое трагическое поздравительное письмо…
Даже сейчас, когда прошло много десятилетий, когда «покорные общему закону» ушли из жизни почти все упоминаемые мною люди, вновь становится больно, потому что нет ничего горше, чем горе матери, пережившей своих детей.
В нашей семье все годы тепло, с любовью вспоминали Мусабековых. Юсуф Сулейманович был азербайджанцем, благодаря чему в нашей семье появилось в качестве уже нашей семейной традиции азербайджанское национальное кондитерское изделие — сладкие пирожки с орехами «шакир-бура». Мы их название произносили немного иначе — шакир-буру. О том, что в Азербайджане их называют «шакер-бура» (или «шакяр-бура»), я узнал спустя многие годы. А о том, что переводится это с азербайджанского как «сладкий пирожок», узнал только что. В последующем тексте я буду называть это изделие так, как было принято у нас в семье, а не так, как «правильно».
Блюдо это, которому маму научила Елена Ивановна, перенявшая рецепт в семье Юсуфа Сулеймановича, вошло в основной кулинарный репертуар нашей мамы на долгие годы. Несколько раз в год, к праздникам, мама пекла шакир-буру, наполняя готовыми пирожками большую эмалированную «китайскую» миску — желтую, с драконами. Миска (большая настолько, что, пожалуй, ее можно считать и небольшим тазиком) с пирожками ставилась на самый верх буфета, накрывалась льняной салфеткой и день-два ждала своего часа. Все — и я среди первых — хотели, не дожидаясь этого часа, стащить пирожок. И это часто удавалось: мама хотя и просила подождать и потерпеть, но не была слишком строгой.
Я часто принимал участие в изготовлении пирожков. Поэтому могу довольно точно описать рецепт. Все начиналось с подготовки начинки. У нас начинкой служили грецкие орехи, хотя в Азербайджане использовали и миндаль, и фундук, и вообще любые орехи. Орехи надо было очистить от скорлупы, потом чистые ядрышки перемолоть с сахаром. Эта смесь сама по себе была столь вкусна, что была опасность (в моем лице) к нужному моменту не получить требуемого объема: я мог сожрать часть начинки. Потом замешивалось тесто. В самом начале процесса замеса я непосредственного участия не принимал, но состав его был, примерно, таким: мука, яйца, сахар, много сливочного масла, сметана, немного соли… Я подключался, когда надо было уже получившееся тесто тщательно вымешивать. Оно было тугим, плотным и маслянистым. Затем тесто раскатывалось на разделочной доске (напомню, что у нас была невероятных размеров разделочная доска, изготовленная дедушкой Иваном). В получившейся тонкой лепешке диаметром сантиметров 50–60, тонким стаканом или винным бокалом вырезались кружочки диаметром около 5–7 см. Кружочки откладывались в сторону, а оставшиеся от каждого блина «кружева» из теста вновь замешивались и снова раскатывались. В кружочки чайной ложкой укладывалась сахарно-ореховая начинка. Кружок складывался, и теперь надо было край не просто залепить, а сделать жгут-косичку! В этом было одно из основных отличий пирожка шакир-буру от прочих пирожков: из-за этого особой красоты края его ни с чем другим не спутать! Технику заплетания косички я освоил в совершенстве, делал это быстро, с удовольствием и качественно. Затем надо было верхний бок пирожка украсить несколькими складочками, которые защипывались пальцами, образуя подобие узора. Готовые пирожки рядами укладывались на противень и отправлялись в духовку. Всякий раз, поедая эти пирожки, угощая ими наших гостей, мы вспоминали — иногда вслух, иногда про себя — замечательную семью Мусабековых…
Вот такая долгая и добрая память об этих людях — просто соседях по дому — хранилась в нашей семье. На зимнем фото №117, сделанном Павликом в 1956 году напротив нашего подъезда и окна Мусабековых сидят Нелечка, мама и я в очках.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
