
Бесплатный фрагмент - Hunting Lover
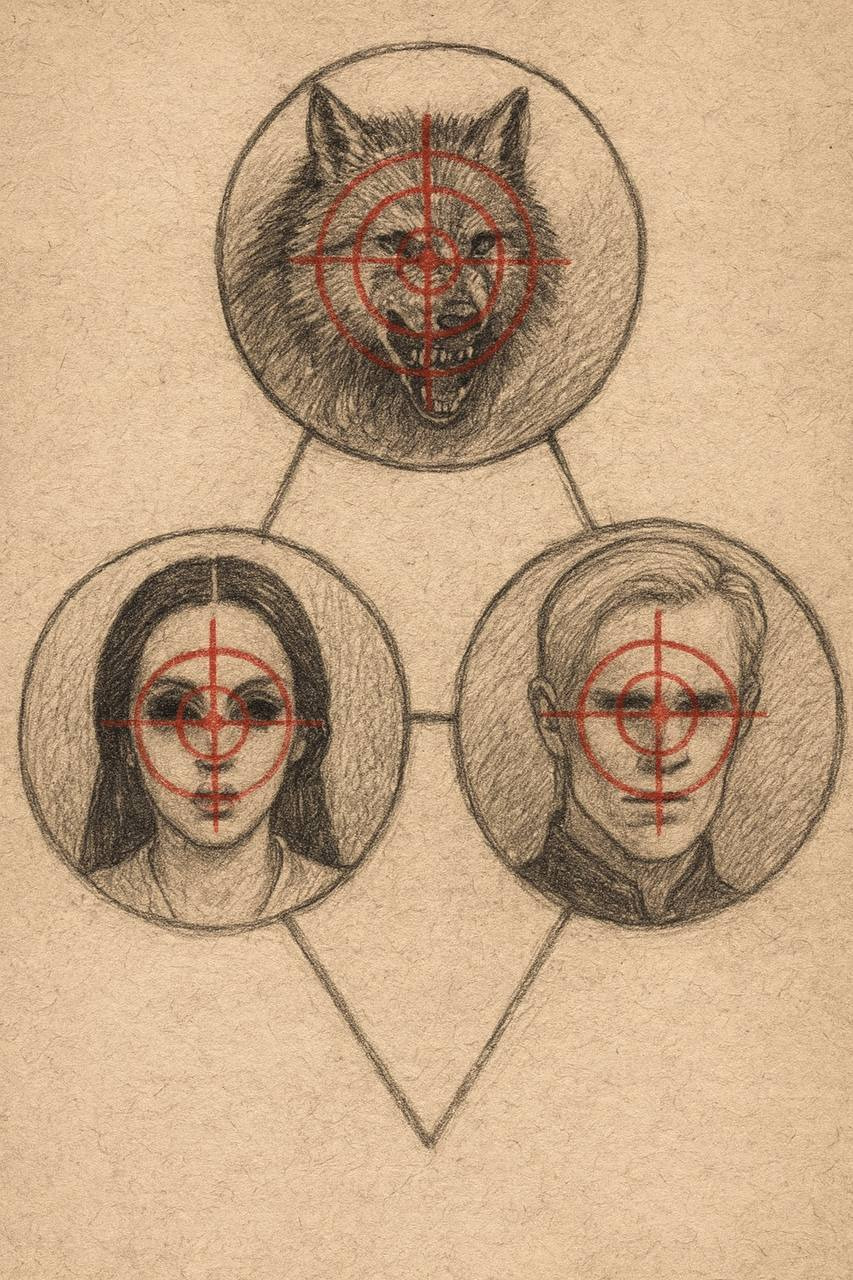
1. Обитель уединения
2 октября 2026
Свинцовые волны Северного моря с глухим рокотом разбивались о гранитные пирсы гавани, занавешивая всё вокруг ледяной, солёной пылью. Я стоял на палубе парома, вцепившись в холодный поручень, и смотрел на уходящий в туманную дымку берег. Ветер, резкий и влажный, рвал полы моего старого плаща, настойчиво напоминая, что южные края с их ласковым солнцем остались где-то там в прошлой жизни, которая закончилась вместе с подписью на тех бесчисленных бумагах, что лежали сейчас в моём портфеле.
Меня зовут Петр Ловецкий. Я чех по крови, но судьба, этот вечный кукловод, мотала меня по разным углам Европы, пока я не осел в Германии. Моя фамилия, как часто шутили сослуживцы, была предназначением. Ловецкий от слова «ловец», но ловил я отнюдь не зверей в лесах, а куда более опасные и сложные мишени в лабораториях и на полигонах, ведь большую часть жизни я прослужил военным технологом, моим ремеслом были расчёты, схемы и холодная сталь, но теперь я просто старый человек, чьи руки, привыкшие держать чертежи, с тоской искали в карманах хоть что-то, за что можно было бы ухватиться.
Паром, содрогаясь всем своим стальным телом, медленно разворачивался, направляясь к едва виднеющемуся вдали острову — моему новому дому. Само слово звучало как отголосок какой-то романтической притчи, но реальность пахла не морской свежестью, а мазутом и рыбой. Мысленно я вновь перебирал в голове недавний разговор с генералом Кальтенбруннером, моим бывшим начальником. Кабинет генерала в Гамбурге был таким же, каким я его помнил: строгая, почти спартанская обстановка, пахнущая кожей кресел и старым деревом. За массивным дубовым столом сидел человек, чьё имя когда-то наводило трепет на подчинённых, а теперь его лицо было изборождено морщинами не столько от лет, сколько от затаённой боли.
«- Петр, — его голос, обычно металлический и чёткий, сейчас звучал приглушённо, — я не стану тебя обманывать, это не райский уголок. Место глухое, отдалённое, зимой шторма отрезают его от материка на недели, но… — он замолчал, его взгляд упёрся в резную пепельницу на столе, — Эльзе нужна серьёзная помощь специалистов. Лучшие клиники здесь, в городе, а там слишком сыро, слишком одиноко для неё».
Я молча кивнул, зная о болезни его жены. Рак коварный и беспощадный враг, против которого бессильны любые, даже самые совершенные, технологии.
«- Я продаю тебе всё, Петр, дом, участок, все постройки за символическую цену. Для меня важно знать, что там будет кто-то адекватный, кто не станет рубить лес под корень и не превратит землю в свалку. Ты всегда понимал природу, чувствовал её. — он встал и подошёл к окну, глядя на серые крыши города. — Ты же купил тогда тот участок в Баварии, после отставки. Помнишь? Говорил, что душа просила тишины и зелени».
Я помнил солнечную, яркую, пьянящую ароматами хвои и альпийских лугов Баварию. Мне было сорок пять, когда я, выйдя на пенсию и получив прощальное рукопожатие от министерства, ощутил не просто пустоту, а оглушительную тишину внутри. Лабораторный гул сменился навязчивым звоном в ушах, а строгие линии формул хаотичным мельтешением бессмысленных мыслей. Тогда я, движимый смутным, но неутолимым порывом, купил старый охотничий домик в баварских предгорьях. Я ехал на автомобиле по извилистой дороге, петляющей меж холмов, будто покрытых зелёным бархатом. Воздух, густой и сладкий, наполнял лёгкие, заставляя кружиться голову. Стояла поздняя весна, и весь мир казался умытым, новым, сияющим нежнейшей зеленью только что распустившихся листьев. Мой домик, сложенный из грубого тёсаного камня и тёмного дерева, стоял на окраине леса, на небольшом пригорке. С его крыльца открывался вид на бескрайнее море вершин, уходящих к заснеженным пикам Альп на горизонте. По утрам я просыпался не от звонка будильника, а от переливчатого хора птиц. Сначала доносилась трель какого-то смельчака-солиста, затем к нему присоединялись другие, и вот уже весь лес звенел, как огромный, живой, пробуждающийся организм. Я сидел на том самом крыльце с утра, с чашкой крепчайшего кофе, и просто смотрел, как солнечные лучи пробиваются сквозь густые кроны елей и сосен, отливая тёмным золотом на их коре, как суетятся бурундуки, деловито таская в норки припасы. В те мгновения во мне рождалось чувство, которого я не знал за все годы службы, — чувство полного, безоговорочного слияния с миром.
А потом я увлёкся охотой, но я не стремился убивать. Я шёл в лес, чтобы учиться. Часами мог сидеть в засаде, в абсолютной неподвижности, вживаясь в ритм леса, становясь его частью, изучал повадки косуль, наблюдал за осторожными кабанами, слушал перекличку волков в ночи — леденящий душу, но одновременно прекрасный хор сильных хищников. Я вспомнил один из таких дней. Поздней осенью лес сбросил свой пышный наряд и стоял обнажённый, строгий и торжественный. Воздух был невероятно чистым, и я сидел под огромным старым буком, его оголённые ветви рисовали на бледном небе причудливый кружевной узор. Под ногами шуршала ковром пожухлая листва, пахло грибами, влажной землёй и тлением. Внезапно, метрах в двадцати, из зарослей папоротника вышла косуля, молодая, стройная, с огромными тёмными глазами, полными бездонной, первозданной тревоги. Она замерла, подняв изящную голову, ноздри её трепетали, ловя незнакомый запах. Мы смотрели друг на друга, казалось, целую вечность и я почувствовал себя гостем, а когда она, сорвавшись с места, бесшумно исчезла в чаще, во мне не было разочарования, лишь глубокая, необъяснимая благодарность за эту встречу, за это мгновение подлинной, ничем не омрачённой жизни.
«- Ты был счастлив там, я это видел. — голос генерала вернул меня в реальность».
Я вздохнул, глядя на его спину.
«- Да, Ганс, я был счастлив. Та земля будто исцелила меня. Жаль, что в конце концов я её продал».
«- Зато приобрёл этот».
Теперь, стоя на палубе парома, я ловил себя на том, что ищу в этом суровом, холодном пейзаже хоть крупицу того баварского тепла. Однако предо мной была лишь могущественная, величественная и, пожалуй, враждебная красота. Скалистый берег острова приближался, вырастая из тумана тёмной, зубчатой стеной, увенчанной чахлыми, склонёнными от постоянного ветра соснами. Во мне шевельнулось сомнение. Смогу ли я? Смогу ли я, старый, уставший человек, чьи лучшие годы прошли среди схем и механизмов, найти общий язык с этой угрюмой природой? Смогу ли я снова почувствовать то единение, ту благодать, что дарили мне баварские леса?
Паромщик был мужчиной лет пятидесяти, но суровость жизни на этом клочке суши прибавила ему добрый десяток. Его лицо, обветренное до цвета старой меди, было испещрено глубокими морщинами, залегавшими вокруг глаз и рта. Он был одет в просмолённый дождевик, от которого тянуло рыбой и влажной шерстью, и сжимал в руках толстый канат, перебирая его узловатыми, искривлёнными пальцами. Его маленькие, глубоко посаженные глаза, цвета морской воды в пасмурный день, уставились на меня с немым, но откровенно недружелюбным вопросом. Я собрался было сесть обратно в машину, как его хриплый, прокуренный голос остановил меня.
— Эй! — крикнул он, не двигаясь с места, голос скрипел, как несмазанные петли. — Куда это путь держишь?
Я остановился, повернувшись к нему. Вежливость, въевшаяся в подкорку за годы службы, заставила меня сдержать лёгкое раздражение.
— Здравствуйте. — произнёс я ровно. — Я к себе…
Паромщик фыркнул, не дав мне договорить и выпустив струйку пара в холодный воздух. Он бросил канат на землю и сделал несколько шагов ко мне, его движения были тяжёлыми, раскачивающимися, как у моряка на палубе во время качки.
— К себе? — переспросил он, и в его голосе прозвучало откровенное неверие. –Погостить к кому? К Йенсену? К старой Марте? Иль просто рыбу половить, да на обратный рейс опоздать?
Он окинул меня оценивающим взглядом, в котором читалось подозрение, смешанное с привычной для отдалённых мест враждебностью к незнакомцам.
— Нет. — ответил я, всё ещё стараясь сохранять спокойствие. Внутри же что-то ёкнуло. Эта встреча была первым знаком, первым подтверждением, что генерал не преувеличивал насчёт «особенного» места. — Я не гость, я приобрёл здесь дом генерала Кальтенбруннера.
Эффект от моих слов был мгновенным и ошеломляющим. Его скуластое, обветренное лицо побледнело, проступивший сквозь загар сероватый оттенок придал ему болезненный, почти мертвенный вид, глаза, прежде просто недружелюбные, округлились, в них вспыхнул настоящий, животный ужас. Он отшатнулся, будто я только что объявил ему, что заражён проказой.
— Кальтен… что? — просипел он, и его голос сорвался на полуслове. Мужчина перевёл дух, и его следующая фраза прозвучала приглушённо, но с такой силой, что казалось, само воздух содрогнулось от неё. — Ты купил… этот дом? Ты… ты теперь их сосед?
Последнее слово он произнёс с таким отвращением и страхом, будто речь шла не о людях, а о ядовитых змеях, заполонивших соседний участок. Лёд, сковавший моё сердце при виде его реакции, начал медленно таять, уступая место жгучему, почти профессиональному любопытству. Все мои внутренние детекторы, годами настроенные на анализ угроз и странностей, включились на полную мощность.
— Их? — переспросил я, намеренно делая свой голос мягким, не угрожающим. Я сделал шаг вперёд, но он инстинктивно отпрянул назад, к своей будке, как бы ища укрытия.
— Я говорю о семье Фаркас. — прошипел он, озираясь по сторонам, будто чего-то опасаясь. — Лучше оставим эту тему.
— Но почему? — настаивал я, чувствуя, как во мне просыпается любопытство. — Что в них такого?
Паромщик горько рассмеялся, и смех его был похож на предсмертный хрип.
— Семейка эта, скажу так, неприятная. Брата два уже как года два тут трутся, да и сестра недавно к ним приехала, только вот не похожи они на родственников. Она — черноволосая и кареглазая, они голубоглазые блондины. С местными вообще почти не общаются, ходят по лесам только. Молодые и богатые они к тому же. Только вот зачем молодым людям в такой прекрасный возраст в глуши проводить? Лучше бы катались на дорогих тачках по Берлину и в клубах плясали. Скрывают что-то, точно говорю. — он сглотнул и понизил голос до шёпота, заставляя меня инстинктивно наклониться ближе. — Слушай, раз уж ты купил тот дом, теперь ты от них никуда не денешься. Но я тебе вот что скажу… — он снова оглянулся, и его шёпот стал едва слышным, сливаясь с шумом от волн, — собаки воют, когда они проходят по деревне, дети плачут и прячутся, а ночью иногда из-за их высоченного каменного забора доносятся крики. — он выпрямился, и его лицо снова стало замкнутым и суровым. — Охотники приезжие пропадали, те, что слишком близко к их земле подбирались. Администрация говорила несчастный случай, утонули, заблудились, но мы-то знаем, что они уже давно всех во власти подкупили. Они явно не те, за кого себя выдают. Удачи Вам. Искренне надеюсь, что Вы с ними не столкнётесь.
С этими словами он развернулся и, не оглядываясь, зашагал обратно к своей будке, скрывшись в её тёмном проёме. Разговор был окончен. Я сел в теплый салон машины. Его слова, полные суеверного ужаса, казались бы мне бредом параноика в любой другой ситуации.
«Местным видимо нечем себя занять.» — подумал я про себя.
Паромщик, скрывшийся в своей будке, через мгновение снова высунул голову, словно не мог удержаться от последнего предупреждения.
— Слушай, раз уж ты тут остаешься… — прохрипел он, понижая голос, хотя вокруг, кроме нас и кричащих чаек, никого не было. — Если что нужно — продукты, керосин, спички, патроны, на всякий случай, тебе к Розарии. У нее единственный магазин на острове на центральной улице, в старом каменном доме с зелеными ставнями. Больше нигде ничего не купишь. — он замолк, тяжело дыша. — Только поговорить любит.
С этими словами он окончательно скрылся в своем убогом убежище, и на этот раз дверь не открылась. Паром причалил, и я завел мотор, поехав по единственной асфальтированной, но сильно разбитой дороге, ведущей вглубь острова. Дорога виляла между невысоких, поросших жесткой бурой травой холмов. Изредка мелькали одинокие, покосившиеся от ветра сосны и через пару километров показались первые дома, производившей впечатление вымершей. Дома, в основном одноэтажные, каменные, с темными, запыленными окнами, стояли по обеим сторонам дороги, словно разбегаясь от ее центра. Никаких признаков жизни, ни души на улицах, ни детей, ни стариков, ни собак, ни занавесок на окнах, ни цветов на подоконниках, лишь ветер гонял по пыльной дороге мусор. Некоторые дома явно стояли заброшенными годами: крыши провалились, стены облупились, но и в тех, что казались обитаемыми, царила мертвая тишина. Я медлил, надеясь увидеть хоть кого-то, но тщетно, только однажды мне показалось, что в щели между ставнями мелькнул человек, но, возможно, это была игра света и тени.
«Просто местные жители такие, — попытался я убедить себя, чувствуя, как по спине бегут мурашки, — неприветливые, отчужденные. В таких глухих местах это норма».
Я не стал останавливаться у магазина Розарии, ведь сперва нужно было добраться до своего нового владения, оценить обстановку, отряхнуть дорожную пыль. Согласно карте, которую мне набросал генерал, мой участок располагался на самом краю деревни, гранича с лесом. Наконец, я свернул на более узкую, песчаную дорогу и через несколько сот метров увидел знакомый по фотографиям высокий деревянный забор, остановил машину перед массивными, но сейчас распахнутыми воротами. Я вышел из машины и, открыв калитку, замер на пороге своего нового владения, медленно водя взглядом по территории. Прямо передо мной, в глубине участка, стоял двухэтажный деревянный дом, что принадлежал Кальтенбруннеру. Он был сложен из толстых, темных от времени бревен, с крутой скатной крышей, покрытой темным шифером, с большими окнами. Слева от главного дома, чуть в стороне, притулился одноэтажный гостевой домик, поменьше, но построенный в том же стиле и выглядевший почти игрушечным по сравнению с основным зданием. Справа я увидел баню, а в самом центре участка, между главным домом и гостевым, располагалась просторная площадка, вымощенная булыжником, и на ней сложено аккуратное кострище. Место для вечернего огня, для разговоров… для одиночества. Мой взгляд приковала оранжерея, прилегающая к южной стене главного дома, словно гигантский стеклянный нарост. Сквозь запыленные стекла ее изогнутой крыши угадывалась буйная, почти неестественно зеленая жизнь. Генерал, как я знал из его рассказов, был страстным садоводом. Видимо, это стало его главной отдушиной в этом месте. Я медленно прошелся вдоль забора, чувствуя под ногами хрустящий песок, и подошел к оранжерее, приложив ладонь к прохладному стеклу и заглядывая внутрь. В полумраке угадывались причудливые формы тропических листьев, свисающие лианы, горшки с цветами.
Осмотр владения занял не больше часа. Главный дом поражал своими размерами и мрачноватой, спартанской обстановкой генерала; гостевой — пахнет пылью и одиночеством; оранжерея же манила и пугала одновременно своим буйством красок в контрасте с внешним унынием, но находиться внутри этих стен, среди чужих вещей и чужих воспоминаний, я пока не мог. Мне требовался человеческий голос и провизия. Мысль о том, чтобы вернуться на материк за продуктами, казалась сейчас абсурдной, это заняло бы больше полудня. Значит, необходимо посетить Розарию. Я снова сел в машину и направился обратно, в так называемый центр деревни. Безлюдные улицы по-прежнему встречали меня гробовым молчанием. Я припарковался у того самого каменного дома с зелеными ставнями, вывеска которого скрипела на ветру, словно жалуясь на свое одиночество. Войдя внутрь, я поразился странным коктейлем запахов — воск, травы, керосин, пыль и что-то сладкое, пряное, возможно, сушеные ягоды или старые духи. Лавка была настоящим лабиринтом из стеллажей, заставленных банками, свёртками, инструментами и вещами, которым, казалось, место в музее, а не в магазине. За прилавком, спиной ко мне, стояла женщина. Она что-то протирала тряпкой, и сначала я видел лишь её волосы, тёмно-каштановые, собранные в небрежный пучок, из которого выбивались непослушные пряди, и её фигуру — невысокую, но крепкую, одетую в простое светлое платье, перехваченное в талии фартуком. Услышав скрип двери, она обернулась. Ей можно было дать лет сорок, возможно, чуть больше. Годы жизни на острове оставили на её лице свои следы — у глаз залегли лучики морщин, а у губ две неглубокие складки, говорящие о привычке часто улыбаться, но лицо её было живым, умным, а в глазах цвета тёплого ореха читалось веселье и озорство.
— Добрый день. — сказал я, подходя к прилавку. — Вы фрау Розария?
— Да, — мягко ответила она мелодичным голосом. — Чем могу быть полезна новому соседу? Вы, герр Ловецкий, если не ошибаюсь? Герр Кальтенбруннер предупреждал о Вас.
Видимо, вести на острове распространялись со скоростью звука.
— Да. — кивнул я. — Мне нужны базовые вещи — мука, крупа, консервы, кофе, керосин для ламп.
— Всё это есть. — она без лишних слов вышла из-за прилавка и начала собирать мою скромную провизию. Её движения были точными, выверенными, без единого лишнего жеста. Она знала свою лавку как свои пять пальцев. И пока она собирала товар, я решился нарушить молчание.
— Место у вас тут очень тихое, практически безлюдное.
Она бросила на меня короткий взгляд, в котором мелькнула тень иронии.
— Люди есть, — женщина ослепительно улыбнулась, — просто они не любят показываться на глаза новичкам. Особенно тем, кто селится по соседству с ними.
А вот и оно. Она произнесла это слово «ними» с той же интонацией, что и паромщик, но без его животного ужаса, скорее, с оттенком холодного презрения.
— Вы о семье Фаркас? — уточнил я, стараясь, чтобы мой голос звучал нейтрально.
— О них. — подтвердила она, ставя на прилавок банку с кофе. — Странные они с самого начала. Появились пару лет назад, купили старое поместье одного иностранца после его смерти. Сначала приехали только братья Арнольд и Гидеон, показались нам дикими, нелюдимыми, а потом этим летом к ним приехала сестра… Кэтэлин.
Она произнесла имя девушки с едва заметной заминкой, будто пробуя его на вкус и находя его неприятным.
— И что же странного? — спросил я, делая вид, что перебираю упаковки с крупой.
Розария на мгновение остановилась, её взгляд уставился в пыльную поверхность прилавка, видя что-то далёкое.
— А то, что сестра их привезла на остров три прекрасных коня. Хорошие, спокойные лошади были. — она покачала головой, и в её глазах мелькнуло что-то тёмное. — И вот, в конце августа с ними стало твориться что-то неладное. Ушли один за другим. Первого нашли в стойле загрызенным, а затем и второго, и третьего. — женщина подняла на меня свой спокойный, тяжёлый взгляд. — И не просто загрызенной, герр Ловецкий, не так, как волк это делает, чтобы добычу взять. Это было словно намеренное истребление. Горло перекушено, брюхо распорото, будто какая-то тварь уничтожала их из злобы или для забавы, и следы вокруг большие, волчьи, когтистые, да только таких волков больших на острове нет. Никто этого зверя не видел ни до, ни после. — она выдохнула и продолжила раскладывать товары по сумке. — Народ наш всполошился, все боялись за свой скот. Мы позвали охотника, но тот всего неделю скитался по острову, не найдя никаких следов, а затем пропал. Паромщик наш сказал, что тот не возвращался на материк. Что с ним стряслось — не ясно.
Она посмотрела на меня прямо, и в её взгляде читался немой вопрос: «Ты действительно готов жить по соседству с этим?». Я заплатил, взял тяжёлые сумки. На прощание Розария сказала уже без тени эмоций в голосе:
— Заходите, если что, я всегда тут. И запомните, герр Ловецкий, на этом острове совпадений не бывает, особенно там, где замешаны Фаркасы.
5 октября 2026
На третий день своего пребывания на новом месте я почти запомнил, что и где находится, ведь всё свободное время тратил на изучение внутреннего убранства каждого сооружения и каждой комнаты, каждого растения, цветочка, пилы или топора. Слишком долго оставаться на территории особняка я тоже не мог, душа моя требовала новых открытий. Погода же наоборот этого не желала, ведь вчера наслала на нас дождь, а сегодня неприятный и неуютный ветер и облачность.
Я позавтракал, сварил себе кофе в турке, которую купил, очередной раз будучи на своей родине и которой было уже много лет, и выглянул в окно, размышляя над тем, чем могу занять. Голову мою посетила просто чудесная мысль — пойти погулять в лес, который так удачно располагался прямо напротив забора и на который я прямо сейчас смотрел. Его хвойные деревья будто призывали меня подойти, протянуть руки наверх и сорвать какую-нибудь вкусно пахнущую смолой шишку. Воодушевлённый данной перспективой я чуть ли не выбежал из дома, забыв взять куртку, и потому вернулся обратно.
— А почему бы мне тогда не зайти к своим соседям, что прячутся за высокими каменными стенами? — спросил я самого себя, закрывая светлую деревянную калитку.
Однако, твердо всё решив, я всё равно встал как вкопанный, лишь кинув мимолётный взгляд на лес, я уже не мог отвести от него глаз. Сегодня он как-то по-особому манил меня, словно пытаясь завлечь, заставлял меня разглядывать его так, будто там сокрыто нечто настолько важное для меня, что я и представить себе не в силах. Сосны и лиственницы сливались в единую деревянную стену, и я боялся выцепить где-нибудь в этой стене что-то инородное. Придя к этой мысли мне невольно вспомнилось моё времяпрепровождение в Баварии, где я ровно так же неподвижно часами мог находиться в засаде. В такие моменты невольно вспоминаешь ситуации, о которых не можешь забыть и которые не можешь отпустить. У меня таких было сполна, и думал я о них достаточно, чтобы сейчас со спокойствием взирать на природу, которую мне уже не суждено покорить в этой жизни, в следующую же я не верю.
Мне есть о чём жалеть, в чём каяться, но я предпочитаю не делать этого или же просто не замечать. После себя я ничего не оставлю, разве что присутствие моё в чьей-то жизни оставило след в разуме или сердце, но это забудется и со смертью тех людей. Так зачем же вообще что-либо делать? Зачем вообще жить, если в этом нет никакого смысла? Просто, потому что в нас вдохнул жизнь Бог? Нет, я атеист. Природа породила нас, и мы с ужасным безразличием и крайней жестокостью убиваем свою мать, сначала медленно, затем быстро, паразитируем на ней. Возможно, в каком-то плане я мизантроп. Мы не создаём смысл, в наших поступках его нет, либо есть и он до невозможности отвратителен, а значит, если Всевышний и существует, то он нас ненавидит, ведь заставляет уничтожать самих себя же.
И вот опять я начинаю путаться в своих мыслях…
Я придерживаюсь, такой философии, что не всё имеет смысл, но имеет суть. И это имеет смысл, но не имеет сути, потому что это просто слова. Смысл — это то, что мы закладываем в суть предмета. Суть — это то, что есть и существует изначально, без вмешательства и переработки человека. Всё, что подвергается выражению человеческой воли и человеческих чувств, что выходит из человека — грязно и грешно, как, собственно, и сам человек. Наш мир, переполненный людьми, их болезнями, проблемами и отходами жизнедеятельности, умирает, ведь отравлен. Мы добыли все ресурсы, которые только можно было, создали машины, которые своей работой уничтожают наш дом, а сейчас мы деградируем и медленно умираем вместе с нашей матерью. Перспективы прекрасны, больше нечего и говорить. Это имеет смысл, я нашёл его, но вот суть этого вопроса я так и не могу найти. Возможно, и ненужно этого делать. В моём возрасте уже необходимо начинать думать о смерти, о том, чего я добился и что совершил. Я размышляю над этим иногда, но в тёмные дебри стараюсь не лезть. В таком деле должно соблюдать баланс, поскольку Хаос, в который можно непременно и мгновенно упасть — долго ещё будет терзать душу, а затем перейдёт и на тело.
Я наконец пересилил своё дикое желание повернуть направо и двинуться в чащу, потому что чувствовалась некая опасность, исходящая от него. Такого ощущения внутреннего неприятного страха, который обычно возникает в момент, когда человек теряет контроль над самим собой и попадает во власть своего тела и ту часть мозга, что отвечает за инстинкты, я не испытывал ни в чудесной Чехии, ни в цветущей весёлой Баварии. Там природа буквально дышала дружелюбием и безопасностью, а здесь же тёмная и холодная несколько могильная, она не внушала доверия.
Я прошёл вперед по песчаной дороге метров сто пятьдесят, находясь в какой-то прострации, опустошая свой мозг, и затем увидел высокий каменный забор, вылезший будто прямиком из средневековья. В некоторых местах он даже порос мхом, что добавляло ему некоторой атмосферы и вообще выглядело красиво. Увидеть, что происходило за ним, не позволяли даже ворота или калитка, обычно выполняемые из железных прутьев в едином стиле. Тут они были сделаны из тяжелого темного дерева. Никакого звонка или колокольчика я также не заметил, однако увидел странное движение за углом возле негустого в том месте хвойного леса. Присмотревшись, я понял, что движение это создавал молодой парень, на вид едва-едва достигший совершеннолетия. Он был одет в весьма простую голубую рубашку и штаны, вероятно, на размер больше, чем его собственный. Его пшеничные волосы растрепались, он смотрел себе под ноги, пробираясь по земле босиком и обходя колючие шишки, чтобы ненароком на них не наступить. За широкой раскачанной спиной он нес несколько брёвен.
«Браконьер.» — пронеслось в мыслях. — «Это уже не моё дело».
— Простите! — крикнул я ему, обращая внимание на себя.
Он поднял голову и посмотрел на меня своими немного раскосыми глазами, чуть щурясь.
— Да? — ускорил шаг, подходя ближе.
— Вы, случайно, не знаете, кто живёт в этом поместье?
— Знаю. Какие-то проблемы? — немного грубовато спросил молодой человек.
— Никаких. Понимаете, я приобрёл тут дом с участком у генерала Кальтенбруннера и хотел бы познакомиться со своими новыми соседями. Мне сказали, что они живут по данному адресу.
— Арнольд. — парень подошёл ко мне и протянул руку, представляясь.
— Петр Ловецкий. — ответил я на рукопожатие.
— Прошу, проходите. — Арнольд толкнул высокую калитку, и она открылась без каких-либо дополнительных манипуляций. — Я живу здесь вместе со своим братом и сестрой. — тон его мгновенно сменился на безразличный.
Я удивился, но со спокойствием на лице, которое я научился сохранять за долгие годы службы, зашёл на территорию при поместье. Внутри было довольно пусто, но красиво. Несколько елей, сосен и лиственниц заполняли место, возле одного из деревьев стояла садовая качелька с беседкой, а в углу маленькое ветхое здание, скорее всего, сарай. Сам дом представлял собой четырёхэтажного каменного монстра с пологой крышей, из которой высовывались две трубы, что было естественно, ведь на то, чтобы протопить такую громадину требовалось много дров. Все немногочисленные окна были занавешены темными шторами и закрыты, справа пристроен небольшой закрытый гараж с неизвестным содержимым. Крыльца же я не заметил.
— Не хотите присесть ил зайти внутрь? — учтиво предложил парень.
— Нет, благодарю, просто хотел узнать, кто вы и чем занимаетесь, и, честно говоря, сильно удивился, узнав, что мои соседи такие молодые люди. Редко в далёких деревнях можно найти кого-то младше сорока лет.
На мои слова Арнольд лишь загадочно улыбнулся. Не могу точно сказать, что понял, что же значил этот жест.
— У Вас очень интересное имя. Откуда Вы? — он пронзительно посмотрел на меня, и я заметил, что у парня присутствовал лёгкий снобизм.
— Я родом из Чехии, но служил в Германии. Генерал Кальтенбруннер был моим начальником. Так чем же вы тут занимаетесь? — уже напрямую спросил я, надеясь, что хотя бы сейчас получу внятный и чёткий ответ, а не увиливание.
— Мы просто живём здесь, дышим свежим воздухом, гуляем в лесу, иногда охотимся и балуем себя диким мясом. — я уже начинал думать, что у его брата или сестры есть некоторые проблемы со здоровьем, при которых прописывали такой тихий и спокойный режим жизни.
— Охотитесь? Это очень здорово, тоже занимался этим ранее.
— Получается, что Вы — охотник? — спросил у меня Арнольд несколько задумчиво, не моргая, и это выражение его лица, признаюсь честно, сильно меня смутило.
— Да, братец. Мудрый старый человек ведь только что сказал тебе это чуть ли не прямым текстом. — из гаража вышел ещё один молодой человек, очень похожий на Арнольда. — Я Гидеон Фаркас. Не представляйтесь, я слышал ваш с братом диалог.
«Брат.» — понял я. Он был чуть меньше своего широкоплечего родственника, но выглядел намного привлекательнее. Волосы были светлее, губы аккуратнее и пухлее, мышцы рельефнее, скулы больше проявлялись. Однако, меня смущала его язвительность.
Я замолчал, ведь интонация молодого человека предполагала скрытый смысл, который необходимо было разглядеть и изучить со всех сторон, прежде чем дать четкий ответ, но у меня не получилось этого сделать. Моё внимание захватило совершенно другое, а именно особа женского пола, внезапно выплывшая из-за угла каменного дома. Внешне она сильно отличалась от молодых людей, выжидающе стоящих передо мной и подозрительно улыбающихся друг другу, однако по виду была примерно того же возраста. Девушка обладала несвойственным многим другим внутренним магнетизмом, что чувствовался даже на расстоянии в 6 метров, разделявшем нас. У неё были тёмные, почти чёрные, волнистые волосы, доходившие чуть ли не до ягодиц, тёмные карие глаза и светлая кожа. Она смотрела на меня пронзительно и в упор, не с вызовом как мог подумать кто-нибудь, кто оказался бы на моём месте, а с глубоким изучением, сканированием внешнего вида и, возможно, одобрением. Черты лица её отличались выразительностью, открытые ноги худобой, кисти изящностью, ногти остротой. Она была одета в серую тёплую кофту с длинными рукавами и высоким воротником и короткие облегающие шорты.
— Ох! — Гидеон театрально повернулся назад. — Это наша с Арнольдом сестрица, — он протянул слегка загорелую руку в её сторону, — Кэтэлин.
Кэтэлин, аккуратно ступая по земле, двинулась в нашем направлении, принимая руку брата и останавливаясь рядом. Девушка расплылась в широкой, но весьма сдержанной улыбке, показывая белые зубы и заточенные клыки.
— Кэтэлин, — продолжил Гидеон, разворачиваясь обратно ко мне, — это пан Петер Ловецкий, наш новый сосед. Помнишь генерала Кальтенбруннера и его прелестную жену? — она кротко кивнула, не сводя с меня карих глаз. — Помнишь, что он уехал? — она кивнула вновь. — Так вот, он продал свой дом и всю территорию этому прекрасному человеку.
Я предположил, что у этого парня явно есть определённые проблемы психического и когнитивного плана, иначе он не позволял бы себе такие неприемлемые высказывания, грозившие перейти грань с оскорблением и дискриминацией.
— Герр Фаркас, — уважительно обратился я к нему, и он мигом ощутимо напрягся, — прошу Вас, мы не на моей родине в Чехии, а всё-таки в чудесной Германии, так давайте же будем соблюдать традиции этой страны.
Никак среагировать на мои слова ему не дала Кэтэлин, тактично замявшая это сущее недоразумение:
— Я рада знакомству, герр Ловецкий. Если не секрет, то поведайте, что привело Вас на наш замечательный остров.
Её голос был чуть тихим и спокойным, но твёрдым, мелодичным, будто она привыкла к тому, что все её слушают, не перебивая, подчиняются каждому слову, уважают и прислушиваются, так, обычно, говорили люди, имеющий внутренний стержень и обладающие сильным характером. Девушка наклонила голову в бок, убрала зубы, но не милую улыбку.
— Генерал Кальтенбруннер предложил мне купить это поместье, поскольку его жене требуется серьёзная и неотложная медицинская помощь, но это вы наверняка знаете. — ответил я, на несколько секунд отводя взгляд на двух братьев, иначе бы они могли счесть моё пристальное внимание к их совершенно волшебной сестре непристойностью. Арнольд, вероятно, промолчал бы, а вот Гидеон за словом в карман бы не полез.
— Знаем, однако не жалеем её как все остальные жители острова. Она сама виновата во всех своих бедах. — ответила Кэттэлин, складывая руки на груди.
— Почему же? Насколько мне известно, у неё чуть ли не последняя степень рака. — я выгнул бровь в удивлении.
— Да, всё верно, пан Ловецкий. — хмыкнул Гидеон. — Но Вам вряд ли известно почему она им заболела, и дело тут вовсе не в наследственности, не в образе жизни и не в экологии, а в отношении к Богу и Его восприятии.
— Прошу прошения? — спросил я, окончательно запутавшись в показаниях всех, кого встретил за сегодняшний день. Каждый верил в разные вещи, так что составить правильную и объективную картину мне не представлялось возможным, оттого я и задал следующий вопрос. — Можете ли вы прояснить ранее сказанное?
— Кто Вы, герр Ловецкий? — вклинилась в наш диалог девушка, тон которой внезапно стал холоднее. — Ваши обороты речи весьма занимательны.
— Охотник, дорогая сестрица. — Арнольд бережно, словно боялся сломать свою детскую фарфоровую куклу, дотронулся до её плеча.
— Охотник? — её карие глаза в миг заблестели и наполнились невероятной радостью и счастьем, будто ей только что сделали предложение руки сердца. — Немедля, поведайте мне на кого вы охотились.
— На самом деле, я почти всю свою жизнь проработал военным технологом и только выйдя на пенсию заинтересовался охотой. Но не стоит менять тему, пожалуйста, мне крайне интересно, что произошло с фрау Кальтенбруннер.
Катарина поджала губы, недовольная моим нежеланием подчиниться её воле, однако выполнила просьбу, надеясь скоро получить и мой ответ.
— Фрау Кальтенбруннер решила завести куриц, но не смогла обеспечить им защиту и их всех в короткие сроки пожрала лиса. Она, будучи уже не в своём уме, обвинила нашего пса в совершении этого смешного преступления, потом подкинула ему отраву через забор. Он съел её и умер, однако природа, которая занимает первое место в жизни каждого, кто находится на этом острове, восстановила справедливость, и старая тварь слегла с болезнью. Бедняжка. — сказав последнее предложение, она невинно усмехнулась.
Я же был крайне ошеломлён таким небольшим рассказом.
— Будучи не в своём уме? — я процитировал её слова. — Что Вы хотите этим сказать?
— Обезумела от горя после потери сына. — вмешался Арнольд, которому была явно неприятна или просто неинтересна обсуждаемая тема и он хотел побыстрее её сменить.
Поняв агрессивный и недружелюбный настрой, что стал особенно явен после моего, вроде бы, безобидного вопроса, я решил прекратить углубляться в это. По крайней мере здесь и сейчас. У меня была ещё возможность увидеться с Розарией и настоять на пояснении этого более чем странного поведения семьи Фаркасов.
— Что ж, ладно. — я сдержанно улыбнулся, чтобы восстановить то шаткое равновесие беседы, что мы поддерживали до появления девушки. — После того как я вышел на пенсию, купил себе охотничьи угодья и ловил многих животных в одиночку и с другими охотниками, но моим интересом в этом нелёгком деле всегда были волки. Хм… — я ненадолго задумался над тем, на чём же я, собственно, остановился. В моём возрасте, к сожалению, случаются подобные перемычки в сознании. — Да, я ловил и продавал мясо и шкуры различных птиц, зверей. Ничего особенного или такого, что могло бы вас заинтересовать. Я занимался этим делом недолго, всего лишь лет 8 или 10, и никаких странных или необычных случаев не было, хотя, по-моему весьма скромному субъективному мнению, каждый случай и животное уникальны. Никогда не знаешь, будет ли действенная стратегия, которые сработала с одними, применима к другим.
— Восемь или десять лет — это довольно много, особенно с высоты нашего возраста. — заметил Арнольд незаинтересованным и скучающим тоном, ковыряя пальцами ноги голую землю. — Наверняка, у Вас много опыта.
— Про свой опыт я могу сказать лишь то, что охотился с ещё небольшой группой таких же любителей как я в Баварии.
— Этот остров весьма необычен, герр Ловецкий, в отличие от плодородной предсказуемой Баварии. — я перевёл взгляд на дивную Кэтэлин. Она сдержанно улыбнулась мне и продолжила говорить так, словно смысл в её словах был не один. — Первое время Вы будете находить странным почти всё, что тут происходит, но не волнуйтесь, Вы быстро привыкнете. Человеку свойственна адаптация. И, забыла сказать, не стоить верить всему, что говорят про нас местные. Большинство нас не любит.
— Почему же? — наконец задал я в данный момент самый интересный для меня вопрос.
Девушка непринуждённо пожала плечами, качнулась на месте и наигранно закатила глаза. В её хаотичных действиях прослеживалась такая бешенная гармоничность, что становилось не по себе и нутро начинало сжиматься.
— Нет определённой причины. Мы никогда не находили с ними контакт, хотя, можно сказать, никто и не пытался.
— Наши представления о жизни в целом сильно расходятся с их и из-за этого со временем стали возникать маленькие, но вместе с тем неприятные конфликты. Потом и поползли разные слухи. Пожилые дамы любят судачить. — продолжал говорить Арнольд. — Вы наверняка это знаете. — его выпад был неожиданным, коротким и метким, отчего он непременно разошёлся в мимолётной и весьма наглой ухмылке, которая, впрочем, быстро пропала, и на смену ей пришла уже привычная и довольно убедительная отстранённость и холодность.
Я, кажется, стал понимать, почему они этого контакта и не имели. Он просто был им не нужен, да и терпение человека вряд ли выдержало бы их манеру ведения диалога долго.
— А слухи эти возникли из-за странной ревности к нашему благосостоянию, я полагаю. Однако, считаю, что важна не суть её, а сам факт существования. Но, знаете, нам и так хорошо в некотором уединении и одиночестве.
— Если же Вам будет угодно, заходите к нам, поговорим об охоте. Ваша личность показалась, по крайней мере, мне очень интересной, так что я буду рада видеть Вас в любое время.
Кэтэлин улыбнулась дружелюбно и мило, но слова её ясно дали мне понять, что время и силы, которые они могли потратить на разговор со мной, иссякли.
— В таком случае, был рад знакомству. До свидания.
Они, улыбаясь, попрощались со мной и проводили до калитки, однако, когда та закрывалась, я смог краем глаза увидеть, как улыбка эта мгновенно сошла с их почти идеальных красивых лиц.
Вернувшись домой, я решил уложить все сегодняшнее странное знакомство в голове, поливая все многочисленные растения и цветы. До чего же прелестны были красные амариллисы, оранжевые бегонии, розы всех цветов и видов. Они так сильно благоухали, что у меня в какой-то момент даже закружилась голова и я присел отдохнуть на складной стул, стоящий рядом с одной из теплиц, прилегающей к самому дому. Там генерал Кальтенбруннер выращивал бананы, лимоны и лаймы, кактусы, но самым привлекательным внутри этого сооружения для меня была коллекция орхидей. Растения эти как раз начнут своё цветение через пару месяцев, и я смогу наслаждаться сладостью их запаха и вида. В особенности я жду наступления этого момента для того, чтобы в первые в своей жизни увидеть такой редкий гибрид как чёрная орхидея.
— Цветок — мрачная драгоценность, чьи бархатные лепестки, подобно бездонным глазам ворона, вбирают в себя всю ночную мглу. Фея являет собой каскад элегантных изгибов, кои превосходят самые смелые фантазии скульптора, пораженного меланхолией. Ее трагичная форма наталкивает на мысли о деве, чей лик не может покинуть моей головы.
Меня так раздражает, когда некоторая мечтательность и красноречивость поражает мою душу, но ничего с этим я поделать не могу.
— Она есть богиня всех снов, живущая в саду теней…
Я шумно выдохнул, ещё сильнее раздражаясь этому непонятному состоянию, в какое я никогда не впадал после общения даже с подобными представительницами прекрасного пола. Хотя, вряд ли кого-то из них можно сравнивать с Кэтэлин. Образная мысль, посетившая меня внезапно, о том, какие события могли бы произойти, будь я таким же молодым как её братья, окончательно вывела меня из себя, и я со всей возможной злостью поднялся с кресла, опрокинув его, и тут же схватился за голову. У меня резко потемнело в глазах. Противный возраст в очередной раз дал о себе знать. Что же происходит со мной? Видимо, это событие сильно повлияло на меня. Нет, не событие, а девушка и слова её братьев, их семья в целом. Их образ. Почему? Потому что я предполагаю, что они что-то скрывают, имеют какую-то тайну. Эту тайну знают местные жители или так или иначе предполагают. Вся эта история о пропавших охотниках и чудом выживших метисах волка с собакой наталкивают на размышления, характер которых пока мне тяжело долго удерживать в голове. Я постоянно путаюсь в фактах и решил, что лучшим выходом будет начать записывать всю ту информацию, которую я получаю. Уже от Розарии я впервые услышал о том, что с моими соседями не всё так просто. И всё-таки я не герой романа, чтобы спускаться со свечой в их подвалы и обнаруживать там замученных и убитых охотников, я уверен, что с моим жизненным опытом и большим багажом знаний я смогу раскрыть эту морскую ракушку и увидеть жемчужину. Тем более, учитывая тот факт, что Кэтэлин так и манит меня ей, хоть и тщательно скрывает это под видом моментами проявляющейся замкнутости, внезапно сменяющейся на излишнюю доброжелательность. Её «поиграй со мной» сильно заводит и пробуждает чувство, не дающее мне спокойно думать, и нарушает тот порядок мысли, что существовал до этого.
Тем же вечером я сел и стал записывать по памяти всё, что я знаю, все те фразы, которые вызвали вопросы и на которые не дали ответов. Ложась на мягкую и большую для меня одного постель я окончательно убедился в том, что не могу выбросить из головы образ девушки, что мелькал перед моими глазами и преследовал меня в плоть до глубокой середины ночи. Интуиции и чувствам я доверял всегда, они никогда не подводили меня. Так вот не напрасно.
2. Раннее утро и слабонервные
6 октября 2026
На следующий день, когда я проснулся, то понял, что у меня невыносимо болит горло, голова и отёк нос. Мне невероятно повезло заболеть в первые дни на новом месте. Через неизвестное, но, очевидно, долгое количество времени я проснулся от какого-то стука в окно. Боги, как и всегда, оказались ко мне неоправданно жестки — в окно своим чёрным клювом стучался ворон огромного размера. Он посмотрел на меня страшными неестественными для птиц человеческими глазами и остановился, будто специально будил меня. Птица всё еще продолжала наблюдать за мной с внешней стороны окна. Выглядело всё это жутко. Или может мой воспалённый больной разум рисовал мне эти картины. И тут случилась ещё более странная вещь. До моего слабого старческого слуха дошёл стук в дверь с первого этажа. Я удивился, ведь человек не мог услышать этого, находясь на втором этаже с закрытой дверью, но звук был негромким. Я уже почти полностью потерялся в пространстве и времени на тот момент, чувствуя, что меня постепенно поглощает эфир. Весьма неприятное ощущение, однако я его всё-таки испытал.
Вновь взглянув на окно, я не заметил там большого ворона и потому уже решил, что всё это мне приснилось, но опять я услышал стук в дверь. На этот раз он был чётче, однако, при этом не громче.
Я схожу с ума.
Тяжело, еле-еле поднявшись с кровати с сильным головокружением я с Божьей помощью спустился вниз по неудобной крутой деревянной лестнице. Внизу всё было тихо, ни звука, не слышно даже как снаружи разыгрывается ветер — полная шумоизоляция. Я подошёл к двери и посмотрел в глазок — за дверью никого. Тогда я подошёл к ближайшему окну, которое располагалось слева на кухне, и посмотрел через него, кто же стучится ко мне, но там всё также никого. И тут я подумал логически, насколько, конечно же, мне позволял затуманенный, заторможенный мозг. Калитка была закрыта — это я помню точно, несмотря ни на что, а через забор никто не перелезет, дыр никаких тоже нет. Так кто же стучался в мою дверь, если никто не мог попасть на территорию? Я принял решение выйти на улицу и точно убедится в том, что на участке никого нет.
Тучи заполонили собой небосвод и перекрыли редкие лучи послеобеденного солнца окончательно. На улице стало уныло и грустно, подул сильный ветер, и я решил вернуться внутрь дома. Однако, когда я уже поднимался по ступенькам крыльца, один единственный отчётливый звук заставил моё сердце замереть. Я услышал вой. Это точно был вой, в этом сомнений я не испытываю, лишь не понимаю, кто мог его издавать. Осенью волки активизируются — это верно, но не могут же они подходить настолько близко к домам в деревне средь бела дня. Или могут? Почему они воют сейчас, а не ночью? Так они делают только в крайне особых случаях. Да и к тому же я слышу вой лишь одной особи, которой никто не отвечает. Невероятно странно. Может, если я попрошу своих любезных соседей объяснить данный занимательный феномен, они не откажут мне в этом удовольствии. Они же имели дело с местными хищниками и наверняка у них есть хотя бы теории о том, как можно обосновать это явление.
Я сварил себе крепкого чаю с лимоном и мёдом, надеясь, что старинное средство отгонит надвигающуюся хворь, но на сей раз оно оказалось бессильным. К ночи же болезнь накрыла меня с головой — жар разгорался в груди, расползаясь по телу липким, огненным приливом, озноб сотрясал моё некогда крепкое, а ныне предательски ослабевшее тело, заставляя зубы выбивать дробь. Я лежал в своей большой, слишком большой для одного человека постели, и мне казалось, что я тону в матрасе, что он засасывает меня, как трясина. Мысли путались, обрывались на полуслове, цеплялись за обрывки воспоминаний о дне минувшем: загадочная улыбка Арнольда, язвительный Гидеон, пронзительный взгляд их сестры. Именно образ Кэтэлин стал центром, вокруг которого закрутился весь последующий кошмар. Лихорадка не просто ослабила моё тело — она распахнула двери в самые потаённые уголки моего сознания, выпустив на волю демонов, о которых я и не подозревал, и все они имели её лицо.
Первый сон пришёл ко мне, едва я, измученный, провалился в забытье. Я стоял посреди своей же спальни, но комната была не той. Она была больше, выше, а стены, вместо привычных обоев, сложены из грубого, отполированного временем камня. Воздух был прохладен и влажен, пах сырой землёй, мхом и сладковатым, дурманящим ароматом увядающих цветов. В центре комнаты, на моей же кровати, но теперь больше похожей на каменную плиту, лежал я сам, бледный, вспотевший, с закрытыми глазами, а рядом со мной сидела Она, одетая не в грубую кофту и шорты, а в нечто струящееся, тёмное, похожее на ночное небо, усыпанное крошечными, мерцающими, как звёзды, камнями. Её длинные, чёрные волосы были распущены и водопадом ниспадали на плечи, касаясь моей щеки. Её прикосновение было неожиданно прохладным, почти холодным, и от этого жар, пылавший внутри меня, отступал, уступая место блаженной, целительной прохладе.
Она не говорила ни слова, лишь тихо напевала что-то на незнакомом, гортанном языке. Мелодия была странной, завораживающей, в ней не было ни единой ноты утешения, лишь древняя, безмерная печаль и безмолвная мощь. Её тонкие, изящные пальцы с острыми ногтями мягко гладили мой лоб, виски, шею. Каждое прикосновение оставляло на коже лёгкое, почти эфемерное ощущение прохлады, будто она черпала жар из моего тела своими кончиками пальцев. Я смотрел на это со стороны, не в силах пошевелиться, и чувствовал, как по мне разливается странное, двойственное чувство. С одной стороны — безграничное облегчение, спасение, с другой же — леденящий душу ужас, потому что в её глазах, этих тёмных, почти бездонных ямах, я читал не просто заботу, а некую сосредоточенность хирурга, проводящего сложнейшую операцию. Она склонилась ниже, и её губы, холодные, как мрамор, коснулись моего лба. Шёпот стал громче и чётче и теперь я различал слова, вернее, их оболочку. Это была молитва, но обращена она была не к Богу, в которого я не верил, и не к силам света. Её интонации были полны благоговения перед чем-то древним, тёмным, безликим, что скрывалось в самых глубоких пластах мира, в его изначальном хаосе. Она просила у этого «нечто» сил, просила «отпустить захваченную недугом душу», «очистить от болезни», «вернуть тень на её законное место».
— Прими этот жар, Владыка. — прошептала она, и её голос прозвучал так близко, будто раздавался у меня внутри черепа. — Прими его, как дань, и даруй прохладу забвения. Пусть плоть его станет чистым листом для новой судьбы.
Я почувствовал, как что-то ломается внутри меня, не физически, а где-то в глубине души, будто какая-то важная скрепа, державшая мою личность, моё «я», ослабла и треснула, и в эту трещину устремился холодный ветер извне. Сон переменился резко, без перехода. Благостная прохлада сменилась удушающим жаром. Я больше не лежал на кровати, а стоял на коленях посреди огромного, круглого зала. Пол подо мной был выложен чёрным базальтом, отполированным до зеркального блеска. Вокруг, уходя в темноту, возвышались колонны, увитые чёрными бархатными орхидеями — точь-в-точь как те, что я наблюдал в своей милой, чудной оранжерее. Их сладкий, гнилостный аромат висел в воздухе, густой и тяжёлый. Передо мной возвышался массивный алтарь из того же чёрного камня, на нём лежал длинный, узкий кинжал, рукоять которого была из желтоватой, старой кости, инкрустированной чёрным перламутром, а клинок из тёмного, матового металла, впитывавшего в себя скудный свет.
Кэтэлин стояла за алтарём. Её одеяние сменилось на простое, чёрное, похожее на монашескую рясу, лицо было прекрасно и безжалостно, как у классической мраморной статуи, изображающей богиню возмездия. В её глазах не было ни капли той нежности, что была минуту назад, лишь холодная, отточенная решимость.
— Всё имеет свою цену, Петер, — прозвучал её голос, гулко разносясь под сводами. — но к тебе, однако, мои слова не относятся. Я говорю про пользование, подчинение и владение. За всё нужно платить, а кровь, как всем известно, древнейшая и самая честная валюта. Моему Отцу же неважно, чья…
Она взяла кинжал, чье лезвие казалось живым, жаждущим.
— Ты пришёл к нам, охотник. Ты сам принёс себя в наше логово. Твоя душа, твоя воля, твоя жизнь — всё это теперь может стать топливом для великого дела. Только вот к чьей стороне ты склонишься — вопрос открытый.
Она говорила не только со мной, она обращалась к теням, что сгущались за пределами круга света. В них мне почудились силуэты — высокие, волчьи, и другие, человеческие, но искажённые, полные ненависти и страха.
— Нет… — попытался сказать я, но из моих губ не вырвалось ни звука.
— Молчи! — её крик ударил меня, как плеть. Внезапная ярость исказила прекрасные черты. — Ты думал, это простое совпадение? Что генерал просто так продал тебе этот дом? Нет! Это даже не судьба распорядилась так! Он так захотел! Ты подчинишься мне в конце концов! Ты поможешь мне найти его… за щедрое вознаграждение, разумеется…
Она подняла кинжал над головой. Свет, исходивший откуда-то сверху, вспыхнул на острие.
— Верни мне его! — закричала она уже совсем другим, надтреснутым, истеричным голосом. — Верни моего любимого! Моего Защитника! Они напугали его! Вынудили уйти и затеряться!
Её крик перешёл в рыдания. Слёзы, чёрные, как чернила, потекли по её щекам, оставляя на коже блестящие полосы.
— Я ненавижу их! Я ненавижу и тебя тоже! Ненавижу всех вас, смертных, с вашими короткими, жалкими жизнями и вашей неутолимой порой жаждой! Я сожгу тебя! Сожгу дотла и развею пепел по ветру!
Пламя действительно вспыхнуло вокруг — холодное белое, не обжигающее кожу, но выжигающее душу. Я чувствовал, как моя воля, мои воспоминания, всё, что делало меня Петером Ловецким, начинает тлеть и испаряться в этом призрачном огне. Затем всё снова переменилось. Пламя погасло и алтарь исчез, мы снова очутились в моей спальне. Она стояла на коленях у моей кровати, вся в слезах, прижимая мою горящую руку к своей щеке.
— Прости меня. — шептала она, её голос снова стал мелодичным и тихим. — Прости, ведь ты добрый и хороший, я не желаю тебе зла, но без него ничего не выйдет. Без твоей одержимости… без неё он не вернётся. Я не могу без него. Не могу…
Её слова тонули в рыданиях. Она металась между ненавистью, долгом, отчаянием и какой-то искривлённой, тёмной нежностью. Она то ласкала моё лицо, то с силой отталкивала, то снова прижималась, словно ища у меня защиты от самой себя.
— Люби меня, — прошептала она в полной тишине, — полюби ту тьму, что я несу, стань частью этих событий или умри. Другого выхода у тебя нет.
Этот вихрь — молитва тёмному богу, жертвенный алтарь, ярость, отчаяние, ледяная ласка и горячие слёзы — длился целую вечность. Я был куклой, марионеткой в её руках, игрушкой для её безумной скорби. Я потерял счёт времени, потерял ощущение себя. Всё смешалось в единый клубок страдания и экстаза.
Я проснулся от того, что в окно снова постучали. Сначала я не понял, где нахожусь. Ожидал увидеть каменные стены, почувствовать запах орхидей и холодный пол под ногами, но я лежал в своей постели. Утро было бесцветным. Стук повторился — это снова балуется ворон на улице. С трудом оторвав голову от подушки, я посмотрел на окно, однако там никого не было. В памяти чётко и ясно стояли все образы прошедшей ночи — каждое слово и каждый взгляд Кэтэлин. Это не был смутный, ускользающий сон, это было ярче, реальнее, чем сама реальность. И тут я осознал, что горло моё совсем не болело. Я провёл рукой по лбу — кожа была прохладной и сухой, значит, жар отступил, а ломота в мышцах, ещё вчера сковавшая всё тело, исчезла. С недоверием я сел на кровати. Чёрт возьми, голова была кристально чистой, острой, как бритва. Я чувствовал себя прекрасно, будто мне сбросили лет двадцать. В теле чувствовалась непривычная лёгкость, в мышцах — скрытая сила, словно кто-то влил в меня свежую, мощную кровь. Ощущения неестественные и пугающие. Ни одна болезнь в моей жизни не отступала настолько быстро и радикально.
Я встал на ноги и подошёл к зеркалу, ожидая увидеть измождённое лицо с запавшими глазами и серой кожей, но отражение меня удивило. Да, я выглядел уставшим, но не больным — глаза, обычно подёрнутые дымкой возраста и усталости, сейчас смотрели ярко и сосредоточенно, в них даже читался какой-то непривычный блеск. Это было не моё отражение, вернее, это был я, но каким я не был уже много лет. Спускаясь вниз, готовя себе завтрак, я ловил себя на некоторых странностях. Запах кофе, который я молол, показался мне невероятно насыщенным и глубоким, я слышал каждую птицу за окном, скрип половиц под ногами отдавался в моих ушах с необычайной чёткостью. Мои чувства обострились, и с этим обострением пришло и обострение памяти. Теперь, с холодной, трезвой головой, я заново перебирал вчерашний визит к Фаркасам. Каждую их улыбку, каждую двусмысленную фразу, «Охотник…» с каким-то особым смыслом произнёс тогда Арнольд, «Поведайте, на кого вы охотились» с жадным блеском в глазах просила Кэтэлин, их реакция на волков, их странная, отстранённая манера общения. Выходя на улицу под хмурое, затянутое тучами небо, я вдруг понял, что не боюсь. Пугающая странность происходящего не вызывала во мне желания запереться в доме или бежать с этого острова. Напротив, во мне проснулось то самое, давно забытое чувство — азарт охотника. Только на сей раз добычей была не зверь, а неясная пока что истина, не разгаданная тайна моих соседей.
Я сделал все дела по дому, набрал воду из скважины, полил несколько растений и направился на кухню, чтобы приготовить себе обед. Я сильно проголодался, ведь ничего не ел со вчерашнего утра. И вот, я уже стоял перед открытой дверью холодильника, и его белое, стерильное нутро, освещённое одинокой лампочкой, смотрело на меня упрёком. На полках лежали жалкие остатки былого изобилия: полпачки сливочного масла с подсохшими краями, баночка горчицы, головка чеснока, уже начавшая прорастать зелёными стрелами, и половинка лимона, съёжившаяся и одрябшая. Я отступил и медленно обошёл кухню, открывая шкафы один за другим. Консервы закончились, в небольшой банке на донышке в паутинке лежала горстка обломков макарон, чая и кофе оставалось на пару чашек, а хлеб, который я купил, кажется, позавчера, покрылся жёсткой, пятнистой корочкой плесени.
— Чёрт. — тихо выругался я. — Совсем забыл.
Забыл, потому что стар и был поглощён болезнью, странными соседями и ещё более странными снами, потому что ритм жизни на этом острове был иным — не городским, где магазин за углом работает круглосуточно, а медленным, глубоким, требующим планирования. Здесь нельзя было просто сбегать за продуктами, здесь к этому нужно было готовиться. Мысль о необходимости выйти за пределы своего участка, вновь окунуться в необычайно отчуждённую атмосферу острова, вызывала у меня лёгкое сопротивление, но выбора не было, ведь голод великий мотиватор, способный заглушить даже самые тревожные предчувствия.
Я оделся неспешно, тщательно подбирая одежду, будто готовился не к походу в магазин, а к важной встрече. Тёплые штаны, плотная фланелевая рубашка, сверху куртка, которую я наконец-то не забыл. Погода за окном не сулила ничего хорошего: небо было затянуто сплошным серым одеялом низких туч, отчего даже середина дня казалась предвечерними сумерками, воздух влажный и холодный, пахло мокрой землёй и далёким морем. Перед тем как выйти, я на мгновение застыл в прихожей, глядя на ключи от машины, что висели на крючке, предназначенном для одежды, но затем, ощутив в ногах ту самую, новую, необъяснимую силу, оставил их. Я решил пройтись, два километра не такое большое расстояние. К тому же мне нужно было прогуляться, подышать воздухом, подумать, переварить всё случившееся, отделить реальность от лихорадочного бреда. Я вышел за калитку и повернул направо, в сторону, противоположную от леса и дома Фаркасов. Дорога, песчаная и укатанная, убегала вперёд, огибая невысокие холмы, поросшие пожухлой осенней травой и редкими, корявыми соснами и лиственницами. Я начал свой путь, и тем, что поразило меня, снова была абсолютная гнетущая тишина: ни ветра, ни шелеста листьев, ни пения птиц. Звук моих шагов по песку казался неприлично громким, будто я нарушал некий запрет. Мысли мои, как и сама дорога, поначалу были прямыми и практичными. Нужно купить хлеба, молока, масла, яиц, сыра и круп с овощами, мяса, консервов на чёрный день, чай, кофе, сахар, мыло, стиральный порошок. Я мысленно составлял список, стараясь быть экономным, но и не забыть ничего важного. Пенсия не резиновая, а цены на острове, я подозревал, будут кусаться, но вскоре практичные мысли стали уступать место другим, более тёмным и витиеватым. Они вплетались в разум в такт моим шагам, навязчивые и неотвязные.
— Фаркасы… — прошептал я, и в памяти всплыли их образы. Арнольд с его загадочной полуулыбкой и грубоватой прямотой, Гидеон с его театральными жестами и язвительными комментариями и неестественно магнетическая Кэтэлин, её тёмные, пронзительные глаза, в которых читалась целая вселенная от бездонной печали до ледяной ярости, её голос, то тихий и мелодичный, то холодный и властный. — Что вы за существа? — спрашивал я сам себя, глядя на пустынную дорогу впереди. — Просто странные, замкнутые молодые люди? Или нечто большее?
Сон, тот кошмарный, яркий вихрь образов, пришёл на ум с пугающей чёткостью. Я до сих пор чувствовал на своём лбу призрачную прохладу её пальцев, помнил вес того костяного кинжала в её руке, слышал шёпот молитвы, обращённой к «Отцу» и «Владыке». Было ли это просто игрой воспалённого сознания? Или моя болезнь и последующее мгновенное, почти сверхъестественное исцеление действительно были частью чего-то… ритуального? Да быть не может. Просто бред какой-то. Я не верю в ведьм и магию, это просто глупо.
Я шёл дальше, и мои наблюдения за окружающим миром лишь подливали масла в огонь моих подозрений. Я не встретил ни души, ни одного человека, ни одной машины. Дома, мимо которых я проходил, выглядели заброшенными: закрытые ставни, заросшие сады, отсутствие признаков жизни, ни дыма из труб, ни припаркованных у ворот автомобилей. Казалось, весь остров вымер, лишь изредка я замечал запылённые, потухшие окна, за которыми, возможно, таился чей-то настороженный взгляд. Но что было по-настоящему пугающе, так это отсутствие животных: ни птиц на проводах, ни кошек, греющихся на заборах, ни собак, лающих из-за калиток, даже насекомых, этих вечных спутников жизни, не было видно. Остров казался стерильным, мёртвым и единственным признаком жизни был я сам, моё дыхание и стук моего сердца, которые в этой гробовой тишине звучали оглушительно громко. Они все боятся? Или здесь действительно происходит что-то, что заставляет всё живое прятаться? Мысль о Фаркасах снова возникла, на этот раз с новой силой. Их отчуждённость, их намёки на конфликт с местными, их странная связь с лесом и дикой природой… Всё это складывалось в единую, пугающую картину. Были ли они действительно причиной этой мёртвой тишины? Или они, как и я, были только её заложниками?
Наконец, впереди, на небольшом возвышении, показалась моя цель — уже знакомый магазин фрау Розарии. Я подошёл к двери и потянул за ручку, но она не поддалась. Магазин должен был работать. Я постучал костяшками пальцев по старому, потрескавшемуся дереву. Стук прозвучал глухо и одиноко, в ответ — ничего. Снова постучал, на этот раз сильнее. Прошла минута, затем другая, однако, тишина в ответ была красноречивее любых слов. Тревога, до этого тлевшая где-то на задворках сознания, вспыхнула ярким пламенем. С Розарией могло что-то случиться. Она хрупкая, доброжелательная женщина, не та, кто мог бы просто так закрыть магазин в середине дня без причины. Сам же он, как я понял, прилегал к её собственному дому. Я обошел здание, и за магазином обнаружил ухоженный, пусть и скромный, участок с небольшим, но крепким каменным домом под черепичной крышей, от улицы его отделял невысокий забор и калитка, которая, на удивление, была приоткрыта, будто кого-то только что впустили или выпустили. Этот простой факт показался мне зловещим, ведь в таком месте, где, судя по всему, все запираются на все замки, открытая калитка была нонсенсом.
Сделав глубокий вдох, я толкнул калитку. Она скрипнула, но поддалась легко. Участок Розарии был полной противоположностью пустынному и мрачному поместью Фаркасов. Здесь царил хоть и скромный, но уютный хаос — грядки с повядшей осенней зеленью, кусты смородины и крыжовника, несколько яблонь с ещё не собранными до конца плодами. В воздухе витал запах влажной земли, дыма из трубы и… чего-то ещё, слабого, но узнаваемого…
И тут я увидел их. Они стояли в центре двора, у старого каменного колодца, образуя странную, застывшую группу. Фрау Розария, бледная, как полотно, остановилась с большим, совершенно чёрным петухом в руках. Птица была огромной, с длинными, похожими на саблю, шпорами и глянцевым, отливающим синевой оперением, она не билась, а сидела на её руках с почти царственным спокойствием, и её маленькие, чёрные, как бусины, глаза были устремлены на меня. Напротив Розарии стояла Кэтэлин, одетая в длинное, струящееся платье цвета морской глубины. Лёгкая ткань обвивала её стройную фигуру, подчёркивая каждое движение, тёмные волосы были убраны в сложную, но небрежную причёску, из которой выбивались несколько прядей и касались её щёк. Она выглядела по неземному прекрасной и не смотрела на меня, всецело поглощенная Розарией и тем, что та говорила. Они разговаривали тихо, почти шёпотом, но даже на расстоянии я чувствовал напряжённость, исходившую от них. Рядом с Кэтэлин, как её тень, стоял Арнольд в своей обычной простой одежде, но сегодня его поза была особенно напряжённой.
Я замер на месте, не решаясь сделать ни шагу, и именно в этот момент Розария, закончив свою тихую речь, аккуратно, почти с благоговением, передала чёрного петуха в руки Кэтэлин, которая приняла его с той же странной, церемонной нежностью. Её тонкие пальцы с острыми ногтями мягко обхватили птицу, и та, как ни в чём не бывало, устроилась на её руке, будто это было его законное место. Казалось, на этом всё было закончено, и брат с сестрой собрались уходить. Арнольд уже развернулся, Кэтэлин бросила последний, многозначительный взгляд на Розарию, и тут он скользнул за спину пожилой женщины и встретился с моим. В тёмно-карих глазах девушки я не увидел ни удивления, ни смущения, ни гнева, только глубокая, бездонная уверенность, будто она знала, что я здесь, и ждала этого момента. Её аккуратные немного пухлые губы тронула едва заметная улыбка. Арнольд, заметив изменение в её позе, тоже обернулся, его лицо осталось бесстрастным, но в глазах я прочитал лёгкое раздражение, словно я был назойливой мухой, помешавшей важному делу. Фрау Розария обернулась по направлению их взглядов и тоже увидела меня. На несколько секунд во дворе повисла тягостная пауза, которую нарушила Кэтэлин.
— Герр Ловецкий, какая неожиданная встреча. Вы уже достаточно окрепли для прогулок? — её взгляд скользнул по мне, оценивающе, и улыбка стала чуть шире.
— Откуда Вы знаете, что я болел? — я напрягся, ведь плохо почувствовал себя вчера утром и с того момента ни с кем не общался.
— Видно по Вашему общему состоянию. — парировал Арнольд, в его тоне слышалась сталь.
Его слова, признаться честно, меня задели. Я перевёл взгляд на чёрного петуха, который всё так же спокойно сидел на руке у Кэтэлин.
— Красивая птица. — заметил я, просто чтобы что-то сказать, чтобы разрядить невыносимое напряжение.
— Да. — просто ответила Кэтэлин, поглаживая петуха по глянцевой спине. — Мясо таких очень нравилось нашему питомцу, но теперь, когда он умер, мы сами стали иногда питаться таким. — её брови изящно поднялись наверх, а голова склонилась на бок.
— Нам пора. — резко сказал Арнольд, бросая взгляд на сестру. — Не будем задерживать фрау Розарию и Вас, пан Ловецкий. — он больно уколол национальным обращением, сделав на нём ударение. — Уверен, Вы хотите совершить покупку и поскорее вернуться домой.
Кэтэлин на прощание тепло кивнула мне.
— До скорого, охотник. — прошептала она, чуть усмехаясь.
Они вышли за калитку, Арнольд впереди, Кэтэлин с петухом позади. Я смотрел им вслед, пока они не скрылись за поворотом дороги, ведущей в сторону их поместья. Напряжение во дворе спало, но не исчезло полностью. Фрау Розария стояла, обхватив себя за плечи, будто ей было холодно и смотрела на меня широко раскрытыми глазами.
— Герр Ловецкий, рада видеть Вас. — она искренне улыбнулась. — Закрыла ненадолго магазин, а то пришли… эти двое… — она бросила быстрый, нервный взгляд в сторону, где скрылись Фаркасы. — Желаете зайти? Я… я поставлю чайник.
Её приглашение прозвучало не как гостеприимство, а как отчаянная попытка вернуть всё в какое-то подобие нормы, заговорить случившееся. Я понимал, что мне нужны были не только продукты, но и ответы, потому я просто кивнул и последовал за ней в её тёплый, пахнущий травами и выпечкой дом. Когда чай был готов и я уже сидел за круглым дубовым столом и Розария напротив, в воздухе прозвучала первая фраза:
— Понимаете, Герр Ловецкий, они в основном захаживают ко мне во двор, избегая помещения магазина, и просят продать им живой мелкий скот. Я всегда спрашивала у них, почему же они никогда не покупают у меня никаких продуктов, если и в город ездят едва ли чаще раза в год, но они всегда отвечают уклончиво. Да и скот этот берут довольно редко. В этом и проявляется одна из их странностей. Вы, как я заметила уже с ними знакомы. Видели второго брата Гидеона? Похож он с Арнольдом, но не близнец, а сестра их будто и вовсе им не сестра. Так вот Гидеона я вообще видела последний раз несколько месяцев назад, когда его серый конь был жив, верхом в лесу, он пронесся мимо меня, словно гнался за кем-то. Было у меня предположение, что они питаются тем, что в лесу и добывают, потом поговорила с паромщиком и задумалась, а вдруг они своих же коней и съели, но он меня заверил, что видел их тела и люди такого совершить точно не в силах. — она говорила быстро и много, мой уставший после кратковременной болезни мозг с трудом вычленял смысл ее слов.
— Да, Фрау Розария, это довольно странно. Я позавчера посещал их и, признаться честно, не был удовлетворен общением с этой семьей. Сначала я подвергся нападкам Арнольда, а затем Гидеона, и последний был в этом достаточно силен, чтобы задеть меня. Встреча вышла неприятной.
— А что же Кэтэлин?
— А что вы можете мне про нее сказать? — Розария жаждала сплетен, но я решил, что открою ей подробности нашего взаимодействия с Кэтэлин только исходя из того, что она мне про нее откроет.
— Она всегда мила со мной, вежлива. Появление её на острове было очень тихим, незаметным. В один день Арнольд пришел ко мне вместе с ней и представил как сестру. Кэтэлин излучает что-то неясное и необычное, транслирует миру свою внутреннюю особенность, которую я не могу описать. А еще со временем я заметила, что она ведет себя иногда как какая-то заложница, делает то, что хотят ее братья, а не она сама и возразить она им, конечно, пытается, но в итоге все равно побеждают они. В августе в одну из ночей в деревню пришли волки, они завыли около полуночи, и я поднялась на балкон второго этажа, чтобы поглядеть на животных, и ужаснулась, увидев стаю огромных серых и черных волков, среди которых без опаски царственно шла Кэтэлин. Они окружили ее со всех сторон и вели в сторону леса. Я стояла в ошеломлении, не понимая, что только что увидела и было ли это в реальности. Однако, через минут десять с той же стороны шли Арнольд с Гидеоном, о чем-то разговаривая. Все что я смогла услышать, было «Мы приманили не тех. Тот, что нам нужен белый, словно альбинос, и одиночка». Я до сих пор не представляю, чем они занимаются и каким образом на них так дружелюбно реагируют дикие волки. Не сомневаюсь лишь в том, что с этой семьей что-то не то и они не те, за кого себя выдают. — женщина умолкла, отпивая чая и смотря на меня с ожиданием, поверю я ее словам или нет.
Сам же я терялся, но мне нужно было сохранить лицо и хорошие отношения с владелицей магазина, поэтому я вежливо и деликатно ответил:
— Это действительно необычная ситуация и поведение, несвойственное таким хитрым и опасным животным, как волки. Не могу понять, почему они так спокойно с Кэтэлин шли.
— Вы хотите сказать, что она каким-то образом вызывает у них особые чувства, заставляющие их… — она замялась, не в силах подобрать правильного выражения.
— Так своеобразно реагировать. — закончил за нее я.
Розария кивнула, соглашаясь, и хотела было еще что-то сказать, но все же промолчала.
На этом моменте мы закончили разговор, а вскоре и небольшое чаепитие, и я вернулся к себе в смешанных чувствах. Мне нужно было хорошенько поразмыслить над этой «особой» связью моих соседей с волками. Желательно, конечно, было еще раз с ними повстречаться, но явно не сегодня, может, завтра. Однако, для такого дела нужен хороший предлог. Тогда где-то в глубине души, в том месте, куда не доходит свет разума, тихий, чужой голос шептал, что это именно то, чего я бессознательно желал все эти долгие, унылые годы на пенсии.
7 октября 2026
Мысль под каким предлогом посетить Фаркасов созрела во мне за ночь, как спора ядовитого гриба во влажной, тёмной земле. Мне просто необходимо было вернуться в их логово не как вежливый сосед, а как исследователь, как тактик, изучающий поле будущей битвы, границы которого были окутаны туманом. Предлог я избрал простой и, как мне казалось, неуязвимый. Вчера Розария обмолвилась, что они, вероятно, охотятся и этим питаются. Что может быть естественнее для бывшего охотника, чем проявить профессиональный интерес? Я скажу им, что сам не прочь поохотиться и хочу выяснить, какая дичь водится в местных лесах. Эта ложь была подобна камуфляжу, она позволяла прикрыть моё подлинное, жадно-тревожное любопытство.
Солнце в тот день было призрачным, бледным диском за плотной пеленой высоких облаков, а свет рассеянным, без теней, отчего мир казался плоским, нарисованным акварелью, размытой дождём, воздух же, как всегда, неподвижен и тих. Эта тишина уже не казалась мне просто отсутствием звука; теперь она ощущалась как настороженное ожидание, как затаившее дыхание нечто, наблюдающее за каждым моим шагом. Калитка поместья Фаркасов, к моему удивлению, снова не была заперта. Тяжёлый металл поддалось моей руке с лёгким, утробным скрипом. Я шагнул на территорию, и меня охватило странное чувство, будто я пересек чью-то границу.
Первыми, как я и предполагал, я встретил братьев. Картина, открывшаяся мне, была на удивление бытовой и оттого ещё более зловещей. Арнольд, спиной ко мне, колол дрова точными, экономичными, лишёнными какого-либо намёка на усилие движениями. Топор в его руках взлетал и опускался с жуткой ритмичностью, и каждое его падение завершалось сухим, чётким щелчком расщепляемого полена. Он не обернулся на мой приход, но я знал, что он меня слышал. Вся его поза, сжавшаяся спина, выдали это мгновенное, животное напряжение. Гидеон же, напротив, встретил меня как дорогого гостя. Он сидел на затупленном обломке каменной плиты, чистил нож с длинным, узким клинком о точильный брусок. Шипящий, скрежещущий звук стали о камень резал тишину, словно разрывая её.
— А, герр Ловецкий! — его голос прозвучал неестественно громко и жизнерадостно в этом мёртвом пространстве, словно актёр, переигрывающий на сцене пустого зала. Он даже на этот раз обратился ко мне с уважительным «герр», однако я понимал, что он продолжает таким образом свои издевательства. — Какими судьбами? Уж не намерены ли вы вновь читать нам лекции о немецком этикете?
Его улыбка была ослепительной и абсолютно фальшивой, как маска. В его глазах, однако, прыгали весёлые, ядовитые искорки. Он получал большое удовольствие от этой игры. Я сделал вид, что не заметил колкости, и изложил свой заранее подготовленный текст, стараясь, чтобы голос звучал ровно и непринуждённо.
— Этикет — дело наживное, герр Фаркас, — парировал я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и неуязвимо для его колкостей, — а вот интерес к своему ремеслу, даже бывшему, вещь куда более постоянная.
Он на мгновение перестал точить нож, давя на меня взглядом, полным преувеличенного любопытства.
— Речь об охоте? Неужели в вас заговорила кровь ваших предков-чехов? Или, быть может, немецкая педантичность требует составить каталог местной фауны?
— Речь в некотором роде о соседском интересе. — отрезал я, чувствуя, как его слова, словно щупальца, пытаются проникнуть под мою защитную оболочку. — Вчера я беседовал с фрау Розарией, и она обмолвилась, что вы и ваш брат заядлые охотники, добываете вы себе пропитание именно этим путём. — я сделал паузу, наблюдая за его реакцией, но ни один мускул не дрогнул на его лице, лишь брови изящно поползли вверх, выражая чрезвычайно наигранное удивление. — Поскольку я сам, будучи на пенсии, с удовольствием занимался этим увлекательным делом, у меня возник закономерный вопрос, — продолжил я, разворачивая перед ним, как карту, свою подготовленную ложь, — лес напротив моего дома манит, а неизвестность раздражает. Я подумал, что кто, как не вы, мои ближайшие соседи и, судя по всему, знатоки местных угодий, сможет прояснить для старого человека на кого здесь можно выйти с ружьём? Каковы трофеи? Где искать дичь? Одним словом, я пришёл за советом. Бывалый — бывалому.
Я закончил и замолчал, позволив тишине, нарушаемой лишь шипением стали о камень, сделать свою работу. Гидеон медленно, с наслаждением, словно смакуя каждый момент, положил брусок на колени и поднял клинок, проверяя остроту лезвия на свет. Оно было матово-чёрным, поглощающим солнечные лучи.
— Охота… — протянул он, и слово это повисло в воздухе, тяжёлое и многозначное. — Да, это наша страсть, герр Ловецкий, но вы несколько… ошиблись в мотивах. Пропитание? Возможно… Мы редко позволяем себе баловаться диким жёстким мясом. — он усмехнулся, коротко и сухо. — В основном же мы… коллекционируем.
— Коллекционируете? — я нахмурился, чувствуя, как почва под моим благовидным предлогом начинает уходить из-под ног.
— О, да! — его глаза вспыхнули неестественным блеском. — Мы охотимся исключительно на хищников — лисы, рыси, иногда, если несказанно повезёт, волки, а так всё, что обладает клыками, когтями, хитростью и силой, всё, что само является охотником. — он встал с плиты, и его тень, длинная и уродливая, легла на песок. — Видите ли, в этом есть особый азарт, ведь нужно не просто убить или переиграть, а заставить существо, чьи инстинкты отточены тысячелетиями, поверить в твоё превосходство, заглянуть в его глаза в последний миг и увидеть там не страх, а осознание поражения.
Я физически ощущал некое отхождение от реальности. По его чуть ли не истеричному выражению лица и возбуждённым речам невозможно было понять, смеётся он надо мной, врёт, недоговаривает или говорит правду. К тому же, его слова, обёрнутые в бархатную оболочку эстетства, были полны такой немотивированной жестокости, что по моей спине пробежал холодок.
— А шкуры… — Гидеон сделал широкий жест рукой с ножом, будто указывая на невидимую галерею, — это трофеи, доказательства побед. Красота, что запечатлена в момент перехода из жизни в смерть, обладает особой энергетикой, не находите?
Я сглотнул, чувствуя, как моя роль простого любопытствующего соседа начинает трещать по швам. Мне необходимо было немедленно вернуть разговор в практичное русло.
— Впечатляюще. — сказал я кротко, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. — Может Вы знаете, где я могу добыть птицу? И на каких именно «хищников» мне стоит обратить внимание, если я захочу… освежить свои навыки?
Гидеон внимательно посмотрел на меня, и в его взгляде читалась насмешка. Он видел меня насквозь, видел мою ложь и притворство, впрочем, как и я его. Однако он, в отличие от меня, играл со мной, как кот с мышью.
— Птицу? — он усмехнулся. — Искать пернатую дичь занятие для терпеливых. Если пойти прямо от калитки… — он махнул ножом в сторону тёмного провала между деревьями, — …миновать глубокий овраг, там, прямо перед аллеей из плакучих ив, будет полянка. Они там часто крутятся. Казарки, глухари… иногда тетерев. — Фаркас повернулся в другую сторону, взгляд стал отстранённым, будто он видел не лес, а некие знаки, никому не доступные. — А если душа просит чего-то посолиднее, изюбря, к примеру, или кабана, тогда налево через поле, такое огромное, плоское, там и лес пореже, и копытные там бродят большие, сильные. Но будьте осторожны, герр Ловецкий, — его голос внезапно стал сладким, как яд, — в тех лесах водятся не только олени. Помните о наших коллекционных предпочтениях. Вдруг Вы случайно столкнётесь с кем-то, кто сам не прочь поохотиться на Вас.
Его улыбка стала откровенно зловещей, словно он мысленно вписывал меня в список участников какой-то игры. Я кивнул, мысленно отмечая оба направления, чувствуя, как цель моего визита, состоявшая в разгадке этой семьи, обернулась тем, что я сам стал объектом их мрачного, необъяснимого внимания. Гидеон продолжил водить клинком по бруску. Внутри всё сжалось от разочарования, ведь я не увидел Кэтэлин, чьё отсутствие было ощутимым, как физическая боль. И именно в этот момент, когда я уже собирался извернуться и найти причину задержаться, она появилась.
Девушка материализовалась из воздуха, из самой тени, отбрасываемой громадой их дома. Одна секунда — её не было, следующая — она стояла в трёх шагах от меня, сбоку. Такая тихая, незыблемая, как внезапно проступившее из тумана видение. Я невольно дёрнулся, и моё сердце на мгновение замерло, а затем забилось с бешеной силой. Сдержать испуг было невозможно — слишком внезапным было её появление. Я лишь сумел не вскрикнуть, но моё тело выдало меня целиком и полностью. Гидеон от души залился торжествующим гоготом, эхом отозвавшимся от каменных стен.
— Испугался, старик? — выдохнул он сквозь смех. — Наша сестрёнка обладает талантом появляться из ниоткуда, прямо как лесной дух.
Я проигнорировал его, стараясь перевести дух и вернуть себе хоть тень самообладания. Мои глаза были прикованы к Кэтэлин. Она была одета сегодня в нечто практичное — тёмные, плотные штаны и высокие сапоги, простую черную теплую кофту, но даже в этой утилитарной одежде она выглядела инородно и сверхъестественно. Её чёрные волосы вновь были распущены и лежали на плечах. Кэтэлин смотрела на меня с лёгкой, почти невидимой улыбкой, тронувшей уголки её губ, без насмешки и злорадства во взгляде.
— Герр Ловецкий, доброе утро. — произнесла дева мелодичным голосом. — Я слышала, Вы интересуетесь нашими охотничьими тропами.
В тот момент я был почти уверен, что она читала мои мысли, хоть это и невозможно, но это так. Её появление и слова — слишком идеальное совпадение.
— Я… да. — выдавил я, всё ещё приходя в себя. — Ваш брат только что их мне описывал.
— Тогда, возможно, вы составите мне компанию? — она сделала лёгкий жест в сторону леса. — Я как раз собиралась прогуляться до тех мест, где водится птица. Я редко отказываю себе в удовольствии пройтись по лесу и насладиться его красотой, тем более в такой настораживающий день.
Я чувствовал это всеми фибрами души, что её предложение прозвучало не просто так, не из вежливости или желания узнать меня получше. Однако, разве не этого я хотел? Увидеть её в её стихии, поймать хоть намёк на разгадку?
— С удовольствием. — ответил я, и мои слова прозвучали твёрже, чем я ожидал.
Гидеон вновь усмехнулся, привлекая к себе внимание, его взгляд скользнул с меня на сестру, и в глазах вспыхнул недобрый огонёк.
— Прогулка? — произнёс он, растягивая слова. — С тобой? Нет, сестрица, не думаю, что это хоть сколько-нибудь разумная идея. Герр Ловецкий — человек… утомленный. Ему вряд ли понравятся твои излюбленные тропы да тебе есть чем заняться. — он парень сначала бросил ей многозначительный взгляд, затем глянул в сторону Арнольда, ища поддержки. Тот, казалось, не участвовал в разговоре, но его топор замер на мгновение в верхней точке. Молчание брата было тяжёлым, плотным, как свинец.
— Не ври, Гидеон, — парировала Кэтэлин, её голос сохранял лёгкость, но в нём появилась стальная нить, — нечем мне заняться, а герр Ловецкий, уверена, крепче, чем кажется. Ему нужен проводник. Это просто прогулка.
— Именно поэтому мы против. — раздался низкий, хриплый голос Арнольда. Он не обернулся, продолжая смотреть на своё полено, но его слова, редкие и обдуманные, имели вес несокрушимого валуна. — Лес сегодня неспокоен, ветер меняется. Вечером пойдём туда все вместе, договорились же.
— «Неспокоен». — передразнила его сестра, но в её насмешке сквозила нотка напряжения. — Он всегда неспокоен, если вы ещё не заметили. Мы уже привыкли к этому и ничего со мной не случится.
— Речь не о тебе. — резко обернулся наконец Арнольд. Его лицо, обычно бесстрастное, было искажено внезапной вспышкой чего-то похожего на тревогу. — Речь о нём. — он кивнул в мою сторону. — И о том, что он может увидеть, чему помешать или же услышать… от тебя в том числе.
— Я ничему не помешаю. — попытался вставить я, но Гидеон тут же парировал, его язвительность сменилась холодной отстранённостью.
— Вы не понимаете, о чём говорите, пан Ловецкий. — он снова завёл свою сломанную шарманку. — Вы здесь чужой и принесли с собой ветер сомнений, что сбивает следы.
Напряжение нарастало, вися в воздухе густым, липким маревом. Кэтэлин посмотрела на братьев по очереди, её губы сжались в тонкую, упрямую черту. Она подошла к ним ближе, так, что их плечи почти соприкоснулись.
— Я пойду, — сказала она уже не мне и не им, а куда-то в пространство между ними, и её голос стал тише, но приобрёл новую, властную силу, — и вы прекрасно знаете почему.
— Мы знаем, что это бесполезно.– прошипел Гидеон, наклонившись к ней. — Он всё равно не появится.
— А если почует меня одну? Без вас? — её шёпот стал почти змеиным. — Он может проявиться или даже сделает что-нибудь.
— Этого мы и опасаемся, милая. — Арнольд мрачно хмыкнул, вонзив топор в колоду.
— Доверься мне. — произнесла девушка еле слышно, и затем перешла на какой-то иной, гортанный, древний язык. Звуки были странными, полными шипящих и горловых щелчков, лишёнными всякой мелодичности, но обладающими гипнотической ритмичностью.
Гидеон замер, его насмешливую маску пробила трещина изумления. Он перевёл взгляд на Арнольда. Кэтэлин продолжила, обращаясь уже к другому брату, и её голос на том же странном наречии звучал уже не просьбой, а мягким, но неумолимым приказом. Арнольд с силой выдернул топор из колоды. Он не смотрел на сестру, его взгляд был устремлен куда-то вглубь леса. Его могучие плечи опустились в безмолвном, сокрушённом согласии. Парень тяжело выдохнул, и это прозвучало как стон, потом коротко бросил какое-то односложное слово на том же языке, что прозвучало как приговор. Гидеон же раздражённо махнул рукой.
— Ладно! Иди! Но если что-то случится… — он не закончил, но его взгляд, полный немой угрозы, скользнул по мне, прежде чем он резко развернулся и зашагал к дому.
Кэтэлин обернулась ко мне. Её лицо снова было спокойным маской, но в глазах плескалась тёмная, тревожная победа.
— Итак, герр Ловецкий, — сказала она обычным голосом, будто только что не вела странную, шепчущую беседу на забытом языке, — кажется, мы можем идти.
И, не дожидаясь моего ответа, она двинулась к калитке, её чёрный пёс бесшумно последовал за ней, а я, с сердцем, стучавшим где-то в горле, и с головой, полной оглушительного гула новых вопросов, пошёл следом, понимая, что только что стал свидетелем чего-то бесконечно более важного, чем простая ссора братьев с сестрой. Мы вышли за калитку, оставив Гидеона дочищать его нож, а Арнольда методично разрубать поленья. Я бросил последний взгляд на них. Гидеон смотрел нам вслед, и его улыбка теперь была лишена веселья, в ней осталась только хищная уверенность, Арнольд так и не обернулся, но его спина, его сконцентрированная ярость, вкладываемая в каждый удар топора, говорили сами за себя. Они были двумя сторонами одной медали, один — язвительный и театральный, другой — молчаливый и неумолимый. И оба, я чувствовал, были одержимы одной целью, о которой я пока лишь догадывался.
Первые минуты мы шли молча. Я шёл чуть сзади, наблюдая за ней. Её походка была лёгкой, почти бесшумной, она буквально скользила по земле, обходя корни и камни с инстинктивной грацией. Пёс бежал впереди, его чёрная шкура сливалась с тенями, и лишь оранжевые глаза вспыхивали в полумраке, как угли. Лес с этой стороны был иным, более тёмным, более древним. Сосны и ели стояли плотной стеной, их ветви сплетались в непроницаемый для света полог, воздух насыщен смолистым, тяжёлым ароматом. Мысли в моей голове путались, пытаясь нащупать нить, ведь связь этой семьи с хищниками, в особенности, волками, была не просто увлечением. Это была самая настоящая мания. Розария говорила, что видела Кэтэлин среди волков, а её братья искали белого волка. «Тот, что нам нужен, белый, словно альбинос, и одиночка» — слова, подслушанные Розарией, теперь звучали в моей голове навязчивым рефреном. Почему именно белый? Просто из-за редкости? Или в этом был иной, символический смысл? И сама Кэтэлин… В её отношениях с братьями сквозил странный диссонанс. Она не одобряла их охоту? Боялась её? Или, напротив, была той силой, что направляла их, скрывая свои истинные мотивы под маской покорности? Неожиданно сам для себя я задал мучавший меня вопрос, прозвучавший довольно громко в тишине леса.
— Вы имеете какое-то помешательство на волках?
Она шла впереди, не оборачиваясь, но, казалось, чувствовала ход моих мыслей. Мы уже успели перебраться через относительно неглубокий овраг, в котором обломанные ветки лежали так, что можно было запросто переломать себе обе ноги и другие конечности.
— Что вы имеете в виду? — Кэтэлин нахмурилась, останавливаясь и переводя взгляд на меня.
— Фаркас. Это волчья фамилия. Охотитесь на волков, ненавязчиво уговариваете и меня этим заниматься.
— Это хорошие животные, верные и преданные, хитрые и сильные. — уклончиво ответила она, продолжая идти.
— Вы ассоциируете себя с ними?
— Возможно. — её спокойная, прекрасно видимая и не скрываемая манипуляция сильно меня раздражала, но действовала — я не мог перестать теряться в догадках, но наплевать на все и сорвать свою маску учтивости и вежливости не мог, благодаря остаткам моего некогда стального внутреннего стержня. Раздражение тем временем, копившееся во мне с момента встречи с Гидеоном, с её внезапным появлением, с этой гнетущей атмосферой тайны, наконец, переполнило чашу. Я больше не мог сдерживаться.
— Знаете, — не выдержал я, — вы не имеете совести, милая Кэтэлин, а ваши братья-шовинисты не имеют ни манер, ни уважения к другим, даже более старшим. Каждый член вашей крайне странной семьи ведёт себя очень вызывающе и неподобающе. Теперь я начинаю догадываться, что именно вы делаете в этом Богом забытом месте и почему избегаете общества обычных людей.
Она слушала мою тираду с каменным лицом, тёмные глаза её похолодели. Девушка слушала все мои обвинения, кажется, вообще не пропуская их через себя, однако, когда я закончил, встрепенулась.
— Богом это место вовсе не забыто, герр Ловецкий, и чем раньше вы это поймёте, тем легче вам будет тут освоиться. — она ускорила шаг и вскоре вовсе вышла вперёд. — Узрите же наконец истинную природу острова, узнайте и поймите, почему он так притягателен и загадочен и почему мы в данный момент не катаемся на дорогих машинах в городах-миллионниках, а гуляем тут.
Перед взором моим предстало довольно занимательное зрелище. Остров просто не переставал удивлять. Нельзя было даже представить, что всего в нескольких километрах от моего дома природа радикально меняла свой характер — вместо сухих искривлённых деревьев и кустов багульника теперь произрастал влажный сине-зелёный мох. Тропа, по которой мы шли, превратилась в аллею, по бокам которой плотно стояли ивы, своими раскидистыми чёрными ветвями перекрывая доступ солнечному свету и вообще любому другому свету. Я не видел конца этой невероятно красивой аллеи, и что-то подсказывало мне, что она длинна. Воздух, еще несколько минут назад пахнувший хвоей и влажной землей, вдруг загустел, стал тяжелым и сладковатым, с примесью запаха гниющих водорослей и далеких, незнакомых цветов, чьих лепестков я никогда не видел. Он вязнул в легких, как сироп, и каждый вдох требовал усилия. Свет, и без того призрачный под затянутым небом, здесь преломлялся иначе. Он сочился сквозь сплетение черных, плакучих ветвей ив, окрашиваясь в болотные, серо-лиловые тона. Тени пусто лежали и пульсировали. Краем глаза я улавливал их движение, медленное, червеобразное, словно сами очертания мира дышали, жили своей собственной, чуждой жизнью. Земля под ногами была неестественно упругой и бесшумной, поглощала наши шаги, как поглощает звук густой войлок. Наступая на нее, я испытывал странное ощущение, будто ступаю по коже какого-то гигантского, спящего существа. Приглушенный шелест листьев напоминал не земной ветер, а отдаленный, многоголосый шепот, доносящийся из-под земли или из-за границы миров. В нем не было слов, лишь навязчивое, повторяющееся бормотание, полное древнего, нечеловеческого смысла. Этот шепот заползал в уши, вился в них червяком, нашептывая забытые намеки и обещания, от которых стыла кровь. Взгляд мой скользил по стволам ив. Их кора, казавшаяся издали просто темной, вблизи была испещрена странными, извилистыми узорами, похожими то ли на руны, то ли на карту звездного неба. Эти узоры, мне почудилось, медленно, почти незаметно перетекали, меняли свои очертания, следуя ритму того незримого пульса, что бился в самой основе этого места. Я чувствовал легкое, постоянное головокружение, как будто стоял на палубе корабля, медленно кренящегося в водах бездны. Ориентация в пространстве терялась; тропа позади, казалось, сомкнулась, а впереди уходила в бесконечную, мерцающую даль. Я попал в ловушку не из деревьев, а из восприятия.
— Я вижу, как вы высматриваете конец. — чуть ли не пропела Кэтэлин. — Вы будете поражены, когда достигнете его и обнаружите там то, чего никогда не видели за всю свою жизнь и, вероятно, никогда больше нигде не увидите.
— Что там? — чертовка сильно заинтриговала меня.
Я оторвал завороженные глаза от окружающего мира и посмотрел на неё. Девушка глядела на меня в упор и периодически хлопала своими длинными кукольными ресницами. Я не мог понять, раздражало это меня или возбуждало.
— Сегодня вы это вряд ли узнаете, герр Ловецкий.
— Почему это? — если я захочу, я спокойно пойду и выясню, что там находится.
— А вы что вообще по сторонам не смотрите? Или у вас настолько плохое зрение? — она шикнула, будто в брезгливости.
Я посмотрел по сторонам и не заметил ничего, чтобы могло помешать мне достичь моей маленькой цели, но, когда поднял голову к верху, осознал, что это вовсе не ветви ив скрывали свет, а огромная грозовая туча.
— Чёрт… — прошептал я в досаде, совсем позабыв про свою спутницу прекрасного пола.
— Не поминайте его, а то и в самом деле появится. Нам стоит потихоньку возвращаться домой. — она развернулась, но я продолжал стоять на месте прямо напротив.
— И всё же вы что-то скрываете. — продолжал я упрямо докапываться до правды. — Я не могу точно сказать, что именно, но как старый человек ощущаю все странности. Не отрицаю, в моих выводах возможна ошибка, однако, я наблюдаю и стараюсь всё замечать. — прозвучало довольно агрессивно и грубо, но дева, кажется, нисколько не обиделась на такой мой тон.
— Да? Неужели? — она пренебрежительно и высокомерно хмыкнула. — Ну ладно, желаю Вам удачи в раскрытии несуществующих тайн. Мы ничего не скрываем, герр Ловецкий. Может быть, мы, по мнению некоторых людей, и странная семья, но уж точно не страннее других. У каждого свои тараканы в голове.
— Я бы списал всё на обычные человеческие странности, но самый последний момент с этим вашим языком… Понимаете, вот в чём незадача: в списке ныне существующих такого нет. — и я не врал, эта ситуация полностью убедила меня в том, что тут что-то не чисто.
— Значит, Вы не разбираетесь в вопросе, поскольку это древнеарабский. — Кэтэлин поджала губы и опять захлопала ресницами, изображая самое невинное и наивное существо в этом мире.
Я умолк, потому что не знал лжёт она или нет. У меня не было ничего: ни доказательств, ни фактов, лишь слухи да сны при температуре. Очевидно, я оказался в тупике, ещё и выдал свои намерения в придачу ко всему, благодаря их манипуляциям и играм в горячо-холодно.
— Что ж, охотник, смотрю вы попали в тяжелое положение, из которого будет трудно выбраться. Но знаете, что…? — она не успела договорить, ведь я бестактно перебил ее.
— Погодите! — крикнул я ей, ведь заметил, как среди ив мелькнуло что-то белое и крупное. — Что это там? Вы это видели? — что за чушь? Конечно, она ничего не могла ничего видеть, потому что стояла спиной.
— Что такое?
— Что-то белоснежное… не знаю… может, какой зверь… но тогда он должно быть альбинос…
— Давайте всё же уйдём. Я не желаю промокнуть. — её холодный грубый тон поразил меня. Кэтэлин мгновенно развернулась и молниеносно зашагала в обратную сторону, даже не давая мне времени ни на какие мысли. Может, испугалась зверя? Или считает, что я уже совсем свихнулся на старости лет? Но в этот раз я своим глазам доверюсь.
Я стоял ещё несколько секунд, вглядываясь в чащу, но белая тень исчезла. Всё вокруг потемнело, воздух стал тяжёлым, влажным, пахнущим озоном. Первые крупные капли дождя упали мне на лицо, холодные и резкие. Порыв ветра пронёсся по ивовой аллее, заставив ветви гнуться и скрипеть, словно в предсмертной агонии. Я бросился вдогонку за Кэтэлин, но её уже не было видно.
— Кэтэлин?! — прокричал я в сторону деревни в надежде воссоединиться со своей магнетической спутницей, которую так легко потерял.
— Зачем же кричать, герр Ловецкий? Ведь я Вас не покидаю. — она, жутко улыбаясь, опять внезапно возникла рядом со мной, хотя казалось, быстро ушла по тропе вперёд.
Я молчал, потому что не знал, что сказать. Всю информацию, что я получил за сегодняшний день необходимо было обдумать и проанализировать. Выйдя из леса, мы коротко кивнули друг другу и направились каждый по своим жилищам.
Вернувшись в свой холодный, пропитанный сыростью дом, я не сразу сумел согреться не столько от пронизывающего дождя, что промочил меня до нитки, сколько от леденящего душу осознания. Я рухнул в кресло у камина, пытаясь растопить очаг.
Прошла ночь, затем еще одна. Днями я ходил по лесу и полю, не находя себе места. Картины того дня в аллее, к которой я так и не посмел вернуться, с Кэтэлин проходили перед моими глазами с навязчивой, болезненной четкостью. Каждое слово, каждый жест, каждый отсвет в ее глазах — все это я перебирал в памяти, словно четки, надеясь нащупать ту единственную бусину-истину, что скрывалась в их глубине. Именно тогда, в одно из унылых утр, когда солнце лишь робко золотило краешек моего подоконника, а тени в комнате еще лежали густые и нетронутые, озарение настигло меня.
Белый волк, тот самый, за которым, по словам Розарии, охотились братья. Эти слова, как заевшая пластинка, зазвучали в моем сознании с новой, оглушительной силой. То, что мелькнуло тогда среди ив, в сердце аллеи, окутанной предгрозовым мраком, было целью их мрачной, непонятной охоты. Сердце мое заколотилось с такой силой, что в висках застучало. Я вскочил с кресла, и комната поплыла перед глазами, которые не обманули меня. Я стоял в нескольких шагах от тайны, самой сердцевины того омута, в который меня затягивало. И тут же, как остро отточенный клинок, в сознании вонзилась другая мысль — реакция Кэтэлин, ее мгновенная, почти животная перемена. Я вспомнил, как ее лицо, секунду назад хранившее маску отстраненного любопытства, вдруг окаменело, как похолодели ее темные глаза, словно озера, скованные внезапным льдом, как ее голос, мелодичный и спокойный, стал грубым, почти резким, обрубая мои попытки понять.
«Давайте всё же уйдём. Я не желаю промокнуть» — какая вопиющая, какая топорная ложь! Она внезапно испугалась банального дождя? Нет, это был отчаянный предлог, мгновенно придуманный щит, чтобы скрыть панику. Она знала, что я увидел, знала, что этот белый призрак в чаще не просто зверь, и потому бросилась увести меня прочь, торопливо, почти бегом, не дав мне и секунды на раздумье, на более пристальный взгляд. Она не хотела, чтобы я его рассмотрел, чтобы братья узнали, что их цель была так близко. Я тогда клюнул на уловку, приняв ее последующие слова за насмешку, но теперь я видел: Кэтэлин отрицала все, сводя мои подозрения к бытовому сумасбродству, но в то же время ее действия — эта прогулка, этот странный древний язык, ее напряженный диалог с братьями — все кричало об обратном. И в лесу, когда я произнес роковые слова: «Что-то белоснежное… не знаю… может, какой зверь… но тогда он должно быть альбинос…» — ее реакция была ужасом узнавания. А страх… страх не за себя, а за него, за того белого волка, как будто я ненароком указал пальцем на ее самого дорогого, самого сокровенного союзника, вытащив его из тени на свет, где его уже поджидали клинки и взгляды ее братьев.
Я подошел к окну, уперся лбом в холодное стекло, за которым бушевала непогода, но буря в моей душе превосходила ее в десятки раз. Кэтэлин Фаркас была жертвой? Заложницей в логове своих одержимых братьев? Или же чем-то больше? А тот белый волк… С ним вообще ничего не ясно. Она пыталась его защитить от братьев. Мое появление, мое любопытство, мой не вовремя брошенный взгляд каким-то непонятным образом грозили разрушить ее планы, спугнуть ее белого призрака, возможно, вывести охоту на новый, опасный виток.
Вопросов не убавилось, они лишь умножились, как споры в темноте, обретая новые, чудовищные формы, но всё же одно знание твердо засело во мне, как заноза: я видел его и Кэтэлин знала, что я видел, и эта общая невысказанная тайна теперь навеки связывала нас незримой, опасной нитью.
3. Колючка, которая колет меня, ангел, который плохо обращается со мной
10 октября 2026
Полдень застыл в воздухе, неподвижный и беззвучный. Давно отшумевший утренний ветерок стих, и даже птицы, обычно оживлявшие окрестности редкими трелями, притихли, словно скрывшись от пасмурного, тяжелого неба. После нескольких дней метаний по лесу и полям, бесцельных и томительных, мною наконец овладело желание заняться чем-то простым и осязаемым. Физический труд — вот что должно было прогнать наваждение, вернуть почву под ноги, пусть и иллюзорно. Я вышел во двор, ощущая под ногами утоптанную землю, и направился к углу участка, где притулился старый, покосившийся гараж. Рядом с ним, аккуратно сложенные в полукруглые ряды высотой почти в два метра, лежали запасы дров, те самые, что предстояло расколоть. Генерал Кальтенбруннер, судя по всему, был человеком основательным, и даже покидая поместье, оставил после себя достаточно топлива, чтобы согревать нового хозяина не одну зиму. Взятый в руки колун оказался на удивление сбалансированным, тяжелым, живым. Холодное дерево рукояти отдавало в ладонь памятью о тысячах точных ударов. Я установил на плаху первое полено, приноровился, занес топор… и замер. Из глубины дровяного штабеля, прямо из самого сердца этих сложенных бревен, донесся звук — прекрасное, хрустальное, мерное стрекотание. Оно было похоже на тихую, безумную музыку, которую мог бы играть часовщик-виртуоз на крошечных стеклянных колокольчиках, спрятанных в древесине. Звук пульсировал, нарастал и стихал, будто дыша, и в его ритме была какая-то неземная, гипнотическая гармония. Я опустил колун, медленно обошел штабель, прислушиваясь. Стрекотание исходило отовсюду и ниоткуда одновременно, заполняя собой гнетущую тишину. Ледяная струйка страха пробежала по моему позвоночнику. Это было невыносимо. После всего, что случилось — лихорадочных снов, мгновенного исцеления, мертвой тишины острова, шепчущих ив и белого призрака в чаще, — мой разум, и без того напряженный до предела, начал сдавать последние позиции. «Вот и всё. — с горькой покорностью подумал я. — Финал. Я и впрямь схожу с ума. Сначала эти бесовские сны, теперь музыка в поленьях». Отчаяние, острое и безрассудное, заставило меня действовать. Я схватил колун снова, уже не для размеренной работы, а с нервной, лихорадочной яростью. Мне нужно было раскрыть источник этого звука, найти его, увидеть, дотронуться до него, доказать себе, что он реален, или же, наоборот, уничтожить его, этот плод моего больного воображения. Я водрузил на плаху очередное толстое полено, иссеченное ночным морозом и временем, и со всей силы обрушил на него сталь. Удар гулко отдался в тишине, но стрекотание не прекратилось, оно лишь на миг сменилось тональностью, будто удивленно замолкнув, а затем продолжилось с прежним равнодушным совершенством. Я занес топор снова, руки дрожали.
— Петер… остановитесь.
Голос прозвучал так же ясно, как и стрекотание, но был несравненно более реальным и от этого еще более пугающим. Он был низким, мелодичным, пропитанным сладкой медом лаской, обволакивал, успокаивал, входил прямо в сознание. Я замер, все еще сжимая рукоять колуна, и почувствовал, как последние остатки здравомыслия покидают меня. Теперь уже и голоса. Я закрыл глаза, ожидая, что сейчас мир окончательно поплывет и рассыплется.
— Прошу, поднимите голову. — снова прошептал голос, и в его интонации не было ни капли насмешки или злорадства, лишь легкое, почти нежное любопытство.
Словно во сне, я повиновался. Мой взгляд скользнул по серой стене гаража, по темным рядам дров, по оголенным веткам ближайших кустов и наконец поднялся вверх, к высокой, раскидистой сосне, что стояла на границе моего участка с внешней стороны, простирая свои лапы из леса, и там, на одной из толстых, горизонтально растущих ветвей, легко и непринужденно, словно сказочная птица или лесная наяда, сидела Кэтэлин. Ее темные распущенные волосы казались единственным пятном глубокого, насыщенного цвета в этом блеклом мире. Она была одета в чёрные штаны клеш и пончо такого же цвета, но даже эта простая одежда не могла скрыть ее грации. Длинные ноги в прочных ботинках качались в воздухе, а в руках она держала небольшой, но дорогой полевой бинокль. Мы смотрели друг на друга несколько секунд, и в эти мгновения во мне боролись шок, неловкость и безумное облегчение. Она была реальна, я не сошел с ума, по крайней мере, не полностью.
— Что вы здесь делаете? — наконец выдавил я, и мой собственный голос прозвучал хрипло и глупо.
Она улыбнулась, уголки ее глаз чуть скосились, придавая лицу выражение хитрой кошки.
— Рассматривала птиц. — просто ответила она, показывая бинокль. — Осень интересное время для орнитолога-любителя. Перелеты, последние выводки.
Это объяснение было настолько обыденным, настолько нормальным, что казалось верхом абсурда в контексте ее местонахождения.
— И для этого вам потребовалось залезть на дерево? На мое дерево? — не унимался я, чувствуя, как возвращается досада, столь знакомая в общении с этой семьей.
Ее улыбка стала чуть шире, но в глазах промелькнула тень.
— Мои братья ищут меня, — произнесла девушка, и ее взгляд на мгновение скользнул в сторону леса, — чтобы вместе отправиться на охоту на север острова, а я не хочу. — она пожала плечами. — Дерево показалось мне хорошим укрытием, отсюда, знаете ли, довольно обширный обзор.
Кэтэлин говорила это легко, но я уловил напряжение в ее голосе. Вспомнились слова Розарии о «заложнице», ее странные, полные скрытого смысла перепалки с братьями в тот день у их дома. Что-то происходило в их семье, какая-то внутренняя борьба, и этот чудесный цветок, похоже, был в ее центре. И тогда, как бы продолжая свою мысль, она плавно и невесомо соскользнула с ветки, будто ветер подхватил и мягко опустил ее на землю. Девушка приземлилась в двух шагах от меня бесшумно, словно пушинка, и выпрямилась, снова посмотрев на меня своими бездонными темными глазами.
— А этот звук, что сводил вас с ума, — продолжила она, кивнув в сторону дров, — жуки-дровосеки. — я молчал, не в силах отвести от нее взгляд, все еще пытаясь осознать ее появление. — Они живут внутри, в мертвой древесине, — объяснила она, подходя ближе к штабелю и проводя тонкими пальцами по шершавой коре одного из бревен, — похожи на больших, плоских, белесых червей с мощными челюстями, пожирая дерево, а этот стрекот — звук их работы, своего рода песня. Их, кстати, очень любят дятлы. Находят по звуку, долбят кору и находят свой обед.
Она сказала это с такой простотой, с таким знанием дела, что вся мистическая завеса, окутавшая этот странный полуденный концерт, мгновенно рассеялась. Жуки, обычные жуки, не магия и не безумие, а суровая, неприглядная проза жизни, скрытая под корой. Я почувствовал себя старым, глупым и бесконечно усталым. Стыд за свою панику смешался с облегчением. Я смотрел, как она стоит рядом, озаренная тусклым светом пасмурного дня, ее профиль четко вырисовывался на фоне темного леса. И вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, в голове моей всплыл образ, посетивший меня еще в день нашего первого знакомства, когда я любовался оранжереей генерала. Образ мрачной драгоценности, бархатных лепестков, вбирающих в себя всю ночную мглу. Черная орхидея. Мысль опередила рассудок.
— Фройлян Фаркас… — начал я, и голос мой снова предательски дрогнул, — у меня в оранжерее… есть одна редкая орхидея, как раз о ней думал. Сейчас она цветёт, такая чёрная и необычная. Если вам интересно, может, Вы хотели бы посмотреть?
Я произнес это и тут же внутренне содрогнулся. Что я несу? Старый, больной, поседевший мужчина приглашает юную, непостижимо прекрасную девушку полюбоваться цветами? Это звучало нелепо, жалко, почти непристойно. Я готов был провалиться сквозь землю, ожидая ее насмешки, вежливого, но холодного отказа. Но Кэтэлин лишь внимательно посмотрела на меня, ее взгляд стал чуть более пристальным, изучающим. Казалось, она взвешивала что-то, решая сложную задачу.
— Черная орхидея? — наконец произнесла она, и в ее голосе послышалось неподдельное любопытство. — Я слышала о них, но никогда не видела. Да, я бы хотела.
Ошеломленный ее согласием, я молча кивнул и повел ее к дому, к пристройке, где царил свой, особый микроклимат. Войдя внутрь, мы были встречены влажным, теплым воздухом, густо напоенным ароматами земли, зелени и сладковатым, едва уловимым благоуханием тропических цветов. Оранжерея была моим убежищем, местом, где я находил отдохновение от давящей странности острова, и сейчас, ведя Кэтэлин мимо кактусов, молодых пальм и редких цветов, я снова ощутил это умиротворение. Мы подошли к отдельному стеллажу, где в гордом одиночестве, в керамическом горшке, цвела та самая орхидея. Цветок и впрямь был потрясающим, его бархатистые, почти черные лепестки отливали глубоким пурпуром и темным индиго, словно вобрав в себя цвета полночного неба. Изысканная и причудливая форма с длинной, изогнутой губой, напоминала язык. Орхидея властвовала в пространстве, притягивая взгляд своей мрачной, трагической красотой.
— Совершенно поразительно. — тихо произнесла Кэтэлин, склонившись над цветком. Она не протянула руку, чтобы потрогать его, лишь впитывала его вид. — Такой глубокий, насыщенный цвет. Он затягивает в себя как бездна. В нем есть что-то первозданное.
— Да. — согласился я, глядя то на цветок, то на нее. — Ее красота не яркая, не очевидная. Она требует внимания, погружения, она для тех, кто способен разглядеть глубину за темнотой.
Мы стояли рядом в тишине, нарушаемой лишь тихим жужжанием ещё не заснувших в тепле оранжереи насекомых где-то в листве и нашим дыханием. Атмосфера была настолько нереальной, что я снова почувствовал головокружение, и в этот миг, поддавшись порыву, который был сильнее голоса разума, я сказал, глядя прямо на нее:
— Вы знаете, фройлян Фаркас… Вы так же прекрасны и так же… загадочны, как этот цветок.
Слова повисли в воздухе, тяжелые и неловкие. Я ждал, что она рассмеется, что ее глаза наполнятся привычной насмешкой или холодом, но ничего этого не произошло, напротив, я увидел нечто совершенно новое. Легкая, едва заметная краска тронула ее бледные щеки, темные ресницы дрогнули, и она на мгновение опустила взгляд, словно смущенная. Когда же она снова посмотрела на меня, в ее глазах не было ни насмешки, ни отстраненности — лишь тихое, искреннее удивление.
— Благодарю вас, герр Ловецкий. — тихо сказала она. — Это очень оригинальный комплимент, и, пожалуй, один из самых красивых, что я когда-либо слышала.
И в этот миг, в эту короткую, растянувшуюся до бесконечности секунду, мне показалось — нет, я почти был в этом уверен — что в ее взгляде мелькнуло что-то теплое и настоящее. Мне показалось, что я ей понравился не как сосед, не как объект для изучения или использования, а как мужчина. Тут же, словно удар обухом по голове, пришло жестокое осознание. «Что ты делаешь, старый дурак?» — завопил внутри меня голос здравого смысла, полный ярости и презрения. « — Тебе шестьдесят пять лет. Ты сед, ты морщинист, ты разбит жизнью и болезнями, а ей, наверное, нет и двадцати. Она — это весна, сама жизнь, бьющая через край, а ты — увядающая осень, почти зима, выжженная земля.» — Внутренний диалог превратился в самобичевание. Я корил себя за эту вспышку неслыханной наглости, за эти непотребные мысли. Я представлял, как должен выглядеть со стороны: старик, размякший от глупой любезности, пытающийся ухаживать за юной феей. Жалко и отвратительно. Я чувствовал, как горит лицо, и был благодарен тусклому свету оранжереи. Она просто вежлива, идиот, и манипулирует тобой, как и всегда. Ты пешка в их странной семейной игре, инструмент, которым она пытается воспользоваться против братьев. Никаких других чувств тут нет и быть не может. Забудь, выбрось из головы этот бред. Ты опозорил себя.
Я уставился в пол, сжимая и разжимая пальцы, пытаясь взять себя в руки, загнать обратно в темницу разума эти вырвавшиеся на свободу демоны надежды и глупого, старческого влечения. Я был так поглощен этим внутренним хаосом, этим вихрем самоуничижения и стыда, что почти перестал замечать внешний мир. Тогда, словно тонкое лезвие, разрезающее пелену моих мыслей, прозвучал ее голос. Тихий, мягкий, лишенный всякой церемонности и фамильярности. Всего одно слово, произнесенное так, будто она проверяла его на вкус.
— Петер…
Оно прозвучало так близко, так пронзительно, что я вздрогнул и поднял на Кэтэлин глаза. Девушка смотрела на меня, и в ее взгляде не было ни насмешки, ни смущения, была лишь та самая глубокая, бездонная уверенность, что я видел у нее во дворе Розарии. Однако на сей раз в ней читалось тихое понимание, почти сочувствие. Одно это слово, мое имя, вырвало меня из пучины самоистязания и вернуло в реальность, где она стояла передо мной, а в воздухе все еще витал сладкий, гнилостный аромат черной орхидеи.
— Всё в порядке?
Я не ответил, моё имя, слетевшее с её губ, всё ещё вибрировало в насыщенном ароматами воздухе оранжереи, словно живое, отдельное существо. Оно обжигало, успокаивало и смущало одновременно. Я стоял, парализованный этим простым, единственным словом, погруженный в водоворот стыда, надежды и полнейшей растерянности. Я искал в её глазах ответ — насмешку, жалость, отвращение — но находил лишь ту самую бездонную уверенность, смешанную теперь с чем-то мягким, почти нежным, что сбивало с толку ещё сильнее. Её вопрос повис в воздухе, требуя реакции, но мой язык, казалось, прилип к нёбу, а разум отказывался формировать связные мысли. Я был готов на всё что угодно — на грубость, на холодность, — но только не на эту тихую, пронзительную человечность.
И в этот миг, когда я уже собрался с силами, чтобы что-то издать, до нас донёсся чужой, навязчивый звук, ворвавшийся в наш хрупкий, изолированный мирок словно непрошеный гость — чёткий рокот мотора, грубый и несвойственный здешней гробовой тишине. Звук приближался, тяжёлый и уверенный, дробя под колёсами щебень дороги, и вскоре замер прямо у моего участка, сопровождаемый скрежетом тормозов. Лёд пробежал по моей спине. Я встрепенулся, а Кэтэлин, словно кукла, у которой вдруг дернули за ниточку, резко отпрянула от меня. Её лицо в мгновение ока снова стало маской — прекрасной, но абсолютно нечитаемой, лишь в глубине тёмных зрачков мелькнула быстрая, как вспышка молнии, тень стремительной, яростной досады. Я поспешил к выходу из оранжереи, сердце моё бешено колотилось. Через запотевшее стекло двери я увидел, как на моём, всегда пустынном, подъезде стоял громадный внедорожник тёмно-зелёного цвета, покрытый слоем грязи и пыли. Он казался допотопным чудовищем, и вот что поразило меня больше всего: калитка, которую я точно помнил запертой на щеколду, теперь была распахнута настежь. Ни скрипа, ни ломающегося дерева — она просто безмолвно отворилась, будто тяжёлый металл поддался не физическому усилию, а беззвучному приказу.
Из машины, с той самой отточенной, звериной синхронностью, вышли Арнольд и Гидеон Фаркасы. Арнольд, как всегда, в своей простой, грубой одежде, его массивная фигура казалась ещё более громоздкой на фоне моего скромного жилища, Гидеон в молочной футболке, явно одетый не поп погоде, его лицо освещалось той же театральной, ядовитой улыбкой. Не дожидаясь приглашения, они шагнули на территорию, их взгляды скользнули по дому, по гаражу, по штабелю дров, словно сканеры, считывающие информацию, и наконец остановились на нас с Кэтэлин, которые как раз вышли им навстречу.
— Ах, вот где наша пропащая пташка! — голос Гидеона прозвучал неестественно громко и радостно, нарушая давящую тишину, его улыбка растянулась. — Мы уж было забеспокоились, сестрица, обыскали половину леса, а ты, оказывается, тут, у нашего уважаемого соседа, укрылась.
Арнольд не сказал ни слова, он стоял, слегка расставив ноги, руки засунув в карманы, и его тяжёлый, изучающий взгляд переходил с Кэтэлин на меня и обратно. В его глазах я не видел ни злости, ни раздражения, лишь холодную, хищную оценку. Он был похож на охотника, выследившего дичь и теперь вычисляющего следующий ход.
— Мы как раз заехали к вам, герр Ловецкий, — повернулся ко мне Гидеон, с притворной сердечностью, — спросить, не попадалась ли на глаза наша непоседливая сестра, и, о чудо, нашли её. Какая удача!
Я лишь молча кивнул, чувствуя, как под этим двойным взглядом сжимаюсь внутри. Я пытался понять, какую игру они ведут, почему их тон такой пугающе дружелюбный? Кэтэлин, до этого момента стоявшая чуть позади меня, словно ища укрытия, сделала маленький, почти неуловимый шаг вперёд, чтобы стоять на одном уровне со мной. Она не смотрела на братьев, её взгляд был устремлён куда-то в сторону, но сама эта перемена в её позиции говорила о многом. Это был безмолвный, но красноречивый жест, в этой близости, в этом молчаливом союзе, я почувствовал необъяснимое доверие. После моего неуклюжего, старческого признания, после всей моей внутренней бури, она словно увидела во мне не просто соседа или пешку, а… союзника? Было ли это игрой? Возможно, но в тот миг мне хотелось верить, что нет.
— Ладно, хватит болтать. — властно произнёс Арнольд, его низкий голос резко оборвал немой диалог. — Кэтэлин, садись в машину.
Его приказ не терпел возражений. Девушка медленно, с достоинством, повернулась и направилась к внедорожнику, её походка была всё такой же лёгкой и бесшумной, но прежде, чем сесть в открытую дверь, она на мгновение задержалась и бросила на меня быстрый, испепеляющий взгляд.
Арнольд и Гидеон на секунду замерли, оставшись вдвоём. Они переглянулись — быстрый, стремительный взгляд, полный какого-то скрытого, давно обдуманного смысла, затем синхронно наклонились друг к другу и перешепнулись. Гидеон почти незаметно кивнул, его глаза блеснули азартом. Арнольд, после короткой паузы, повернулся ко мне. Его лицо, обычно бесстрастное, смягчилось подобием дружелюбия, которое смотрелось на нём более неестественно, чем без эмоциональность откровенная враждебность.
— Герр Ловецкий, — начал он, и его голос приобрёл неожиданно примирительные нотки, — раз уж мы нашли Вас на месте, да ещё в такой прекрасной компании, не хотите ли поехать с нами? Мы направляемся на север острова, будем высматривать следы волчьей стаи. Логово их никак не можем найти, словно сквозь землю проваливается, а сделать это — дело чести. Втроём, да с вашим опытом, уверен быстро справимся.
Предложение повисло в воздухе, неожиданное и дурманящее, как запах дикого мёда. Это был шанс увидеть их в действии, проникнуть в самую суть их одержимости, понять, что же они ищут в этих лесах и всё это под предлогом дружеской вылазки. Страх и азарт вступили во мне в яростную схватку.
— Полагаю, мне есть что вспомнить. — с осторожностью ответил я, чувствуя, как сердце замирает в ожидании. — Давно это было, но руки помнят, а глаза ищут.
— Прекрасно. — коротко бросил Арнольд, и в его глазах мелькнуло нечто похожее на удовлетворение.
Мы уселись в салон новенького внедорожника, где пахло бензином, кожей, пылью и слабым, но устойчивым ароматом дикого зверя, дождя и металла. Кэтэлин сидела сзади, у окна, погружённая в созерцание проплывающих мимо пейзажей, я рядом с ней, а Гидеон устроился на переднем пассажирском сиденье, полуобернувшись к нам. Арнольд уверенно повёл машину по грунтовой дороге.
— Итак, герр Ловецкий, — начал Гидеон, его голос звучал непринуждённо и вкрадчиво, — вы человек бывалый, это видно. Расскажите-ка нам о себе. Где доводилось охотиться? На кого? Служба ваша, как я понимаю, к этому располагала?
Вопрос был задан легко, но за ним я почувствовал стальной крючок любопытства. Они выведывали, хотели знать, с кем имеют дело.
— Служба моя, герр Фаркас, — ответил я, подбирая слова с неохотой, — была связана с оружием, но в большей мере, конечно, с бумагами — я бывший военный технолог. Однако, уже на пенсии в лесах Баварии, да, доводилось, правда, в основном на копытных — олени, косули, кабана брал несколько раз, а волк… — я сделал паузу, вспоминая то время, — волк всегда был умнее и попадался редко.
— Охотник на копытных, — протянул Арнольд, не отрывая глаз от дороги, его массивные руки уверенно лежали на руле, — это почётно, но охота на травоядных — это ремесло. Охота же на хищника уже искусство, так сказать, диалог. Ты вступаешь в разговор с самой природой, с её тёмной, умной сутью.
Его слова, произнесённые спокойным, ровным тоном, заставили меня содрогнуться. В них не было мании Гидеона, лишь холодная, неумолимая уверенность. Мы проехали два поля. Первое было огромным, плоским, как стол, унылым под низким свинцовым небом. Пожухлая трава сливалась с серым горизонтом, создавая ощущение бесконечности и заброшенности. Второе поле было меньше, его пересекал неглубокий овраг, поросший чахлым кустарником, и за ним начинался лес, но не тот тёмный, древний лес, что окружал наши дома. Этот был иным — редким, светлым, пронизанным тусклыми лучами солнца, пробивавшимися сквозь разрывы в облаках. Он состоял в основном из невысоких молодых хвойных деревьев — сосен и елей, стоявших на расстоянии нескольких метров друг от друга, словно расставленные по ранжиру солдаты. Земля между ними была покрыта плотным ковром бурой хвои, опавшими шишками и жухлым папоротником. Арнольд остановил машину на краю леса, и мы вышли. Ветер, пробираясь сквозь иголки сосен, издавал легкий, свистящий гул.
— Здесь. — коротко бросил Арнольд и двинулся вглубь чащи.
Мы шли за ним, и вскоре он остановился возле небольшой полянки. И тут моё сердце, уже привыкшее к тревоге, снова учащённо забилось, но теперь это был профессиональный азарт, давно забытое волнение охотника, учуявшего добычу. Посреди полянки, в траве, лежали останки молодого самца изюбра, судя по размаху рогов. От могучего зверя остался, по сути, лишь костяной остов, обглоданный дочиста, и крупный череп с величественными, но уже бесполезными рогами. Шкура была содрана большими, неровными лоскутами, а то, что осталось от мяса, превратилось в тёмно-бурую, засохшую массу.
Я опустился на колени, забыв о возрасте, о странных спутниках, обо всём на свете. Глаза сами искали детали, руки потянулись к земле.
— Смотрите, — тихо произнёс я, указывая на отпечатки на мягкой, влажной почве у самого остова, — отпечатки крупные, когтистые. Стая из четырёх, нет, пяти особей. Видите этот след? — я обвёл пальцем один из самых чётких оттисков. — Края расплывчатые, подушечки пальцев отпечатались глубоко. Матёрый самец, тяжёлый.
Гидеон, стоя рядом, смотрел на меня с новым, оценивающим интересом. Арнольд молча кивнул, его взгляд скользил по поляне, выискивая то, что ускользнуло от моего взгляда.
— Убили не здесь. — внезапно выдал он, его голос был низким и уверенным. — Притащили. Видите борозды на земле? Волокли, следы борьбы отсутствуют, трава примята только вокруг туши.
— Верно, — согласился я, поражённый его наблюдательностью, — завалить такого зверя на открытом месте… маловероятно. Скорее всего, напали там, — я указал в сторону более густой части леса, — устроили засаду, а сюда перетащили, чтобы спокойно кормиться.
— И ушли быстро. — добавил Гидеон, присев на корточки и проводя рукой по клочку шерсти, зацепившемуся за кору ближайшей сосны. — Шерсть светлая, зимняя, значит, меняют шкуру и уже почти готовы к холодам, но логова своего в этой местности нет.
— Как же вы это поняли? — не удержался я от вопроса.
Арнольд выпрямился, его могучая фигура заслонила блёклый свет.
— Нет логова — нет привычных троп, нет натоптанных дорожек к воде, нет остатков добычи, разбросанных по округе, нет запаха. — парень глубоко вдохнул воздух, словно пробуя его на вкус. — Они здесь поели и ушли, чуют опасность или… их что-то гонит. — он перевёл тяжёлый взгляд на север, где лес сгущался, становясь темнее и непроходимее. — Они ушли дальше. На север к скалистым грядам. Нужно искать там.
— Значит, завтра встретимся с ними, — заключил Гидеон, вставая и отряхивая ладони, — с ружьями. Пора заканчивать эту игру в прятки.
В его голосе звучала плохо скрываемая жажда. Арнольд снова кивнул, и в его молчаливом согласии было нечто неотвратимое, как движение ледника. Кэтэлин всё это время ходила кругами вокруг нас и смотрела по сторонам.
Обратная дорога в машине прошла в молчании. Каждый из нас был погружён в свои мысли. Я — в воспоминания о следах, о безмолвной драме, разыгравшейся на поляне, в попытку понять логику этих хищников и логику моих спутников. Они же, братья, казалось, уже мысленно были там, на севере, с ружьями наизготовку. Когда мы подъехали к моему дому, я вышел из машины, чувствуя странную опустошённость. Кэтэлин молча последовала за мной взглядом, и снова мне почудилась в нём тайная весть.
— До завтра, герр Ловецкий, — сказал серьезно Арнольд из окна водителя, — будьте готовы на рассвете.
— Погодите, я поеду с вами?
— Да, мы приглашаем Вас. Оружие у нас для Вас есть. — кинул мне Гидеон напоследок.
Они развернулись и уехали, оставив меня одного на пороге моего дома, с головой, полной новых образов, и с сердцем, в котором страх и тёмное, необъяснимое влечение вели свою собственную, безмолвную охоту.
11 октября 2026
Едва сознание вынырнуло из пучин беспокойного сна, я осознал стук. Не резкий, не настойчивый, а мерный, словно капли дождя, но куда более чёткий и твёрдый — тук-тук-тук. Он доносился откуда-то справа, со стороны окна. Мозг, ещё затянутый паутиной сна, протестовал, цеплялся за остатки забытья, но сердце уже забилось чаще, предвосхищая тревогу. Я резко поднялся на кровати, простыня холодным шёлком соскользнула на пол. Взгляд метнулся к тумбочке — циферблат механического будильника, который я завёл с вечера, показывал без четверти пять. Рассвет ещё не наступил.
Тук-тук-тук.
Моё сердце ёкнуло, наконец узнав этот звук. Я медленно, будто скованный, повернул голову к окну. За стеклом, в кромешной тьме предрассветного часа, сидел огромный чёрный ворон, казавшийся вырезанным из самого вещества ночи. Его мощный клюв снова и снова отстукивал по стеклу тот же леденящий душу ритм. В его крошечных бусинах отражался тусклый свет ночника, придавая им неестественную, разумную осмысленность. Он наблюдал, ждал. Внутри всё сжалось в тугой, холодный комок. Страх и отчаяние перемешались в единый коктейль, заставивший кровь ударить в виски. Хватит! С меня хватит этих игр! Я спустил ноги с кровати, ощутив под босыми ступнями шершавую, холодную древесину пола, и, не отрывая взгляда от непрошеного гостя, сделал шаг к окну. Рука сама потянулась к ручке, желая распахнуть створку, столкнуть эту тварь, крикнуть ей в след, потребовать ответов. Однако ворон исчез, не взмахнул крыльями, не сорвался с подоконника, не растворился в воздухе. Он просто перестал существовать. Одно мгновение — он был, чёткий силуэт на фоне ночи, и вот уже его нет, лишь гладкое, тёмное стекло, в котором отражалось моё собственное, бледное и испуганное лицо.
Я застыл, рука так и осталась висеть в воздухе, а по спине пробежала ледяная дрожь. Я протёр глаза, вгляделся в пустоту за окном — ничего, лишь непроглядный мрак, начинавший по краям чуть синеть. Сон как рукой сняло. Оставшиеся до звонка будильника минуты я простоял у окна, вслушиваясь в тишину, но она казалась теперь гулкой, настороженной, полной незримых угроз. Нервы напряглись до предела. Словно автомат, я направился в ванную. Льющаяся из крана ледяная вода обожгла кожу, но не принесла желанной ясности. Лицо в зеркале казалось мне чужим — осунувшимся, с тёмными кругами под глазами, в которых читалась не усталость, а затаившаяся паника. Я умывался, а в голове стучало: «Что это было?». Оделся я быстро, на ощупь, в полутьме. На кухне царила гнетущая тишина, нарушаемая лишь моими движениями. Зёрна кофе, попав в мельницу, с хрустом раскрошились, и густой, терпкий аромат на мгновение перебил ощущение нереальности происходящего. Я поставил на огонь кастрюльку с водой для яиц, механически следя, как на её дне начинают появляться пузырьки. Мир сузился до размеров кухни, до простых, понятных действий: смолоть кофе, поставить его вариться, опустить в кипяток два яйца. Завтракал я не спеша, почти церемонно, пытаясь вернуть себе контроль над временем, над телом, над мыслями. Ложка стучала о фарфор, варёный белок казался безвкусным, а кофе, обычно бодрящий, сегодня обжёг горло странной горечью. Каждый звук отдавался в тишине неестественно громко, а я всё ждал, когда наконец прервётся это тягостное затишье.
И оно наконец прервалось стуком в дверь, твёрдым, уверенным, не оставляющим сомнений. Сердце ёкнуло ещё раз и замерло. Так, кажется, началось. Я допил кофе, отставил чашку. Руки слегка дрожали. Поднявшись, я накинул на плечи куртку, ощутив её тяжёлую, грубую ткань. Каждое движение давалось с усилием, будто я плыл против сильного течения. Распахнув дверь, я приготовился встретить Арнольда с его каменным лицом, Гидеона с язвительной улыбкой, но на крыльце никого не оказалось. Утренний холодок обжёг лицо. Я шагнул вперёд, окинул взглядом пустой двор. Трава, посеревшая от холода, покосившийся гараж, штабель дров — всё стояло на своих местах, безмолвное и неподвижное, вокруг ни души. «Неужели показалось?» — мелькнула слабая, наивная надежда, но я тут же отогнал её, ведь стук был слишком реальным. Решив, что они, возможно, уже ждут в машине, я направился к калитке, песок хрустел под подошвами сапог, звук казался оглушительным в звенящей тишине. Распахнул калитку, высунулся наружу, однако дорога, убегавшая вправо и влево, была пуста, ни внедорожника, ни братьев, лишь туманные клочья, цеплявшиеся за землю, да давящая, беззвучная мгла.
Я замер в полном недоумении, чувствуя, как нарастает раздражение, смешанное с леденящим страхом. Меня водят за нос, играют со мной. Взор мой невольно устремился к лесу, к тёмной стене деревьев напротив. Глаза, привыкшие к полутьме, начали различать детали — узор ветвей, пятна мха на стволах… И тогда я уловил движение в глубине, меж сосновых стволов, чуть в стороне от тропы, стояла фигура, напоминающая высокого мужчину. Очертания его расплывались в сумраке, но я различил, что на нём болталось что-то тёмное, бесформенное, похожее на лохмотья. Он не двигался, просто стоял, обратившись в мою сторону. Я не видел его лица, не мог разобрать черт, лишь ощущал тяжёлый, незримый взгляд, будто сокращающей расстояние между нами. Кто это? Местный житель? Но что ему нужно здесь, в такую рань? И почему он просто стоит и смотрит?
Я простоял так, наверное, минут пять, не в силах пошевелиться, впиваясь взглядом в тёмный силуэт. Руки похолодели, мысль подойти, окликнуть его даже не возникала — инстинкт кричал об опасности, о чём-то чужом, неправильном. Этот человек… если это был человек… казался частью леса, его тёмным порождением. Мгла сгущалась, очертания плясали, и я уже начал сомневаться, не мерещится ли мне этот призрак от напряжения и недосыпа. Внезапно его прервал знакомый, навязчивый рокот мотора. Звук нарастал быстро, тяжело, дробя утреннюю тишину. Я вздрогнул и оторвал взгляд от леса, а когда снова посмотрел туда — силуэта уже не было, будто его и не было вовсе. Словно по мановению тёмной руки, из-за поворота, окутанные утренним туманом, выплыли фары. Громоздкий, брутальный силуэт внедорожника Фаркасов с рёвом подкатил к моему забору и замер с тихим скрежетом тормозов. Пыль, поднятая колёсами, медленно клубилась в воздухе, смешиваясь с паром от выхлопа. Ледяное спокойствие, на которое я напускался, стоя у калитки, испарилось, едва дверь открылась.
— Доброе утро. — поприветствовал своих соседей я.
Арнольд, за рулём, лишь коротко кивнул, уставившись на дорогу. Его массивные руки лежали на руле с привычной уверенностью. Впереди, на пассажирском сиденье, я увидел Кэтэлин. Она полуобернулась, и её тёмные глаза скользнули по мне быстрым, оценивающим взглядом, не задерживаясь. Ни улыбки, ни любого другого намёка на узнавание, лишь холодная маска. Сегодня она напоминала прекрасное и недоступное изваяние.
— Садитесь. — бросил Гидеон сзади, похлопывая ладонью по кожаному сиденью рядом с собой.
Я молча опустился рядом с ним, чувствуя, как пружины прогибаются под моим весом. Пространство между нами оказалось обманчиво малым; я ощущал исходящее от него тепло и лёгкий, сладковатый запах дорогого одеколона, не способный перебить звериный дух машины. Только я захлопнул дверь, Арнольд резко тронул с места, бросив меня на подушку сиденья. Внедорожник с рычанием рванул вперёд, подбрасывая на колдобинах. Посёлок пронесся за окном как размытое пятно и исчез, поглощённый стеной леса.
— Держите, — Гидеон протянул мне ружьё, — хотя вряд ли сегодня оружие нам понадобится.
Я взял его, и ладони сами собой, помня давнюю мышечную память, обхватили цевьё и шейку приклада. Оно оказалось на удивление сбалансированным, живым. Двустволка, горизонтальная схема, замки — прочные, надёжные, с плавным ходом спусковых крючков, стволы, удлинённые, с дульными сужениями, идеально подходящие для дальнего и точного выстрела мощным патроном, калибр угадался сразу — .308 Winchester, один из лучших выборов для крупного зверя вроде волка. Дробь здесь не годилась, требовалась пуля, способная остановить стремительную, сильную цель, приклад, выполненный из орехового дерева, лёг в плечо с родственным, почти интимным чувством. На тёмной стали затворов и стволов лежал матовый отблеск, скрывающий блики; ружьё явно содержали в идеальном порядке, но следы эксплуатации — мелкие, почти невидимые царапины — выдавали его не музейное прошлое.
— Спасибо. — пробормотал я, проверяя предохранитель, щёлкнувший с чётким, уверенным звуком.
— Не за что. — Гидеон усмехнулся, и в его голосе прозвучали знакомые нотки насмешки. — Надеюсь, Ваши глаза ещё видят дальше собственного носа.
Я проигнорировал колкость, уставившись в окно. Лес по сторонам дороги сгущался, превращаясь в непроглядную, почти чёрную чащу. Сосны и ели, поросшие седыми бородами лишайника, сплетались кронами, создавая подобие туннеля. Свет пробивался скудно, редкими косыми лучами, в которых кружились пылинки. Мы мчались сквозь этот зелёный сумрак почти час, и за это время в салоне воцарилась тягостная тишина, нарушаемая лишь рёвом мотора и скрипом подвески на ухабах.
Затем Гидеон, словно скучая от молчания, решил нарушить его.
— Итак, герр Ловецкий, — начал он, разворачивая на коленях сложенный лист бумаги, — пора прояснить Вашу роль в нашем маленьком предприятии.
Он развернул карту, это оказался самодельный, тщательно выполненный чертёж острова. Береговая линия, основные ориентиры — всё имелось, но поверх географических контуров нанесли целую паутину пометок. Синие стрелочки обозначали направления движения, чёрные кружки с датами — места, где находили следы или останки добычи, и, наконец, на севере, в районе скалистых гряд, алым, как свежая кровь, кружком обвели предполагаемое логово.
— Мы выслеживаем эту стаю уже несколько месяцев. — Гидеон водил длинным тонким пальцем по маршрутам. — Они умны, чертовски умны, путают следы, уходят по ручьям, меняют дислокацию, но всё же ошибаются, как и все.
Я молча изучал карту. Картина вырисовывалась ясная и пугающая своей методичностью, напоминающую военную операцию.
— Это логово, — Гидеон постучал ногтем по красному кружку, — лишь предположение, гипотеза, которую мы сегодня проверяем. Скалы и пещеры идеальное укрытие. Если застанем стаю врасплох, то вряд ли подойдём близко. Волк не глупый олень, он выставит дозорных, но нам и не нужно подходить вплотную.
— Тогда что? — не удержался я.
Гидеон повернулся ко мне, и в его глазах вспыхнул тот самый, знакомый по прошлой встрече, фанатичный блеск.
— Цель, герр Ловецкий, наша цель — идентифицировать, увидеть, запомнить. — он улыбнулся, и улыбка вышла голодной, почти болезненной. — Я очень хочу получить одну конкретную шкуру, шкуру волка-альбиноса. Я знаю, он существует, видел его мельком пару раз, пока мы ещё не начали эту авантюру, но ни в одной из двух известных нам стай его нет. — он снова склонился над картой. — Мы уже разобрались с одной стаей, что южнее деревни. Там не оказалось ни единого намёка на белого. Затем вышли на след этой, северной. Если и здесь его не окажется… — Гидеон сделал паузу, и воздух в салоне словно сгустился, — …значит, он одиночка, а одиночку выследить в тысячу раз сложнее.
Его слова повисли в воздухе, тяжёлые и ядовитые. Всё встало на свои места. Их одержимость, их странная «коллекция». Они искали одного-единственного, мифического зверя, и ради этой цели, вероятно, готовы были методично уничтожить все стаи на острове, методично. Я смотрел на затылок Кэтэлин перед собой. Она не шевелилась, но по напряжённой линии её плеч я понял — она слушает, и слушает с предельным вниманием. Что для неё значил этот белый волк? Угроза? Или нечто совершенно иное? Вспомнился тот миг в ивовой аллее, её паническая, грубая попытка увести меня прочь. Теперь она обретала новый, зловещий смысл.
Диалог прервался сам собой. Машина вырвалась из лесной тесноты, и перед нами открылась панорама, от которой перехватило дыхание. Лес отступил, уступив место огромному, пустынному полю, поросшему бурой, пожухлой травой. Поле это упиралось в гряду голых, серых скал, вздымавшихся к небу подобным разбитым зубам исполинского чудовища. Воздух здесь стал другим — холоднее, острее, пахнущим камнем, ветром и далёким, невидимым морем. За скальной грядой, на горизонте, темнела кромка ещё одного леса, более дикого и неприступного.
Арнольд без лишних слов направил машину к подножию скал. Охоту начинать предстояло здесь. Мои пальцы снова сомкнулись на шейке приклада. Рука сама потянулась проверить, заряжены ли стволы. Они оказались пусты, но тяжесть оружия в руках уже ощущалась иначе. Автомобиль остановился, дверь его открылась с глухим стуком, нарушив давящую тишину, холодный воздух ударил в лицо, неся с собой запах влажного камня, горькой полыни и чего-то отдаленно звериного. Я выбрался наружу, чувствуя, как колени протестуют после долгой тряски, а спина затекла.
Арнольд и Гидеон вышли почти синхронно, их движения отточенные, экономные. Но мое внимание приковала к себе Кэтэлин. Она выскользнула из машины первой, беззвучно, словно ее тело не имело веса. Не говоря ни слова, не оглядываясь, она двинулась вперед, по направлению к нависающим скальным выступам. Ее стройная фигура в темной, практичной одежде казалась неестественно хрупкой на фоне громады камней. На ее бедре, в простых, но надежных ножнах, висел тот самый кинжал с узким тёмным клинком и костяной рукоятью, который Гидеон точил с таким удовольствием. Отсутствие ружья выделяло ее, делало похожей не на охотника, а на жрицу, идущую к алтарю. Мы двинулись за девушкой, соблюдая дистанцию. Она знала траву и это пугало больше всего.
Первая попытка найти логово оказалась пустой тратой времени. Гидеон, сверяясь с картой, вывел нас к расщелине, которая смотрела на север. Она оказалась неглубокой, больше похожей на нишу, вымытую дождями, и пахла лишь плесенью и пометом мелких грызунов. Парень выругался сквозь зубы, лицо его исказила гримаса раздражения.
— Не та сторона. — прошипел он. — Ветра здесь меняются, сносит все запахи. Нужно выше и восточнее.
Именно Кэтэлин, остановившись на краю небольшого обрыва, указала тонким пальцем вниз, в следующую каменную чашу, скрытую от посторонних глаз гигантским валуном. Она не произнесла ни слова, её лицо оставалось невозмутимым маской, но в глазах я прочел напряженное, почти болезненное внимание. Обход занял еще двадцать минут. Мы карабкались по осыпающимся склонам, цепляясь за выступы, обжигая ладони о шершавый камень. Наконец, мы оказались на узком карнизе, скрытом от глаз снизу нависающей каменной губой. Отсюда открывался вид вниз, в небольшую, замкнутую со всех сторон скалами котловину.
А вот и логово. С точки зрения профессионала — идеальное место. Не пещера в полном смысле, а глубокая ниша под нависающей плитой песчаника, защищавшая от дождя и ветра. Подходы к нему простреливались насквозь, что делало внезапное нападение почти невозможным. Перед входом земля выглядела утоптанной, лысой, с редкими пятнами выжженной солнцем травы. Повсюду валялись кости — в основном, ребра и позвонки крупных копытных, обглоданные дочиста и побелевшие на солнце. Воздух над этим местом стоял тяжелый, пропитанный специфическим, сладковато-прелым запахом плотоядных — смесью старой крови, мочи и звериного духа. Я заметил пятерых волков. Трое из них лежали, растянувшись на камнях у входа в логово, сливаясь с серо-бурой окраской скал. Четвёртый, более светлый, с шерстью оттенка пыльного серебра, сидел поодаль, уши его настороженно шевелились, улавливая каждый звук. Пятый, матерый самец, настоящий великан с мощной грудью и темной, почти черной гривой, неспешно прохаживался по периметру, его желтые глаза лениво скользили по скалам, но взгляд никогда не задерживался на нас. Они выглядели расслабленными, сытыми. Полуденный зной сковал их активность.
Мы замерли, затаив дыхание. Гидеон медленно, с величайшей осторожностью приподнял бинокль. Арнольд стоял неподвижно, как изваяние, лишь его глаза, сузившиеся до щелочек, выхватывали каждую деталь. Я же, отложив ружье на камень, полагался на собственное зрение. Тишина стояла абсолютная, мы боялись не столько шелохнуться, сколько громко дышать. Малейший звук мог выдать, но нас спасала высота и каприз воздушных потоков. Мои мысли лихорадочно работали, анализируя увиденное. Крепкая, упитанная стая. Щенков не видно — вероятно, уже поднялись и держались где-то рядом, или же это была группа холостяков. Ни один из зверей не демонстрировал признаков альбинизма. Я перевел взгляд на Кэтэлин. Она стояла чуть в стороне, не пользуясь биноклем. Ее темные, бездонные глаза были прикованы к матерому вожаку. В них не читалось ни страха, ни охотничьего азарта, лишь глубокая, непостижимая печаль и что-то еще, похожее на надежду. Ее изящные пальцы сжимали и разжимали рукоять кинжала на бедре, и это единственное движение выдавало ее внутреннее напряжение. Гидеон разочарованно опустил бинокль.
— Ничего, — прошептал он, и его шепот прозвучал как шипение змеи, — ни одной белой шерстинки. Очередная пустая нора.
Арнольд молча кивнул, его тяжелый взгляд продолжал сканировать котловину, будто он пытался вырвать у скал их секрет силой воли.
В тот миг я понял с ледяной ясностью, что эта охота не имела конца. Они будут неустанно прочесывать остров, стаю за стаей, пока не найдут своего альбиноса или пока не уничтожат всех его сородичей. И я, добровольно взяв в руки ружье, стал соучастником этого безумия. Тишина на нашем уступе повисла густая, звенящая, нарушаемая лишь редкими порывами ветра и тяжёлым дыханием Гидеона. Он всё вглядывался в стаю внизу, его пальцы белели от напряжения, сжимая бинокль. Видимая ярость в нём нарастала с каждой секундой, превращаясь в нечто осязаемое, готовое лопнуть.
— Чёрт… — его лицо, секунду назад сосредоточенное, исказила гримаса чистейшего, неконтролируемого гнева. Все мускулы натянулись, шея впиталась в плечи. Он выхватил у меня из рук ружьё так быстро, что я не успел даже среагировать, и, щёлкнув предохранителем, почти не целясь, вскинул его. — Раз не оправдали ожиданий, заплатят за моё испорченное настроение! — его голос сорвался на визгливый, истеричный смех, который неестественно и жутко прозвучал среди безмолвия скал.
Раздались два оглушительных, сливающихся в один грохочущий удар. Выстрелы эхом покатились по каменным чашам, срывая вниз мелкие камешки. Внизу, в котловине, произошло мгновенное преображение. Один из лежащих волков, тот, что с серебристой шерстью, дёрнулся, взметнул облако пыли и затих. Второй, которого Гидеон, видимо, лишь задел, с визгом отпрыгнул в сторону, волоча за собой раненую заднюю лапу. Воздух наполнился отчаянным, переходящим в вой тявканьем раненого зверя. Безумие Гидеона длилось всего несколько секунд, но последствия его растянулись навечно. Оставшиеся три волка вскочили на лапы, их расслабленность испарилась, сменившись мгновенной, хищной собранностью. Головы поднялись, уши насторожились, жёлтые глаза, полные не страха, а холодной, обжигающей ненависти, устремились в нашу сторону. Они ещё не видели нас, но уже знали направление угрозы. Тишину разорвал низкий, обещающий расплаву рык вожака.
Первым очнулся Арнольд.
— Идиот! — его рык оказался куда страшнее волчьего. Он не смотрел на брата, его взгляд метнулся к Кэтэлин. Девушка стояла, окаменев, её лицо побелело, как мел, глаза, расширенные от ужаса, были прикованы к месту кровавой развязки. Брат рывком рванулся к ней, схватил за руку выше локтя с такой силой, что у неё вырвался короткий, подавленный стон. — Бежим! — скомандовал он, уже таща её за собой по карнизу обратно, к пути к машине.
Иллюзия охоты рассыпалась, сменившись примитивным, животным страхом. Гидеон, всё ещё хохочущий, но уже с ноткой истерии, бросил моё ружьё на землю и ринулся следом. Я, с сердцем, колотившимся где-то в горле, с пустыми руками и глотая ком тошноты, побежал за ними, оглядываясь через плечо. Мы неслись по камням, спотыкаясь, сбивая колени и локти. Сзади, снизу, донёсся ещё один протяжный, яростный вой, подхваченный другими голосами. Они шли по следу, несмотря на их малую численность, древний инстинкт кричал нам, что сейчас они превратятся в смертоносные вихри, способные растерзать любого, кто окажется на их пути. Мы ворвались в салон внедорожника, запыхавшиеся, в пыли. Арнольд, не выпуская руки Кэтэлин, грубо втолкнул её на заднее сиденье, сам ринулся к рулю. Гидеон плюхнулся на пассажирское, всё ещё издавая какие-то захлёбывающиеся звуки, средние между смехом и кашлем. Я рухнул на сиденье рядом с Кэтэлин, захлопнув дверь. Только тогда, когда мотор с рёвом ожил и машина рванула с места, я осмелился перевести дух. И тут до меня дошло, что прелестная Кэтэлин плакала, негромко, почти беззвучно. Слёзы, крупные и быстрые, текли по её бледным щекам, оставляя на коже блестящие дорожки. Она не всхлипывала, не пыталась их вытереть, просто сидела, сгорбившись, и смотрела в окно, сквозь которое уносился прочь этот проклятый каменный амфитеатр. Её плечи слегка вздрагивали. Арнольд же молчал, впившись в дорогу. Его скулы ходили ходуном, а пальцы с такой силой сжимали руль, что кожа на них побелела. От него исходила волна такого холодного, сконцентрированного гнева, что казалось, будто салон покрылся инеем. А Гидеон… Гидеон веселился. Он откинулся на сиденье, вытер ладонью слёзы смеха с глаз.
— Видели? Видели, как он подпрыгнул? Одним движением! — он повернулся ко мне, его глаза сияли безумием. — А второй захромал! Вот бедолага!
Во мне что-то оборвалось. Тошнота, страх, отчаяние — всё это переплавилось в чистейший, белый гнев.
— Вы сумасшедший. — выдохнул я, и мой голос прозвучал хрипло, но твёрдо. — К чему эта бессмысленная жестокость? Ты убил зверя и покалечил другого просто так, потому что у тебя испортилось настроение?
Гидеон перестал смеяться. Его лицо приняло привычное, язвительное выражение.
— Ах, вот как? Наш пенсионер вдруг проникся любовью к дикой природе? — он скривил губы. — Они звери, пан Ловецкий, дичь, ресурс. Их жизнь ничего не стоит, особенно когда они мешают моим планам.
— Ты спугнул всю стаю! Теперь они уйдут, и ты никогда не найдёшь своего альбиноса! — крикнул я, чувствуя, как горит лицо.
— Найду! — его голос прозвучал резко, как удар хлыста. — Я перестреляю всех на этом острове, но найду его! А если они уйдут, мы пойдём дальше за ними, в следующий лес. Охота будет продолжаться!
— Это не охота! Это бойня! У тебя ни капли уважения к зверю, к лесу, к самому себе!
— Уважение? — Гидеон фыркнул. — Уважение покупают победой, а победа требует жертв. Ты слишком стар и сентиментален для этого мира. Сидел бы лучше в своей оранжерее и нюхал цветочки. — он отвернулся, демонстративно глядя в окно, давая понять, что разговор окончен.
Я откинулся на сиденье, сжав кулаки. В ушах стоял грохот выстрелов, перед глазами всплыл образ подранка, волочащего лапу, и застывшее в ужасе лицо Кэтэлин. Я чувствовал себя грязным, соучастником этого безумия. Мои слова отскакивали от Гидеона, как горох от стенки. Он существовал в иной системе координат, где жестокость оправдывала любую цель.
Всю оставшуюся дорогу до дома царило тягостное молчание, нарушаемое лишь всхлипываниями Кэтэлин и рёвом мотора. Я понимал, что перешёл некую грань, за которой уже не оставалось пути назад.
Верно ведь говорят, голодный охотник — самый опасный.
4. Символ веры
13 октября 2026
Тишина, наступившая после отъезда Фаркасов, оказалась гуще и тягостней любой бури. Она висела в комнатах неподвижным, удушающим пологом, и сквозь нее прорывался лишь навязчивый, неумолчный звон в ушах — отголосок выстрелов Гидеона. Я сидел в кресле, и пальцы мои непроизвольно сжимали подлокотники, впиваясь в потрескавшуюся кожу. Перед глазами стояли два образа, сменяя друг друга в бесконечном, мучительном калейдоскопе: искаженное гримасой безумного восторга лицо Гидеона и бледное, застывшее в немом ужасе лицо Кэтэлин, по которому текли слезы. Эта бессмысленная жестокость не находила оправдания в моей душе. Охота — это диалог, как сказал Арнольд, сложный, порой жестокий, но всегда подчиненный своим суровым законам. В нем есть уважение к зверю, к его силе, хитрости, к самой природе, породившей его. Убийство ради пропитания, ради поддержания баланса, наконец, ради трофея как доказательства победы в честном поединке — все это укладывалось в понятную, пусть и суровую логику. Но что совершил Гидеон? Это была не охота. Это была вспышка ребяческого, капризного садизма, месть миру за то, что он не оправдал его ожиданий. Он выплеснул свое разочарование на живых существ, превратил их в мишени для своего больного тщеславия, и в этом порыве не было ничего, кроме пустоты, которая пожирала все вокруг, включая его собственную сестру.
Я видел, как она смотрела на него, в ее взгляде читалось глубокое, щемящее разочарование, и в этом молчаливом страдании заключалась такая сила, перед которой меркла вся истеричная ярость Гидеона. Она стала немым укором, живым воплощением той самой совести, что полностью отсутствовала у ее брата. Именно эта мысль, образ плачущей Кэтэлин, в конце концов, вывел меня из оцепенения. Сидеть в четырех стенах, отравленным собственными размышлениями, становилось невыносимо. Мне требовалось действие, движение, нужен был побег из этой ловушки отчаяния и гнева. Я вспомнил об аллее плакучих ив, куда она повела меня тогда, в день нашего первого странного свидания-прогулки, где я мельком увидел то, что заставило ее паниковать, и куда я так и не осмелился дойти до конца. Теперь же это «не осмелился» горело во мне обжигающим стыдом. Что ж, может, пора перестать быть пешкой в их игре и самому отыскать те следы, что вели к сердцевине загадки.
Решение созрело стремительно и окончательно. Я поднялся с кресла, ощущая, как суставы скрипят от долгой неподвижности, но внутри уже закипала странная, тревожная энергия. Оделся я не спеша, тщательно, будто готовился не к прогулке, а к важному путешествию. Выйдя из дома, я ощутил на лице холодное, влажное дуновение ветра. Небо затянуло сплошной пеленой свинцовых туч, и свет, пробивавшийся сквозь них, был мертвенным и плоским, без теней, воздух, как всегда, застыл в немом ожидании. Я шагнул за калитку и направился прочь от дома, прочь от давящих мыслей, навстречу неизвестности. Дорога к оврагу казалась знакомой, но сегодня каждый камень, каждое дерево выглядели иначе, словно притихли, замерев в преддверии чего-то важного. Я шел, и ветер шелестел в оголенных ветвях, нашептывая неразборчивые предостережения. Вскоре показался и сам овраг — темная, поросшая чахлым кустарником расселина, разрезавшая путь. Спуск оказался крутым и скользким от влажной глины. Я осторожно переступал с уступа на уступ, чувствуя, как напрягаются мышцы ног. На дне царил сырой полумрак и стоял запах прелых листьев и влажной земли. Камни, обкатанные дождевыми потоками, устилали дно, заставляя меня внимательно смотреть под ноги. Перебравшись через ложбину, я начал нелегкий подъем по противоположному склону, цепляясь за корни ивы и выступы камней. Сердце колотилось в груди, выстукивая ритм, полный тревожного ожидания. И вот, преодолев подъем, передо мной открылась аллея. С двух сторон узкой дорожки плотной стеной стояли ивы. Их длинные, плакучие ветви, черные и блестящие от влаги, спускались до самой земли, образуя сплошной, непроницаемый полог. Они переплетались над головой, смыкаясь в причудливый готический свод, сквозь который лишь местами сочился тот самый призрачный, бестелесный свет. Он падал на землю бледными, дрожащими пятнами, похожими на лунные блики на дне глубокого озера. Пахло влажной древесиной и прелыми листьями, горьковатой полынью и чем-то еще, сладким и пьянящим. Этот запах обволакивал, проникал в легкие, наполняя их странной, томной истомой. Под ногами земля, покрытая толстым слоем мха, бесшумно пружинила, поглощая мои шаги.
Я двинулся вперед, и аллея поглотила меня. Тишина здесь была живой, наполненной множеством едва уловимых звуков. Где-то в листве тихо позванивали, словно крошечные хрустальные колокольчики, невидимые насекомые, шепот листьев, гонимых незримым дуновением, походил на отдаленный, многоголосый хор. Я шел медленно, почти на цыпочках, боясь нарушить хрупкое очарование этого места. Взгляд мой скользил по стволам ив. Вблизи их кора, казавшаяся издали просто темной, являла взору сложные, замысловатые узоры. Мне почудилось, что эти узоры не статичны, что они медленно, почти незаметно перетекают, меняя очертания, следуя ритму незримого пульса, что бился в самой основе этого леса. Сердце мое забилось иначе от какого-то щемящего, пронзительного восторга, смешанного с благоговейным трепетом. Я чувствовал, как все тревоги и гнев, терзавшие меня с утра, понемногу отступают, растворяясь в этой неземной, гипнотической атмосфере.
Я не знал, сколько прошел, время здесь потеряло свою власть. Аллея делала плавный изгиб, и я замер, увидев то, что скрывалось за ним. Конца аллеи, в привычном понимании, не было. Она выходила на небольшую, идеально круглую поляну, залитую тем же призрачным, льющимся свыше светом, но не это привлекло мое внимание. В центре поляны стоял одинокий, невероятно древний дуб. Он был огромен, его ветви, толстые, как стволы деревьев, простирались во все стороны, словно пытаясь обнять все пространство вокруг. Его кора поразительно светилась изнутри мягким, фосфоресцирующим сиянием, озаряя поляну мистическим мягким светом. У подножия этого дивного древа, на корнях, выступивших из земли подобно спинам спящих драконов, сидела Кэтэлин, поджав под себя ноги, ее темные волосы сливались с тенью, отбрасываемой дубом, а лицо, обращенное к дереву, было озарено его внутренним светом. Девушка не слышала моего приближения, вся погруженная в созерцание мха. Выражение ее лица было таким, каким я еще не видел — безмятежным, умиротворенным, лишенным всякой маскировки или напряжения. В эти мгновения она была не загадочной незнакомкой, не сестрой одержимых охотников, а просто юной девушкой, нашедшей приют в сердце волшебного леса.
Я сделал неосторожный шаг, хрустнула ветка. Она вздрогнула и медленно, словно возвращаясь из далекого путешествия, повернула ко мне голову. Глаза ее, огромные и темные в свете дуба, широко раскрылись от удивления, но в них не было ни страха, ни раздражения.
— Петер? — ее голос прозвучал тихо и неестественно. — Как Вы нашли это место?
— Я… дошел. — неуклюже ответил я, делая несколько шагов вперед и останавливаясь на краю поляны, боясь нарушить ее границы.
Она смотрела на меня, и ее взгляд был полон того же безмолвного вопроса, что и мой.
— Зачем? — спросила она наконец.
Я подошел ближе, чувствуя, как свет дуба омывает мое лицо странным, живительным теплом.
— После того, что сделал Гидеон мне нужно было куда-то уйти, и я вспомнил эту аллею, куда я так и не решился дойти. — я сделал паузу, глядя на сияющее дерево. — Теперь я понимаю, почему.
— Почему? — ее губы тронула чуть заметная улыбка.
— Потому что такое место нельзя видеть просто так. К нему нужно быть готовым. — я обвел взглядом поляну, вдыхая пьянящий воздух. — Это просто невероятно.
— Да. — просто согласилась она, и в ее голосе прозвучала нота тихой, счастливой грусти.
Мы помолчали, и тишина здесь была благодатной, наполненной лишь тихим гулом самой жизни.
— Он всегда был таким? — спросил я, кивая на дуб.
— Кто? — уточнила она, и тень скользнула по ее лицу.
— Дуб.
Кэтэлин покачала головой.
— Не знаю, но Владар сказал, что он засветился тогда, когда умер его отец и он приехал сюда, чтобы заняться домом. — она произнесла эти слова с невероятной нежностью.
— Что? — от ее слов по моей спине пробежали мурашки. Все сходилось.
— Владар. Белый волк.
— Так он реален, — тихо сказал я, — тот, кого они ищут. Но почему Вы говорите о нём как о человеке?
— А он разве не человек?
— Я не знаю.
— Эти пришельцы, что захватили его дом, хотят убить его… Вы понимаете?
— О, да… — соврал я, заглядывая в ее бездонные глаза.
— Я… чувствую, как он тоскует, страдает от того, что не может вернуться. — в ее голосе звучала такая безысходная тоска, что мое сердце сжалось.
— О каких пришельцах Вы говорите?
— О тех двух мужчинах.
— О Гидеоне и Арнольде Фаркасах? О своих братьях?
— Моих братьях? Я не знаю, кто это…
Я опешил, не понимая, зачем она шутит, но решил не заострять на этом внимание.
— Кто такой Владар?
— Хозяин дома, в котором они живут.
— Но Вы же живёте с ними.
— Нет…
На этом моменте я окончательно перестал понимать, что происходит, и отпрянул от девушки, увидев в её глазах странный блеск, который раньше никогда не замечал.
— Я скрываю его следы, путаю их, веду по ложным путям! — в её голосе впервые послышалась несвойственная ей страсть. — Я одна против них обоих…
Я подошел ближе и, преодолевая нерешительность, опустился рядом на теплый, упругий мох. От нее исходил легкий аромат.
— Вы не одна. — тихо, но очень четко сказал я.
Она подняла на меня глаза, и в них я увидел недоверие, надежду и тот самый проблеск чего-то неизвестного.
— Почему? — прошептала она. — Почему Вы говорите со мной?
— Что?
Она молча смотрела на меня, и по ее щеке скатилась слеза, блеснув в свете дуба, как драгоценная жемчужина. Я поднял руку, желая отвести прядь ее темных волос, упавшую на щеку. Это был совершенно внезапный порыв. Пальцы приблизились к ее коже, ожидая ощутить ее тепло, ее жизненную энергию, но коснулись абсолютного, пронизывающего, безжизненного холода. Я вздрогнул и отдернул руку, словно обжегшись. Глаза мои, привыкшие к полумраку, с невероятной, болезненной остротой всмотрелись в нее. То, что я принял за бледность ее кожи при призрачном свете, оказалось не кожей, а мрамором, безупречным, гладким, испещренным тончайшими прожилками серебристо-серого, словно морозные узоры на стекле. Ее волосы, казавшиеся мне черными как смоль, на самом деле были высечены из того же камня, лишь искусной игрой тени и света создавая иллюзию цвета и объема.
Я застыл, парализованный ужасом и непониманием. Мозг отказывался принимать информацию, которую передавали глаза. Нет, это невозможно. Я только что слышал ее голос.
— Кэтэлин? — выдохнул я, и мой голос прозвучал хрипло и неуверенно.
Ее лицо, секунду назад выражавшее такую гамму живых, трепетных эмоций, теперь представляло собой лишь дивно исполненную статую. Тот же разрез глаз, те же губы, тот же овал щек, но все это было работой безжалостного и гениального скульптора. Ни один мускул не дрогнул, веки не сомкнулись. В глазах, таких же глубоких и темных, не плескалась жизнь — их бархатистую темноту создавала глубокая, искусная полировка камня. Лишь отсветы дуба прыгали в их неподвижной глади, словно насмехаясь над моим смятением. Я протянул руку снова, уже не с нежностью, а с дрожью отвращения и страха, и коснулся ее щеки. Кончики пальцев подтвердили страшную догадку — холодный, идеально гладкий камень. Я провел ладонью по ее плечу, по складкам ее одежды, которые я принимал за ткань, под рукой скользила та же ледяная, неумолимая твердь. Это была скульптура неземной красоты и безупречного мастерства, столь живая в своем исполнении, что обманывала все чувства.
— Но… как? — прошептал я, и мои слова затерялись в шепоте листвы. — Я же слышал тебя… Я говорил с тобой…
Отшатнувшись, я поднялся на ноги, которые предательски подкашивались. Я обошел статую, впиваясь в нее взглядом, пытаясь найти изъян, трещину, хоть что-то, что доказало бы мне, что это обман, иллюзия. Но нет, мраморная Кэтэлин сидела в своей извечной, грациозной позе, одинокая и прекрасная под светящимся дубом. Ее каменный взгляд был устремлен в пустоту перед собой, полный той самой вечной, застывшей печали, что я принимал за живое чувство.
Что со мной происходило? Галлюцинации? Помешательство? Лихорадочный бред, порожденный усталостью и стрессом? Или магия этого места была настолько сильна, что могла оживлять камень, вселять в него дух, а потом забирать его обратно, оставляя лишь прекрасную, ледяную оболочку?
Волна тошноты и абсолютной, парализующей бессмысленности происходящего накатила на меня. Я не удержался на ногах и грузно опустился на колени, а затем и вовсе повалился на мягкий, безразличный мох. Я сидел, уставившись на мраморное изваяние, не в силах оторвать взгляд от этого жуткого сочетания совершенной красоты и абсолютной безжизненности. Я говорил с камнем, чувствовал что-то к камню. Во мне поднялся горький, истерический хохот, но он застрял в горле, так и не вырвавшись наружу.
В этой гнетущей тишине, раздавленной собственным отчаянием, я уловил новый звук, мягкий, почти неслышный шорох, доносящийся из чащи, что темнела за спиной мраморной Кэтэлин. Шорох шагов, осторожных и тяжелых, проминающих влажный мох. Ледяная струя инстинктивного страха пронзила оцепенение. Медленно, с трудом заставляя мышцы повиноваться, я повернул голову. Из-под плакучих ив, из густых зарослей папоротника, окрашенных в сизые тона светом дуба, на поляну ступило Нечто. Сначала я увидел лишь белизну, ослепительную, девственную, фарфоровую, казавшуюся еще ярче в призрачном сиянии поляны. Затем очертания вырисовались четче. Это был волк, но такой волк, каких не видел ни наяву, ни даже в самых смелых охотничьих байках. Он обладал исполинскими размерами, почти в полтора раза больше, чем обычный среднестатистический волк, его холка возвышалась бы мне по низ груди, а мускулистое тело, покрытое густой, снежно-белой шерстью, дышало первобытной силой. Глаза не горели желтым или зеленым огнем, как у обычных волков. Они были бледно-голубыми, как два осколка высокого полярного неба, как чистейший лед на горном озере. В них не читалось ни злобы, ни хищного азарта, лишь бездонность и спокойствие.
Волк вышел на поляну и замер, не сводя с меня ледяного взора. Его могучая грудь медленно вздымалась, и от него исходило легкое облачко пара в холодном воздухе. Я застыл, вжавшись в землю, превратившись в камень похуже мраморной Кэтэлин. Сердце колотилось в груди птицей, бьющейся о решетку клетки. Вот тот, кого так яростно ищут братья, цель их ужасающей охоты. Я ждал рыка, молниеносного броска, клыков, впивающихся в горло, но этого не последовало. Зверь медленно, с невозмутимым, почти царственным достоинством, сделал несколько шагов в мою сторону. Его огромные лапы бесшумно ступали по мху, не оставляя и следа. Он приблизился на расстояние вытянутой руки, и я чувствовал его тепло, исходящее от могучего тела, и странный, чистый запах хвои и чего-то еще, незнакомого, холодного, как сам космос.
Я перестал дышать. Весь мир сузился до этих двух магнетических глаз. Волк склонил свою огромную голову и мягко, почти по-кошачьи, ткнулся холодным влажным носом в мою щеку. Прикосновение было нежным, исследующим. Он провел носом по моей щеке к виску, обнюхивая меня, словно пытаясь прочесть мою историю, мои страхи, мое смятение. Его дыхание, теплое и влажное, пахло диким мхом и свежей кровью, но в этом не было ничего отталкивающего, лишь чистота дикой природы. Затем он отступил на шаг. Его голубые глаза посмотрели на меня еще раз, и мне почудилось в их глубине нечто, похожее на одобрение. Сожаление? Я не мог понять. Это был взгляд существа, живущего по законам, недоступным моему пониманию. Зверь развернулся, его белая шкура на миг слилась со светящимся стволом дуба, и так же бесшумно, как появился, он скользнул обратно в чащу, только чуть колыхнувшиеся ветви папоротника указали на место, где он исчез.
Я просидел еще несколько минут, не в силах пошевелиться. Шок от встречи с призрачным зверем наложился на шок от мраморной Кэтэлин, создавая в моем сознании вихрь абсолютного, сокрушительного смятения. Страх не ушел, а трансформировался в нечто большее — в благоговейный ужас перед непостижимым. Собрав остатки воли, я поднялся, ноги дрожали, подкашиваясь, и бросил последний взгляд на статую. Ее каменное лицо хранило все ту же загадку, но теперь она казалась мне печальной.
Я повернулся и почти побежал, спотыкаясь, назад по аллее. Плакучие ивы, еще недавно казавшиеся мне вратами в волшебный мир, теперь шептали мне вслед проклятия. Их ветви цеплялись за одежду, словно пытаясь удержать. Я мчался, не оглядываясь, через овраг, карабкаясь и скользя, не чувствуя ни усталости, ни боли. Лишь один инстинкт гнал меня вперед — инстинкт затравленного зверя, стремящегося к своей норе. Ворвавшись в дом, я захлопнул дверь и прислонился к ней спиной, тяжело дыша. Темнота и знакомая обстановка не принесли утешения, они лишь подчеркивали, что я принес этот ужас с собой. Я видел то, чего не должен был видеть, прикоснулся к тайне, которая, казалось, жгла мне душу. Стремительный бег сквозь чащу постепенно сменился тяжелой, неровной рысью, а затем и вовсе уступил место шатающейся, неуверенной походке. Я плелся по знакомой дороге, не видя ничего вокруг, кроме внутренней пленки, на которую проецировались два образа: ледяные голубые глаза волка и застывшее мраморное лицо Кэтэлин. Они сливались воедино, создавая вихрь неразрешимых противоречий. Реальность растрескивалась, как тонкий лед под ногами, и я с головой погружался в леденящую воду безумия.
Мой дом маячил впереди, суля иллюзорное убежище. Я уже почти добрался до калитки, как внезапный, грубый звук ворвался в мое отупевшее сознание, разорвав паутину галлюцинаций. Это был низкий, мощный рокот дизельных двигателей, скрежет тормозов и металлический лязг, доносящиеся со стороны поместья Фаркасов. Инстинкт самосохранения, приглушенный шоком, зашевелился в глубине души. Я замедлил шаг, прижался к шершавому стволу старой сосны на краю дороги и устремил взгляд туда, откуда несся этот непривычный грохот.
По главной, редко используемой дороге, ведущей к их дому, медленно, словно допотопные чудовища, ползли три громадных грузовика с длинными, полностью закрытыми тентами прицепами. Они были грязно-белого цвета, без каких-либо опознавательных знаков, и их мощные колеса с глубоким протектором вязли в рыхлом грунте, но больше всего поражала конструкция прицепов — невысокие, но удлиненные, с массивными вентиляционными решетками в верхней части и небольшими зарешеченными окошками по бокам. Они вызывающе напоминали специализированный транспорт для перевозки скаковых лошадей, но в их виде, в их угрюмой, почти походной простоте, сквозило что-то неуместное, сомнительное. Слишком брутально, слишком функционально для благородных животных. Машины, испуская клубы дизельной копоти, свернули к усадьбе Фаркасов. Высокие, всегда наглухо закрытые ворота сейчас распахнулись настежь, будто черная пасть, готовясь поглотить свою добычу. На подъезде, отбрасывая длинную тень в свете заходящего солнца, вырисовывалась массивная фигура Арнольда. Он стоял, заложив руки за спину, и наблюдал за подъезжающей колонной с видом полководца, принимающего подкрепление.
Один из грузовиков заглушил двигатель. Из кабины выпрыгнул невысокий, коренастый мужчина в замасленной куртке. Он что-то крикнул Арнольду, на что тот лишь молча кивнул. Мужчина достал из салона клипборд с бумагами и, подойдя ближе, протянул его Арнольду вместе с ручкой. Тот, не меняя выражения своего каменного лица, бегло пробежал глазами по листам и с твердым, решительным движением поставил внизу размашистую подпись. Мужчина что-то сказал еще, на лице его мелькнула деловая ухмылка, но Арнольд лишь отвернулся, его внимание уже привлекло нечто внутри двора.
Любопытство, острое и горькое, как полынь, пересилило страх и отчаяние. Я, крадучись, словно браконьер, двинулся вдоль линии деревьев, стараясь сократить дистанцию и получить лучший обзор. Скрываясь за стволами и кустами орешника, я приблизился настолько, что мог различать выражения лиц. Гидеон и Кэтэлин стояли рядом, у первого прицепа, задняя часть которого была уже распахнута, образуя трап. И оттуда, тяжело переступая по металлическому настилу, под негромкие, одобрительные возгласы Гидеона, спускалась лошадь, из других прицепов спускались две другие. Высокие, больше полутора метра в холке, поджарые и мускулистые, с длинными, сухими ногами и породистыми, выразительными головами. Их шкура, гладкая и лоснящаяся, отливала густым, почти синим бархатом, поглощая последние лучи солнца. Они казались выкованными из единого куска ночи. Их гривы и хвосты, черные как смоль, струились шелковистыми волнами. Животные нервно переступали на каменистом грунте, их ноздри раздувались, вдыхая незнакомые запахи, но могучие тела подчинялись легкому поводу конюхов, вышедших из тени прицепа.
Гидеон, с сияющим, оживленным лицом, подошел к одному из меринов и уверенно положил ладонь на его мощную шею. Животное на мгновение замерло, затем повернуло к нему голову, и между ними пробежала незримая искра понимания.
— Вот это экземпляры! — воскликнул Гидеон, и в его голосе звучала неподдельная, почти детская радость, так контрастирующая с его обычной язвительностью. — Посмотри, милая, какие мышцы! Какая стать! С такими скакунами нам никакие чащи не страшны.
Кэтэлин стояла чуть поодаль. Ее руки были скрещены на груди, а лицо оставалось загадочным, как всегда. Однако в ее позе я не увидел и тени того ужаса или отчаяния, что пережил с ее мраморным двойником всего час назад. Она наблюдала за лошадьми с холодным, оценивающим интересом, словно инспектируя новый инструмент.
— Они выносливы? — спросила она, ее голос прозвучал ровно и практично.
— Как скалы. — отозвался подошедший Арнольд, отдавая копию бумаг водителю. — Горные породы, так что ни овраг, ни бурелом их не остановят.
Их слаженность, эта картина почти идиллического семейного сотрудничества, вызвала во мне приступ горькой ярости. Все эти тайны, этот ужас, это мраморное видение — и вот они, спокойно и деловито принимают каких-то лошадей, словно ничего не произошло. Я не выдержал. Выйдя из своего укрытия, я медленно, стараясь не выдать внутренней дрожи, пересек дорогу и остановился у распахнутых ворот. Фаркасы повернули ко мне головы почти синхронно. Арнольд — с привычной невыразительной холодностью, Гидеон — с насмешливой, торжествующей ухмылкой, Кэтэлин — ее взгляд скользнул по мне быстрым, ничего не выражающим касанием, будто я был случайным прохожим.
— Герр Ловецкий, — Гидеон сделал театральный жест в сторону лошадей, — разделяете наше восхищение? Великолепные звери, не правда ли?
— Зачем? — выдавил я, и мой голос прозвучал хрипло от напряжения. — Зачем вам эти лошади?
Гидеон рассмеялся, его смех эхом отозвался от каменных стен дома.
— О, пан Ловецкий… — покачал он головой, подходя ближе. От него пахло потом, лошадьми и дорогим одеколоном. — Вы же опытный человек. Разве не очевидно? Лес становится гуще, тропы опаснее. Машина нас больше не выручит, а вот они… — он похлопал ближайшего мерина по крупу, и тот вздрогнул, заржал коротко и низко, — пройдут везде. Охота, мой друг, входит в новую фазу, более мобильную, и, уверяю вас, с ними она станет куда успешней.
Он посмотрел на меня, и в его глазах плясали знакомые ядовитые искорки, однако теперь за ними скрывалось нечто большее — твердая, непоколебимая уверенность в близком триумфе. Эти лошади были частью плана, тщательно продуманного, дорогостоящего и, без сомнения, ведущего к какой-то ужасной развязке. Я же стоял, чувствуя, как леденящий холодок пробегает по спине. Они готовились к финальной стадии, и теперь, с этими вороными призраками, их шансы на успех возросли многократно. И белый волк, и тайны острова, и эта мраморная статуя — все это вело к чему-то, что должно было случиться очень скоро.
Я молча унизительно кивнул, не в силах найти слов, и, повернувшись, побрел к своему дому. За спиной я слышал довольное похлопывание Гидеона, короткие, отрывистые команды Арнольда конюхам и тихий, мелодичный голос Кэтэлин, что-то говорившей лошади на том самом странном, гортанном языке.
20 октября 2026
Прошли семь долгих, выматывающих душу дней, прожитых в тени навязчивой идеи. Семь дней, что я, словно зачарованный грешник, проводил в том самом лесу, на пороге той самой аллеи. Каждое утро я вновь и вновь проделывал путь к оврагу, спускался на его сырое, каменистое дно и поднимался на противоположный склон, сердце замирая в предвкушении — а вдруг? Но аллея плакучих ив встречала меня лишь гробовым, пусть и живым, молчанием. Ни белого волка, исполинского и безмолвного, с глазами полярных льдов, ни таинственной фигуры в лохмотьях, что когда-то наблюдала за мной из-за сосны. Лес упорно хранил свои секреты, и это молчание было куда страшнее любого откровения. Он невероятно сильно пугал меня не явной угрозой, не шелестом в кустах или звериным оскалом, а чем-то куда более глубоким, подсознательным. Тени, ложившиеся под сенью ив, были слишком густы, слишком насыщенны, будто сотканы из вещества иных миров. Каждый шорох, каждый треск ветки отзывался в моей груди ледяным эхом, будто предупреждая. Я искал разгадку, связь между белым волком, одержимостью братьев и мраморным изваянием под светящимся дубом, но мысли мои путались, увязая в трясине собственного страха и непонимания. Не забывал я и про те слова, что мне сказала статуя, про некоего Владара, про то, что он хозяин каменного дома. Я больше не переступал порог усадьбы Фаркасов; их мир, отравленный жестокостью Гидеона и холодной расчетливостью Арнольда, стал для меня чужим.
И вот, в одну из ночей, когда усталость наконец сомкнула мои веки, явилась Кэтэлин. Сон был не сном, а откровением, явленным сквозь тонкую, трепетную завесу между мирами. Я стоял в бескрайнем поле, залитом неземным, серебристым светом, источник которого был не виден, и посреди этого сияния моя драгоценная, но не та, что я знал. Она была воплощенной нежностью, хрупким видением в струящихся белых одеждах, что ниспадали до самой земли мягкими, волнующими складками. Ткань, легкая как туман и плотная как молочный опал, обволакивала ее стан, а на голове ее покоился платок, длинный, как фата невесты, скрывавший черты ее лица в таинственной тени, лишь овал щеки, бледный и совершенный, угадывался под шелком, да губы, сложенные в выражении тихой печали. От нее исходило внутреннее, теплое, словно свет далекой, чистой звезды сияние. В ее позе, в склоненной голове, была такая бездна кротости, святости и женственности, что сердце мое сжалось от щемящего, невыразимого восторга. Это была не красота, влекущая плоть, это была красота, влекущая душу. Во мне поднялось желание столь же внезапное, сколь и всепоглощающее — желание пасть перед ней на колени, коснуться лбом края ее небесного одеяния, вознести ей молитву. Она казалась мне и Девой, принимающей благую весть, и Великой Мученицей, с кротостью принявшей свою участь. В ней соединились небесная чистота и земная, все искупающая скорбь.
— Петер. — прозвучал ее голос, и он был похож на перезвон хрустальных колокольчиков, на шелест листьев в забытых богами рощах.
Я не мог ответить, способный лишь впитывать ее образ, теряясь в нем, как в океане.
— Не страшись пути, что открылся тебе. Ты ищешь ответы в дневном лесу, но они рождаются в ночной тиши. Выйди этой ночью из своего дома в центр участка, где расположено костровище, и разожги огонь, большой, яркий костер, чтобы пламя лизало темноту, а дым, как фимиам, возносился к спящим звездам. — она подняла руку, и ее палец, тонкий и белый, указал в нечто, незримое мне. — Огонь станет маяком в царстве теней, и тогда я смогу найти дорогу к тебе. Не во сне, но наяву. Мы поговорим.
Ее слова падали в мою душу, как горячие уголья, разжигая в ней некую исступленную, почти фанатичную веру.
— Обещай мне, Петер. — голос ее стал тише, но оттого лишь властней. — Обещай, что не побоишься ночи и огня.
Я нашел в себе силы, и мой собственный голос прозвучал хрипло и преданно, как у аскета, давшего обет:
— Клянусь. Я сделаю это. Я буду ждать тебя.
Ее образ начал таять, растворяться в серебристом свете, и последнее, что я увидел, — это едва заметная, печальная улыбка, тронувшая ее губы. Затем всё рухнуло в бездну пробуждения.
Я открыл глаза, комната была погружена в предрассветный мрак. Страх перед лесом, смятение, все вопросы — всё отступило перед этим повелением, данным мне в видении. Она звала, и я, как верный, но старый рыцарь Прекрасной Дамы, пойду на зов. Пусть ночь сомкнется над головой, пусть тени шепчут угрозы — я разожгу пламя и буду ждать Её.
Утро, пришедшее на смену тому видению, казалось блеклым и невыразительным, будто кто-то разбавил мир водой. Даже солнце, пробивавшееся сквозь сплошную пелену облаков, несло в себе не свет, а лишь сероватое, унылое сияние. Внутри меня все еще пылал священный огонь от сна, но ему требовалась земная пища — необходимо было выйти в мир, услышать человеческий голос, убедиться, что я не окончательно сошел с ума. Единственным пристанищем, где я мог обрести некое подобие понимания, казался магазин фрау Розарии.
Дорога в деревню пролегала через знакомые, но оттого не менее гнетущие пейзажи. Пожелтевшие поля, будто выцветшие от страха, шептались с низким, серым небом. Ветер, холодный и влажный, гулял по обочинам, срывая последние листья с чахлых берез и завывая в проводах похоронную песню. Каждый шаг отдавался в моей душе эхом, напоминая о том, что я несу в себе тайну, слишком тяжелую для одиноких плеч. Колокольчик, которого ранее не было, над дверью магазина прозвенел пронзительно-жалобно, возвещая мое вторжение в ее затхлое, благоухающее царство. Воздух, густой от ароматов сушеных трав, воска, копченостей и пыли, обволок меня, как саван. Розария стояла за прилавком, перебирая связку каких-то кореньев. Ее лицо, еще не испещренное морщинами, озарилось при моем появлении слабым, усталым подобием улыбки.
— Петер. — произнесла она своим хрипловатым, навевающим мысли о воронах и сухих листьях, голосом. — А я уж думала, Вы к Фаркасам примкнули безвозвратно. Совсем Вас перестала видеть.
— Нет, фрау Розария, — ответил я, и мой собственный голос показался мне чужим. — Я… мне нужно было побыть одному, осмыслить всё то, что со мной произошло.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
