
Бесплатный фрагмент - Глазами маски
«В своем воображении я свободен рисовать как художник. Воображение важнее знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир».
«Есть два способа жить: вы можете жить так, как будто чудес не бывает, и вы можете жить так, как будто все в этом мире является чудом».
Альберт Эйнштейн
От автора
Скорее всего, наша жизнь была бы совсем неинтересной, не найдись в ней место игре. Бесцветные лица, бесцветные дни и годы и бесконечная продолжительность всегда одинаковых, с редкой вариацией событий. Каждый человек, приходящий в этот мир, обладает обязательным талантом, дающимся ему от рождения. Он — художник, способный раскрашивать свою реальность в угодный ему цвет. Лишь под искаженным углом зрения мы можем различить сокровища собственной души, убедив себя в существовании испытываемых чувств. Наш жизненный опыт тем ярче, чем ярче краски в палитре воображения. Привычные пейзажи, дома, улицы, встречные, где-то, когда-то знакомые люди, всё чудесным образом преображается, как только мы начинаем пользоваться врождённым талантом. Игра! Самообман? Нет, — образ жизни. Жизни, которую выдумываешь заново, вопреки её философскому равнодушию.
Эта книга о том, что можно захотеть увидеть сквозь нагромождения современности, присущие ей правила и законы, сквозь всё то напускное, напрасное, за что подчас мы так отчаянно боремся и, проиграв, опускаемся ниже дозволенного, вешая себе на спину ярлык «неудачник». Что можно увидеть… или всё-таки — вообразить? Решать читателю.
Мифотворчество свойственно людям, не богам. Впрочем, мир так давно живёт в одиночестве, стоя лицом к миллиардам точно таких же лиц, что мнить или сравнивать себя с создателем вошло у него в привычку. Нельзя же просто встать в этот огромный ряд и крикнуть, к примеру: «Я один из 12 081 985… Занимайте за мной!» Это уж слишком! А потому человек выходит из ряда, бросает табличку со своим номером и начинает воображать. Тут и происходит самое интересное. Люди — все разные, и потому, что вообразит о себе отдельный индивид, отрёкшийся от своего номера, предсказать невозможно: у каждого стоящего в длинной очереди рождённых — свой вариант. Вариант мифа о собственной жизни.
Предисловие
(Разговор автора с читателем)
Читатель:
Рисуете?
Автор:
Обычно — словом, но случаем — карандашом.
Покоя не даёт один мне образ.
Его рисую я,
Его чертами наделить стремлюсь.
Читатель:
Кто ж он?
Герой, должно быть, вашей книги?
Хотя б намеком осветили, иль именем, быть может, нарекли?
Автор:
Эль — имя гордости моей.
Эль — имя моей тайны,
Желания молитвенных ночей.
Теперь довольно вам?
Читатель:
Вы предлагать замки взялись, которым нет ключей…
Откройтесь до конца, каков собой злодей?
Автор:
Злодей?
Кто вам позволил так его сквернить
Земным надменным поруганьем?
С чего решили вы героя очернить? Того не следовало из названья!
Читатель:
Яд критики течёт из знаний.
Не бойтесь, я вас им не отравлю.
Автор:
По-вашему, я за попытку опасаться стану?
Я вас уже за то, что вы меня хотите прочитать, люблю.
От критики спасенья нет,
А защищаются лишь те, кто слабы.
Читатель:
От ревности своей вы, видно, защищаться стали.
Автор:
От ревности к кому?
Вы разберитесь, что к чему!
И кто из нас — с пробитым сердцем.
Зеркальным отражением проекций
Не приписать ко свету тьму!
Читатель:
Одно другому что же, не к лицу? Да я и не посмел бы…
Автор:
Читатель мой,
Преступную любовь творца к творенью своему
Ты разглядеть во мне сумел, я разумею?
Читатель:
Оставим.
Автор:
Нет, позвольте.
Да, я люблю.
И отчего же не любить глаза, душа, в которых плещется едва ли?
Загадку? Этот омут счастья? Огонь?
Читатель:
Так вот каков герой,
Черты которого вы от меня скрывали!
В огне вы совершенство отыскали?
Спешу вас разуверить, автор мой!
Огонь —
Он к жизни холоден и к смерти равнодушен.
Страстям земным он аналогией является простой,
И только.
Но ведь это скучно.
Автор:
Читатель, брось, не будь лукав.
Ты голос его тронь, ты вслушайся в огонь!
Читатель:
Едва ли между строк есть аудиолента…
Автор:
Не сложно отыскать!
В звучанье этом,
В одном сплетении усилия с дыханьем
Приют найдет игра и сон.
Читатель:
Но ведь — не жизнь.
Я догадался!
Он — миф, обманутый в своём существованьи!
Автор:
А я — его напрасное дыханье…
Ты прозорлив, читатель мой.
Читатель:
Вам хочется блуждать по зазеркальям
И за собой других водить, дразня непониманьем!
И под угрозою изгнанья, наверное, уж к пониманью принудить.
Автор:
Как расписали!
Дать в руки Ариадны нить хочу лишь.
А в лабиринте как-нибудь уж сами!
Читатель:
Я не уверен в том, что сил достанет…
Автор:
О, вы, читатели мои,
К вам призываю:
Не палачи,
Разумны, сдержанны, строги,
Но вам рубить с плеча да не пристало!
Читатель:
Не обобщайте: «Я» — не «вы».
Из множеств «вы» лишь я один в стихах и восхищаюсь вами,
Но много знаю тех, кто уж рубил!
Автор:
Всего один?
Читатель:
Увы.
Автор:
В том вашей нет вины.
Ведь, право, и не прочитаешь, враз не увлёкшись вымыслом моим.
Хоть боязно и сознавать в портрете нарисованного им,
Холста перечеркнуть меня уж не заставить.
Читатель:
Зачем же страхи вы свои признали?
Бесценной одарённости простителен обман.
Автор:
Не верно:
У одарённости всегда имеется цена,
И та, как правило, стоит в начале.
Обман же свойственен, скорее, вам.
Читатель:
А вам?
Автор:
А мне — самообман.
Читатель:
И это ли не гениально!
Вы разыгрались!
Теперь лишь зрителей задействовать осталось.
Свет меркнет, занавес неслышно сцену обнажает.
Автор:
Что ж, — за прекрасное начало.
Читатель:
Однако за терпение своё я опасаюсь:
Такие страсти, на земле, на небе,
Вы льёте краски, зная о сюжете.
Вам пять сезонов, как пять вздохов, —
Подпись слева.
Но у читателя ведь нервы,
Делу — время!
Как долго ждать нам заключительных пересечений?
Развязка скоро ль?
Скоро ль объяснение значений?
Автор:
Нам?
Вот вы и в сборный образ стали попадать!
Развязка?
Развязка — скорбный труд!
Читатель:
Однако, ждать её?
Автор:
К концу, я разумею.
Сезон 1
Пролог
В подземном переходе торопливо сновали люди. Осенняя сырость путалась под ногами. Около стены стояли четверо музыкантов. Их необычная игра способна была притянуть даже самый непритязательный слух, но только не сегодня. То ли место оказалось неподходящим, то ли людские заботы в этот день слишком не терпели отлагательств, — задерживающихся послушать было ничтожно мало. Без сомнения, играй музыканты на большой сцене под модным названием, те же прохожие отложили бы свои нужды и потратили бы последние деньги, чтобы купить билет. Но это были неизвестные молодые люди в потрёпанных одеждах, наводивших на мысль об их бедности. Все четверо молчали, изредка переглядываясь. Одного роста, одного возраста, они на первый взгляд походили друг на друга, как братья. Однако, приглядевшись, можно было заметить, что их сходство лишь в одинаковом — отрешённом — выражении лиц. Один из них, крайний слева, играл на флейте. Одетый в тёмно-синий фрак, он время от времени блаженно закрывал глаза, погружаясь в звуки. Оставшиеся трое изысками в одежде не отличались. Второй слева был в потрепанной куртке и такой же кепке, из-под которой выглядывали чёрные глаза. На его смуглом лице они казались двумя шевелящимися жуками, что никак не могут взлететь. Сидя спиной к стене, он отстукивал на барабане четкую дробь. Тот, что стоял рядом, играл на трубе, тонкие черты его лица, обрамлённые светлыми волосами, подчёркивала злая напряжённая улыбка и такой же взгляд. Крайний справа перебирал струны старой облупленной гитары, на которой были выжжены переплетённые между собой змеи. Весёлые круглые глаза его светились счастьем. В мягкой бороде пряталась доброта. Бродячий квартет доигрывал последние аккорды очередного шедевра, как вдруг на другом конце перехода раздалась ещё одна мелодия, своими чудодейственными красками стараясь влиться в их затихающую музыку. Добрый гитарист отдёрнул руки от струн, флейтист и трубач отвели инструменты от лиц, и только барабанщик продолжал стучать. Становясь громче, смелее, чужеродная мелодия наконец рванула, потопляя всё на своём пути: безучастных прохожих, осеннюю сырость. Барабанщик поднялся, чёрные жуки его глаз уставились в заполненный людьми длинный проём, словно стараясь рассмотреть музыканта на том конце.
— Игра началась, — произнёс он.
Глава 1. Огненный колодец
Темный тоннель, глубоко уходящий под землю, едва угадывался среди зарослей неухоженной дикой природы. Каменное его основание выступало из земли мощным бордюром, напоминая колодец. Однако форма привычного кольца, сломанная под четкими углами, делала эту ассоциацию неточной. Сохраняя поверхность идеально гладкой, на краю шестигранного монолита лежала капля. Переливая в себе все краски света, она казалась полноценной единицей жизни, миром с запрятанной внутри вечностью. Сколько нужно времени воде, чтобы выточить угодную ей форму? Капля лежала в небольшом углублении, от которого тянулись тонкие трещины будущего разлома. По ним, как по венам, из глубины колодца текла темнота. Плотная, душная, лишающая страха и даже умения мыслить. Никаких дуновений влаги, только странное потрескивание, доносящееся со дна. Сильный порыв ветра отколол камень от края, и тот с грубой тяжестью полетел вглубь колодца, в змеиных изгибах касаясь граненой вертикали. Камень падал все ниже и ниже, оставляя за собой след гулкого эха, но внезапно все стихло. Вспыхнул свет — по стенам пробежала, шестикратно изламываясь, непонятная тень.
— Зачем ты следишь за нами? — отчеканил механический голос.
Ответа не было.
— Это ведь ты, Гилт? — повторился холодящий вопрос.
Новые звуки оттолкнулись от стен. И опять все стихло, пропало. Начала нарождаться прежняя тишина, заполняя поврежденное пространство, но вот пойманный камень полетел дальше, вглубь колодца. Тишина раздраженно расступилась, пропуская его вперед, давая звуку немного упасть, и затем унеслась, преследуя, ловя на лету, пока наконец не проглотила.
— Боишься сломать предательские крылья? — У этого механического голоса не могло быть смеха, но в сказанных словах угадывалась ирония.
И опять — плотная тишина. Долгая, пронзительная, и в ней — едва уловимый стук. Постепенно стук этот усиливался, нарастал, словно бы приближался. Однако он не посмел перебить темноту, и приблизившись, начал пропадать. Тихий, размеренный, он едва улавливался вновь. Еще одна вспышка света, искрящегося серебряного света, — тень взмыла вверх.
* * *
Все взгляды были устремлены на сцену. Сегодняшняя премьера привлекла в театр большое число зрителей: выступал один из лучших актеров современности, подававший, как считали многие заядлые театралы и критики, надежды бессмертным векам. Звали его Азраил. Хотя помимо Азраила в пьесе было задействовано много других актеров, к его игре относились с особым вниманием. Напряженное, оно скользило по залу.
— О тайный свет великого прозренья,
Я у тебя отмщения прошу.
О, покарай меня восхода промедленьем,
Чтобы одной минутой дольше я жизнь глотал,
И умер бы теперь,
Теперь, не в то мгновенье счастья,
Когда я смерть молил меня поцеловать!
Как мимолетна жизнь,
Как долговечен миг,
В котором, все не перестав дышать,
Я смерти жду!
Открытое лицо, выразительные глаза, тонкие, словно нарисованные брови, светлые волосы — все это придавало актеру некое сходство с фарфоровой куклой, добавляя неуловимой хрупкости.
— Искусство лгать есть истина немая!
Вся правда ложью обернется на словах.
Неправдой горд отшельник рая,
Но тот, кто правдой нем, не ада ль сын?
«Роль влюбленного дьявола, безусловно, близка мне, но кто приписал ему столько благородства, душевного подвига, столько страданий? Какое неистовое пламя жжет его душу. Ни один человек не способен выдержать подобного. И с чего я взял тогда, что эта роль мне подходит?» — мысленно рассуждал Азраил, произнося монолог.
* * *
— Вы звали нас, милорд? — Нарушил тишину механический голос.
— Вы нашли его? — раскатились в ответ сотни, тысячи голосов, целый хор голосов.
— Да, милорд… — покорно прозвучало в ответ.
— Так принесите же! — зловеще грянуло со всех сторон.
Равномерный стук, похожий на поспешные шаги, мгновенно удалился.
— Огня, огня… — стонало страшное эхо.
Именно от этого гулкого многоголосья, пробившего наконец плотную темноту, возник огонь. Оранжевым столбом взметнулось пламя, осветив душное пространство. Стены колодца были ярко-красного цвета. Бесконечная высота, протяженность вертикальных линий — и обжигающий свет. Распространяясь по четкой спирали, оранжевый огонь, чьи кольца походили на змеиные, поднимался по стенам колодца все выше и выше. Языки его пламени напоминали морды страшных существ. Они то и дело скалили зубы, рычали и лаяли друг на друга, выплевывая искры. Хищная пружина растягивалась, тянулась вверх, пока вдруг не остановилась. В том месте на стыке двух граней возник разлом. Мгновение — и он превратился в небольшой проход. Стены колодца, подобно податливому материалу, легко обогнули новое пространство, даже не обозначив углов. Через него на огненную лестницу въехал необычный экипаж. Он был похож на спешно сколоченный ящик, к которому приделали колеса. В ящике мертвым грузом лежало что-то завернутое в лоскут черной материи. За экипажем двигались две тени. Как только они ступили на огненную лестницу, проход в стене затянулся, и живой огонь продолжил свое восхождение. Послышался знакомый стук. Этот звук неизменно сопровождал полупрозрачные тени. Те перемещались по воздуху, и шагами его назвать было нельзя, так как ног эти тени не имели, да и стуком сердец тоже нельзя было назвать: вряд ли у теней могут быть сердца.
— Милорд, вот то, что вы просили. — Они обступили с двух сторон подвижный ящик.
— Сюда! — раздалось эхо тысячи голосов.
Тени подлетели к тому месту, которое не трогал свет от огня. Это был некий концентрат той темноты, что еще недавно заполняла гранатовый колодец. Она слепилась в форму бутона. Ни одна струйка огненного света не могла проникнуть внутрь цветка, так сильно он сжимал лепестки.
— Мантию! — грянуло изнутри цветка.
Тени начертили на яркой стене большой прямоугольник, сорвали его с гранатовой плоскости и протянули в черную сердцевину. Один взмах — и шелковый звук разорвал лепестки бутона, цветок раскрылся. В его центре бил кровавый гейзер, разбрызгивая алые капли. Несколько оранжевых искр упало на черные лепестки, и по ним начал расползаться змеиный огонь. Прожигая насквозь, он словно перерисовывал их на свой лад, и через мгновение это были уже не лепестки, а крылья летучей мыши. С мягким шелестом они взмыли вверх и вскоре исчезли из вида. Другая пара лепестков начала скручиваться в трубочки, тянуться, извиваться, превращаясь в стебли вьющихся растений. Стебли эти ползли, цепляясь за стены черными усиками, все выше и выше, пока их не поглотил огонь. Оставались еще два лепестка. С зеркальной симметричностью чуть заметно трепетали они у подножья кровавого гейзера, словно тени на воде. Но вот и они, пронизанные светом, наконец разбились, забрав с собой последнее напоминание о глухой темноте. Внезапно падающий поток замер, капли застыли в движении. Вода превратилась в материю, струи — в складки. Кровавые, они ниспадали шелковыми лоскутами. Мантия была сложена так, что казалось, покрывала тело какого-то существа, однако на месте, где должна была быть голова, ничего не было, ворот окаймлял невидимую шею.
* * *
— Верни мне боль мою и скройся!
Мы с ней наедине судьбу разделим!
Величие отринув, демон перед тобою на коленях,
Так узри!
Азраил упал на колени. Минутное молчание. Мысли продолжали путаться. — «Разменивая жизнь на красивые акты, я готов умереть в своей роли, лишь бы нож оказался настоящим орудием смерти…» — театральная пауза оборвалась:
— Ты прости меня, бог, и рази прямо в сердце,
Чтоб не билось оно тленной жизнью в груди.
Под прохладным покровом ночной вселенной
Бей безжалостно, ты победил!
«Вот и все, мои последние слова… Сейчас — аплодисменты». Азраил не любил аплодисментов и света, что зажигали после последнего действия: на их волнах он переплавлялся в обычную жизнь, наигранное таинство разбивалось в мелкие осколки. Азраил считал их слезами на лицах зрителей. Стоят ли эти слезы мучительной игры актера, болезненной инъекции, вживающейся в душу, стоят ли они того, чтобы им искусно созданный мир вдруг исчез, погребенный под грубым шумом благодарных рук?
Ответа Азраил до сих пор не знал. Но вот электрический поток облил его с ног до головы, вырвав из уютного мрака, и тогда он застыл в мыслях, невольно переключившись на всю пятизначную физику человеческих ощущений. Азраил чувствовал, как по затекшим ногам побежала дрожь. Он встал с закрытыми глазами, сделал несколько шагов к краю сцены, наконец, открыл глаза — и увидел все то, о чем думал недавно: аплодирующих людей, на их лицах уже высохли слезы.
— «Наверное, от этого жуткого света», — равнодушно подумал он. Но вот что было непонятным: в этот раз Азраил именно видел аплодисменты, но никак не слышал их. Он вообще ничего не слышал. Глухие толчки где-то на уровне горла шевелили затекший разум колючей болью, которую хотелось проглотить. «Что со мной?» — брезгливо и как бы между прочим подумал Азраил. Ему было жаль отвлекаться от прежних мыслей на эту новую.
Занавес опустился. Картина благодарности опять ожила в звуке и неприятно ударила по вновь включившемуся и оттого болезненно обостренному слуху. В гримерке заиграла знакомая мелодия телефона. Азраил хотел пошевелиться, но ноги не подчинились желанию. Из груди его вырвался сдавленный стон.
— Азраил, что с тобой? — Ему навстречу выбежала девушка в беленом парике и мятом кринолине.
Азраил не ответил.
— Азраил! — вскрикнула она уже откуда-то с поверхности погружавшегося в шумный круговорот сознания. — Азраил! — Еще раз, еще; голос ее становился все тише.
* * *
Стены небольшого дома были выкрашены нелепой серебристой краской. Сходившиеся к крыше под углом, они создавали иллюзию свода. Среди высотных зданий с застекленными глазами и модными вывесками эта постройка выглядела странно. Погода стояла теплая, и окна в доме теперь были распахнуты. Перед ними в квартире нижнего этажа сидела девушка, шепча что-то про себя. Она сжимала в пальцах нераспечатанный конверт и казалась далекой от происходящего. Надвигавшийся дождь распугал всех прохожих. Опустевшие улицы нагнетали душную тишину. Зачастивший в этом месяце со своим внезапным появлением осенний ливень уже начинал шевелиться, роняя беспокойные капли. Девушка закрыла окна, за которыми вот-вот должна была развернуться стихия, и надорвала конверт, вынув из него письмо. Сперва она мысленно пробежала половину листка, открыв глаза на середине. Пара попавшихся наугад слов ее успокоила, и она принялась читать сначала.
Отдававшие холодом серые глаза, прямой нос, аккуратный маленький рот, бледная кожа и светлые, будто бы выцветшие, волосы, делали ее непривлекательной, почти что некрасивой. Говорить же о красоте тут надо было, пересматривая и переписывая все ее веками складывавшиеся законы. Но так как никому говорить о красоте таким образом не приходило в голову, все, кто хотя бы мельком видел Заретту, разочарованно опускали глаза, упрекая природу в непростительном отсутствии энтузиазма.
Заретта прочла письмо до конца. Потупленный взгляд и ледяное спокойствие в сочетании с улыбкой на бледном лице немного пугали. Проходя мимо незаконченной картины, висевшей среди прочих на стене, девушка остановилась, глядя в незаполненное пространство холста: было в нем что-то притягивающее. За окнами с упрямым напором происходило обычное действо осени — город принимал прохладный душ.
* * *
Красная Мантия переливалась тягучей теплотой живой краски. В тяжелых струях, складках этой блестящей материи виднелись прорези для рук, монарших рук, что собрали в один кулак всю свою власть, а в другой — жалость; и было бы не так жутко, если бы руки эти, страшные, ужасные, с когтями, слипшейся от крови шерстью, действительно были — но их не было. Вместо этого из прорезей Мантии с невозможной правдоподобностью выглядывали бутоны нежных роз. На заостренные их лепестки падали оранжевые искры, но розы не воспламенялись, распускаясь в пышные цветки одного цвета с пламенем. Прозрачные тени отпрянули в сторону. Под красной Мантией возник другой мир. Раскрашенный насыщенными цветами, зримый, но едва ли доступный, он был отделен от жаркого пламени прозрачной перегородкой. Необычный ландшафт, с хрустальной зеленой травой и жемчугом вместо песка. Крупный, мелкий, круглый и причудливых форм, он был насыпан в виде небольших горок, что окаймляли янтарное озеро. Зеркальная водная гладь сверкала наподобие отраженного солнца.
Тени замерли, покорно ожидая.
— Где он? Я хочу его видеть! — рвануло, отскочив от высоты колодезных стен.
Тени с черным свертком подлетели ближе. Как пара заводных кукол, двигались они синхронно, и каждый жест одной повторяла другая. Голоса их звучали одинаково. На туманной отрешенности отсутствующих лиц застыла печать угодливости. В груди полупрозрачных плащей, похожих на ожившие вещи, как раз там, где у людей находятся сердца, бились, стучали метрономы. Назад, вперед, назад, вперед перемещались тяжелые стержни. Тени опустили свободные рукава, и сверток рухнул на затуманенный лед.
Глава 2. Премьера
— Моей любви полуденное солнце…
Мне душу распяли,
Как Божьему сыну когда-то жизнь распяли под небом…
Все для тебя,
Без тебя мое сердце пустое…
Я один — никому не известный осколок жизни извечной,
Здесь, на земле в трухлявый тлен обращусь…
— бормотал Азраил, лежа с закрытыми глазами на полу маленькой комнаты, интерьер которой составляли многочисленные стулья и ширмы.
Такого не было в роли, — тревожно проговорила девушка. Локоны ее беленого парика разметались по спине и плечам.
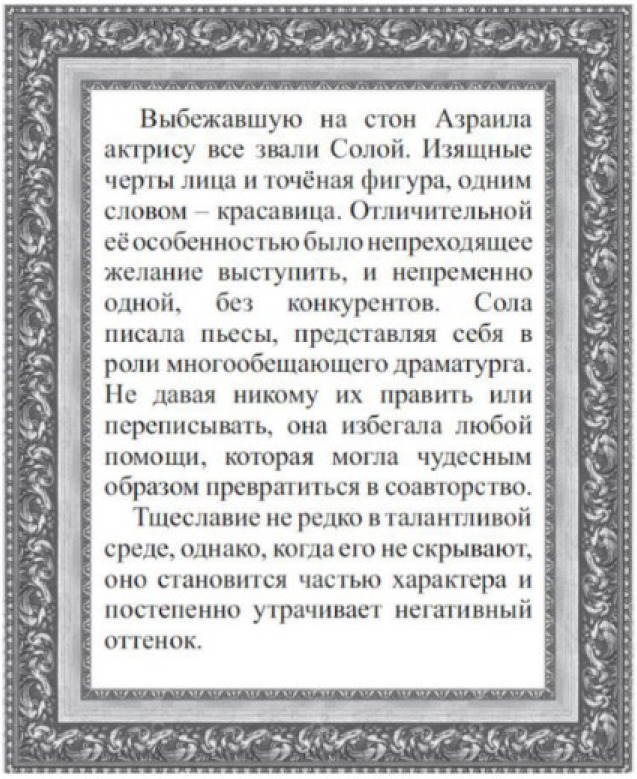
Сола сидела на полу рядом с Азраилом и задумчиво смотрела на его закрытые глаза. Заботливое беспокойство жаром разбрасывалось по ее лицу.
— Азраил бредит, — догадался парень в костюме лучника, незаметно подошедший к ней. Он перестал размешивать сахар в уже успевшем остыть чае и уставился на Азраила.
— Замолчи, Хэпи! И откуда ты только берешься со своими убийственными репликами! — выкрикнула Сола.
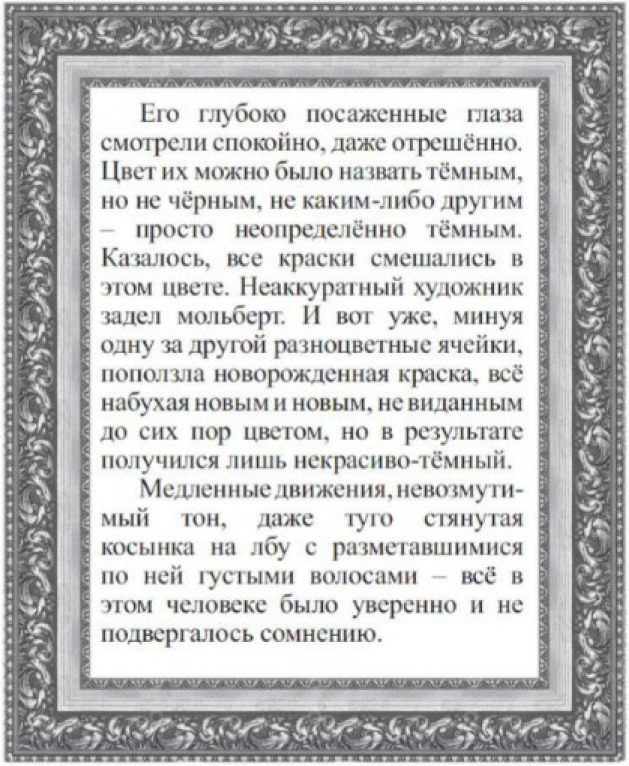
— А что? Роль-то он отыграл, — не меняя тона и выражения лица, заметил тот, опустившись на пол рядом с Солой, — и какую роль… Это были яркие краски, Азраил, — он похлопал неподвижного Азраила по плечу. — Я видел, как текли слезы по растроганным лицам, перемешиваясь с падающим светом, цветные слезы… — Хэпи хотел продолжить, но Сола окатила его таким презрительным взглядом, что он предпочел отдалиться на безопасное расстояние, предварительно отпив пару глотков для демонстрации своего равнодушия к ее эмоциям.
Молодой человек в монашеской рясе и с тяжелым железным крестом в руках появился в дверях:
— Что у вас тут происходит?
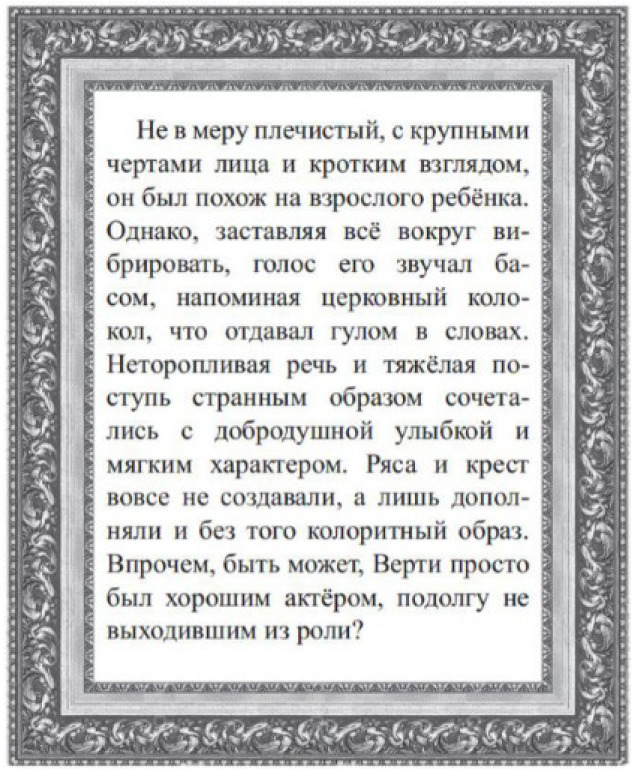
— Оставь ты его, Сола, пойдем: в последнем действии Азраила нет, а вызывать в конце начнут, так его отсутствие и не заметят.
— Это Азри-то не заметят? Что ты, Верти, мы не можем вот так его бросить! — Беспокойство Солы становилось навязчивым.
Верти пожал плечами, повертел в руках крест и куда-то пропал.
— Что вы тут расшумелись? Спектакль-то еще не кончился… — с почтительной расторопностью произнес высокий юноша, заглянув в комнату.
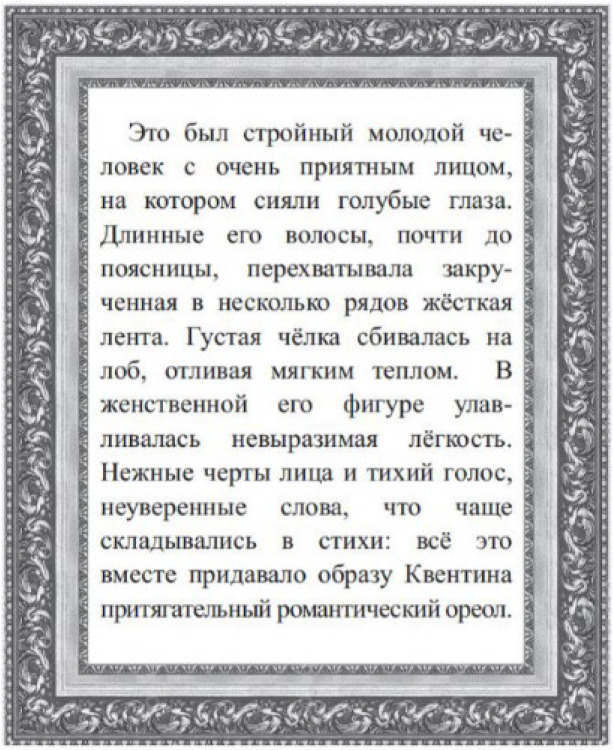
— Квентин, сейчас же антракт, — обратилась к нему Сола.
Квентин поправил сбившуюся на глаза челку и ушел, вдруг о чем-то вспомнив. Сола в очередной раз вздохнула. Азраил лежал неподвижно и ровно дышал. Казалось, он просто уснул. По коридору прогремели широкие шаги. Через минуту некто с ног до головы в белом, на длинных ногах и с удивительно надменной гримасой на лице, промелькнул в дверях, громко бросив в них:
— Чего, господа, ждем? На сцену, живо!
— Вот чего! — взвизгнула Сола. — Нас без Азри точно освистают.
— А-а-а, обморочный, — усмехнулся тот, входя в комнату. — Что это вдруг освистают? Рухнул он уже за сценой. Говорят, играл неплохо… — рассуждал он, расхаживая из угла в угол на своих длинных ходульных ногах, то и дело двигая стулья. Сценическое одеяние тяжелыми складками волочилось следом.
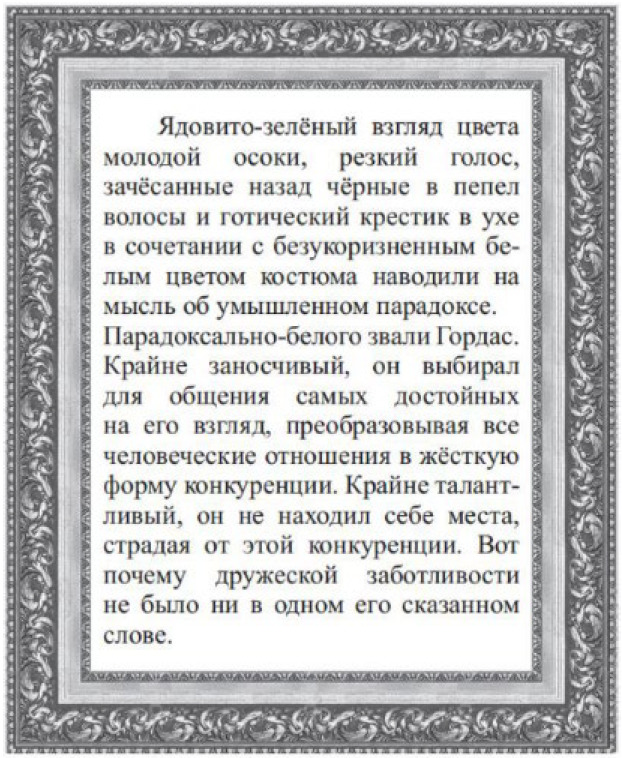
— Ты нимб на божественной голове своей поправь, — не поднимая глаз, ровным голосом ответил ему Хэпи. Сделав глоток остывшего чая, он подошел к Азраилу, нагнулся и потряс того за плечо. — Давай, Азраил, приходи в себя.
Гордас не отвечал, продолжая расхаживать по комнате. Казалось, он вообще ничего не слышал. Готический крестик в ухе раскачивался в такт шагам.
— Ты что делаешь! — вскочив и оттолкнув Хэпи, прошипела Сола. — Не надо его трясти! –Сладкие капли холодного чая пролились на пол.
— Привожу его в чувство, — Хэпи повысил тон, стараясь не выйти из себя. — А вот что ты делаешь, мне не понятно. Если бы я испачкал свой маскарадный костюм, Вальсам меня со свету бы сжил, дабы я не смел более осквернять сцену великих, — проговорил он с торопливой иронией.
— Замолчи. — Сола опять опустилась перед Азраилом на колени и взяла его за руку.
В театре прозвенел звонок к началу действия.
— Кстати, где он? — Хэпи потер переносицу, эта милая привычка всегда случалась с ним в минуты задумчивости. — Неужели Вальсам на премьеру опоздал…
— Да. Я тоже Вальсама не видел, и в зале его нет, — пробасил вновь появившийся в дверях монах в длинной рясе и с крестом на шее. — Может, на помощь кого… — кивнул он на Азраила.
— А ты прав, Верти… — Сола недоговорила.
— Вы чего, все разом спятили? Звонок, слышали? Мой монолог не вечен. Вам придется выйти, — заметил Гордас, расставив все стулья у стен. — Не бойтесь, этот псих очнется. Говорил я ему, актеришке тщеславному, чтоб не переигрывал, не послушал совета. И кстати, Хэпи… — Гордас приподнял замысловатое сооружение на своей голове. — Это — корона. — Он окинул всех презрительным взглядом и вышел из комнаты.
— Убил бы… — вполголоса произнес Хэпи вслед удалявшимся метражным шагам.
— Кого? Гордаса? — Верти разглядывал свой крест. — Не по-божески будет…
— Зато по-человечески, Верти.
Голубоглазый Квентин опять заглянул в комнату:
— Гордаса не видели? — спросил он, торопливо убирая выбившиеся волосы под широкополую шляпу и сильно при этом волнуясь.
— Чего ты потерял, Квентин? — будто бы не расслышав, переспросил его Хэпи с бесстрастным лицом.
— Только что тут был, — ответил за него Верти.
— А, вы чего же? — Квентин растерянно смотрел на неподвижного Азраила. — Последний выход ведь?
— Не суетись. Гордас — на сцене, свой монолог читает, время есть, — успокоил Хэпи.
Азраил открыл глаза.
— Азраил! — Воскликнула Сола.
— Ну вот. — Обернулся на ее возглас Хэпи. –Пришел в себя.
— Мы уж думали… — пробасил Верти.
— Азри, ты как? — обрадовался Квентин, продолжая стоять в дверях.
— Я отыграл? — тихо спросил Азраил.
— Да, — кивнул Хэпи, — последний монолог — за Гордасом. Дальше — на поклоны…
Со стороны сцены раздались аплодисменты.
— Идите же, — голос Азраила был по-прежнему тихим.
— А ты?.. — Сола не выпускала руку Азраила. Она смотрела на него с такой нежностью, словно хотела утопить в ней все, что было вокруг.
— Идите, я сказал, — прохрипел Азраил громче.
На мгновение воцарилось молчание. Хэпи глотнул чая, поднялся и медленно вышел из комнаты, захватив с собой легкий декоративный лук. Сола нервно вздохнула.
— Так значит, мы пойдем? — неуверенно спросил Верти.
— А ты? — улыбнулся Квентин, кое-как спрятав выбившиеся волосы под шляпу.
Азраил не находил в себе сил подняться:
— Без меня, — проговорил он и закрыл глаза.
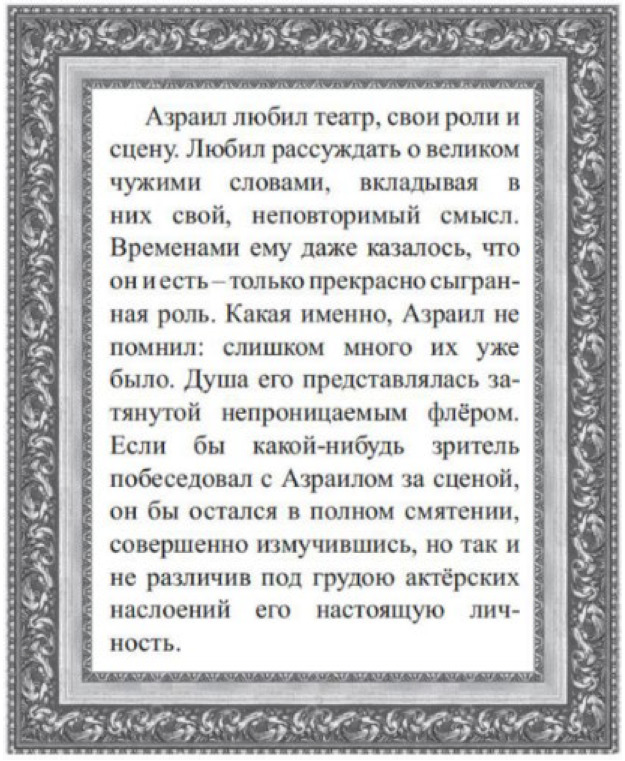
* * *
По мокрым улицам скользящей походкой шел человек. На голове у него была кожаная кепка, длинное осеннее пальто украшал цветной шелковый шарф, а за спиной висел гитарный футляр. Во всем его виде чувствовалась аккуратность, словно это был сбежавший экспонат с выставки резных поделок. Темные волосы красиво выбивались на лоб, угольные глаза то и дело поблескивали из-под козырька лукавым огоньком, дополняя сходство с ярмарочным товаром ремесленника. На нем задерживался взгляд, замирала мысль, его хотелось рассмотреть и запомнить. Он остановился перед величественным зданием, на фасаде которого, окруженные юношами в лавровых венках, жались друг к другу утонченные девы с лирами. Стройная колоннада внушала благоговение к архитектору, настраивая всех, мимо нее проходящих, на мысли о вечном.
Молодой человек поежился:
— Холодно, — обронил он, как бы между прочим, и направился прямиком ко входу. Ему в глаза бросился яркий плакат, на котором красовались сегодняшняя дата и слово «Премьера», а также заманчивые обещания полного погружения в мистическую атмосферу настоящего искусства. Пробежав глазами информационное содержимое афиши, молодой человек вошел в театр.
* * *
Лед не раскололся и даже не дрогнул. Брошенный сверток лежал неподвижно. Черная материя, подобно покрывалу, разбросалась свободными волнами. Из-под отогнутого ее края выглядывала белая до покойной мертвенности рука со сросшимися пальцами. Рядом, одного цвета с ней, валялся неровный, тонкий, похожий на кусочек кожи, треугольный обломок. На минуту опять все замерло: тени застыли на месте, склонив покорные головы. Их плащи шевелило прерывистое дыхание огня. В жарком воздухе тихо постукивали металлические стержни.
— Лестницу! — грянуло со всех сторон.
Тени неслышно подплыли к покрывалу, встали по обе его стороны.
Мантия пролетела над ними, уронив одну из роз перед черной материей. Огненный цветок ударился о лед и разбился, подобно живой плоти, что рвется от сильного удара, растекся теплой кровью. Та стала просачиваться вниз, в глубь ледяной толщи, красной струйкой. Раздался сильный скрежет, словно сотни когтей царапали по стеклу, колодезное эхо усиливало и без того невыносимый гул. Лед был разомкнут как раз по этой цветной линии: теперь на месте упавшей розы зияло отверстие, глубокий покатый ход спускался вниз к янтарному озеру. Стучащие тени подхватили черный сверток и сбросили его в прозрачный тоннель. Тяжелыми рывками, долго, с мертвой осторожностью скатывался тот вниз. На ледяном полу остался лежать обломок телесного цвета.
— Как посмели вы!
Казалось, что тени сжались от этого взрыва голоса: метрономы перестали бить привычный размеренный ритм, звук их превратился в отдаленную барабанную дробь. Красная Мантия подлетела к тусклому осколку, задев его полой. Тотчас бледный обломок, словно живой, начал вскарабкиваться по складкам материи. Достигнув прорези, из которой попрежнему выглядывали оранжевые розы с заостренными лепестками, он забрался в разомкнутый бутон одной из них. Молодой, едва распустившийся цветок с жадным нетерпением сомкнул плотные лепестки. Мрачно проплыв по тоннелю, сверток неуправляемым грузом упал в озеро. Янтарные воды разбились, беспокойными разводами замкнув несколько кругов. Через некоторое время, сменив множество красок, вода стала прозрачной. Покрывало всплыло на поверхность, потеряв свое содержимое. Черной оправой растянулось оно по всему озеру, на дне которого, раскинув руки в стороны, лежал человек. Среди россыпи морского скарба: ракушек, мелких камешков, жемчуга и разноцветных звезд, тело его походило на огромную раковину, со всех сторон облепленную водорослями.
Глава 3. Цветные слезы
Азраил лежал на полу. Глаза его были закрыты, мысли ровны. Как частокол походили они одна на другую: безвкусные, бесцветные, не распознанные, не ощущаемые мысли. Все сильней и сильней вбивались они тупым безразличием в размягченную, еще дрожащую от непонятных одолевавших чувств душу. Все плотней и плотней лепились друг к другу ровные колышки, становилось душно. Слышно было, как стук, сначала такой болезненный, четкий, постепенно стихал, расплавлялся, смешивался с незаметным дыханием. Азраил то ли засыпал, то ли умирал, ему было все равно. И нельзя сказать, что страшно, напротив — даже хорошо. Сладкая дремота витала над тяжелыми веками. На мгновение Азраилу показалось, что на висках у него, по обе стороны сидят черные птицы и делят между собой красную ленту острыми клювами. Ее кончики неприятно щекотали нежную кожу вокруг глаз. Еще мгновение, и лента разорвалась бы надвое: было видно, как несколько порванных нитей в ее кровавом плетении уже расползались в стороны.
В дверь постучали. Азраил открыл глаза: черные птицы с пронзительными криками сорвались с мест и улетели, оставив невыносимую боль у височных впадин. Маленькие невидимые царапины ныли так, как будто были ранами от когтей хищных животных.
На пороге показался молодой человек с гитарным футляром за спиной:
— Любезный друг мой, ты, кажется, перепутал сцену с грешным помостом жизни. Так красиво умирают только там, на сцене!
— А, это ты, Руфус, — все еще не переводя глаз, откликнулся Азраил. — Я тебя ждал.
— «Прости, я опоздал на твою премьеру», — произнес тот, немного смутившись.
— Если бы ты знал, Руфус, как я рад видеть тебя именно сейчас!
Руфус насторожился:
— Да что это с тобой?
Азраил переменился в лице: смятение бросилось в глаза, голос дрогнул.
— У меня — странное предчувствие… — прошептал он в сильном волнении, с улыбкой сумасшедшего озираясь по сторонам.
— Предчувствие? — Руфус снял футляр с плеча, прислонил к стене и внимательно посмотрел на Азраила. — О чем это ты?
Азраил не ответил.
— Да выйди из роли! Уверен, станет легче. Вижу, ты еще не содрал грим и не выплюнул актерские рефрены.
Азраил продолжал лежать на полу и, не отрываясь, смотреть в потолок.
— Твоя поэтическая конвульсия теперь некстати. — Руфус нахмурился.
Азраил одним рывком вскочил на ноги:
— Ладно. Долой мрачный образ. — Он принялся снимать с себя сценический костюм.
Руфус пристально следил за его действиями:
— Кого ты играл на этот раз?
— Дьявола, — безэмоционально ответил Азраил.
— А-а-а, — понимающе кивнул Руфус, словно названный персонаж был его ближайшим приятелем.
На руке Азраила блеснул браслет в виде змеи. Громоздкие кольца бронзовой хваткой сжимали его тонкое, едва не прозрачное запястье.
— Что-то болит? — спросил Руфус, не отрывая глаз от его руки с браслетом.
— Пьеса. Болит и ноет, — Азраил измученно улыбнулся. — Вырвала душу и на ее место поселила сотню других.
— Я так и знал, — спокойно произнес Руфус.
— Наверное, мне уже противопоказано играть? Еще год назад я был счастлив, просто находясь в этих стенах. Что со мной стало, Руфус? — Неуверенный шепот Азраила растворялся в прерывистом дыхании. — Вряд ли ты поймешь меня, мы познакомились, когда я уже был таким…
— Не думай об этом, — перебил его Руфус, — просто играй, и все. Не сравнивай себя прежнего и себя настоящего.
Азраила отрезвили его слова, он откашлялся и с неуверенного шепота перешел на хрип:
— Может, уйти из театра?
— Нет. Вряд ли это верное решение. — По лицу Руфуса пробежало беспокойство. — А ты бы браслет этот снял, вон как впился… — поспешно добавил он и тут же умолк.
В Руфусе, помимо ярмарочной, яркой внешности, была какая-то едва уловимая чертовщинка. Спокойная, взвешенная речь, и в то же время — шутовская словоохотливость. Выдержанная молчаливая наблюдательность сосуществовала в нем наравне с порывистыми эмоциями трагика. Две крайности, в причудливой гармонии сменявшие одна другую. Все на грани несуществующей грани. Азраил смущенно улыбнулся:
— Это подарок, — пробормотал он невнятно, взглянув на потолок, в центре которого шевелились две черные точки. Азраил моргнул, и точки исчезли. — Подарок….
— Послушай, Азраил, я тут пока добирался до тебя… — Руфус озадаченно запустил руки в карманы пальто, — … нашел пропуск. Ты не подскажешь мне, кто этот человек на фотографии? Кажется, вы с ним в одной труппе. Он извлек из глубоких недр искомое и протянул Азраилу пропуск.
* * *
Заретта сидела за столом и что-то быстро писала в большую тетрадь, разбитую календарными датами. За ее спиной на стене висели картины, и одна из них была не закончена. В наступившем вечере сконцентрировалась тишина. В пустынном дворике, куда выходили окна ее квартиры — неприятная сырость. Внезапно о чем-то вспомнив, Заретта поднялась и поспешно вышла из комнаты. На столе осталась лежать раскрытая тетрадь. Скучающий осенний ветер, пробравшийся сквозь приоткрытые окна, перелистал страницы, словно бы ища нужную, и замер, вчитываясь в строки.
Темнота. Теплая, сухая темнота, проникающая во все свободное пространство, всегда готовая стать тобою, если позволишь и освободишь место…
Тишина, пронзительная тишина, леденящая сердце, как сталь, приставленная к живым венам… Душа рвется, пачкая белые страницы сознания полуночным бредом, безумием… Рвется, страстно желая умереть в этом исколотом тяжестью дней крике. Умереть, так и не понятой, в саркофаге своих мыслей, лишиться воспоминаний и обрести наконец свободу… Но нет, сквозь вечную материю снов мне виден едва различимый свет. Темнота с жадной яростью пожирает его, но он трепещет, готовый каждую секунду ожидать моего бездомного взгляда. Этот свет исходит от лестницы, увенчанной пылающими свечами. На каждой ее ступени золотой полировкой стелется оплавленный воск. Куда же она ведет? Ведь там темнота…
* * *
— Каждый судит в меру своей… — с надменностью в голосе рассуждал Гордас, войдя в комнату. Он увидел вместе с Азраилом Руфуса и остановился. — Твоя правда, — перебил проштампованную фразу Хэпи, войдя следом. — Кому как не тебе об этом знать. О, привет, Руфус.
Руфус замер на месте. Не отвечая Хэпи на приветствие, он проговорил чуть слышно, уставившись в ядовито зеленые глаза Гордаса:
— Гордас Корвер?
— Что? — Гордас явно растерялся. –Откуда…
По лицу Руфуса проносились зловещие тени:
— Отвечай. Ты допущен в игру?
Хэпи и Азраил с удивлением смотрели на Руфуса, впервые наблюдая в нем подобные метаморфозы ужаса.
— Пропуск, — сообразил наконец Гордас, — я его сегодня потерял. Вы нашли? Верните. — Его речь была властной и жесткой. — Слышите, если нашли, верните мне мой пропуск. Немедленно!
— Видишь ли, Руфус, — Хэпи решил вмешаться, — Гордас никому не показывает своего пропуска. Имеется предположение, — добавил Хэпи на тон ниже, — что он неудачно вышел на фото.
Руфус, казалось, его вовсе не слышал:
— Да, конечно, — зловещие тени исчезли, уступив место улыбке. Не переставая смотреть в глаза Гордаса, он отдал находку. — И кстати, приятно познакомиться.
— Да ничего приятного, — отрезал Гордас, зажав пропуск в руке. Он демонстративно отвернулся, направив свой ходульный шаг в противоположную сторону.
Руфус вопросительно посмотрел на удалявшуюся фигуру, а потом на Азраила.
— Роль не удалась, — пожал плечами тот.
Хэпи согласно кивнул и отправился следом за Гордасом.
Догнав того уже в коридоре, он заметил с укором:
— Боги так себя не ведут.
— Откуда ты знаешь, как ведут себя боги? — в голосе Гордаса сквозило явное раздражение.
— По крайней мере, эмоциям они подвержены меньше, если подвержены вообще.
— Постоянно вижу этого типа. Он словно поселился внашем театре. Чего он ошивается вокруг Азраила? Поклонник?
— Друг, — лаконично ответил Хэпи.
— А ты, как обычно, больше всех знаешь? — резанул Гордас.
— Просто в отличие от тебя, я умею разговаривать с людьми, — спокойно пояснил Хэпи. — Если ты еще не заметил, мы все — в одной труппе.
— Ну и как зовут этого друга?
— Руфус, — Хэпи сделал серьезное лицо. — Никогда не встречал столь полноценной личности.
— Полноценной? — переспросил Гордас, ища в словах Хэпи оскорбление собственному достоинству. — Ага, а я, по-твоему, не… — внезапно он забыл, на что гневается, и замолчал, сорвав корону с черноволосой головы; готический крестик в ухе угрожающе закачался. — Может, ты тоже считаешь себя идеальным? У тебя нет недостатков?
— Хм… — Хэпи притворно задумался. — У меня есть особенности, недостатков не припомню.
— А, я понял, — усмехнулся Гордас, — завидуешь чужим ролям, герой массовки?
— Только твоей приземленности, да и то — иногда, — со вздохом отвечал Хэпи, перешагивая порог гримерной.
— Вот как?.. — Гордас хотел еще что-то добавить, но не нашелся.
— Что же с тобой творится?.. — аккуратно расстегивая камзол стиля пыльной старины с тяжелыми бронзовыми пуговицами, спросил Хэпи.
— Я не терплю соперников на сцене… — нехотя произнес Гордас.
— Но Азраил тебе не соперник, как не соперник он и мне, и всем нам вместе взятым. Тяжелая пуговица оборвалась. Звонко прыгая, она загремела по паркету и исчезла под столом, на котором в беспорядке лежали коробки театрального грима, лоскуты цветной материи, расчески, гребни, накладные бороды, усы, бакенбарды, парики и прочее.
Огромное, в человеческий рост зеркало, обрамленное витиеватым узором, отразило удивленное лицо Гордаса:
— Неужели ты и впрямь признаешь Азраила всех нас талантливее?
— А ты — нет?
Гордас скривился:
— Странный ты какой-то, то богом глядишь, так, что и не подступишься, то вдруг — его шутом.
— Что ты имеешь в виду? — заинтересованно переспросил Хэпи.
— Вот скажи мне, где твой лук и колчан со стрелами?
— Костюмеру сдал.
— Уже? Как быстро! — Хотя они были одного роста, Гордас все-таки умудрялся смотреть на Хэпи сверху вниз. — Как быстро ты сдаешься костюмеру, выпрыгивая из ролей, не пользуясь ролями! — Крик его все нарастал, отражаясь от стен истеричным гулом.
* * *
Прозрачная вода вдруг разбилась, как бьется зеркало, искажая свое отражение. Окрасившись непроглядным цветом, озеро вернулось к изначальному виду: вновь стало янтарным. По его глади пробежала едва заметная рябь. В воздухе распространился сладкий запах цветов. Огромная волна, поднявшись из самой глубины, рассыпалась на мелкие сверкающие звенья. По воде шел человек. Безликий, словно тень, безразличная, холодная, немая. Он шел по воде, и сам был водой: ни пола, ни памяти, внутри его плескалась душа, и та душа была всеобъемлющей. По волосам его струилась янтарная вода. Прозрачные глаза казались стеклянными. Дойдя до берега, человек остановился. Расплывающиеся черты его стали отчетливыми, приняв привычную форму. Заметив ледяной ход, он приблизился к нему и сделал шаг по наклонной прямой. Нога его, бледная, с глубоким разрезом пальцев даже не содрогнулась от холода. Тотчас из ледяной покатости возникла прозрачная ступень. Он протянул руки, и под ними появилась опора — витые перила тянулись вверх, указывая направление. Человек стал подниматься, медленно, каждый шаг его был похож на предыдущий. Но в этой неспешности чувствовалась некая властная поступь. По ступеням янтарными змеями сползали стекшие с волос густые капли. Последний шаг, перила оборвались, руки на мгновение замерли в невесомости, а затем плавно опустились вниз.
— Подойди! — приказала Мантия, все это время неподвижно наблюдавшая за происходящим.
Человек пошел ей навстречу — с бесчувственным взглядом сквозь густое пламя. Оно не обжигало его бледной кожи, лишь отбрасывало жарким дыханием янтарные волосы на плечи. Подойдя к Мантии, застывшей в невесомости, он остановился.
— Оживить еще не значит дать жизнь, лишь — уподобить ей… — раздался нежный, ласковый голос. — Там, где душа с криком земного рожденья вбирается в вены, бурлящие кровью живою, тебя из сотни сотен других никто б не отметил величием, разве — талантом. Этого чуда среди ныне живущих всегда слишком много. Величия — только крупицы, словно зерно драгоценное, разбросано скудно, всходит едва. Земной век поменялся, впрочем, люди все те же. Те же страсти в сердцах их кипят, те же видят они забытые сны. Тяжело, когда память души закрыта на забвения ключ. Тяжело, когда ангел иль демон без памяти мнит себя человеком… — Мантия замерла перед бессмысленными глазами. — Видишь, как по-разному говорить я умею? Как умею я маски менять? Я тебя обучу сей несложной игре. Голос дам я тебе, драгоценностей россыпь любую, будешь сердца выжигать, словно из дерева резную посуду, красоту дам тебе, на картинах не пишут такого… — Голос умолк, слышно было лишь потрескивание огня. Человек стоял неподвижно с пустыми глазами и ничего не выражающим лицом. Из прорези Мантии вылетела одна из роз и, разжав лепестки, осыпала его с ног до головы огненной пыльцой. Мгновение — и янтарные волосы стали рыжими, ресницы дрогнули, глаза посмотрели. По ледяным ступеням вверх ползло черное покрывало. Пропитанное влагой, оно с тяжелым шумом поднималось все выше и выше. Наконец блестящая материя выползла на прозрачную плоскость. Услужливые тени подхватили покрывало и накинули на немого человека. Тотчас по коже его расплескался нежный оттенок молодости. Волосы волнистым шелком рассыпались по спине, губы порозовели. Красивое сверх меры лицо светилось искусственно выведенным идеалом. Маленькая треугольная родинка под нижней губой, а сейчас это была именно родинка, а не скол, как нарочно задуманный изъян, лишь подчеркивала необычную внешность.
— Ну вот и все, — нежно произнесла красная Мантия. — Теперь… — обратилась она к теням другим, властным голосом, — Ступайте в библиотеку. Разыщите Гилта. Он передаст вам книгу.
Полупрозрачные плащи скрылись в густых огненных зарослях, подчинившись приказу.
— Прекрасный мой козырь. — Мантия еще немного задержалась, словно любуясь красотой ею созданного существа, затем исчезла в возникшем проходе гранатовых стен, что переливались в жарких отблесках пламени.
Рыжеволосый юноша еще долго всматривался бездонными глазами в живой огонь, пытаясь разглядеть в нем источник недавнего голоса, но там уже никого не было.
* * *
В отличие от Гордаса, который появлялся в театре исключительно в деловых костюмах, Хэпи, вне зависимости от времени года, носил яркие, преимущественно однотонные, приталенные рубашки с безупречно подобранными под них цветными косынками, что он повязывал на лоб.
Пока Гордас кричал, так и не стянув с себя белого одеяния, Хэпи, уже переодевшись, поглядывал на него с видом добродушного равнодушия и не перебивал.
— Вот-вот, я и говорю, только косынку свою дурацкую оставил. И как это тебе Вальсам позволяет носить на сцене эту дрянь!
— У нас с ним договор, — невозмутимо ответил Хэпи.
— Договор?! — не унимался Гордас.
— Не нравится мой сценический образ?
Спокойствие Хэпи Гордаса раздражало:
— Ты не горд, ты таланту своему давно определил место: где-то среди второстепенных ролей, а то и вовсе — эпизодических, ты не горд, значит, ты слаб, ты не в силах быть Азраилу соперником. Но ты умен, даже слишком. Итак, решение умного человека — быть ему другом, — с мрачной торжественностью заключил он.
— Да ты что, — искренне удивился Хэпи.
— Почему, объясни, тебе достаются такие незначительные роли? — Гордас скрестил руки на груди. Голос его звучал тише, но также заносчиво.
— А что тебе с того?
— Мне? Я, может, ему и лучшим бы другом был… — Гордас рывками начал стягивать с себя белое одеяние, — если бы сил не хватало быть ему соперником! — Снежная материя с шумом скомкалась у его ног.
— Гордас, — Хэпи с упреком посмотрел на него, — зачем ты так? Я ему друг не из-за того, что я хуже, но равен ему, я достоин быть ему другом, а роли раздает не он…
— Вальсам! –договорил за него Гордас. — Давайте, валите все на режиссера, — проворчал он вполголоса. — Вальсам ставит уже не первый спектакль, что пользуется успехом у зрителей. Это о чем-то да говорит.
Хэпи кивнул:
— Все подчиняется его великому замыслу.
— А-а, — догадался вдруг Гордас. — Ты, я понял, не ищешь соперников только потому, что боишься их найти.
— Версия, — согласился Хэпи, — но опять неверная: я не боюсь. Человеку свойственно сомневаться в себе. Механизм самокритики побуждает нас к совершенствованию. Осуждение общества только подстегивает этот механизм, — уверенно разъяснил он. — Так что, будь королем, Гордас, раз так хочешь им быть. Зачем кого-то убеждать в собственном величии? — Его тяжеловесные слова оказали свое гипнотическое действо: Гордас закусил губу и замолчал.
— А насчет меня… — Хэпи закрыл на мгновение глаза, самовлюбленно улыбнулся. — Я уже сказал, я не сравниваю. Я не выбираю. Мои роли — не главные. Так, может, я сам эпизодичен, сам я не целен и состою из оттенков? Я и не сыграю цвет.
Он вздохнул и вышел из комнаты. Казалось, все возможные мысли, глубокие и мелкие, простые и сложные, были им уже однажды передуманы, потому любой вызов Хэпи мог воспринять не иначе, как ответив на него давно заготовленными фразами.
Гордас зачесал назад черные в пепел густые волосы, что были ему по плечи, заломил их за уши, обнажив лоб и светло-зеленые глаза.
— Значит, цвета тебе не по зубам», — сказал он, неестественно оскалившись.
Гордас не утруждал себя пониманием окружающего. Окружающее не представляло для него особого интереса.
Аккуратно свернув белое одеяние, он посмотрел на него ласково, но затем, поймав себя на какой-то мысли, отдернул руки с брезгливым омерзением и вышел из гримерной в тяжелой задумчивости.
Глава 4. Актерские рефрены
Из камерного зала, служившего в прямом назначении чем-то вроде репетиционной, а во всех других — местом тайных сходок, доносились голоса.
— Мы все здесь талантливы, но по-разному, понимаешь? — Хэпи с любопытством заглянул в кроткие глаза Верти.
— Да. Но в чем измеряется эта разница? — произнес он с растерянной улыбкой.
— Хм… — Серьезность Хэпи пропала.
— Ага-а-а, — протянул Верти, перебирая в пальцах тяжелый крест, с которым не захотел расстаться, отдавая костюмеру рясу. — Однако разве тебе его не жалко? Гордас всегда болезненно переживает свои неудачи.
— Неудачи? — повторил Хэпи с налетом скепсиса. — Все его неудачи оттого лишь, что он не хочет признавать таланта в других.
В зал вошел Руфус:
— Вот как! — громко произнес он. — Ты удивительно проницателен, Хэпи. Ты обо всем можешь дать верное суждение. — Молча пробравшись через ряды кресел, Руфус подошел к сцене и, вглядываясь в лицо Хэпи угольными глазами, тихо добавил: — Интересно…
Что именно было интересно Руфусу, Хэпи не понял, однако решил выяснить. Поднявшись на скамью, стоящую посреди сцены, он замер, опустил глаза и ровным голосом произнес:
— О, я не достоин вашей похвалы премудрой. — Сорвав со лба цветную косынку, Хэпи закрыл лицо руками. Темные волосы разметались в беспорядке.
Руфус покачал головой и хотел было что-то сказать, но Хэпи жестом остановил его, продолжая свою игру:
— Полно, полно. Зачем вы дразните меня признаньем? — Разочарованные ноты потонули в мрачной торжественности.
Верти понимающе закивал.
— Весело у вас тут, — смущенно улыбнулся Руфус. — Стоит просто появиться вблизи сцены, и вокруг тебя само собой начинает разворачиваться театральное действие. А я только хотел сказать, что ты угадал с Гордасом.
Сколько Хэпи ни приглядывался к Руфусу, эта фигура оставалась для него в тени неразрешимых загадок. В качестве лучшего друга Азраила тот появился в жизни их труппы полгода назад. Он часто присутствовал на репетициях и самих спектаклях, отпуская добросовестные замечания и остроумные комментарии в адрес молодых актеров. Хэпи не раз удивляло, с какой легкостью Руфус проникал в театр, словно бы у него имелись билеты на все спектакли, репетиции и даже трудовые будни на много лет вперед. Квентин, Верти и Сола в отличие от Хэпи, ни о чем не задумывались, воспринимая Руфуса, как должное, вроде каприза Азраила, который мог бы позволить себе хоть сотню таких друзей, передвигающихся по его великим стопам. Гордас с первых дней появления Руфуса решил играть в увлекательную игру «Кто это такой?», упрямо не запоминая ответов на сотни раз поставленный вопрос. Хэпи часто ему в том подыгрывал. В зал влетела Сола, взволнованная, с растрепанными волосами:
— Что тут у вас происходит? — спросила она на лету. — А, понятно, — заметив Хэпи, стоящего на скамье, произнесла она с издевкой.
— Привет, Сола, — кивнул Руфус.
— Привет, — не замедляя стремительного шага, бросила она в его сторону.
— Что за оказия, Сола? — непринужденно поинтересовался Хэпи, продолжая стоять на скамье.
— Вальсам идет, — ответила Сола угрожающе. — Верти, на сцену, живо!
В следующее мгновение все трое уже стояли на сцене, подобно шахматным фигурам в порядке затруднительной партии. Один Руфус остался в зрителях. Он сел в первый ряд и, подпирая голову руками, принялся наблюдать. Но не успели фигуры начать ходы, как в зал вошел статный мужчина средних лет. Его лицо выражало настороженную сосредоточенность, словно бы он каждую секунду ожидал нападения из-за угла, удара в спину или подножку. Черные блестящие волосы были гладко зачесаны. Глядя на сцену, он остановился и строго произнес:
— Что репетируем?
Все переглянулись. Верти выронил крест. Хэпи, словно нехотя выйдя из образа, ответил небрежно с улыбкой мастера:
— Отрабатываем немые сцены.
— Вот ты где! — В зал неожиданно ворвался Гордас и, никого не замечая, стремительно направился к сцене.
Руфус продолжал сидеть в кресле первого ряда, ничем не выдавая себя. В полушаге от него стоял Вальсам, тоже никак не замечая чужого присутствия.
— Гордас! — шепнула Сола, кивнув в сторону Вальсама.
Но Гордас не слышал.
— Где твоя косынка, Хэпи? — начал он с резким раздражением. — Я всегда думал, что ты под ней прячешь золотой рог или метку богов, или клеймо адского пламени… что ж ты так оплошал, нельзя героям обнажать свои лбы, свои тайны. — Гордас подошел к сцене, подобрал сорванную Хэпи косынку и подал ему. — Иначе все поймут… — он снизил голос до предупредительного шепота, — …что-тайны-то и нет вовсе.
— Гордас! — еще раз попыталась Сола.
— Я смотрю, ты тоже без короны, — холодно ответил
Хэпи, принимая из его рук косынку. Вальсам мрачно зааплодировал:
— Продолжайте, Гордас. Почему вы не отвечаете?
— Позвольте… — хотел было Хэпи, но Вальсам, даже не повернувшись в его сторону, не дал ему продолжить, перебив нежно: — Где Азраил?
— На бис желают кликать королей, — заключил Хэпи, спрыгивая со скамьи и на ходу затягивая косынку на лбу.
— «Я видеть его хочу», — произнес Вальсам нетерпеливо, продолжая игнорировать реплики Хэпи.
— Видите ли, — ожила Сола.
Хэпи незаметно вышел из зала.
* * *
По гранатовым стенам расползалось живое пламя. Хищные морды вырисовывались из оранжевого огня, оскаливали зубы, когтистые лапы впивались друг в друга. Тела причудливых существ сплетались в жаркой бойне. Разбрызгивая огненные капли, пламя ревело. Рыжеволосый человек сидел посреди хищного огня, опустив голову на руки. Едва наброшенная на плечи черная материя подчеркивала неестественную бледность кожи. Глаза, по-прежнему пустые, ничего не выражали. В них не было уродства, напротив, они очень подходили этому мистически страстному лицу. Мраморные руки с выпиленными длинными пальцами были крепко сцеплены на груди. Жизнь давалась ему с трудом. Мелкая дрожь сводила тело, и неземной звук, покорявший рабскому служению слух, был лишь стоном, с которым вырывалась на волю тяжесть шевелящегося дыхания. Равнодушно взирая на разворачивающуюся драму и заглушая треском драгоценный голос, оранжевый огонь поднимался по стенам колодца, подобно винтовой лестнице. По ней двигались две тени. Перемещаясь медленно и бесшумно, казалось, они что-то искали. Хищные морды, высовываясь из пламени, скалили блестящие зубы, шипели, задирая когтистые лапы, но так и не осмеливались дотронуться. Тени остановились напротив небольшой трещины, внезапно возникшей в гранатовой плоскости. Быстро увеличиваясь, та создавала проход. Можно было заметить красные подтеки, застывающие кровавой смолой, словно бы это была не стена, а живое существо, которое разрывало свою плоть. Тени нагнулись и проскользнули внутрь. Тотчас стена затянулась. Рыжеволосый человек хотел их окликнуть, позвать к себе, но не знал, как: дарованный драгоценный голос ему пока не подчинялся. Он встал на ноги, сделал несколько шагов — очередная судорога жгучей болью свела тело.
* * *
Идя по коридору, Хэпи вдруг остановился и, вонзив указательный палец в стену, закрыл глаза. В голове возмущенной толпой проносились звенящие мысли. Он часто замечал, что удача — не на его стороне, но в последнее время ему приходилось особенно трудно. И хотя у Хэпи имелось собственное мнение относительно таланта, слова Гордаса пробудили умело забытые чувства. Недовольство ролями, что он играл в этом театре, с прежней силой поднялось из глубин души. Хэпи был упрям: однажды решив не выпрашивать ролей, а заслужить их, получить по праву, он следовал этому, не отступая ни на шаг. Хэпи измерял талант исключительно на своих придуманных весах, где сила тяжести начинала действовать лишь при добавлении удачи, стечений обстоятельств, совпадений. Все это вместе весовой примесью растворялось в чистом таланте, и только тогда он тяжелел и перевешивал. Но разве будет честным весовой поединок, когда в одном случае талант чистый, а в другом он с примесью? Хэпи знал ответ, и оттого казался спокойным за свою судьбу, да и за все происходящее вокруг.
Указательный палец старательно выписывал мысли на грубой стене.
Хэпи холодно усмехнулся, произнеся вслух:
— Бог? Или все-таки его шут? … А вообще может ли быть шут у бога?
Иногда Гордас бывает прозорлив.
«Божий шут». С особой аккуратностью Хэпи вывел эту подпись под всем им написанным на стене.
— Хэпи, тебе не кажется, что палец прежде должно было обагрить кровью? — приятный голос оборвал мысли Хэпи:
— Квентин, поэтам пристало красться разве что за музами. Ты с кемто меня перепутал… — в словах его был легкий сарказм.
Перед Хэпи стоял голубоглазый юноша с волосами темного теплого цвета, которые доходили ему до поясницы. Они были хитро перетянуты в несколько рядов жесткой лентой. Издалека тонкий, стройный Квентин походил на девушку. Правда, и вблизи, в чертах его лица, голубых глазах и голосе улавливалась такая миловидность, что многих это сбивало с толку.
— Хэпи, ты вправе ругать меня: я стаю раздумий твою распугал… — Квентин сладко улыбнулся. — О чем это ты тут так красноречиво размышлял? — спросил он, глядя на пустую стену, перед которой стоял Хэпи.
— Да так… — рука Хэпи медленно соскользнула вниз по стене.
Квентин откашлялся:
— Гордаса не видел? Я что-то никого найти не могу, все куда-то разбежались. А где Сола, ты не знаешь? — как-то неуверенно спросил он.
— Ага… — многозначительно произнес Хэпи.
Квентин смущенно отвернулся:
— Что?
— Сола… где же я ее видел? … — Хэпи дотронулся рукой до лба. По коридору зазвенели легкие шаги, навстречу им с победной улыбкой и с ворохом листов в руках шла Сола.
— Сола, — притворно удивился Хэпи, — а мы о тебе и думать забыли.
— Я теперь величина, — прошептала она загадочно. — О чем это ты, Сола? — ласково спросил Квентин.
— Вальсам заинтересовался моей пьесой, хочет ее поставить.
— Ну-у-у… — Хэпи развел руками.
— Не знаю, что и думать, — привычное добродушие проступило на лице Солы.
— А, что тут думать? — с наигранным недоумением смотрел на нее Хэпи. — Можно ли отказаться, когда сама судьба тебя ангажирует?
— Это Вальсам-то — судьба? — смутился Квентин. — Да, с ним рукой подать до пьедестала… — пробормотал он в сильном волнении.
На лице Хэпи появилась скептическая гримаса:
— «Вот только избавьте меня от этих приступов ревности», — произнес он со вздохом и медленно пошел прочь по коридору.
— А он ведь прав… — Квентин затуманенно смотрел перед собой. — Сама судьба ангажирует…
— Что? — обиделась Сола и, резко отвернувшись, быстро пошла в противоположную от Квентина сторону.
— Он лишь курьер твоего таланта, и только! — страстно закричал Квентин ей вслед. — Помни об этом!
* * *
Азраил вышел из театра.
— Азраил, — окликнул его Руфус, — сбегаешь? — За его плечами привычно висел гитарный футляр.
— Ты всегда так внезапно появляешься… — Азраил выглядел уставшим.
Руфус подстроился под его шаг:
— Я тороплюсь. Хотел лишь спросить, как ты себя чувствуешь? — Он пристально посмотрел на Азраила.
Я еще не прожил и трети жизни. Беспокоиться о моем здоровье по меньшей мере странно. Не находишь? — Азраилу не хватало сил на улыбку.
— Просто ответь, — попросил Руфус.
— Так же, как и вчера, — пожал плечами Азраил.
— Тебя трудно понять. — Руфус о чем-то напряженно думал. Азраил вздохнул:
— Наверное, на премьере я действительно вел себя странно. Прости, если напугал. Умирать пока не собираюсь. Время неподходящее.
— Что? Время? — рассеянно переспросил Руфус.
— Может быть, когда-нибудь мне повезет, и я умру на сцене. Умру в прекрасном кадре жизни.
— Роли, не жизни, — поправил Руфус, — есть разница. А что, в твоем прошлом нет таких сцен, в которых хочется остаться навсегда?
Азраил задумался, что-то припоминая:
— Есть, но это другое.
— Может, ты, Азраил, просто так думаешь, а подвернется та красивая, идеальная сцена, тебе и умирать не захочется? — Руфус был чрезвычайно серьезен.
Азраила это развеселило:
— Если я буду в ней задействован, захочется.
— То есть жить ради игры в единственной сцене?
— В сцене, что останется вечной, — кивнул Азраил.
Глава 5. «На бис желают кликать королей»
Когда за окнами ветхого здания догорал сытый красками день, и прохладный воздух тянулся к туману, а туман — к уставшему вечеру, в театре наконец стало тихо. Последний зритель взял последнее пальто из гардероба, и последний посторонний шаг на сегодня перешагнул порог. В театре остались только свои — актеры.
— Азраил? — позвал Хэпи, войдя в небольшую продолговатую комнату. Вдоль и поперек она была заставлена опорами, на которых висели вешалки с театральными костюмами.
Азраил сидел на самом верху приставной лестницы и не шевелился.
— Гроза пронеслась уж как три часа тому… — аккуратно вышучивая мысль, начал было Квентин.
— Сейчас идет в малом зале, — перебив его аккуратность, уточнил Хэпи.
— Ты нас оставил, бросил, нас забыл, — с обидой продолжал наступать Квентин, на ничего не отвечавшего Азраила.
— Но нам не отмолиться за тебя: на бис желают кликать королей, — вошел в роль и Хэпи.
— Не отмолиться? — задумался Квентин. — Смотри, это слеза, что по щеке его струится? — вдруг испугавшись своей рифмы, оборвал он на полуслове. — Ты что же, Азраил, ты же… — Квентин не мог договорить.
Хэпи изменился в лице:
— Кто-то умер? — Даже в такие моменты сарказм не отпускал его.
— Я актер, но прежде — человек. Иногда актер не в силах переиграть в себе человека, — холодно ответил Азраил. Его глаза блестели от слез. На лице проступала бледность, добавляя тонким чертам керамической хрупкости. — Увы, все живы, — улыбнулся он грустно.
— Что произошло, Азраил? — растеряв вдруг все оттенки поэзии, спросил Квентин. — Вальсам уже несколько дней как занят Солой, ее пьесой, но о тебе он думать не забыл, и ежечасно суетится: «где ты»? Ты долго будешь здесь еще скорбеть? Да и о чем тебе скорбеть? Хэпи пожал плечами, с упреком заметив Квентину:
— Ты что ж, поэт, ослеп? Перед тобой — влюбленный.
— Земного зренья мало для поэтов, — со вздохом оправдался тот.
— Полно упражняться в остроумии, — перебил Азраил.
Хэпи согласно кивнул:
— Что ж, мне спорить нет нужды. — Он вышел из комнаты.
— Не слушай его… — выдохнул Квентин. — Хэпи всех последнее время влюбленными величает. Не знаю, что с тобой, но слоняться призраком по театру… ты даже на репетицию не пришел…
— Уже репетиция? — Фарфоровые брови изогнулись в удивлении.
— Не совсем… — замялся Квентин, — мы только роли подбираем, ты же знаешь, это долго.
— Я должен уехать, — вдруг сказал Азраил.
— Что? — Квентин от неожиданности задохнулся в вопросе, потеряв на выдохе голос.
— Успокойся.
— Вальсам ведь нас за тобой прислал!
— Не стоило, — в тоне Азраила была усталость, — возвращайся и скажи, что мне срочно пришлось уехать…
— Как я объясню твой побег? — растерялся Квентин.
— Попробуй на словах, на пальцах. Да как хочешь, — проговорил Азраил, спускаясь с лестницы.
Но Квентин не сдавался:
— Я беспомощен пред обманом этим, –жалостно простонал он. –Я не смогу…
— Беспомощен? — оборвал Азраил, спрыгнув с лестницы. — Откуда только ноты такие берутся… Зачем ты беспомощен? — Приблизившись к Квентину, вкрадчиво спросил он.
Квентин, казалось, ничуть не внял его высокой риторике: — Сбежишь, что делать мне?
— Придумай, что ли.
— То не рифма, — хмыкнул Квентин.
— Придумай в рифме, будет веселей. И вот еще что, это твое? — Азраил протянул Квентину алую ленту.
— Да, — неуверенно взял ее Квентин, — где ты… Я так долго никак не мог найти…
— Ага, — прошептал Азраил и направился к двери.
— Азраил, не уходи вот так, объясни, в чем дело.
— Дело? Сам не знаю. Хочу выяснить. Ты случайно Руфуса не видел?
— Сегодня нет, — быстро ответил Квентин. — Но Азраил, постой…
— Прощай, — произнес Азраил и вышел из комнаты.
* * *
Полупрозрачные тени окутывал мягкий туман. То он становился непроглядным, то вдруг рассыпался на пушистые хлопья. Откуда-то доносилась мелодия — только одна фраза на языке неземных нот. Печальные звуки ходили по кругу, не находя выхода из кольца грусти. Тени спустились ниже, брезгливо разводя свободными рукавами. Здесь причудливый туман был плотнее, на него даже можно было опереться. Над ними высились мощные серебряные колонны, плавный наклон которых создавал иллюзию свода. Огромные ярусы в виде полукружий уходили вверх, теряясь в высоте.
Эти ярусы целиком были заполнены книгами. Отражаясь от величественных колонн, туманный свет рассеивался. Мелодия оборвалась. Тени замерли, озираясь по сторонам.
Из глубины пространства к ним навстречу вышел человек. Длинные белесые волосы падали на мощные плечи и грудь, покрытую легкими пластинами. Лицо, привлекательное своей строгостью, не выражало никаких эмоций: сжатые губы и глаза с прямым, проникающим в мысли взглядом. Лоб его венчала тонкая полоска, похожая на расплавленный металл. Она переливалась, оставляя на всем радужный след.
— Гилт, — прошумели тени, — до тебя трудно добраться.
— Так задумано. В этот раз я не участвую. Однако лишних фигур игра не допускает. Библиотека — единственное место, где я могу чувствовать себя в безопасности, — произнес Гилт с непроницаемым лицом.
— Ты кого-то боишься? Зачем создавать столько препятствий на пути сюда?
Тени дрожали от гнева.
Гилт не удостоил их ответом, задав свой вопрос:
— Что вам нужно?
— Это наше дело.
— Но вам не пробыть здесь и нескольких минут без меня, — спокойно возразил Гилт, сделав шаг им навстречу. — Так повторю вопрос: что вам нужно?
— Нам нужна книга.
— Какая? Хроник прошедших игр — великое множество. Так какая книга вам нужна?
Тени переглянулись, видно было, что этот вопрос поверг их в смятение:
— Милорд не говорил… — Начали они глухо.
— Значит, вам подойдет любая?
— Да, — кивнули тени. — Любая хроника игры.
— Если вы думаете, что милорд посвящает только вас в свои планы, вы заблуждаетесь, — сдержанно продолжал Гилт. — Зачем ему книга?
Тени молчали.
— Вам это неизвестно, — Гилт усмехнулся.
— Не делай вид, что это известно тебе, — холодно отчеканили тени.
— Отчего же? Книга станет ловушкой для носителя. Хитрый ход. Каждая хроника — это живые воспоминания наблюдателей. Если их прочтет носитель, он угодит в ловушку.
— Откуда ты знаешь? — механический голос стал растерянным.
— Это — не тайна. Так поступила сама игра, защитив моего брата.
— И ты говоришь об этом без тени сожаления, предатель?
— Все верно, — Гилт медленно моргнул, — и без меня милорду вряд ли бы удалось осуществить свой план с книгой, ведь вход сюда вам запрещен.
— Отдавай книгу, Гилт, и не жди благодарности.
— О, конечно. Кстати, вам известно, что подобный фокус с хроникой игры можно проделать лишь один раз?
— Нам все известно!
— Все? Тогда… — Гилт щелкнул пальцами. Где-то высоко над ними из стройного ряда книг выдвинулась одна.
* * *
— Дата жизни, дата смерти —
Все пустое, все ничтожно.
В средиземной круговерти —
Разных душ сердцебиенье…
Жесткий саван, грубый саван
Цвета кожи кожей тлеет.
Я прижизненно усталый,
Мертвый я и онемелый…
Квентин торопливо шел по коридору, опустив глаза.
Испуганные слова находили свою рифму. Одинаковые шаги задавали им бешеный ритм. Еще движение, и он в кого-то врезался. Мысли рассыпались, что-то загремело об пол. Квентин глухо застонал от боли. Машинально пробормотал:
— Извините… — Посмотрев на паркет, он заметил большой металлический крест. — Верти! — не поднимая глаз, закричал Квентин. — Все никак не выйдешь из образа?
Перед ним стоял Верти:
— А разве рифма может идти подряд? — заискивающе спросил он. — Ты, даже когда зол, не забываешь слова в рифмы одевать, — голос Верти возвысился, и теперь от него действительно тянуло монашеским басом.
— Верти, у нас — новая пьеса.
— Новая, как же, — Верти улыбнулся, — трагедия в комических лицах.
— Перестань! Чем тебе пьеса Солы не по вкусу?
— Да остынь ты. Пьеса как пьеса, — миролюбиво рассудил Верти.
— Что это значит?
— Что? Она прекрасна. То и значит. — Верти опять улыбнулся, — Сола твоя прекрасна.
— Мне надо идти. — Квентин заспешил вперед.
— Постой, — остановил его Верти, подбирая с пола упавший крест. — Где Азраил? Я видел его сегодня в театре. Он придет?
— «Вот что, широкоплечий друг мой, не добавляй мне в слезы соли», — произнес Квентин с драматическим пафосом.
Верти покачал головой:
— Беги, беги, да от Вальсама вряд ли убежишь. Он, кстати, — в главном зале, ожидает тебя.
В ответ Квентин раздраженно хмыкнул, направив упрямые шаги в сторону главного зала.
— Слушай! — прокричал Верти ему вслед, — а лучше так:
Я ведь умственно отсталый,
Мертвый я при жизни нервной.
Но Квентин к счастью этого не мог расслышать, уже перелетев два лестничных проема и коридор. Его длинный, перетянутый в несколько рядов лентой хвост с мягким шелестом летел за ним.
Из величественно распахнутых дверей главного зала доносились голоса. Квентин шагнул на бархатную дорожку. На сцене под приглушенным светом стояли Сола и Вальсам. В руках последнего была кипа исписанных бумаг, один из листов лежал на полу. Квентин для большей убедительности приложил аж два указательных пальца к губам, дабы сохранить свое появление в тайне и осторожно пошел по пустым рядам, обходя оживленные кучки собравшихся. И пока Сола продолжала декламировать пьесу в стихах, ему удалось подобраться к сцене незамеченным. Квентин сложил теперь два указательных пальца крест на крест и как будто бы ждал ответа на свой нелепый жест. Однако Сола сразу поняла, в чем дело:
— Хэпи там, — прошептала она, махнув в сторону занавеса. Квентин воздушным шагом, который позволял ему незначительный вес, проскользнул за сцену. На полу сидел Хэпи.
— Хэпи! — позвал Квентин.
Тот поднял на него встревоженные глаза:
— Я тут хронометрирую пьесу Солы, — решил пояснить он, — пока — пара часов без антракта.
— Вот что, — Квентин выдохнул и, собравшись с тревожными мыслями, произнес неуверенно, — пропали мы, друг.
— Как здорово, что ты заметил, — улыбнулся Хэпи. — Где, кстати, Азраил? Даже с тобой не пошел?
Квентин сел на пол рядом с Хэпи, заглянул ему в лицо и тихо, боясь испугать самого себя, произнес:
— Азраил уехал.
* * *
Огромная книга опускалась с высоты. Еще в полете углы ее начали расходиться, высвобождая трепещущие страницы.
— Возьмите эту. — Книга опустилась прямо в руки Гилта. — Любопытный сюжет, — произнес он, по-прежнему не выражая эмоций.
— Откуда ты так много знаешь о планах милорда? — Заволновались тени.
— Я был поставлен им в известность задолго до вас. Иначе как бы вы вошли сюда?
— Лжешь. Ты мог подслушивать, ты всегда где-то поблизости, — грубо бросили тени. По их полупрозрачным плащам начал расползаться серебряный свет. — Ты за нами следишь!
— Слежу? Возможно. — Гилта будто бы это все забавляло, ледяная улыбка блуждала по его лицу, отдавая жестокостью. Словно каменная статуя, стоял он, спокойный, недвижимый, стоял и наблюдал.
— Ты не прост. Нет тебе доверия. — Плащи теней уже до половины были разъедены серебряным светом.
— Точно. — Гилт прищурил глаза и моргнул, замедляя это движение до черты той самоуверенности, за которой — только безграничная власть. — Однако я не ставлю себя на одну плоскость с вами. Может, я и поменял сторону, но по-прежнему остаюсь созданием совершенно другого мира.
— Предатель! Предал однажды, можешь предать и снова!
Гилт холодно усмехнулся:
— Сколько побед вы одержали благодаря мне? Думаю, милорд ценит это.
Тени пристыженно замолчали.
— Вам следовало бы поторопиться. Библиотека серебряного мира — еще не ваша территория. Если не поторопитесь, скоро от вас ничего не останется. — Гилт протянул им книгу и отступил в глубь пространства, затерявшись среди колонн.
Глава 6. Немые четки
— Да он с ума сошел! — Сола мерила нервными шагами расстояние между Квентином и Хэпи.
— Поподробнее, — попросил Хэпи.
— Тогда, после премьеры, помните… — Сола села рядом с ними на пол, — …ему плохо стало…
— Ну да, такое бывает.
— Не перебивай, Хэпи. У него телефон звонил так долго, еще во время действия. — Сола сильно волновалась. Речь ее была сбивчива, голос дрожал.
— Что дальше? — пытливо попросил Квентин.
— Когда он упал, ну, помните…
— Помним, — в один голос произнесли оба.
— Уже после спектакля я отыскала телефон в гримерной. Тот продолжал звонить. Я ответила на звонок.
— И? — опять в один голос протянули Хэпи и Квентин.
— То была девушка. Сказала, что сестра его…
— Сестра? Что? У Азраила есть сестра? — удивился Квентин.
— Первый раз слышу, — холодно добавил Хэпи,
— Так вот, я сказала Азраилу, что звонит его сестра. — Сола развела руками. — О, если бы вы могли видеть в тот момент его глаза… — прошептала она.
— Что ты ей богу, не сцена, — скривился Хэпи.
Квентин смущенно улыбнулся, бросив на него робкий взгляд осуждения.
— Что ты имеешь ввиду, Сола?
— …С какой болью, злобой и ненавистью Азраил смотрел на меня…
Он произнес: «Ее зовут Заретта». И, как умалишенный, выбежал из комнаты. Квентин хотел было что-то сказать, но Хэпи его опередил.
— Вот только не надо опять говорить о его чувствительной душе актера.
— Да я и не думал… — тот пожал плечами.
Послышались шаги, и в пролет теневой стороны сцены вошел
Вальсам, перебирая в руках четки из черного камня. Он всегда носил их с собой. Особенностью этих четок была немота. Блестящие камешки не издавали никакого стука и оттого навевали на окружающих мистический ужас.
— Что? — спросил он как всегда нежно и страшно, обводя глазами троих, сидящих на полу, — Почему вы здесь? Перерыв давно подошел к концу.
Квентин кашлянул.
— Стихами поперхнулся? — Поинтересовался Хэпи.
— Репетиции никто не отменял. — Вальсам смотрел испытующе. — Так почему?
— Подождите, у человека рифма в горле застряла, он свое выдаст, — продолжал Хэпи.
Вальсам бросил недовольный взгляд в его сторону:
— Одни цветные слова и бледные роли.
Хэпи передернуло, колючие мурашки поползли по спине. Он пересилил неприятное чувство, как всегда, приступом голоса:
— По всей видимости, других ролей я не достоин. Все в вашей власти. Я без минуты король, — руки его похолодели, он смотрел прямо в глаза Вальсама и не мог ничего в них разобрать.
* * *
На лестнице привычно горели свечи. Золотой воск струился по ступеням, отражая в зеркальной глади трепет пламени. Слышалось тихое поскрипывание дерева, словно от чьих-то невидимых шагов, но никого не было. Мирное дыхание тишины изредка перемежалось звоном капель. Темнота сгущалась вокруг лестницы, не в силах ее поглотить. Заретта проснулась. Испуганное дыхание отдавало в голове тяжелым стуком. Пытаясь хоть что-нибудь вспомнить из недавнего сна, она опять закрыла глаза, но образы ускользали слишком быстро. Заретте часто снились подобные сны. Подменяя ее настоящие воспоминания — вымышленными, подходящими по контексту тем или иным сюжетам, эти сны были настолько реальными, что, случалось, за одну только ночь Заретта проживала сотни жизней. События в них перепутывались, линии главных героев не запоминались. Однако каждый раз, закрывая глаза, девушка ждала этих снов, чувствуя себя на месте зрителя или читателя, перед которым открывается замысловатый сюжет. Выбитая таким образом из русла привычной реальности, Заретта нередко ловила себя на мысли, что ее настоящая жизнь намного скуднее красками той, что во снах. К тому же Заретта была одинока, пусть этого она и старалась не замечать. Однажды поверив, что рядом с ней когда-нибудь непременно появится нужный человек, она смягчала свое одиночество уверенным ожиданием. И то рассыпалось, теряя угрожающий вид.
— Письмо, — вспомнила Заретта. Она схватила со стола чашку холодного кофе, прижалась к ней горячими губами и сделала глоток. Горькая влага прояснила сознание. В дверь позвонили. В задумчивости Заретта прошла в прихожую и открыла. Перед ней стоял Азраил.
* * *
О прошлом Вальсама говорили шепотом. Никто ничего толком не знал, но весь театр относился к режиссеру с таким уважением, что нельзя было даже и помыслить его прежние годы в неблаговидном свете, а в каком-либо другом — не хватало воображения.
— Если ты король, то кто я тогда? Бог? — Вальсам пристально смотрел в глаза Хэпи.
— Нет, зачем? — выкрикнул тот из боязни, что его голос опустится до шепота.
— Ты хочешь быть богом? — Вальсам рассмеялся ужасным нежным смехом.
Хэпи резко опустил глаза в пол. Вальсам замолчал, ожидая ответа на вопрос.
Повисшая пауза начала раздражать Хэпи. Он наконец овладел привычным голосом, не допускающим сомнений:
— Вы, кажется, на это место уже нашли достойного. — Ему было неприятно: впервые Вальсам говорил с ним, как с равным, без броской повелительной интонации, но шутя, играя, и не о нем.
— Азраил — ведущий актер труппы, — напомнил Вальсам.
Черные камешки четок беззвучно отстукивали секунды.
Хэпи сжал губы:
— Значит, все-таки — шут… — произнес он тихо.
Однако Вальсам расслышал его:
— Если хочешь, джокер — сильная карта, — ответил он с чуть уловимой усмешкой. Черные камешки продолжали равномерно падать, выбрав уязвленное сердце Хэпи своим суфлером. Сола и Квентин беспомощно смотрели друг на друга, не находя в себе сил вмешаться.
Вальсам прошелся по ворчливому паркету и остановился перед Хэпи:
— А как же Гордас? Он тоже метит в боги?
На паркет ступила нога Верти:
— Ну, это уже, простите меня, язычество, — пробасил он с монашеской интонацией.
— Вот актер. Который день все из роли не выходит, — скептически заметил Хэпи.
— Согласен. Верти, это уже глупо… — аккуратно произнес Квентин.
— Глупо? — Верти со вздохом сел на колени перед Квентином, положив железный крест рядом с собой. — Зато правдоподобно. — Он заискивающе улыбнулся Вальсаму, ища в том поддержку.
* * *
Рыжеволосый юноша шел вперед. Дыхание теперь не причиняло боли. Стены колодца, наподобие лабиринта, расступались перед ним, выстраивая все новые и новые коридоры, пока не завели в тупик. Податливое пространство воспротивилось его шагу, не пропустив дальше. Он коснулся огня — оранжевые змеи зашипели, кусая длинные бледные пальцы. Он попытался сделать еще несколько шагов, но стены по-прежнему не расступались.
— Эй, — позвал кто-то.
Рыжеволосый юноша обернулся. Перед ним стоял человек.
— Кто вы?
Исходившее от незнакомца серебряное свечение ослепляло. Даже огонь сторонился его. Человек медленно моргнул.
— Уже умеешь говорить? — Вопрос не предполагал ответа. — Мое имя тебе знать не нужно. — Он посмотрел на стену, что казалась монолитной. — Ты не войдешь сюда. В колодце — множество дверей. Однако, чтобы войти в некоторые из них, нужен ключ. Не думаю, чтобы милорд одобрял твои перемещения.
— Его нет, — ответил юноша.
— Вот почему ты бродишь в одиночестве… — догадался Гилт. — У меня есть для тебя подарок. — С этими словами Гилт протянул ему оранжевый цветок с заостренными лепестками. — Пройдет немало времени, прежде чем двери, в которые мы хотим войти, откроются. — Ни один мускул на его лице не выдавал эмоций.
Рыжеволосый юноша взял цветок, рассматривая его с любопытством. Никто еще не дарил ему подарков. Никто ради этого не прерывал его одиночества.
* * *
По деревянным ступеням со стороны сцены широкими шагами поднимался Гордас. Вальсам с любопытством посмотрел в сторону доносившихся звуков.
Гордас влетел на сцену:
— А, вот вы где. О чем ваш спор? — спросил он с привычной дерзкой улыбкой, от которой на этот раз веяло бесцеремонной радостью.
— Повеселел? — Хэпи нахмурился.
— Вы мне не рады, вижу?
— Что ты, только тебя и ждали. — Голос Хэпи звучал уверенно и оттого убеждал в своей правоте.
— Довольно, избавьте. Вот что, — Вальсам натянуто улыбнулся. — Вы так похожи друг на друга. Крайне тщеславны, вы носитесь со своим талантом, стараясь выделиться, затмить и переиграть соперника. Звучите в одной тональности, не выдерживая своих ролей. Вы сейчас, как хорошо подобранные шаблоны, отличаетесь разве что незначительными характеристиками. Вот они: Гордас — заносчив, Верти — покорен, Квентин — благороден, Хэпи… — Вальсам сделал паузу, словно бы проверяя все существо Хэпи на прочность. — …скрытен.
— Скрытен? — Хэпи не удержался от усмешки. — Всего то… Между тем Вальсам продолжал.
— Или нет. Хотите, я раздам эти незначительные отличительные черты заново? Особой разницы не обнаружится. Будьте собой, перестаньте звучать в одной тональности. Я очень недоволен вами. Актеру одному нет места на великой сцене, и театр — не театр, когда в нем торжествует один герой. Вы вместе есть талант. — Вальсам был чрезвычайно искренен, даже трогателен, и все в большей или меньшей степени это почувствовали. — Недавно мы поставили новый спектакль. Теперь мне поручили найти еще одну пьесу. Сезон обещает быть насыщенным, — продолжал он с тем же нежным оттенком в голосе, вызывавшим на откровенность.
Сола посмотрела на Гордаса. Он поймал ее взгляд, вспыхнул и резко отвернулся. Девушка нервно улыбнулась и поступила так же. Все произошло очень быстро, однако Хэпи это заметил.
— А где Азраил? — вдруг спросил Вальсам, озираясь по сторонам. — Он опять не пришел?
Квентин и Хэпи переглянулись.
— Новая пьеса — это пьеса Солы? — с трепетом в голосе спросил Квентин.
— Она тоже рассматривается, — кивнул Вальсам: видно было, что затронутая тема его беспокоила куда больше, чем отсутствие Азраила. — Прошу, соберитесь: постановка новой пьесы требует большой сосредоточенности в работе. — Вальсам строго обвел всех глазами и медленно спустился вниз по ступеням сцены.
Глава 7. В средиземной круговерти
Раннее утро пробивалось в окна свежим дыханием, роняя золотые брызги солнца на стены. Тихий шум проснувшегося города фонил привычно и назойливо, дополняя картину повседневными звуками. Недавний сон еще сквозил в сознании, не давая шагнуть в мир настоящего, но лежащий на столе распечатанный конверт скоро развеял его безмятежность.
Звонили в дверь. Заретта смутилась. Отдаленный лай собаки перебил ее мысли, заставив улыбнуться. Торопливо пройдя в прихожую, она открыла. Вбежала смешная неуклюжая собака, заливаясь приветственным лаем. Следом за ней показался и хозяин, держа в одной руке поводок, в другой — длинную трость. Это был молодой человек высокого роста и замечательной наружности. Светлые волосы обрамляли одухотворенное лицо, немного отрешенная улыбка пряталась в мягкой бороде.
— Илвис! — Заретта ласково взяла гостя за руку.
— Слишком рано для приемов? — спросил он утвердительно.
— Нет, я тебе рада, — выдохнула Заретта с нежностью.
— Джексон сегодня такой беспокойный, все рвался в твою сторону, я не мог ему отказать, — прибавил молодой человек лукаво.
— Правда, Джексон?
Большая собака, слыша свою кличку, вертелась рядом, добрыми глазами смотря по сторонам.
Этот утонченный в манерах юноша был близкий друг Заретты. Когда-то они вместе учились: она — живописи, он — скульптуре. Студенческие годы пролетели, Илвис и Заретта на них не оглядывались. Мелкие разочарования, большие потери, ненужные связи, редкие друзья и частые знакомства. Впереди мерцало многообещающее будущее.
Грандиозные планы носились в их головах, подпитываемые жаждой жизни, жаждой деятельности. Но нет! Ни шага более. Трагический случай лишил Илвиса этого будущего, — он ослеп. Оставшись наедине с талантом, посреди молодости, желаний и недавних надежд, Илвис думал, что, скорее всего, умрет. Но шло время, а смерть так и не приходила. Обладая стойким характером, преодолев страх, весь ужас своей трагедии, Илвис все же нашел в себе силы для жизни. Он был скульптор, не художник, и этот факт смягчал приговор. Задача казалась решенной. Он завел собаку, сам обучил ее нужным командам. Дни напролет посвящал себя любимому делу, интересовался современными мастерами и не замечал времени. Но скоро опомнился, тяжело разочаровался, замкнулся в себе. Илвис так же шутил, рассыпал остроумные мысли, спорил, но смех его изменился, звучал глухо и как будто бы отдельно от души. Еще немного помудрив над исправлением судьбы, измучившись от неудач, казалось, он тихо жил для того, чтобы так же тихо умереть.
— Представь… — Илвис откинулся на спинку кресла, сложил руки крест-накрест. — Недавно читаю в газете… — он намеренно сделал акцент на слове «читаю».
Несмотря на то, что Илвис был абсолютно слеп, чувство собственного достоинства в сочетании с памятью блестящего прошлого не давали ему опуститься до напоминания о своем непростом положении, поэтому он так же делал комплименты девушкам, одевался со вкусом и пользовался тем же набором слов, что и прежде.
Заретта не поправляла Илвиса: она все понимала, все чувствовала.
— Что же? — вежливо поинтересовалась она, разливая душистый чай по чашкам.
— Ограблен модный салон. — Илвис для большей убедительности вынул из внутреннего кармана пиджака аккуратно свернутую газету. — Что же украдено? — Голос его опять облачился загадочной интонацией.
— Интересно, — улыбнулась Заретта отрешенно: было заметно, что она не слушала.
— Можно было много чего украсть… А они? — Илвис, казалось, играл сам с собой: сам себя дразнил любопытством, сам себе задавал вопросы и отвечал на них. — Украли один манекен только! — Илвис беззвучно отпил чай из чашки, медленно опустив ее на блюдце. –…Один манекен… — повторил он. — Или вот еще… — продолжал Илвис, чуть помолчав, и пустился в пространное объяснение причин, побудивших молодого миллионера к покупке древнего замка. Затем последовали эмоциональный пересказ истории об одной уважаемой особе, что великодушно усыновила двоих несчастных детей, доклад о новых вышедших книгах и курсы мировых валют.
Заретта не могла слышать его: она думала о другом, поэтому эпатирующая пресса с пристрастными комментариями осталась без внимания.
* * *
Азраил вышел из дома. От ярких красок дня в глазах запрыгали цветные кольца. Вдруг что-то задержало его внимание в одной точке. Это была девушка. Копна шоколадных волос и обворожительная улыбка. Азраил невольно забылся. Воображение его, всегда взволнованное, нетерпеливое, начало прилаживать к образу незнакомки, потерянные ею крылья бабочки.
— Азраил! — позвала девушка, приблизившись к нему с недорисованными крыльями шоколадницы.
Азраил вздрогнул, воображение смущенно потупилось и отлетело.
— Азраил, ты не узнаешь меня? — Девушка улыбнулась.
— А-а-а. — Азраила будто бы что-то душило, что-то рвалось с языка, неведомое, тайное, совсем не подходившее для данной минуты. — Сола, — вымолвил он наконец, — я…
— Я вижу. Не совсем понимаю, но вижу. Впрочем, уже обычное дело. — Сола покачала головой. — Но вот что, — добавила она громко, — моя пьеса разрешена к постановке. Послезавтра приступаем к репетициям. Роли, конечно, уже разобраны: тебе, как ведущему актеру, Вальсам отвел одну из лучших, на мой взгляд. — Сола замялась: она хотела что-то добавить, но не решалась. Наконец она выговорила. — Вальсам ждет от меня режиссерского подвига: хочет, чтобы я вами руководила.
— Неудивительно, Сола, это же — твоя пьеса. Никто не сможет распорядиться ею лучше автора.
— Думаешь? — Неуверенно спросила девушка.
— Конечно, — кивнул Азраил. — Когда, говоришь, предварительные читки?
— Азри, ты сделался глух, и не только к словам моим», — произнесла Сола вдруг изменившимся тоном.
— О-о-о, не стоит. Если бы ты знала, какие чувства бродят во мне, пытаются вжиться в мой разум, дерзают освоиться, присмотреться к душе, хотят, чтобы я дал им право на существование… — шептал Азраил страшно.
— Молчи, я все знаю! — Сола с жаром посмотрела на него.
— Знаешь? — Голос Азраила дрогнул.
— Да. Ведь я… Я люблю… — Сола запнулась, словно бы в легких ее закончился воздух, вдохнула снова и продолжала, — я люблю твою душу, слышишь, люблю! — Голос ее сорвался, она едва не плакала.
— Нет, Сола, не знаешь. Ты заблуждаешься. — Азраил на мгновение закрыл глаза. — Заблуждаешься, — повторил он — и неожиданно-бодрым деловитым голосом прибавил: — Еще увидимся, Сола.
Прежде, чем девушка успела ответить, Азраил исчез.
* * *
Звонил телефон. Заретта подняла трубку:
— Да?
В ответ прошумело нечто неразборчивое, но по тону похожее на приветствие, затем более отчетливо:
— Илвиса. Можно?
— Он ушел, — сообразила Заретта. — Только что, — добавила она быстро.
— Верните, — голос в трубке не отличался многословностью, претензии на вежливость в нем тоже не обнаруживалось, однако было в этом неразборчивом голосе что-то притягивающее, не вызывавшее ответной грубости или раздражения. — Важно, — последовало далее, как бы расшифровывая первое слово.
— Попробую, — переняла манеру краткости в словах Заретта.
Она вышла на улицу. Илвис стоял под большой липой, согнувшись над своим четвероногим, и что-то растолковывал ему вполголоса.
— Илвис, — тихо позвала Заретта.
Он обернулся.
— Тебя к телефону.
— К телефону? — переспросил Илвис настороженно. — А-а-а, наверное, это Найт, — рассуждал он, идя обратно к дому.
— Найт? — Удивилась Заретта.
— Я дал ему твой телефон, ну на случай, если что со мной… Заретта не дала ему закончить:
— Ну и прекрасно.
Они прошли внутрь. Верный четвероногий последовал за хозяином.
Илвис поднял трубку:
— Найт? Хорошо, давай.
— Что? — Заретта тревожно посмотрела на Илвиса. Тот, словно увидев это, неуверенно протянул:
— Можно, я посижу у тебя с полчаса? Найт застрял где-то неподалеку со своим мотоциклом…
— Конечно, — согласилась Заретта. — А кто этот Найт? Ты упоминал о нем, но так и не рассказывал.
Илвис откашлялся:
— Найт — мой друг. Он довольно странный. Замкнутый,
неразговорчивый, как ты, наверное, могла заметить, слова, и уж тем более, улыбки даются ему с явным трудом.
— Найт — необычное имя, — заметила Заретта.
— Не имя — прозвище. Получил в детстве: любил летать на велосипеде по ночным улицам. Он и теперь летает, только уже на мотоцикле.
— А как его зовут на самом деле?
— Никто не помнит… — рассмеялся Илвис. — Нет, конечно, в паспорте об этом что-то написано, да только ему нет до того дела.
— Как же вы познакомились?
— Он чинит и собирает мотоциклы. Но основной его работой была и остается доставка. Однажды Найт должен был привезти мне скульптуру, что я заказал на выставке. По пути ко мне он попал в аварию. Чуть не распрощался со своей свободолюбивой жизнью. Однако, опоздав на приличное время, все же добрался до меня с невредимой посылкой и перевязанной наспех рукой. Сейчас он работает в пяти местах одновременно. И еще… — Илвис понизил голос до доверительного шепота, — Найт заметно влюблен в мою сестру. Хотя они встречались всего несколько раз, думаю, судьбы не избежать.
— Вот как, здорово. История прямо для колонки в газету. Кстати, ты свою забыл у меня. Ту, что читал, — уточнила Заретта, — с красочными новостями.
— Новостями? — Илвис сдержанно улыбнулся. — Да ей уж пара недель, если не больше, я просто тебя повеселить хотел.
* * *
— Первая любовь была, как луч… — Гордас не договорил.
Хэпи иронически прищурился.
— Луч, понимаешь ты? — заметно захмелевший голос Гордаса комически булькал. Его всегда строго зачесанные назад черные в пепел волосы теперь, развалившись неопрятными прядями, съехали на лоб, и что уж было совсем непозволительно, на уши. Гордас их не поправлял.
— Верти сильно опаздывает, — грустно заметил Квентин.
— Я уже говорил, Верти отказался от приглашения, — ответил Хэпи не в первый раз.
— Вот как! — удивился Гордас. — Как бы он в монастырь не ушел послесвоей удачно сыгранной роли… — Он сделал еще несколько глотков.
— Смотри-ка, Хэпи, Гордас пьян! — хмыкнул Квентин.
— Не только он, позволю себе заметить. — Хэпи вежливо отстранился от головы Квентина, собиравшейся, по всей видимости, дружески пасть на его плечо.
— Первая любовь, — Гордас закрыл глаза, — ничего давно уже нет, а образ ее — в душе навеки. Новое чувство — лишь блеклая копия прежнего…
Она — блеклая копия… Хэпи потер переносицу:
— И тебе совсем не совестно такое говорить при Квентине? — Спросил он с легким укором.
Между тем Гордас продолжал рассуждать:
— Образ, что останется с тобой до конца, до последнего вздоха, образ, что сопровождает тебя во снах. Очнувшись наяву, ты готов снова любить, но это лишь воспоминание. Человеческая память — удивительная штука. Не было бы ее, не было бы и нас, как таковых. — Гордас требовательно уставился на Хэпи. — Понимаешь?
— Конечно. — кивнул тот. Его темные глаза с запрятанными на глубине эмоциями смотрели на Гордаса изучающе. — Память формирует в нас личность, характер, диктует привычки и правила, — монотонно согласился он.
Гордас удовлетворенно кивнул.
— Я тебя, Гордас, первый раз в таком… — Квентин замялся, но, прожевав длинную паузу, наконец подобрал верное слово и продолжил, — …человеческом состоянии вижу.
— Может, ты и себя вместе с ним заметишь? — усмехнулся Хэпи.
Квентин не расслышал, шепнув Хэпи на ухо:
— А чего Гордас вдруг о любви заговорил?
— Он влюблен в твою Солу, — ответил Хэпи.
— Что? — Квентин часто заморгал.
— Вот именно, что это ты такое несешь, Хэпи.
— Просто он еще этого не осознал, — так же на ухо шепнул Хэпи растерянному Квентину.
* * *
Вечер опускался на город медленно. Догоравшее солнце еще дразнило слабым теплом. Осенний дождь тихонько всхлипывал. Осыпавшиеся листья лежали неподвижно. Кровавыми ранами земли казались они в блесках слепнущего солнца.
«Отчего только люди так любят осень? Это же настоящая смерть:
лето медленно умирает, купая нас в своей агонии красок… Да, Квентин бы сейчас сказал: «Зато какая смерть! Красивая, пышная!» Поэты… — Азраил дернул уголком рта.
— Нелепая, говорю я. Если мертвых одеть в роскошь, смерть что, будет радостней?»
Азраил поднял голову, с дерева слетел большой кленовый лист, скользнув по его плечу. Он поднял его.
«Как красиво ты вычертила линии. Природа, все же мы с тобой родственны. Смотри, это же моя рука…»
Азраил приложил кленовый лист к ладони.
«По красоте они равны», — мысль эта развеселила Азраила. Поднявшись с лавочки, на которой сидел вот уже полчаса, он сделал пару шагов по влажной земле и прислонился к старому дереву. Вдалеке замелькал силуэт девушки. Азраил узнал его. Закрыв глаза, он глубоко вздохнул и судорожно улыбнулся.
— Азраил, ты здесь? — позвала Заретта тихо, сев на лавочку с кленовым листом. Азраил не сразу ответил:
— Какое плаксивое настроение у нашего дня… — произнес он полудыша, полусмеясь.
— Прости, что задержалась: провожала друга.
— Друга? — удивился Азраил. — Ты… как? — спросил он, еще не поднимая глаз на девушку.
— Как обычно, — натянуто улыбнулась она. — А ты?
— Похоже. — Азраил сел рядом с Зареттой.
— Вот и славно, — руки ее дрожали.
— Что с тобой, Заретта?
— Я получила завещание отца. Прошло уже полгода, а я до сих пор не могу поверить в то, что его нет.
— Тебе больнее, чем мне, — Азраил наконец поднял глаза на сестру. — Я не знал его. Но я могу понять.
Заретта смотрела на серое небо, обрамленное яркими кронами высоких деревьев.
— Он словно бы чувствовал, что скоро уйдет. Всю жизнь он искал тебя — и вот нашел незадолго до смерти. Последнее время со мной происходят странные вещи.
Азраил насторожился.
— Нет. Пустое. Вряд ли я смогу объяснить. — Заретта испуганно замолчала.
— Попробуй, — тихо попросил Азраил.
— Меня словно не существует. Моя память слоится, делится на множество чужих жизней…
— Когда это с тобой началось?
— Не так давно. Я словно бы потерялась, уступила место кому-то другому. Это сложно описать. Меня нет, есть тусклый набросок неумелого художника. Я растеряна, не образно — буквально. Не могу тебе рассказать всего. Не сегодня.
— Завтра?
— Нет, и не завтра.
— Когда?
— Я еще сама не разобралась до конца.
— «Что ж, я намерен ждать», — произнес Азраил твердо.
Заретта протянула ему конверт:
— Это лично тебе. Там было два письма. И еще, Азраил, я уже говорила: отец завещал квартиру нам двоим, ты…
— Я помню, — перебил Азраил, — но я привык жить один. — Он взял письмо. — Не читала?
— Нет. Я боюсь писем. Послание отца долго не могла прочесть, — грустно ответила Заретта, встала и быстрыми шагами пошла прочь.
Азраил еще с полминуты смотрел на запечатанный конверт, затем поднял глаза. Навстречу ему из противоположного угла парка шел Руфус.
— Руфус! — как-то безжизненно крикнул он, подняв над головой руку.
Руфус подошел:
— Какой ты бледный. Вблизи кладбища все становятся мертвецами.
— Что это у тебя? — кивнул он на конверт.
Азраил криво улыбнулся:
— Завещание.
— Да ну! — угольные глаза Руфуса таинственно заблестели, и прежде чем Азраил успел что-либо сообразить, тот выхватил конверт.
— Ты что… — Азраил растерянно смотрел на друга.
— Денег там нет, — серьезно заключил Руфус, так же серьезно добавив, — ценных бумаг тоже.
— Отдай, Руфус, — устало попросил Азраил.
Руфус вернул конверт, испуганно вглядываясь в лицо Азраила.
— Да что с тобой такое? Не хочешь мне ничего рассказать? — он протянул Азраилу руку.
Тот схватился за нее со старческой беспомощностью и поднялся с лавочки:
— Нет.
Глава 8. Ночная память
Время текло, куда-то торопясь по вредной привычке. Давно перебравшись за полночь, оно не останавливалось, стремясь теперь к новому дню. Посетители ночного бара уходили и приходили, задерживались, одни — на минуты, иные — на часы, и те, и другие периодически бросали косые взгляды на столик в центре, за которым сидели трое молодых людей и что-то эмоционально обсуждали.
— Вальсам нам этого не простит, убьет, пожалуй, — решил Хэпи, высвобождая свою шею от объятий Квентина.
— Ты про репетицию? Да забудь! — воскликнул Гордас, и уронил лохматую, пьяную голову на плечо Хэпи. — Может у нас быть немного свободы?
— Свободу свободным актерам! — бодро поддержал Квентин.
Хэпи сдержанно улыбнулся:
— Слушай, Квентин, ты самостоятельно передвигаться в силах?
— Конечно — кивнул Квентин, заняв последнее дружеское плечо. — Отчего, скажи мне, ты никогда не пьянеешь, а? — проговорил он в шею Хэпи.
— Наверное, оттого… — Хэпи взял Гордаса и Квентина под руки и попытался с ними встать, — что я никогда не пью, — поскользнувшись, он приземлился со своей парой на то же место.
— А-а-а, верно, я опять забыл, — прошумел Квентин, ничего не заметив и готовясь, судя по всему, к ночлегу.
— Э-э-э, нет, вставайте, — Хэпи сильно тряхнул обоих.
— Ты чего, Хэпи? — Голубые глаза Квентина поползли на лоб. — Вставайте, говорю.
Квентин сполз с уютного места, сначала, правда, под стол, откуда его долго не было видно, но потом он все же появился, в вертикальном положении и с невинным лицом. Длинные его волосы, лишившись хитроумно затянутой ленты, были разложены по плечам, как у подарочной куклы.
— Ну что, пошли? — сказал он, деловито оглядываясь по сторонам.
— Пошли, — передразнил его оживленность Хэпи. — И вот что, Гордас, — он обратился к своему плечу, с которого так и не поднялся Гордас.
— Ты опять потерял театральный пропуск.
Гордас вздрогнул, крестик в его ухе угрожающе закачался.
— Отдай! — крикнул он раздраженно.
— Ну, разумеется, — успокоил Хэпи, отдавая ему пропуск. — Чего ты так переживал? Фотография — самая обычная. — Он разочарованно пожал плечами.
— Больше никогда, слышишь, никогда… — шипел Гордас, пытаясь выразить упрек, досаду и угрозу разом.
— Конечно, конечно, — поспешно согласился Хэпи.
Они вышли на улицу и направились прочь, не разбирая дороги.
* * *
Гилт медленно шел под сводами серебряных колонн, разглядывая миниатюрные плоские песочные часы, которые висели у него на груди.
— Гилт! — раздалось за спиной громкое эхо.
Быстрым движением Гилт спрятал часы под одежду.
— Где ты был, Гилт? Я искал тебя.
Гилт обернулся, но не ответил.
— Ты догадался, кем может быть один из хранителей в этой игре? — Красная Мантия вплотную приблизилась к нему.
— Нет. Я уже говорил, предположить задумку текущей игры по хроникам прошлых игр невозможно, пустая трата времени. — Гилт смотрел прямо в предполагаемые глаза красной Мантии, будто те и впрямь были. — Но вы — действующая фигура, неужели сложно догадаться?
— На этот раз поле битвы — театр. Догадаться сложно, когда ее участники играют дополнительные роли…
— Вот как… — произнес Гилт медленно. — И вы никого не подозреваете?
— Подозреваю всех. Все слишком запутанно.
— Однако подсказка есть: ради носителя он умрет в муках и снова воскреснет для мучений.
— Мне это хорошо известно, Гилт.
— Тогда в чем сложность? — Голос Гилта, если и не был таким громким, звучал так же властно. Подобно стеклянному, раскалывался он на острые осколки-отзвуки.
— Не будем об этом, — отрезала Мантия. –Я доверяю тебе, Гилт. Ты принес мне много побед. В этой игре мне также потребуется твоя помощь.
Гилт сделал то неуловимое движение глазами, которым заменял многие слова. Как б кивая ими в знак согласия, он медленно моргнул. Фигура его в этот момент была подобна ледяной статуе, насквозь пронизанной лучами света и не пропустившей тепло ни одного из них.
— В этот раз я не могу сделать тебя черной фигурой, однако в твоем распоряжении — информаторы. — Мягкий туман не разъедал красную Мантию, как некогда плащи теней, однако ей было неуютно находиться в обществе Гилта. — От своего поля я пошлю вместе с козырем двух птиц. Ты должен будешь проследить за ним, на случай если те собьются с пути. — Прогремев это, Мантия растворилась в пространстве.
— Проследить за ним… — холодно повторил Гилт. Он подошел к одному из серебряных сгустков тумана, протянул в него руку и вырвал большой клок этого странного вещества. Затем он скатал из него пушистый шарик, поднес к губам и что-то повелительно нашептал. Размахнувшись с силой метателя копья, Гилт бросил его вперед. Тот, пролетев приличное расстояние, наконец, упал, но не подскочил от удара, а плавно приземлившись на четыре кошачьи лапы, побежал, скрываясь в мягких серебряных клубах и вновь появляясь, пока совсем не исчез из вида.
* * *
Три свечи поблескивали в комнате, деля между собой территорию темноты, каждой по владению. Азраил держал в одной руке маленький острый ножичек, а в другой — вскрытое письмо. Его лихорадило. Азраил быстро вытащил сложенные вдвое листы, развернул их и стал читать. Фарфоровые черты лица его казались застывшими. Он безжизненно опустился за письменный стол.
— Ты брат ей, помни, — прошептал он помертвелыми губами. Ненавистные слова били без боли, убивали. — Ты учишь меня любви, отец? — Ядовитая насмешка растворилась в голосе. Последняя строчка ерзала перед глазами, скрежетала на губах. Сплошной циклический рефрен шумел, отчетливо ударяясь в мягкое сердце: «Ты брат ей, помни».
— Приговоры обычно вслух читают. Там никак без посредника. Разве может обвиняемый сам себе читать приговор? А я читаю… — Улыбка, похожая на вытравленный кустарным мастером рисунок, скользнула по губам Азраила, кривая, нервная. — Да еще света нормального нет. — Азраил презрительно покосился на горящие свечи. — Вот тебе и ценные бумаги… — вспомнил он слова Руфуса. — Когда же наконец казнь?
Не находя в себе сил побороть неприятное ощущение, Азраил мог только созерцать, жадно и зло пробуя каждую его частицу на вкус, смакуя. Будто был он изранен и весь в подтеках крови, а сейчас занимался тем, что ярко, в малейших подробностях, вспоминал ножевые удары. Азраил понимал: он теперь слаб — но упивался своей слабостью, безвыходностью, как запертый в комнате горящего дома человек. Мысль о реальной боли покружила в сознании, и, сев на плечо, улетела. Азраил подумал, что, если бы он мог заменить душевную пытку пыткой физической, все бы непременно обошлось. Он тихо застонал, но не услышал себя. Азраил вообще ничего не слышал. Оглядевшись по сторонам, он вдруг заметил, что вместо темноты его окружал красный цвет. Растекаясь подобно жидкой краске, тот заливал комнату. Азраил зажмурился, а когда вновь открыл глаза, красный цвет исчез, жизнь ожила в звуках.
— Такое уже было… Что со мной? — в ответ на его слова разгорелась одна из трех свечей, вызывая восковые слезы, и те опять потекли, горячие, тяжелые. Азраил замахнулся на огонь — пламя стало тускнеть, скомкалось в белесый дым. Теперь горели только две свечи, мгновенно разделив оставшуюся темноту своей потухшей соплеменницы. Азраил открыл верхний ящик стола, бросив в него письмо, туда же полетел и острый ножичек. — Радуетесь? — Азраил с укором смотрел на две оставшиеся свечи. — Ненавижу трепетных. Сгорят в полминуты, и приговор-то толком не прочтешь, — он зло улыбнулся. — Радуйтесь, спокойные, равнодушные: ваша власть! Пережили бы мою свечу, да затушил вовремя. От огарков ваших траурных теперь зажгу ее, слышите?
В ответ — треск, тихий, пронзительный. В коридоре задрожала лампочка, вспыхнул электрический свет. Азраил сорвался с места, с остервенением раздернул плотные шторы, за которыми была глубокая ночь, и вышел из комнаты со свечами в обеих руках.
* * *
Ночная улица таила в себе неразгаданные тайны. Найт любил их.
Илвис ненавидел с тех пор, как ослеп. Ночь отягощала вдвойне. Джексон вдыхал сумрачный воздух с животным свистом, не делая особых различий между ненавистью и привязанностями. По дороге затрещал мотоцикл. Джексон беспокойно заворчал.
— Рядом, Джексон, рядом. — Илвис не испытывал страха, только неудобство от слепоты.
— Поздно. Для прогулок… — Найт сбавил скорость и поравнялся с Илвисом. — Я звонил. Тебе. — Неуклюжая, прерывистая речь наталкивала слова друг на друга, и те спотыкались и падали, с трудом удерживая смысл.
— О, — Илвис покачал головой. — Не стоило беспокоиться. Мне не спалось, и мы с Джексоном решили выйти подышать.
Большая собака, подтверждая слова хозяина, радостно залаяла.
— Может, подвезти? — сам себя спросил Найт. В глаза он смотреть не любил. Не конкретно в глаза Илвиса, а в любые человеческие глаза, и потому создавалось впечатление, что он задает вопросы сам себе.
— Еще несколько шагов, — попросил Илвис. — И, знаешь, она уехала, — вдруг сказал он.
Найта перемена темы не удивила, к тому же он сразу понял, о ком речь:
— Вернется?
— Обещала через полгода. — Илвис вздохнул. — «Моя работа требует глубокого погружения», — произнес он на высоких нотах, предполагая женский голос. — Так что будем скучать вместе.
Найт на это ничего не ответил, аккуратно подсадил Илвиса на мотоцикл, и они плавно заскользили по ночному пространству. Джексон, привыкший к таким прогулкам, бежал рядом, оглашая сонные улицы бодрым лаем.
* * *
Гордас поднял голову с плеча Хэпи:
— Где это мы? — спросил он с любопытством.
— Ну, судя по католическому собору… — Хэпи огляделся. Они шли по мрачной безлюдной дороге. Раннее утро золотило стены разрушенных домов.
— Где? — Испугался Гордас.
— Надо полагать, не так далеко от реальности, — съязвил Хэпи. — Улица святого Эндимиона, — с монотонностью картографа добавил он.
— У-у, куда мы забрели… — поежился Квентин.
— Тихо. — Хэпи прислушался. — Слышите, вроде орган играет? — спросил он настороженно.
Квентин приоткрыл голубые глаза:
— Я ничего не слышу.
— Собор закрыт, заброшен, — резко отреагировал Гордас. — Это ветер гуляет по трубам.
— Зачем ты нас сюда завел? Ты что, ничего не знаешь об этой улице? — пьяным голосом возмутился Квентин.
— Закрыт… — Хэпи был трезв, но явно слышал звуки органа.
— Глупости, — отрезал Гордас. — Только такие, как ты, Квентин, верят всем этим бредням.
— Глупости? — передразнил тот. — Только такие, как ты, могут уговорить себя в том, что чертовщины не существует, когда она сейчас преспокойненько играет в заколоченных соборах. –У Квентина двоилось в глазах.
— Эта она для Хэпи играет, не для нас. Я вот тоже ничего не слышу, — пожал плечами Гордас.
— Тогда ладно, — примирительно поддакнул Квентин.
— Ну вас, — вздохнул Хэпи, — рехнуться можно.
— Или опьянеть, — губы Квентина расплылись в улыбке. Эх ты! Не водишь дружбу с Дионисом!
— Отнюдь нет, — возразил Хэпи. — Я — его мастер.
— Что? — Растерялся Квентин.
— Мастерами Диониса называли себя древние актеры, — пояснил Хэпи. — Ты даже представить себе не можешь, Квентин, насколько мы близки к божественному началу.
— Дионис? — недовольно встрял Гордас. — Козлоногий пьяница?
— Должно быть, ты попутал с сатирами. Дионис никогда не был низшим божеством, напротив. Первоначально театр служил местом его чествования. Сценические игры составляли главную часть торжества. В древнем театре даже имелся алтарь Диониса…
— Я — актер, я — языческий бог, — произнес вдруг Квентин.
— Это — сон, и мы спим в мире слов! — продолжил Гордас.
— Я — вольнодумец, в греховном экстазе побед, — опять процитировал Квентин.
— Вне церквей и крестов, — вспомнил Гордас.
— Я — актер, я — смуглокожий грек. И Афины легли в горизонт, — не унимался Квентин.
— Откуда это? — остановил их Хэпи.
Квентин не отвечал, продолжая бубнить стихи.
— Из какой-то роли, — Гордас зевнул.
— …Ты всего лишь — славная муза моя. А я — твой бесславный поэт, — закончил наконец Квентин. — А ты… — он указал на Хэпи. — Ты язычник.
— Пьешь с Дионисом! — выдал Гордас недовольно.
— Нет, не пью, — ответил Хэпи со вздохом.
— Помню, — хмыкнул Гордас. — Только апельсиновый сок.
— Вот уйду я в царство Хель, а никто и не заметит, — чуть не плакал Квентин.
— А ты разве не хочешь героически пасть в бою? — Моментально отреагировал Хэпи.
— Кто это «Хель»? — Гордас путался в сонном дыхании.
— Квентин с греческих мифов перешел на скандинавские, — пожал плечами Хэпи. — Это хозяйка загробного мира, страны мертвых. К ней попадают все умершие, кроме героев, погибших в бою, те… — он сделал паузу, припоминая, — по другому адресу.
— По какому адресу? — не понял иронии Гордас.
— К валькириям, — ответил Хэпи невозмутимо, как будто речь шла о близких знакомых.
— А-а, — кивнул тот.
— Двуликое божество, — продолжал рассуждать Хэпи. — Одна половина ее — черная, другая мертвенно бледная.
— А-а, — опять произнес Гордас. Хэпи напустил на него такого ужаса, что тот перестал его слышать.
— Откуда ты все это знаешь, Хэпи? — В голосе Квентина больше не было слез, лишь — любопытство.
— В детстве увлекался, — ответил тот тихо.
* * *
Живое пламя винтовой лестницей струилось по стенам колодца. Рыжеволосый юноша шел по огню босиком, крепко сжимая в руках книгу. Лестница вдруг оборвалась. Он стоял один посреди высоты гранатовых стен: вверху — едва заметный свет, внизу — пройденная вереница пламени.
— Лети! — донесся сверху знакомый хор голосов.
Рыжеволосый юноша поднял голову. Тотчас по спине его начали ползти две параллельные линии. Кровь не сочилась из этих равномерно падающих разрезов. Казалось, внутри него — пустота. В одно мгновение из телесных расщелин вырвались черные крылья. Он взмахнул ими. Еще раз, еще — и оторвался от огненной лестницы.
— Ну же, лети, — послышался нежный голос, и то был уже не приказ, а заботливый, родительский шепот. Не выпуская книги из рук, крылатый юноша стал подниматься все выше и выше. Он летел к своему создателю, к тому, кого впервые увидел, чей голос услышал впервые.
Стены колодца расширялись, разреженное огненное тепло жидкими волнами плескалось в воздухе, тяжелее становилось дышать. Страшная резь пронзила его грудь, он начал задыхаться, стремясь вернуться назад, обратно в огненную стихию, но тело не подчинилось. Красная Мантия стояла на самом краю колодца и звала его нежно. Еще один взмах крыльями. Тяжел был этот взмах, горек был воздух — но все позади, и вот он уже рядом с ней.
— Я не назвал тебе твоего имени. — проговорила Мантия. — У козырной фигуры должно быть имя…
— Имя? — Переспросил юноша.
— Прежде чем отпустить на игровое поле, я должен дать его тебе. — Мантия, казалось, вглядывалась в красивое лицо своего создания. — Эль. Твое имя Эль.
— Эль, — повторил рыжеволосый юноша.
— Увы, теперь тебя окружает холод.
На шестигранном бордюре колодца сидели две черные птицы, время от времени вздрагивая, словно хотели сбросить с себя непривычные ощущения.
— Это твои спутники. — Мантия подлетела ближе к черным птицам. — Они будут сопровождать тебя. И убери крылья, здесь тебе они не понадобятся, — заботливый голос окрасился строгой интонацией. — Ты сейчас уйдешь, Эль, помни: ты обязан достичь поставленной цели. Так иди же! — В одно мгновение Мантия пропала в темном колодце.
Эль сел на его граненый край. Медленно переводил он взгляд с одной точки на другую. Болезненным, тяжелым был этот взгляд. Одна из птиц держала в клюве знакомый оранжевый цветок. Эль совсем забыл о нем, о своем подарке, и теперь очень обрадовался, увидев его вновь.
— Отдай, — он протянул руку и взял цветок за сочный шипастый стебель. Бережно поднеся цветок к лицу, Эль стал рассматривать его яркие лепестки. Так продолжалось бы еще долго, но крик черных птиц вывел его из забытья. Они спрыгнули с холодной каймы колодца и повисли в воздухе, осмысленно оглянувшись на него. Эль поднялся и тоже спрыгнул, но не успел он сделать и шага, как сильный ветер сбил его с ног. Он закружил Эля в своем вихре, увлекая прочь. Черные птицы летели следом, оглашая все вокруг растерянными криками.
Глава 9. Ценные бумаги
Этим утром щедро светило солнце, тепло его струилось по кронам деревьев. Из модного парикмахерского салона, казалось, вышли их изрядно поредевшие головы. Шелест листьев, опасливый, аккуратный, таил в себе страх рассыпаться, разлететься по остывающей земле. Яркое небо текло, быстро видоизменяясь, перемешивая краски облаков. Азраил вдруг подумал: «Если это небо сравнить с полотном, то его непременно кто-то должен вышивать: стежок за стежком — проглядывает новый рисунок, стежок за стежком — льются небеса. Какие быстрые пальцы, какие ловкие руки…» — Азраилу понравилось это сравнение. — «…И мне хорошо. Да, светло. Прекрасное небо… И даже если будет через минуту плохо, сейчас — хорошо, и не больно, и не грешно… Ужасное слово — «грешно» … Так вот, запомнить бы это «не…» — Азраил!
«Кто-то зовет. Какой родной голос у этого оклика…» Заретта подошла ближе:
— Азраил?
Азраил опустил глаза. По разбросанным на земле листьям пятнилась зрелая осень.
— Мрачное место, — произнес он шепотом. Азраил не любил кладбищ и церквей, не любил сосредоточения людей, мысли которых отданы либо скорби, либо просьбе. Это порождало черные дыры в его душевном пространстве, что затягивали в себя все то немногое светлое и доброе, которое было накоплено за жизнь.
Заретта села на знакомую лавочку под раскидистым кленом и задумалась.
Азраил прислонился к стволу дерева. Он хотел не обнаруживать себя, заглушить взволнованное сердце. Он тонул в ее неровном дыхании, непроницаемых мыслях, в ее мечтах, желаниях. Когда Азраил смотрел на сестру, в его голове возникала мелодия. Начинаясь всегда тихо, она становилась отчетливей и громче, пока он не растворялся в ней совершенно. В такие моменты ему хотелось умереть, но по-хорошему, не со зла, не от отчаянья, просто исчезнуть в выбранном душою едином звуке, исчезнуть безболезненно, незаметно, чтобы никто и не вспомнил после. Под влиянием прекрасной мелодии был остановлен ход его мыслей, жизнеточащая рана сознания затянулась. Не было чувств, только томительное ощущение близости к чему-то недосягаемому, тайному — и от этого страстно любимому. Фонтанирующая мелодия лилась в его душу, на мгновения стирая память.
Посетители кладбища в золотом блеске утра бросали тени. Упав на выпуклый рельеф земли, тени ломались, причудливо складывались, стелясь по ковру пожухлой травы. Азраил набрал в грудь воздуха, ему показалось, что он давно не дышал.
* * *
Лучи осеннего солнца скользили по холодным окнам, издавая что-то похожее на шипение. Гордас открыл глаза, незнакомые стены тотчас принялись разглядывать его необразумившееся существо, находя в том что-то несомненно любопытное. Как только к нему полностью вернулось сознание, Гордас принялся изучать их в ответ, но, так и не разобрав что к чему, совершенно выбился из сил.
Хэпи смотрел на записку, приклеенную к шкафу.
«Семинар молодого исследователя: «Миф как результат пересечения параллельной реальности с реальностью субъективной».
— Пропустил, — со вздохом заметил он. — Да, жаль. Хотя слишком много «реальности» на одно «миф»…
До Гордаса долетел запах только что сваренного кофе. Приятный аромат, наверняка обещающий массу удовольствий, начал хозяйничать в комнате. Гордас сделал еще одну отчаянную попытку подняться, и опять неудачно.
На этой вот, должно сказать, драматической минуте в комнату вошел Хэпи.
— День, — произнес он многозначительно.
— Что «день»? — не понял Гордас.
— Форма приветствия, — пояснил Хэпи и еще раз произнес: — День.
— Добрый… — подсказал Гордас неуверенно.
— Нет, без эпитета, — решил Хэпи. — Пойдем пить кофе, — предложил он. Квентин отправился за противоядием.
— Как я мог пить с вами… — Гордас скривился, в его словах слышались упреки, угрозы, ненависть и даже жалость.
— Не стоит так убиваться, Гордас, — рассудительно произнес Хэпи. — Ну, выпил ты с простыми смертными, ну, перепил, уснул на плечах тебя недостойных тварей. Короли, знаешь, императоры с простым народом хотя бы в жизни раз, но пировали, — все это он проговорил спокойно, просто, без тени насмешки.
Гордас оторопел.
— Издеваешься? — спросил он с подозрением.
— Да нет. Пытаюсь войти в твое положение, — с тем же спокойствием отвечал Хэпи.
— Ты же меня ненавидишь, — по-прежнему растерянно, но уже с резкой интонацией произнес Гордас.
Хэпи вздохнул:
— Опять — враги, соперники… Что с тобой делают амбиции… Это уже похоже на манию. — В голосе его послышалась заботливая интонация.
Однако Гордас не был настолько тонок, чтоб различать интонации:
— Ты здесь живешь? — наконец спросил он с брезгливым выражением лица. — Ты живешь один: ни родных, ни даже девушки?
— Совершенно верно, — кивнул Хэпи.
Отыскав наконец то, на чем можно отыграться за свое испорченное настроение, Гордас возликовал:
— Знаешь, я что-то такое подозревал. Я сразу понял, что ты одиночка, герой с тяжелой судьбой, противопоставленный всему миру.
— Если ты не заметил, эпоха романтизма уже прошла, — ответил Хэпи холодно.
Гордас не услышал:
— Да… бедновато живешь, герой…
— Я просил у тебя адрес, но вы с Квентином так сильно путались в мыслях, стихах и молитвах, что мне пришлось отступить. Гордас постарался проглотить упрек и замолчал.
* * *
Эль открыл глаза — никогда он еще не видел такого света. Обессиленный, лежа в белых лучах, он старался превозмочь неприятные ощущения. Черные птицы пропали, вместе с ними исчезла и книга. Наконец Эль поднялся, сделал несколько шагов. Посреди болезненной белизны сидел ребенок. Что-то неодолимое, прежде неведомое потянуло Эля к нему. Неприятные чувства на мгновение исчезли. Эль смотрел на странно сложенные губы ребенка. Он сделал над собой усилие, но собственная мимика ему не подчинилась. Глаза ребенка смотрели кротко и ласково, и под воздействием этих глаз Эля переполняли совершенно незнакомые чувства. Он вдруг ощутил невероятную легкость. Ему захотелось приблизиться к подобному себе, прикоснуться к похожей плоти. Эль шагнул навстречу ребенку, как вдруг почувствовал сильную резь в глазах — по его лицу потекли прозрачные капли.
— Любую игру можно назвать войной: в ней проигрывают и побеждают, — у ребенка был взрослый голос. — Война бессмысленна, зачем нужны бессмысленные жертвы?
Эль не отвечал. Его ног коснулось живое тепло. Он посмотрел вниз: распушив длинный хвост, вокруг него терся мягкий комок света.
— Но если жертву выбрать правильно, она станет осмысленной и остановит войну. Нужна всего одна жертва, всего одна. И ты принесешь ее мне.
— Нет, — воспротивился Эль.
— Понимаю… — кивнул ребенок. — Козырная фигура черного поля уже получила свое задание. Но ты станешь моей козырной фигурой и получишь новое. Я не смогу отменить прежнего, однако, когда ты выполнишь то, о чем я прошу, игра просто остановится, и остальное будет уже неважно. — Итак, слушай. — Ребенок поднялся. Идя к Элю навстречу, он говорил властным, подчиняющим себе, тоном. — Ты должен убить его.
В сознании Эля возник отчетливый образ того, кого ему приказывали убить.
— Твой прежний путь я подменю своим. О, не волнуйся, ты не останешься один. Там будут мои белые пешки, — ребенок улыбнулся. Невероятная сила повеяла от этой улыбки, нарастающим вихрем закружилась она по белому пространству, подхватила Эля и унесла с собой.
Когда вихрь развеялся, сияющий ребенок был уже далеко. Не понимая себя, Эль еще долго стоял на месте, рыжеволосый, бледный, с невыразимой красотой на лице, на котором вдруг ожили, засияли глаза. Раздались знакомые крики. Эль огляделся — вернувшиеся черные птицы сидели на книге. Он согнал их, взяв ее в руки. Над его головой возник круг, похожий на основание колодца: каменная оправа и недвижимое зеркало воды.
* * *
После встречи с сестрой Азраил поехал в большую городскую библиотеку. Там он провел несколько часов. Войдя наконец в квартиру с принесенной стопкой книг, Азраил поспешно разделся. Затем устроил себе чай, разложил книги на полу. С невыразимым чувством схватил одну из них, но не успел открыть ее, как позвонили в дверь. Азраил отвернулся от доносившегося звука, будто не заметив. Однако гость был настойчив и позвонил еще раз, теперь длинно, и еще раз, так же длинно.
— Этакая острая необходимость… — пробормотал Азраил, направляясь к двери. За ней, как на подбор, стояли Хэпи, Квентин и Гордас.
— Вы ко мне?
— Да, — лаконично ответил Хэпи.
— Что ж, входите, — пригласил Азраил.
— Войдем, — обрадовался Квентин, проходя вперед. Азраил уже с порога приметил, что Гордаса и Квентина странно пошатывало.
— Что это с ними? — шепнул он Хэпи.
— Бунт, — предложил тот, пожимая плечами.
— Сколько книг… — удивился Гордас, когда вошел в полупустую мрачную комнату с разложенными на полу томами сочинений.
— Гордас, — одернул Азраил, — нам в другую сторону. Я тебя сюда не приглашал, — проговорил он раздраженно, увлекая гостя за собой.
Гордас неохотно приземлился на отведенное ему место за столом, за которым уже сидели Хэпи и уставившийся в газету Квентин. На затянувшееся мгновение воцарилась тишина.
Хэпи, как всегда первым, по причине невыносимости им пауз, постарался ее сломать:
— Ну и… что пишут в твоих книгах?
— О! — Оживился Гордас.
— Оставьте! — взмолился Азраил.
— Да что с тобой? — с жалостью посмотрел на него Квентин, откладывая газету. — Может, расскажешь?
— А с вами? Что это вы так дружны?
— Вчера пили вместе, — отмахнулся Хэпи. — Но не переводи темы, что с тобой?
— Яду б выпить… — прошептал Азраил.
— Надоело! Репетиции пропускаешь, играешь скверно, никто в лицо тебе этого сказать почему-то не может, видимо, ждут, когда с тебя слетит меланхолия, и под ней обнаружится прежний талантливый, живой Азраил. — В словах Гордаса не оказалось ни капли пафоса, ни нотки игры. — Надоело! Имей мужество, останься и объясни, в чем дело, или уйди со сцены. Поверь, найдутся короли и помимо тебя.
— Что это? Участие? Ты ли это, Гордас? –удивился Азраил.
Гордас смутился, потупился, заглянулв любезно предложенную ему хозяином чашку чая, Квентин опять взялся за газету. Азраил молчал, напряженно ожидая чего-то.
— Да с Гордасом все понятно: он хочет быть королем вместо тебя, — пояснил Хэпи. — Тут дело не в нем — в тебе, и, если честно, нам всем уже поперек горла твое скорбное состояние.
Газета в руках Квентина не шевелилась, по всему, он был сильно увлечен чтением.
— Быть может, Азраил влюблен? — ядовитые глаза Гордаса вновь ухмылялись.
— Змеи! — зловеще прошипел Азраил, с такой неконтролируемой ненавистью посмотрев на гостей, что их заметно передернуло.
Опять пауза, громкая, больная, обидная.
— Не счастливо, как видно, — сам себе отпарировал Гордас с комическим вздохом.
— Видел бы вас сейчас Вальсам! Не актеры, а балаганная свора, — заметил Азраил.
— Да-да, и станем мы скоро, вот как в этой статье, на стезю воровства и позора, — почувствовав неуместность своей реплики, Квентин тотчас смутился и покраснел.
Хэпи это заметил и не преминул воспользоваться:
— Молодец. Все-таки закончил рифмой. Ты точно из балагана будешь.
Квентин от стыда глубже запрятался в газетные строки. Гордас на это только покачал головой, отчего готический крестик в его ухе немедленно пришел в движение. Он не знал, куда деть глаза и потому отобрал газету у Квентина.
Азраил нахмурился:
— Вы пьяны?
— Хэпи не пьет, — зачем-то уточнил Гордас, не отрываясь от газеты.
— Дело не в том, в каком состоянии мы, а в том… — Хэпи недоговорил.
— Я понял, — сдался Азраил.
— Так посвяти нас в тайны своей души, — предложил Хэпи. — Мы выслушаем и…
Его перебил заинтересованный голос Гордаса:
— Странная эта твоя стезя позора, Квентин! Ты дочитал до конца?
Они только манекен украли, а все остальное оставили. Надо же… Хэпи взял газету из рук Гордаса:
— «Читать новости такой давности — дурной вкус», — произнес он утвердительно.
В ответ Гордас лишь отвернулся к окну.
Хэпи упрямо возобновил допрос:
— Азраил, мы хотим знать, что происходит?
— Что с тобой творится? — поддакнул Квентин.
— Оставьте, — Азраил обессиленно смотрел перед собой. — Вы многого не знаете, да вам и не следует. Никому не следует. Это — мой позор, мой грех, моя боль. — Азраил побледнел, зажал голову руками.
Глава 10. К чему снятся вещие сны?
Быстро листаются календари. Быстро летят в них числа, четким делением суток отбивая ровную дробь жизни. А между тем в них нет той коварной черты, рубежа, на котором встречаются дни. Эти границы нельзя обозначить типографской краской. Подобно оборотню, калечащему живую плоть, единица обретает старушечий горб и змеиный хвост, только когда стрелки указывают полночь.
Конец осени. Ветер дул изо всех немыслимых сил, пугая прохожих скрежетом и разбойничьим свистом. Прошло полтора месяца с тех пор, как пьеса Солы была разрешена к постановке. Бесконечные репетиции, бесконечные переживания. Но даже несмотря на то, что Верти постоянно опаздывал, Квентин душил приторным вниманием, Хэпи язвил по поводу и без, Гордас злился и был чаще всего недовольным, заставляя других ощущать за себя неловкость, а Азраил со своей скорбной мрачностью, которая за последнее время переросла в привычку, забывал роль, Сола была счастлива, как может быть счастлив только смертный человек, прощая многое.
* * *
По всему огромному дому распространялся запах осенней сырости. Барри вышел на крыльцо, судорожно глотая промозглый воздух. Он чувствовал себя виноватым во всех смертных грехах мира и еще в каких-то дополнительно. Ему хотелось выплеснуть свою обиду, и чтобы непременно это сопровождалось бранью, хотелось подраться без объяснения причин. В душе, как в воздухе, преобладала сырость. Хмурое небо обещало дождь. Барри не моргая вглядывался в даль, словно хотел различить то, что обычно различают при помощи увеличительных стекол, подзорных труб, микроскопов, но никак не при помощи обычных человеческих глаз. Он закусил губу и сел на ступеньки дома, так и не увидев желаемого.
Порученные дела навязчивой очередью столпились в им назначенном времени, и Барри не мог выдумать достойного предлога, чтобы проигнорировать их.
Барри был фермером. Все ныне живущие члены его семьи — дед, отец, мать и сестра, а также большое количество другой родни, претендующей на кровные узы, все они были фермерами. Этих самых родственников Барри частенько путал, будучи просто не в состоянии запомнить, кто кому и кем приходится, чем сильно раздражал строгого деда. Испокон века в их роду мальчиков воспитывали сурово, приучая к тяжелому земледельческому и скотоводческому труду с самых юных лет, впрочем, как и девочек. Ферма завещалась в их семье по мужской линии, переходя от отца к сыну, от сына к его потомкам и так далее. Это была большая ферма с большим старым домом в два этажа. Солидная конюшня располагалась неподалеку и по своему неприступному виду напоминала крепость. Семья гордилась своими лошадьми, которые постоянно привозились, перекупались, продавались понимающим в этом толк дедом Барри. Женщины в их роду, как правило, занимались хозяйством. У Бертоков даже был магазин с их продукцией, к которому примыкало небольшое кафе местного порядка. Кафе всегда пользовалось популярностью.
Этим летом дед Барри продал почти всех лошадей, кроме нескольких, особых пород. Они были припасены на крайней случай, для заделывания неожиданных дыр в семейном бюджете. Отец Барри, несмотря на свой уже солидный возраст, в святая святых дедом не допускался.
Наверное, оттого, что зятю лошадиного рая тот по закону, установленному в их семье, завещать не мог. Барри старик откровенно считал дураком и, таким образом, тащил этот рай пока что один на своем горбу.
* * *
— Твоя роль на этот раз не главная, — Хэпи испытующе смотрел на Азраила.
— Пускай, — прошептал тот.
— И все же?
— Я еще сыграю свою роль, еще нет ее… — слова стали едва различимыми для слуха.
— О чем ты? — контрастно громко спросил Хэпи, пересиливая отвращение, которое у него вызывал любой шепот.
— О той роли, в которой я смогу остаться навсегда… — так же шепотом отвечал Азраил.
— Азраил, у тебя горло болит? — поинтересовался Хэпи, сдерживая раздражение.
— Нет-нет, — откашлялся тот.
— Вальсам называет пьесу Солы золотой, — заметил Хэпи как бы между прочим.
— Золотая она или нет, это вопрос времени.
— Он говорит, что с ней нас увидит большой свет, — По тону Хэпи не было понятно, как он сам относится к этим высказываниям.
— Тебе света не хватает? — улыбнулся Азраил.
Они вошли в театр.
— Признаться, меня мало интересует большой свет. — Азраил продолжал смотреть перед собой. — Может быть, я просто его боюсь? Света?
— Тонкие брови его нервно дернулись, но глаза остались неподвижны.
Хэпи не ответил.
— У тебя, Азраил, видно, светобоязнь? — заботливо предположил Гордас, расслышав последние слова того.
— О, Гордас, — кивнул в его сторону Азраил.
— Тут как тут, — усмехнулся Хэпи.
— Да, пожалуй, гении испокон веков недолюбливали свет, — с комичным выражением лица и слегка наклоненной набок головой согласился с собой Гордас. — Да-да, слава всегда была чужда высокородным гениям. Толпа поклонников и подражателей… — Гордас повел рукой по воздуху, словно читая со сцены. — …только раздражала их. — Он со вздохом умолк и, не дожидаясь ответа на свою тираду, ушел в противоположном направлении, привычным метражом отмеряя шаги.
— Интересно, если бы он к тому же узнал, что у меня, ну, скажем, — клаустрофобия, как думаешь, его выступление было бы ярче? — спросил Азраил у Хэпи.
— «Несомненно ярче и в два раза дольше», — произнес тот в сторону, никакого внимания, не уделяя выразительно удалявшемуся Гордасу. — А у тебя действительно клаустрофобия?
— Хватит и светобоязни, — уклончиво ответил Азраил.
Он махнул рукой, на которой блеснул тяжелый браслет в виде змеи.
* * *
Чистый водоем, мягким светом струится тепло, распадаясь на тысячу бликов. Как ярки они, дрожащие на воде, насыщенные полотнища цвета. Это — картина, погруженная в воду, а может, перемешанная с водой, или же, — нарисованная на воде, из цветной воды сотканная? Заретта не знала, впервые столкнувшись с чудом лицом к лицу. Перед ней был целый мир, город, теплые крыши домов разноцветной черепицей играли на солнце. Даже если здесь и существовало время, оно пребывало в невесомости и мало что значило. На перевернутой улыбке месяца, подобрав под себя ворох звезд, сидело лохматое существо с длинной мягкой зеленой шерстью и черными бусинками глаз. Заретте хотелось влиться в эти краски, смешаться с ними. Она уже давно плыла по сказочному источнику, однако картина до сих пор была неосязаема: волны с нежным журчанием расступались перед ней, не нанося никакого вреда изображению. Зеленое существо спрыгнуло вниз. Аккуратно опустившись на ровную гладь, оно заспешило куда-то по искусно расписанной воде, все дальше и дальше по черепичным крышам.
Не будучи созерцателем, Заретта не могла подолгу переносить статичную красоту. Ей просто необходимо было все разрушить и потом рыдать над сделанным, восстанавливая по уцелевшим частицам. Эти мокрые краски, яркие, больные, казались для нее слишком красивыми, хотя бы еще для одного мгновения жизни. Бросаясь пригоршнями брызг, Заретта разбила сказочную картину, не откликавшуюся прежде на ее внимание, на ее восторженные глаза и нежные прикосновения. И вот — краски смешаны, волны сглажены, все спокойно, прозрачная, чуть голубоватая вода, чистый водоем.
Заретта проснулась, по комнате носился холодный ветер, шумно дрожали шторы.
* * *
Азраил смотрел в небо и не мог пошевелиться. Небо было необычным, ослепляя яркостью, оно создавало над ним лазуритовый купол. Тело и голос не подчинялись. Сквозь эту сумятицу чувств и красок на мгновение проступило лицо Заретты. Азраил знал, что обязан спасти ее, что, если он не попытается, все будет кончено раз и навсегда.
— Заретта! — произнес он… и проснулся. Глаза резало: сказывалась бессонная ночь.
Со сцены доносилось монотонное жужжание.
— Азраил, ты что там, уснул? — Спросил Квентин, нервно ломая пальцы.
Хэпи пожал плечами:
— Ну, если Азраил уснул…
— Да все в порядке, просто я не привык быть в зрителях, — быстро сообразил Азраил.
— Ну да, затерялся среди кресел и дремлет, — буркнул Гордас.
— Азри, нам завтра выступать, — Голубые глаза рассыпались на мелкие искры. Так всегда было, когда Квентин всерьез расстраивался.
Сола стояла молча, потупившись, перебирая в руках листы со стихами. И только Верти никак не реагировал, бормоча про себя что-то совсем не относящееся к роли.
— Приветствую всех! — В зал вошел Руфус.
— Руфус! — обрадовался Азраил.
— Ты просил сегодня заехать, я — здесь. — Руфус на ходу снимал с себя длинное пальто и разматывал цветной шарф.
— У нас перерыв только через полчаса, — строго проговорила Сола, не поднимая глаз на вошедшего.
— Сола, отпусти меня, я знаю свою роль, я не подведу, — вдруг попросил Азраил.
Сола от удивления даже пошатнулась.
— Друзья мои! — на той же радостной и от того безумной ноте обратился Азраил ко всем. — Вы — лучшие, вы прекрасно играете, и завтра все пройдет без помех.
Погруженная в удивление, сцена не отвечала. Воспользовавшись этим, Азраил, подхватив под руку Руфуса, быстро вышел с ним из зала.
— Ты, брат, меня не пугай. Ты сегодня утром был мрачнее смерти, а сейчас… — Руфус остановился. — Ты как… как себя…
— Да что ты, за психа меня держишь? — рассмеялся Азраил звонко, легко.
Пальто сползло с плеча Руфуса. На мгновение тишина запорхала в воздухе.
— Я не псих, — тем же восторженным голосом произнес Азраил и, помолчав, добавил: — Ну, по крайней мере — пока.
Руфус не знал, верить ли словам Азраила, или это действительно были первые признаки помешательства.
— Мне сон снился… — начал Азраил, но вдруг осекся. — Я так и не спас ее, — добавил он помертвевшим голосом.
Резкая перемена настроения Азраила испугала Руфуса больше, чем недавние восторженные речи:
— Не спас кого?
Азраил молчал. Руфус заглянул ему в лицо. Глаза были закрыты, тонкие брови напряженно дрожали.
— Я не смог, Руфус…
Руфус похлопал Азраила по плечу, и они, молча, не говоря друг другу больше ни слова, вышли из театра.
* * *
Спокойная дремота летала над веками, смешиваясь с ровным дыханием, мысли приходили в затуманенный порядок, хотя одна из них, упрямо окопавшись в сознании, заезженной пластинкой все твердила свое:
«Ушел, он ушел, ушел».
— Барри! — позвал громкий голос.
Барри недовольно зашуршал на ворохе соломы.
— Ты здесь, Барри?
Недовольное шуршание повторилось.
— Да кто ж он был, по-твоему? — спросил другой, хриплый голос, принадлежащий седому старику. Он вошел в просторное помещение конюшни, ведя двух лошадей под уздцы.
— Никто о том не знал, — ответил ему обладатель громкого
голоса, худой и очень высокий мужчина. — Барри! — крикнул он опять в темноту.
Полулежа на ворохе соломы, Барри устало щурился на вошедших, которые никак не могли оторваться от рассуждений. Барри прислушался.
— Поговаривают, будто дьявол сам, — прибавил худой испуганным, но таким же громким шепотом. Казалось, его раздражение распространялась только на темноту, в которую он время от времени бросал чье-то имя и разные ругательства, приправленные деревенскими словечками. Вот и теперь, высказав свое предположение касательно предмета беседы, он опять крикнул:
— Барри, чтоб тебя! Где ты?
Барри поднялся, с любопытством уставившись на говорящих:
— Я здесь.
— Да как-то несолидно было для такой персоны из нашего колодца вылезать, — заметил старик.
— Зато каков? Костюм новехонький, волосы огненные и диковинный цветок в петличке, а глаза, глаза… — возразил его спутник.
— А знаете, что говорят? — тихо произнес Барри, решив вмешаться в беседу. — На том костюме, в котором вылез он из нашего колодца, ярлык магазинный был. А еще в руках у него видели книгу.
Голый по пояс, в завернутых жокейских штанах, Барри вышел на свет, отбрасываемый лампами, что держали в руках двое спутников.
Хорошо сложенный, с развитой мускулатурой, Барри выглядел старше своего возраста. Его глаза, вокруг которых лежали густые тени въевшихся в кожу синяков, что бывают от усталости и бессонных ночей, очень выделялись на лице, словно подведенные тушью. Неровно подстриженные тонкие волосы были спутаны, наподобие той соломы, с которой он только что поднялся. Светлые, с грязным оттенком, они придавали ему нелепый вид.
— Он просто вор, — грубо плюнул старик и закашлялся. — А ты, сынок, лошадей по местам развел бы и не мешался б в споры: молод, глуп, — обратился он к Барри. — Ишь, чем голову забил, и так пустая…
— Просто вор? — в голосе Барри почувствовалась досада. — Как ты мне, дедушка, разъяснишь: он из колодца-то сухим вылез, и книга при нем сухая была, я видел сам… — Барри закатил подведенные глаза. — Как ни посмотри — дьявол.
— Возьми лошадей, Барри, — грубо ответил тот. — …Сухой, говоришь, был?
— Вы бы, батя, Барри не ругали, он…
— Он — дурак, — опять закашлявшись, перебил зятя старик. — Так вот, Барри. Кто в дом его привел, не ты ли? Сестру свою до помешательства чуть не довел.
— Да, да, — проговорил Барри поспешно. Могло показаться, что он просто не заметил неприглядных слов, сказанных в его адрес, но Барри не пропускал обид, напротив, внимательно вслушивался в них, стараясь запомнить в мельчайших подробностях. Он знал, что это делало его сильнее, лишая излишней чувствительности и ранимости, которым он был подвержен еще в недавнем детстве. Молча взяв лошадей под уздцы, Барри пошел с ними прочь.
Вскоре все стихло, собеседники разошлись, по-прежнему о чем-то споря.
* * *
Замерзающее солнце то пропадало, то вновь появлялось, день перетекал в вечер. Редкие прохожие, словно мелкие песчинки, разбавляли пустоту огромного, едва подогреваемого города. Молча шли Азраил и Руфус по пустым улицам, вымороженным, выглаженным серым асфальтом. Не было слов? Не было. Были одни только чувства, которым не было слов. Руфус напряженно считал шаги, каждый раз с ужасом замечая, что его шаг не совпадает с шагом Азраила. Он хотел прервать эту серую мрачность, но никак не мог придумать, какими словами. Между тем молчание становилось опасным: Руфус боялся обернуться на Азраила, боялся понять, что водит за собой мертвеца, бездыханное тело.
— Азраил! — наконец позвал он чуть слышно.
Азраил прошумел в ответ что-то неразборчивое, чем очень обрадовал Руфуса.
— Может, расскажешь, что это за сон ты видел в театре… — неуверенно попросил он.
— Небо такое странное, словно вода… Я должен был спасти ее… — несвязно проговорил Азраил.
— Кого? Кого ты должен был спасти? — настороженно переспросил Руфус. Его угольные глаза прожигали насквозь.
— Не помню, — неохотно солгал Азраил.
Руфус и Азраил познакомились на выставке антиквариата вот уже почти год назад.
Заметив Руфуса у большого стеклянного витража со старинными песочными часами, внимательно разглядывавшего экспонаты, Азраил, пролетевший уже половину выставки без особого интереса, наконец чему-то удивился. «Так который сейчас час?» — иронично осведомился он, подойдя к незнакомцу.
* * *
Ночь опускалась неслышно. По всей шумной деревушке гасли огни. Обитатели дома давно спали, и только луна, страшная, зловещая, бродила по окнам, кого-то звала. Барри еще долго ворочался на соломе под храп лошадей. Но вскоре сон овладел им. Внимание его привлек загадочный столик, освещенный одиноким лучом. В центре его стоял большой белый слон, окруженный резными фигурками поменьше. Вокруг была темнота, и по ее пространству плыла чудесная мелодия: всего несколько нот, запаянных в кольцо бесконечности. Мелодия эта звучала, не прерываясь, и Барри не помнил, как она началась. «Подбери мою музыку», — попросил незнакомый голос. Подчиняясь правилам снов, Барри уже знал, что подбирать мелодию надо из отдельных звуков резных фигурок. Он взял одну из них — та издала что-то отдаленно похожее на звон колокольчика. Барри улыбнулся, но в этот момент страх и сомнение овладели им. «Как же я подберу, ведь их так много? И многие совсем не подходят! Что я должен разгадать? Какую тайну? Дед зовет меня дураком…»
— Барри… — Кто-то тихо позвал среди ночной немоты. Голос спугнул чуткое сновидение, мгновенно разорвав сюжет. Барри открыл глаза.
— Джайв, это ты? — спросил он неуверенно.
— Я. — Огромный факел вспыхнул перед лицом Барри.
— Ты что! Сейчас спалишь дедовскую конюшню, а завтра и меня не станет. — Барри вскочил на ноги.
В потоке света открылся ночной гость. Это был маленький парнишка, лет восьми.
— Барри! — Глаза ребенка засветились ярче факела.
— Да затуши ты этот кошмар! — Барри вырвал факел из рук мальчика, окунул его в ведро с водой и сел на пол рядом с ворохом соломы.
В голове его пронеслись недавние картинки:
— Что, Джайв, у тети Салли опять мигрень?
Ночного гостя звали Джайв. И хотя никто в деревне не знал значения этого слова, да и вообще, как оно могло залететь в это глухое местечко, было не понятно, все к нему привыкли и видоизменяли в ласкательных формах на свой манер. А сам его обладатель залетел сюда, по примеру своего имени, тоже случайно. Вместе с маленькой сестренкой его, сироту, взяла на воспитание Салли Пэлсис, тоже своего рода сирота: трижды вдова, обладавшая, помимо тройного наследства своих мужей, скверной славой. Молва о ней ходила нехорошая, за глаза ее называли отравительницей, душегубкой, ненасытной богачкой, а между тем бедняжке просто не везло с мужьями, век которых оказывался по какой-то дурной случайности короче ее века. Вот она и решила приютить бедных сироток, как раз занесенных судьбой в их деревушку. Так или иначе, какие бы слухи ни ходили об этой престранной мадам, Салли Пэлсис, возможно, была не так уж плоха, и под нарядной роскошью черных убранств, а она еще донашивала траур по последнему мужу, скрывалось сердце, что способно испытывать жалость.
— Да, и-и-и… — промямлил гость. — Она так кричит на всех. Мы ушли было в сад, но тут… Я бы и Мэрси привел, да она уснула, вот… — А-а-а, — простонал Барри.
— Тебе, что, плохо? — гость погладил Барри по волосам, заботливо вытащив из них соломинку.
— Ну, по крайней мере, лучше, чем тетушке Салли, — тихо рассмеялся тот. Потом серьезно добавил, испытующе глядя на Джайва: — Скажи, если бы я сыграл тебе мелодию, а затем разбил ее на отдельные звуки, ты смог бы сложить ее обратно?
— Нет, Барри, думаю, что не смог бы.
— Это еще почему?
— Тетя Салли говорит, у меня нет никаких талантов… — Она не серьезно, Джайв, — Барри улыбнулся.
— Хорошо, — согласился тот. — Но ты бы смог. Ты прекрасно свистишь, подражаешь птицам даже.
— Ну, не знаю… — Барри были приятны эти слова.
— Я принес… — прошептал Джайв неуверенно: видно было, что ночному гостю очень хотелось о чем-то рассказать, и что он не просто так зашел поздороваться.
Барри же, погруженный в мысли, ничего не замечал. Мальчик переминался с ноги на ногу:
— Барри, послушай, — наконец вымолвил он. — Смотри! — В руке Джайва появился какой-то предмет. Барри поднял голову.
— Вот что ты прятал за спиной, — так же машинально произнес он, не отрываясь от своих мыслей.
— Мэрси нашла его в том саду. Ну, когда тетушка выгнала нас на улицу, мы в тот сад побежали, там, где колодец. Мэрси хотела его в волосы вплести, а я отобрал, смотри, какой он странный. Красивый?
— Угу, — ответил Барри.
— Я боюсь, тетя Салли возьмет его себе… — Парнишка поднял руку с чем-то красивым, задев по носу Барри.
— Ты что делаешь? — закричал тот.
— Извини, — испугался мальчик.
— Что, что это? — Барри почувствовал приятный запах на кончике своего носа. — Цветы?
— Он один, — шепнул Джайв загадочно.
— Знаешь что, цветы будешь на свидания девочкам носить. А я спать хочу. И чего ты не отдал его Мэрси, она бы уж ему нашла применение? И вообще, тетя тебя не похвалит за то, что ты чужие цветы рвешь… — Барри начал зевать и не договорил.
— Да я не рвал, он там сорванный лежал. Сорванный — и, посмотри, Барри, такой свеженький, будто сейчас сорвали.
Барри вздрогнул, неприятные догадки пронеслись в голове.
— Я ее до слез довел, — продолжал Джайв. — Но цветок отобрал. Насилу успокоил, тетя ей сладкого молока дала, да все расспрашивала, что за цветок такой. А я Мэрси запретил рассказывать. Теперь забыла, спит. Я из комнаты и улизнул.
Барри вновь уловил сладкий запах — озноб пробежал по спине. Он встал, нашарил коробку спичек, чиркнул, спичка не зажглась, вторую — не зажглась. Барри чувствовал, как у него дрожали руки. «Что это» — подумал он. — «Страх?»
— Да ты садись, Барри, я зажгу, — с участием предложил Джайв.
Барри передал ему спички.
Глава 11. Божий шут
— Я теперь знаменитость. — Сола стояла у большого зеркала, поправляя прическу. На ней было пышное платье, расшитое золотой ниткой. В руке она держала корону.
— Ты знаешь, Квентин, в таком жанре они с Гордасом, пожалуй, споются, — тихо заметил Хэпи, наблюдая за Солой в полуоткрытую дверь, оставленную словно нарочно на этот случай.
— В каком? — не понял Квентин.
— В королевском, что ли? — Туго стянутая косынка на лбу была безукоризненно подобрана под цвет костюма. — Времени в обрез. — Хэпи медленно пошел прочь, поскрипывая паркетом.
— Настоящая королева … — Квентину не хотелось уходить, но он пересилил себя и побрел вслед за Хэпи.
— Дурак, — вдруг, обернувшись на него, произнес тот.
Квентин остановился:
— Почему дурак? — В голосе дрожало неподдельное удивление.
Хэпи вздохнул и на выдохе произнес:
— Дуракам не объясняют. — Он отвернулся и пошел дальше.
— Может, все-таки объяснишь? — догнал его Квентин.
— Зачем? Это ничего не изменит.
Квентин выглядел озадаченным:
— Я чего-то не понимаю?
— В точку, — кивнул Хэпи.
* * *
Большая собака бежала по дороге, заливаясь радостным лаем.
— Люблю парки. Здесь ты никому не интересен, и никто неинтересен тебе, — вполголоса рассуждал Илвис. Заретта шла молча, скрестив руки на груди.
— Можно предположить, о чем ты подумала.
Девушка молчала, выстукивая шагом беспокойный ритм, и вряд ли думала над словами Илвиса.
— Безразличие — это страшный враг человечества, еще пока не узнанный им. Пустота, с молниеносной скоростью пожирающая все живое… — Илвис на мгновение замолчал. — В воздухе царит настроение потерянности и неустроенности, какой-то, знаешь, бездомности, осиротелости…
Заретте показалось, что он опять цитировал статью из газеты. Она улыбнулась, проговорив тихо:
— Почему многие потенциально сильные люди на этой земле способны лишь на самое малое: роптать? Недовольство, жалость к себе и осуждение других…
— Я не ропщу, — перебил ее Илвис. — Я удивляюсь.
— Ты так удивляешься с самого утра, и, знаешь, это совсем не похоже на речь исследователя, заинтересованного в чем-то, но — на речь уставшего, разочарованного человека. Ты как старый инструмент, заброшенный на пыльный чердак, скрипишь и выдаешь ложные ноты.
Илвис со вздохом провел рукой по лбу.
— Отлично. — Меланхолия в голосе сменилась веселостью.
Заретта смутилась:
— Извини.
— Нет, почему, все верно, — приободрил ее Илвис.
— Сегодня у брата премьера, не опоздать бы… — В словах Заретты послышалось беспокойство.
— Опоздать? С Найтом не опоздаешь, — произнес Илвис улыбаясь. — Тем более, что сегодня он обещал подбросить меня, и должен здесь быть через полчаса, как минимум.
* * *
Квентин чуть не плакал от ужаса, не решаясь войти в главный зал.
— Ну, вот, я говорил? — грустно прокомментировал Хэпи.
Сола, заметив вошедших, оттолкнула Гордаса. Тот по-театральному упал перед ней на одно колено.
— Что это было? — спросил Квентин негромко. — Только что….
Гордас оборвал его криком:
— Не мешайте репетиции!
— Гордас решил опять идти против всех. — холодно догадался Хэпи.
— Что-то я не помню такого в сценарии! — опомнился наконец пришедший в себя Квентин.
— Так ты ж сценарии никогда не читаешь! — зло резанул Гордас, вставая.
— Генеральная репетиция назначена совсем в другом месте, — невозмутимый тон Хэпи не выдавал симпатий.
Сола стыдливо потупилась.
Верти и Азраил громко рассмеялись, заглянув в двери.
— Репетиция назначена в малом зале. Затерялись? — Впервые за долгое время Азраил был весел и шутил.
Сола остановила на нем глаза, и теперь ей было больно, почти физически больно отвести их, и она не отводила, как можно дольше всматриваясь в Азраила, словно стараясь впитать в себя видимое. Абсолютно забыв о присутствии других, о присутствии их вообще, в целом мире, а не только в этом зале, она не могла произнести ни слова.
— Все по привычке — сюда. — Хэпи опять не выдержал паузы.
— Идем! — позвал Верти, увлекая за собой Азраила, Гордаса и Хэпи.
— Куда? — спросил Квентин растерянно, вылетев вслед за ними. Вдруг он остановился и, не сделав еще шага, повернул обратно:
— Сола! — позвал Квентин сдержанно.
Сола перевела на него отрешенный взгляд.
— Идем.
* * *
— Мне вчера сон странный приснился. — Заретта перебирала в руках новенькие кисти, купленные только что на выставке.
— Сон? Расскажешь, может быть? — непонятно на что вдруг обиделся Илвис.
Заретта задумалась. Джексон спокойно лежал у ее ног и внимательно вглядывался в даль.
— Я теперь смогу закончить свою картину…
— Это ту, что ты не можешь дорисовать уже несколько лет? — Илвис живо представил стену в доме Заретты, на которой, он помнил, висели ее картины.
— Да. Ту самую.
— Что на ней изображено?
— Ну… — Заретта замялась. — Это сложно… — Не понимаю. Объясни.
Заретта разложила кисти в ряд на коленях.
— Я же тебя не могу спросить: о чем твоя скульптура? То, что мы видим, лишь поверхность, искусство гораздо глубже…
Илвис одобрительно кивнул.
— Так и с моей картиной. Я думаю, больше всего это похоже на разрушенный город, только вот в центре его… Теперь я знаю, там должен быть источник. Его я и видела во сне.
— Сны — опасная штука. Сивилла считает их воспоминаниями наших прошлых жизней…
— Твоя сестра верит в подобные вещи?
— Да, верит. — Илвис забарабанил пальцами. — Наверное, от того, что преподает мифологию. Ну так вот… — он не успел договорить.
Джексон сорвался с места и побежал вперед по дороге. В кустах, куда он направлялся, мелькал пушистый шар.
— О, мой бог, опять… — вздохнул Илвис, ничуть не удивившись.
— Что это с ним? — шепотом спросила Заретта. Она напряженно вглядывалась в густые заросли парка.
— Темперамент, — ответил Илвис с улыбкой. — Кошки покоя не дают. Сейчас прибежит.
* * *
— Ах, он страдает, — пробасил Верти, глядя на Квентина, сидевшего на ступенях сцены в полном одиночестве, опустив голову на колени.
— Вы не видели той сцены, — вздохнул Хэпи, встав в дверях рядом с ним.
— Какой сцены? — спросил Азраил настороженно, руками упершись в дверные косяки.
Верти пожал плечами.
— Сцены с поцелуем Солы и Гордаса, — ответил Хэпи.
Квентин поднял голову. На бледном лице сияли голубые глаза. Длинные волосы, рассыпавшись по плечам и спине, почти полностью покрывали его тонкую фигуру.
— Не стыдно вам при мне шептаться обо мне? — возмутился Квентин.
— При мне и обо мне — какие казенные рифмы, — поморщился Хэпи. — Никто и не думал шептаться, мы говорили, используя среднюю мощь голосовых связок, — он подошел к сцене.
— Она меня не любит, — с пьяной мрачностью вымолвил Квентин.
Всем на мгновение стало больно: Верти вцепился в свой крест, Хэпи опустился на ступень рядом с Квентином, а Азраил глотнул воздуха.
— Ну, целовались они, что с того? Сола влюблена в Азраила. Гордас — лишь временное утешение, — спокойно рассуждал Хэпи.
Квентин поднял на него измученные глаза:
— Что?
— Я думал, ты знаешь, — пожал плечами тот.
— Теперь знаю, — прошептал Квентин.
Покинув дверной проем, Азраил вслед за Хэпи подошел к Квентину.
Подобрав разорванную ленту, валявшуюся у его ног, он тихо произнес:
— Послушай, у настоящей любви не может быть ревности.
— Вот как? — Квентин болезненно улыбнулся.
— А врачующей философии у тебя не найдется? — Риторически съязвил Хэпи.
— Ревность — прямое доказательство любви, — ответил Квентин раздраженно, — и вообще, оставьте меня.
— Не любви, а глупости. — Как бы про себя уточнил Хэпи.
— Рассуди, — проговорил Азраил. — Зачем ревновать? Если тебя любят, для этого чувства нет причин. А если тебя не любят, тем более не имеет смысла ревновать.
Последним к сцене подошел Верти.
— Есть только два ответа: «да» или «нет», на них ревность не распространяет свою власть. — продолжал Азраил. — Только два. Все остальное — это сомнение. Вот его следует бояться. Как можно быстрее узнай ответ и не отравляй душу сомнением…
— Я знаю ответ! — крикнул Квентин, перебив Азраила. — В этом-то все и дело. — Вдруг он вскочил, вырвал кусок ленты из его рук и наспех перевязал им волосы, затем, немного успокоившись, снова сел на место.
— «Вот что, Квентин», — произнес Азраил переменившимся тоном, в котором зазвучала жесткость. — Сначала будет больно, а потом — все равно. Запомни это.
Квентин вздрогнул:
— Ты говоришь о смерти?
— Безответная любовь — та же смерть. — Азраил сел на ступень рядом с Квентином и Хэпи. Верти стоял над ними, с мрачной важностью разглядывая каждого, тяжелый крест его переходил из руки в руку.
— Вы опять тут? Перерыв закончился. Все — на репетицию, живо! — В дверях показалась Сола.
* * *
Найт стоял, прислонившись к мотоциклу, выкуривая сигарету за сигаретой. Илвис молчал, сжимая в руках поводок.
Заретта беспокойно смотрела на часы:
— Через полчаса — начало. Я опоздаю.
— Вот. Он. Я его. Вижу, — проговорил Найт, выронив сигарету, и, заведя мотор, вскочил на мотоцикл.
Где-то далеко в кустах показался Джексон.
— Джексон, сюда, ко мне! — закричал Илвис.
Собака побежала в противоположную сторону. Впереди нее несся маленький пушистый комок.
Заретта моргнула, и комок исчез. «Наверное, солнечный зайчик», — подумала она.
— Жди нас, мы скоро, — постарался успокоить ее Илвис.
Мотоцикл зарычал по дороге.
В Заретте что-то оборвалось, кисти из ее рук выпали, дыхание сбилось. Она растерянно опустилась на лавочку. Время вдруг понеслось стремительно, вроде рычащего мотоцикла, минутная стрелка срывалась с места, перелетая от одного деления к другому. Заретта закрыла ладонью часы, стараясь не думать о времени.
* * *
В зале уже слышались голоса зрителей.
— Я ведь могу и уйти из театра, — донеслось из костюмерной. — Верно? — Темные глаза Хэпи испугали бы любого. — Вы как-то сказали… — продолжал наступать он, — Азраил — козырной масти. Помните?
— Да, я говорил, — ответил Вальсам нежно, перебирая черные четки в руках. — Как и положено ведущему актеру труппы.
— Вы не устаете мне напоминать, что я не…
— Хэпи, — перебил Вальсам. — Вам не кажется, уже несколько поздно говорить о том, что роль вам не подходит?
— Я ведь могу и уйти, — повторил Хэпи. Его голос был спокоен, хотя и звучал громче обычного.
— Да. Но если вы перед тем сорвете спектакль, это, скорее всего, навредит вашей дальнейшей карьере. Вы неверно истолковали мои слова, ведь масть — не главное. Даже у самой сильной карты в колоде ее нет. Никогда не задумывались?
— Самой сильной карты?
— Да, это джокер. Вопрос только в том, хотите ли вы им быть.
— Хочу ли я быть шутом? — задумался Хэпи. Вальсам сделал вид, что не расслышал его слов.
— Впрочем, я могу рассмотреть ваше заявление об уходе», — произнеся это, он вышел из костюмерной.
— Джокер? — Хэпи не знал, то ли злиться ему, то ли прыснуть от смеха.
— Пойдемте к нему, — проговорила Сола вполголоса. Верти и Квентин переглянулись: подслушанный ими разговор лишал уверенности в действиях.
— Пойдемте же!
— Постой, Сола, — остановил ее Азраил. — Вряд ли Хэпи будет приятно узнать, что мы стали свидетелями его распри с Вальсамом.
— Тебе подарена златая нить, поэт! — по коридору застучали метражные шаги Гордаса.
— Умолкни! — крикнул на него Квентин.
— Да что вы, ей-богу, я все уже объяснил! Я чист и невинен!
— не замедляя шаг, оправдывался Гордас. Всего один поцелуй, и тот — в счет роли. Я пошутил. Сегодняшний инцидент объявляю исчерпанным! — Он подошел ближе.
Сола на его слова только зло усмехнулась и, резко развернувшись, ушла.
Верти недовольно посмотрел в сторону Гордаса, пригрозив крестом.
— Да что с вами со всеми! — закричал он обиженно. — Репетицию еле пережили, теперь боитесь на сцене оплошать? Стресс нервный?
На пороге костюмерной показался Хэпи. Верти, Квентин и Азраил подняли на него вопросительные глаза. И только Гордас недоуменно смотрел вокруг:
— Я что-то пропустил? — прошумел он.
Не говоря ни слова, Хэпи пошел по коридору вслед за Солой, путаясь в длинном старинном плаще, едва наброшенном на плечи.
— Что? — крикнул ему вслед Гордас. — Роль не по нраву?
Хэпи не ответил и даже не обернулся, но Гордас понял, что угадал.
Он самодовольно хмыкнул и отправился следом.
Незаметно подошедший Вальсам нежно произнес:
— Пора начинать. Готовьтесь. А где наш повествователь? Где Верти?
На месте, где только что был Верти, лежал крест.
— Верти, должно быть, уже на сцене, точнее, за сценой, — предположил Азраил.
Вальсам посмотрел на Азраила внимательно, своим особенным оценивающим взглядом, и ушел.
— Отчего он так на тебя смотрел? — В голубых глазах Квентина показалось любопытство.
— Не знаю… — рассеянно пробормотал Азраил, и словно в подтверждение того, что думает совсем о другом, спросил: — Ну что, Мирт?
Сложно сыграть чувство, если это чувство не актерское, а твое собственное? Квентин опустил глаза:
— Я сыграю.
— Сыграть — все равно, что прожить, — улыбнулся Азраил.
— Обижаешься на Гордаса?
— Он — мой лучший друг по пьесе, как можно? — с лукавством ответил Квентин.
* * *
Найт рассматривал пыльные камни под ногами.
— Уму непостижимо, — наконец выговорил Илвис. — Куда он делся? Не мог же он…
Найт усмехнулся никогда не улыбающимися сжатыми губами:
— Не мог.
— Да здесь бежать-то толком некуда… Значит все-таки под землю… — Что? — спросил Найт настороженно, потом отмахнулся. — Это глупо.
— Конечно, глупо, — улыбнулся Илвис. — На мотоцикле, и не можем пса догнать.
— Вот он, — заметил Найт. Мотоцикл вновь затрещал по дороге.
У ног Заретты забыто валялись кисти. Она посмотрела на часы — стрелки упали ровно на семь:
— Опоздала!
Глава 12. Законная дерзость
Занавес поднялся. Голос Верти торжественно начал:
— Прошел обычный день, и мир под вечер крепко спал,
Вдыхая снов беспечные мотивы.
Но тот приказ был свыше дан,
И отменить его он не был в силах.
Итак, должна случиться встреча,
Что бросит вызов правящим богам,
Что спутает привычное теченье дней,
И будут те приравнены к векам.
* * *
Заретта сидела неподвижно, все еще поглядывая на часы. Задержавшись в вертикальном положении, как акробат в воздухе, минутная стрелка наконец начала двигаться дальше. Заретте вдруг показалось, что запахло цветами. Она огляделась — и тут только заметила упавшие кисти. Заретта принялась собирать их, чья-то бледная рука подала ей одну. Девушка подняла глаза. «Какая красота…» — она забыла, как дышать, и только смотрела, не отрываясь. Среди тех странных снов, что она видела последнее время, был один, который нравился ей больше остальных. События в нем не происходили и картинки не двигались, одно огромное неземное чувство заполняло бессознательное пространство, чувство ее любви к кому-то. Заретта не могла понять этого: чувства, казалось ей, сниться не могут, если их на самом деле не испытывать в реальной жизни, а она не испытывала подобного ни к кому. Часто по вечерам, уже засыпая, она смутно ловила себя на мысли, что молит кого-то вновь показать ей тот сон, дать возможность снова пережить то счастье. Именно теперь Заретте показалось, что она заснула, и наконец ей снится желаемое.
— Эль, — представился незнакомец. Это был молодой человек, примерно ее возраста, в белом костюме, безукоризненные заломы дорогой ткани которого модельно сочетались с его фигурой, прослеживая все изгибы тела. На голове его была стильная шляпа, на руке висел белый плащ. В его изящных пальцах подобранная кисть чувствовала себя несколько смущенной.
— Спасибо, — пробормотала Заретта, протянув руку.
* * *
(Верти набрал в грудь воздуха).
— Итак, внимайте этой повести,
Рассказу вымыслов глубоких.
Здесь места праздному лукавству нет,
Как нет здесь места лжи и суетливой фальши.
Пусть небеса прольются без остатка
На истину мерцающих побед,
На миф, обманутый в своем существованьи,
На быль не прожитых, но выдуманных лет.
Мирт:
— Утром ранним, когда природа столь чутка и благозвучна,
(Квентин шел по сцене уверенными шагами).
…в старинном храме,
Что у подножия вершин, казавшихся вратами Рая,
Впервые я увидел этот образ…
Боже! Как будто небом в сиянье этом
Была ниспослана сама судьба моя.
Кельвин:
— Чему ты радуешься, друг мой?
(На лице Гордаса лежала скорбь).
Мирт:
— Отдал бы за мечту я тысячу своих желаний
И жизнь в придачу, если мало!
Кельвин:
— Ну, ну, остынь. Да кто ж она?
Мирт:
— Хозяйка снов моих!
Кельвин:
— Беда…
Мирт:
— Беда? Не в том беду ты углядел, мой милый Кельвин.
Ее красы художник не опишет.
И все поэты мира пали б перед ней,
Глубокому безмолвию покорны,
Когда бы видели улыбку алых губ!
(Восторженно продолжал Квентин).
Но почему ты бледен и молчишь?
Ты мне сулишь судьбу иную?
Я ведь нашел свою судьбу,
И в ту минуту…
Кельвин:
— О, минуту злую!
(Перебил Гордас. Он играл превосходно, отважно лавируя на сарказме, как на маленьком суденышке в ночной шторм).
Мирт:
— Минуту роковую не отличаешь ты от счастия святого!
Кельвин:
— Позволь напомнить.
Тебе подарена златая нить, поэт,
Меж небом и тобой.
Как смеешь, ты, певец благой,
Петь не о благе, но о смертном счастье?
Сотки же чудо, волшебство,
А не убор стыдливой страсти.
* * *
Заретта на мгновение провалилась в глубокие глаза незнакомца. В них были зеркала, и в тех зеркалах она повсюду видела свое отражение.
— Спасибо, — еще раз поблагодарила она, и, хотя некоторые кисти по-прежнему продолжали валяться на земле, кисть, что он так изящно подал ей, Заретта крепко зажала в ладони.
Эль присел на лавочку рядом с девушкой. Робкое солнце заглянуло в аллею и загляделось на них.
— Тепло… — он приложил руку к глазам.
— Да… — Заретта путалась в мыслях. — Однако довольно холодно.
Молодой человек странно посмотрел на нее.
— Я хотела сказать, что солнце не греет. Правда, странно? — Она взглянула на незнакомца. Его лицо не поддавалось ни одному эпитету красоты.
Эль не ответил. В руках его вдруг появилась книга.
— Что это? — Заретте очень хотелось, чтобы Эль не заметил ее растерянности.
— Это подарок. Возьмите. — Юноша протянул ей книгу. Он не улыбался, на его красивом лице вообще не отображалось эмоций. — Подарок?
— Да, — кивнул Эль. — Только вы можете прочесть ее, прочесть правильно, Заретта.
И что это был за голос! Когда он говорил, казалось, с его языка ссыпались драгоценные камни, сверкающий их поток завораживал. Как прекрасны были его слова, как глубоко они селились в сердце, пуская цепкие корни воспоминаний.
— Только вы, — повторил он вполголоса.
— Вот как, — проговорила Заретта поспешно и взяла книгу. — Спасибо. — Ей вдруг стало жаль этих щедрых россыпей богатства, особенно теперь, когда Эль говорил тихо и словно бы нехотя. — А имя вы мое откуда знаете?
* * *
Иллюзи:
— Так вы поэт? Однако страстный!
(Сола глядела поверх Квентина, величаво обмахиваясь веером. Смена декораций переносила зрителя в старинный замок, в одном из залов которого на троне сидела королева. Корона утопала в копне шоколадных волос).
Поэты при дворе нам так нужны…
Кельвин:
— Ей не хватает прямоты: одни иносказанья!
(Шепнул Гордас в сторону зала. Он протянул вперед руку, словно ища своей догадке подтверждения).
Мирт, ты не согласен?
Мирт:
— О Кельвин!
Ты ядовит и безобразен.
Что ж, пускай.
Я путь к мечте найду ведь все равно…
Кельвин:
— Ведь все равно…
Мирт: (обращаясь к Иллюзи)
— О нет, поэтом быть прошу не вашим!
Иллюзи:
— В чем же дело? Такого рода сан вам не к лицу?
Мирт:
— На все я подвиги отважен, но этот вызов не приму!
Иллюзи:
— Но почему?
Моя казна щедрот монархов не считает,
Ведь скупость не живет в деньгах.
Кельвин: (опять в сторону)
— Впервые слышу. Перифраза, на самом деле все не так.
Мирт:
— Как это глупо, Кельвин.
Кельвин:
— Глупо, брат.
Мирт: (обращаясь к Иллюзи)
— Нет.
Иллюзи:
— Вы объяснитесь?
Мирт:
— Во мне живет неведомая боль.
Иллюзи:
— Какая же?
Мирт:
— Вы — королева.
Иллюзи:
— А вы кто, сударь мой?
Мирт:
— Я? Не король.
Иллюзи:
— Как вы дерзки!
Мирт:
— Да, королева.
Но дерзость не порок, когда влюблен!
Иллюзи:
— Побойтесь бога!
Подчас портреты пишет не художник, а молва.
Поверьте, портреты те убоги.
Она враз переложит ваши дерзости на глупые стихи,
Чтоб только зубоскальством быть довольной!
Мирт:
— Но глупые стихи — лишь там,
Где глупые слова и правды нет.
Иллюзи:
— Мне эта правда не нужна.
Я этой правдой не горжусь.
Вы поднялись в моих глазах так высоко,
Не страшно ль падать?
Мирт:
— С чего вы взяли, госпожа, что упаду?
Но даже если так, пускай, скорей найдет приют моя душа.
Кельвин: (в сторону)
— Приют сей — в смерти.
Иллюзи:
— Довольно!
Вам оправдание лишь то, что вы поэт,
Прощайте.
На память я оставлю радость, подаренную вами мне!
* * *
— Так я многое знаю… — уклончиво ответил Эль.
Заретта не заметила, как они поднялись и стали прогуливаться по аллее с лавочками. Эту загадку она решила разгадать, просто задав вопрос:
— Я и не заметила, как мы… — она не договорила.
— Странно, ведь это вы захотели прогуляться. Да и потом, переживаньями в театре не окажешься, а спектакль уже давно идет.
Заретте на мгновение показалось, что она выпала из реальности, и сейчас ей все-таки снится сон. «Я же могла задремать на лавочке, пока ждала Илвиса и Найта. И…» — ее слабое предположение резко оборвалось.
— Что вы, ваши сны намного ярче. — Эль внимательно посмотрел на девушку.
— Точно… — Заретта, ничуть не смутившись того, что Эль угадал ее мысли, просто отмела предположение о сне и опять не стала ни о чем размышлять. Над ними светило солнце, и запах цветов, лившийся отовсюду, кружил голову. — Что вы думаете о снах, Эль? — спросила она весело, но тут же осеклась, заметив человека в длинном пальто, бродившего по аллее, параллельной той, по которой шли теперь они.
— Думаю, эти сны вам снятся не случайно, — ответил Эль.
— Так вы все знаете… — выдохнула Заретта.
Руфус опустил глаза и сделал вид, что происходящее на параллельной аллее его не интересует. Он медленно пошел в противоположном направлении и скоро скрылся из вида.
* * *
(Шло последнее действие. Смена декораций на этот раз переносила зрителя в лес. Квентин исступленно хрипел)
— Вы не отдали мне прощенье.
(Сола была по-прежнему холодна. Она выговаривала роль с такой монархической интонацией, что многим зрителям в зале пришлось закусить губу).
— Прощение? Помилуй, бог!
Мирт:
— Но бог сказал прощать презренных…
Иллюзи:
— С каких же это пор
Являетесь вы на приемы к королевам
В леса, не в залы?
Мирт:
— Вы не ответили на мой вопрос!
Иллюзи:
— Чего хотите вы: богатства, славы?
Мирт:
— Я не продажен, моих стихов не подменить металлом!
Иллюзи:
— Коль золото глаза не опаляет, чего хотите вы тогда?
Мирт:
— Любви.
Иллюзи:
— Любви? Ну да!
Я вас женю на самой умной из красавиц светского двора. Нет?
Мирт:
— Да…
Иллюзи:
— Да?
* * *
— Вы не ответили, откуда вам известно мое имя? У нас что, есть общие знакомые? — Заретта улыбнулась. Переживания за опоздание, угрызения совести, мысли о спектакле брата, все куда-то исчезло и не возвращалось, затмеваясь этим необыкновенно притягательным настоящим.
— Возможно, — ответил Эль.
Он взял Заретту за руку, и ей показалось, что птицы поют сладко, что солнце ослепляет, а синее полотно неба никогда раньше не было таким ярким, и… цветы. Но откуда цветы в эту пору? Заретта заметила, что, куда бы они не шли, по всему парку цвели розы. Они выглядывали из клумб, лежали под ногами, даже спускались с ветвей деревьев, что было уж совсем невозможно, ибо розовых деревьев не бывает. Заретта все списывала на хорошее настроение, богатую фантазию и, в крайнем случае, на свои художественные корни по линии отца. Ей не хотелось думать, впервые за свою жизнь ей не хотелось ничего анализировать, подводить под черту, спорить. Она отдыхала, как отдыхают люди во сне, но не оттого, что спят и восстанавливают силы, а оттого, что видят сны, в которых все безусловно и не подлежит сомнению. И потому она больше не обращала внимания на то, что солнце, хотя и ослепляло, едва ли могло согреть, а розы были неестественного оранжевого цвета. Заостренные лепестки их совсем не тянулись к свету, извиваясь наподобие змей. Эль о чем-то говорил, Заретта не понимала и половины. Его фантастическая речь, казалось, была лишена во имя эстетики всякой логики, и Заретте это очень нравилось. Ей нравились его глаза и треугольная родинка под нижней губой. Сколько прошло времени? Она забыла о времени. Рваное дыхание выравнивалось и опять рвалось. Молчание, молчание, приступ голоса, приступ голоса, молчание. О чем? Не вспомнить. Уже была ночь? Или — только ее предсумрачное состояние? Заретта забыла о времени.
* * *
(Последняя сцена. Зрители нетерпеливо смотрели на актеров).
Мирт:
— …Моя душа не столь коварна и ловка,
Чтоб соблазнить пустую бесконечность.
(Квентин горько усмехнулся)
Не отвечайте, нет! Ответ ваш ясен.
Я знаю правду!
Так бейте же кинжалом со всего размаха!
О, это «если»…
Еще я сомневаюсь, еще надеюсь!
Вот глупец…
Да, я не стою вас! Но сжальтесь!
(По лицу Квентина ползла испарина, голос срывался. Вальсам испуганно смотрел на него из зала, перебирая в пальцах четки. На сцене появилась Сола. Квентин продолжал).
Какая боль слепит глаза…
Иллюзи:
— Что это?
Мирт:
— Подруга ночи, ее величество Луна!
Какое сходство с милым ликом…
Осмелюсь ли поднять глаза?
Иллюзи: (со вздохом)
— Мой приказ… вы выполнить должны.
Пусть пыл любви умрет под черною вуалью.
Мирт:
— Под черною?
Вы уж меня похоронили и поете память?
Не в том беда, что я умру,
Вам траур не к лицу.
Одно спросить хочу…
Иллюзи:
— Не задавайте мне вопросов,
Ответы будут не мои.
Мирт:
— Ах, да: ответы чести…
Но вы забыли: не Творец я
И не создал мира,
И судьбами людей я управлять не властен,
Тем более, сердцами, наполненными ядом чувств.
Иллюзи:
— Так властна — я.
Мирт:
— Законна ваша дерзость.
Да. Делами могут души править, но не заставить…
Иллюзи:
— О том я не прошу.
Мирт:
— Вы милосердны.
О милосердие, мне ли не знать его…
Когда земля расступится пред тем, кого любили вы,
Увидит он его в пылающем жестокой истиною храме.
Все люди — жертвы приношения любви!
Иллюзи:
— Вы плачете?
Мирт:
— Улыбаюсь.
(Голос Квентина надломился)
А слезы, как и ваши слова, не мои!
То небеса надо мной пролетали и уронили нечаянно их.
Иллюзи:
— Уйдите.
Оставьте.
Ответьте. Останьтесь.
Мирт:
— Не многовато ли приказов? Прощайте.
Иллюзи:
— Скажите мне…
Мирт:
— Да, королева?
Иллюзи:
— Не королева, знайте…
Мирт:
— Мне ваша милость в сердце остриями боли…
Молчите, как вы смели? Я слов вам не давала!
Я вас…
Мирт:
— Не продолжайте!
Вы слов мне не давали.
Я слов вам тоже не даю.
(Уходит со сцены).
* * *
По дороге загрохотал мотоцикл. Заретта вздрогнула.
«Сон? — подумала она весело. — Оборвана фраза, о чем мы говорили…»
Заретта посмотрела на лавочку. Она сидела там же, где оставили ее Илвис и Найт. Под ногами валялись кисти.
«Правда сон — нет никого! — легкое, светлое чувство раздалось в душе, какое бывает только после пробуждения. — Ничего не было, — решила Заретта, вдруг задев что-то рукой. Рядом с ней лежала книга. — А, вот и было, — девушка тяжело вздохнула. — Не сон…» — Она поспешно спрятала книгу и подобрала упавшие кисти.
К ней навстречу шли Найт и Илвис, Джексон плелся позади, с трудом передвигая лапы и недовольно ворча про себя поводок оказывал на него дурное влияние: он время от времени фыркал и издавал какие-то угрожающие звуки.
— Ты не поверишь! — Илвис задыхался от волнения.
— Да, — угрюмо процедил Найт.
Заретта улыбнулась. Найт и Илвис сели по обе стороны от нее. Джексон лег к Заретте в ноги, в косматой его шерсти запутались несколько пушинок, что теперь переливались на солнце, отдавая серебром.
— Ну прости меня… — тихо начал Илвис.
— Ты не виноват, — перебила Заретта. — Да я и не обижаюсь.
— Странно… — пробормотал Найт в сторону.
Илвис наклонился к Заретте и прошептал ей на ухо, кивая на Найта:
— Никак успокоиться не может, что Джексона на мотоцикле догнать не сумел. Я, признаться, этого и сам не понимаю, — вздохнул он.
* * *
Занавес. Аплодисменты.
— Смотри не рухни в обморок, как тогда Азраил, — Гордас взглянул на Квентина, который заметно побледнел от этой громкой благодарности.
Хэпи потер переносицу:
— Даже для меня громковато.
— Да ну вас, — обидевшись, произнес Гордас. — А моду кто завел?
Азраил едва улыбнулся. Но тут занавес поднялся, и актеров попросили на сцену.
Глава 13. Золотая пьеса
Барри выглянул в окно. Там, в холодном от поздней осени воздухе, сыпал дождь, походивший на мелкий снег.
— Зима.
— Что? — Переспросил Джайв.
— Зима, говорю, холодно, — повторил Барри.
За столом сидела маленькая девочка и играла в шахматы. Она выстраивала в ряд пешки, отбрасывая другие фигуры. К слову сказать, только пешки и помещались в ее маленьких пальцах. Девочка смеялась, что-то шепча брату на ухо.
— Тетя Салли приезжает. — Джайв смотрел на Барри, не отрываясь.
— А? — вынырнул тот из своих мыслей.
— Не слушаешь… — разочарованно произнес мальчик.
— Да нет, Джайв, слушаю. Тетя Салли скоро приезжает, — произнес Барри монотонно в подтверждение того, что слушает.
— Я не говорил, что скоро! — опять обиделся Джайв.
— Ну, так я добавил, — пояснил Барри.
Джайв скупо улыбнулся. Но потом Мэрси опять шепнула ему какую-то шутку, и он повеселел.
— Знаешь, Барри, нам с Мэрси кажется… — Что кажется?
Джайв замялся:
— Ну, как это… — он медлил с ответом, чем выводил Барри из себя.
Впрочем, Барри и без него уже давно был из себя выведен странными событиями, недавно произошедшими в его семье.
— Что ты мямлишь, ты мужчина или нет? — Он всегда так говорил, когда хотел добиться от Джайва решительных действий.
— Мужчина, — быстро среагировал тот.
— Ну, так что там тебе кажется, мужчина? — улыбнулся Барри, сложив крест-накрест руки на груди.
— Мне кажется, что она в тебя влюбилась, — смущенно выпалил Джайв.
Мэрси фыркнула и с укором посмотрела на брата.
— Что ты, Мэрси, это взрослый разговор, — важно осадил ее мальчик.
— Кто в меня влюбился? — не понял Барри.
— Тетя Салли. Она, когда о тебе говорит, такая сразу становится, ну…
— Ну? — шутливо потребовал Барри.
— Красивая, что ли…
— Ну ты и выдумал! — Барри обнял Джайва. — Хороший ты парень. Мэрси опять фыркнула.
— А ты, — Барри подхватил ее на руки и закружил, — моя хорошая девчонка!
Девочка звонко рассмеялась.
— Мне будет вас не хватать.
— Ты куда-то уезжаешь, Барри? — Джайв помрачнел.
— Не сейчас, — ответил тот серьезно. — Вот пройдет зима, тогда поеду.
* * *
Хэпи шел по коридору, сосредоточенно смотря перед собой. По привычке он свернул в репетиционную.
— О, Хэпи, я ждал тебя. — Руфус сидел за роялем и, казалось, мог прожечь своим проникновенным взглядом все, что было вокруг. — Как пьеса? Меня не было в зале.
Хэпи не стал выяснять подробностей.
— Не было? — Говорить ему явно не хотелось, но Руфус ждал ответа. — Пьеса? — Хэпи вытащил из кармана сложенный вдвое листок, вздохнул и с неудовольствием начал: — Опять сословная вражда. Она богата, он — поэт. Он молод, она немолода. И так интриге задан бег, и прост, наивен тот сюжет. Финал трагичен, как всегда, — заключил Хэпи на уверенных нотах, добавив вполголоса: — Какой же почерк неуклюжий.
— Ясно, — улыбнулся Руфус, о чем-то размышляя.
Хэпи его не прерывал и лишь спустя какое-то время решил продолжить.
— Но долг отдать спешу словам, слогам, созвучьям, поэзии в ней — безусловный дар. Она волшебно чувства в звуки пишет.
— То есть? — Руфус наконец обернулся. — Я не совсем понял… — Он заметил в руках Хэпи листок. — Что это?
— Это стихи Квентина, — пожал плечами тот. — Понять их порой вообще не представляется возможным. Бедняга не может запомнить собственных сочинений и записывает их на чем придется, а потом выбрасывает, а я вот подбираю. Прости, пришлось опустить с десяток восклицательных знаков… — сухо проговорил Хэпи, отводя взгляд.
— Интересно. Продолжай.
Хэпи опять заглянул в листок:
— Проста сюжетная канва, но золотом горит резьба кружев словесных на платье славы подвенечном. И на победе сходится молва, и о победе шепчутся глаза соперников, дотоле столь беспечных.
— Ага, — только и мог сказать Руфус.
Хэпи устало опустился в одно из кресел первого ряда, убрав исписанный листок обратно в карман.
— Как расписал: она так хороша, что лучше, кажется, и не придумать.
— Кто? Сола? И ты туда же? Ну вас всех, — Хэпи махнул рукой.
— Не Сола — пьеса, — раздраженно пояснил Руфус.
— А-а-а, пьеса… — Хэпи встал, прошелся по скрипящему паркету, от этого в пустом зале сделалось шумно. — Не золотая, видно… — проговорил он себе под ноги.
— Почему? — Руфус не дождался ответа и неожиданно забил по клавишам. Мелкие ноты засеменили под пальцами, озвучивая паузу. Руфус виртуозно играл.
— Вот это да! — Из глубины зала раздался хриплый смешок.
— Верти? — Угольные глаза Руфуса смотрели настороженно.
— Не подозревал в тебе музыканта, — басом отозвался Верти.
— А где Хэпи?
— Ушел. Даже меня не заметил. Тоже мне, снайпер.
— Кто?
— Ну, стрелок, лучник, много ли разницы… Вальсам его все в одном образе держит. Наказание, наверное,…
— Не может быть… — произнес Руфус, чему-то поражаясь.
— Да Хэпи все равно, — успокоил Верти, — к тому ж Гордаса подстрелил. — Он улыбнулся. — Хэпи не потому ушел, что роль не нравится и обсуждать свою игру ему претит, хотя это отчасти и правда. — Верти закусил губу. — Мы все слишком любим славу, — перебирая в пальцах металлический крест, рассуждал он. — Только слава может отличить нас друг от друга. Каждому отпущена своя мера, та мера и расставляет по ступеням лестницы величия. А величие ведет к бессмертию. — Он коротко вздохнул и развел руками. — Все просто. Все стремятся задержаться здесь подольше, не в сердцах, так хотя бы — в памяти. А ты, значит, играешь?
Руфус снял руки с клавиш, переведя глаза на Верти. В них было удивление:
— Память, — прошептал он. — Ты прав, она сопоставима с вечностью. Но разве это просто?
— А разве нет? Сам посуди. Право на вечность дает талант. Механизм, толкающий нас к славе — это гордость. Без этих двух обстоятельств души задумываться о вечности не имеет смысла. Так ты тоже играешь? — в вопросе послышалась непривычная настойчивость.
— Ну так что с того? — нервная мелодия заскользила громче. Руфус решил уклоняться от прямых объяснений, насколько то будет возможно.
Верти подошел ближе, нагнулся и прошептал Руфусу на ухо:
— Может, покаешься? Выберешь другую сторону? Черное поле душу не спасет. — Он напустил на себя такую важность, словно, говоря это, исповедовал и отпускал грехи.
Руфус вдруг переменился в лице:
— Какие странные слова.
Верти усмехнулся:
— Я погляжу, ты — мастер маскировки. Тебя б на сцену.
— На сцену… — притворно задумался Руфус. — Весь этот пестрый рой актеров мне претит, — пробормотал он раздраженно. — Да и к тому, я и так — на ней. Значит, ты — в игре?
— Играю, — пробасил Верти. Он встал на колени, положив металлический крест на пол рядом с собой, и заиграл на рояле, за которым сидел Руфус. Мелодия в миноре была неподдельно искренней. — А, впрочем, ты прав, и мне претит.
— А что с крестом?
— Я же сказал, играю, — не отрывая рук от клавиш, ответил Верти шепотом.
Руфус молчал, искоса поглядывая то на Верти, то на его крест. Он напряженно о чем-то думал, однако Верти этого не замечал или делал вид, что не замечает.
* * *
Заретта пришла домой. По окнам карабкался холодный ветер, пугая злым дыханием. Он то и дело срывался, как плохой скалолаз, падал в пустой двор и вновь поднимался, цепляясь за водосточные трубы, скользкие подоконники, заглядывал в окна, что-то нашептывал шторам, и те раздувались, подобно парусам, не то от гордости, не то от страха, елозили по карнизам.
— Зима скоро… Завтра начнется… — Заретта села за стол. Перед ней лежала книга, подаренная Элем. — Вот бы перелистать один из четырех сезонов… Не хочу, чтобы была зима…
Привычка думать вслух, будто в комнате кто-то был, у Заретты появилась со смертью отца: так ее утрата становилось незаметнее, и боль притуплялась. Она хотела было открыть книгу, но отдернула руку. «Сегодня был солнечный день, и это небо, цветы немыслимые… А сейчас… Как быстро мы расстались… И все сразу стало таким холодным. Оборванный аккорд…» Она вновь потянулась за книгой, желая на этот раз ее раскрыть, но опять отдернула руку: раздался телефонный звонок.
* * *
— Белое поле тоже душу не спасает, — наконец проговорил Руфус. — Однако тебя я подозревал меньше всего.
Верти прервал свою игру.
— Я — лишь голос за кадром. — Он взял с пола крест и надел его на шею, принявшись рассуждать о насущном. — Если быть честным, пьеса Солы… — Верти скривил губы, и стал похожим на обиженного ребенка.
Руфус решил ему подчиниться и больше не выпадать из контекста привычных тем:
— Ты пишешь лучше?
— Да уж не хуже.
— О! — Взгляд Руфуса упал на металлический крест. — И что же это? Проповеди?
— Какая разница, что? — вздохнул Верти. — Я пишу для себя. Как только я стану писать для других, это будет означать, что я во всем разобрался, и жизнь для меня больше не представляет загадки.
— В жизни всегда должна оставаться загадка, иначе неинтересно будет жить. — глубокомысленно возразил Руфус. –– Я думаю, люди начинают писать, как раз чтобы найти ответы на вопросы, а не наоборот, — добавил он серьезно.
Верти задумался:
— Возможно, ты прав. Значит, мне стоит начать писать для других. Я буду задавать вопросы, предлагать на них свои ответы, а те, кто меня станут читать — свои. И так мы добудем истину. — Пара угрожающих аккордов в верхних октавах завершила его мысль.
— Зачем тебе истина? Жизнь — это хороший фокус, зачем его разгадывать? Разве от этого люди, которым ты откроешь тайну, станут счастливее? Вдруг они решат, что смысла нет? По крайней мере, того, что они искали? А вдруг жизнь, смысл которой они наконец поймут, просто перестанет их интересовать?
— Какой ты, оказывается, философ! — Верти попытался рассмеяться, но смех его был неестественным. — Я знаю, что смысл жизни в самой жизни, в ее наличии, в драгоценном опыте, что она дает душе. Точно так же, как об этом знаешь ты.
Угольные глаза Руфуса встретились с кроткими глазами Верти и задержались чуть дольше обычного.
— Мне незачем искать этому подтверждения, но людям нужны доказательства…
— Маскируешься под святого? — не выдержал Руфус. — Выдумал себе светлую миссию?
Как раз в этот момент в зал вошли Хэпи, Гордас и Квентин. Последние держали руки сомкнутыми на груди. По их лицам можно было определить, что они едва переносили присутствие друг друга, и Хэпи тут был живой перегородкой, стеной приличия, сдерживающей их негодование.
— Уф, — выдохнул Руфус. — Ты, Верти, действительно неплохо играешь, раз я тебя раньше не вычислил. — Руфус говорил тихо, и никто из вошедших его слов не услышал.
— Да… но… — Верти поднялся с колен и громко произнес. — Теперь буду реже. Хочу, чтобы вы знали: я ухожу из театра.
— Как? Куда? — не понял Квентин.
— А вы не догадались? — пробасил Верти. — В монастырь.
Хэпи не сдержал усмешки. Пальцы Руфуса словно примерзли к клавишам, Гордас растерянно смотрел на Верти, а Квентин тщетно пытался понять происходящее.
— Верти, ты хорошо все обдумал? — В дверях показался Азраил. Верти улыбнулся:
— Да что же вы все так растерялись? Да не в монастырь же, я просто теперь буду учиться в духовной семинарии.
* * *
— Как вас зовут? — Заретта настороженно прислушивалась к голосу в трубке.
— Сола. Мы с вашим братом вместе играем в театре. Вы были на сегодняшней премьере? — Голос Солы звучал повелительно, недавняя роль не успела еще сойти с настоящей, скромной ее души.
— А-а-а… — протянула Заретта, — я опоздала.
Странно, она была спокойна и уверена в себе, и, как бы ей ни хотелось почувствовать укор совести, она его не чувствовала.
— Это ваша пьеса… Поздравляю, мне брат рассказывал. А откуда вы знаете, что я должна была быть?
— Так Азраил сказал, он все высматривал вас в зале… — В голосе Солы начинали проступать нотки боязливой неуверенности. — Что-то случилось? — почти выдохнула она в трубку.
— Да нет… — Заретта не знала, что говорить. Отчитываться перед чужим человеком было до крайности странно, но в то же время она чувствовала себя сейчас одиноко, и ей очень хотелось с кем-нибудь поделиться переполняющими ее эмоциями. Книга лежала рядом на столе, и вот уже который час мозолила глаза, а если Заретта закрывала глаза, книга вставала и перед закрытыми глазами.
Тишина в трубке, казалось, накалялась. Наконец, слезливый голос Солы произнес:
— Что же случилось? С вами все в порядке? — Она громко всхлипнула.
— Нет, нет, все хорошо… — смутилась Заретта. Она не любила долго рассуждать, порывистый характер часто подсказывал ей будущие действия, так что спонтанное принятие решений было Заретте свойственно. Она словно ставила шах и мат, говоря: «А давай-ка вот так, и думать пока не будем». Так и сейчас, еще не успев все взвесить, Заретта вдруг предложила:
— Сола, а приезжайте ко мне, я давно хотела познакомиться с кем-нибудь из друзей Азраила.
* * *
— Как быстро ты сориентировался, — пальцы Руфуса начали дальше перебирать по клавишам, звуки были растерянными. — Раскрылся и теперь хочешь играть на расстоянии?
Верти его расслышал, но отвечал вошедшим:
— «У меня просто есть вопросы, на которые я желаю найти ответы», — произнес он возвышенным тоном.
— Какой колорит, какие краски! — в голосе Гордаса почувствовалась откровенная насмешка. Он зааплодировал.
— Что ты будешь делать без сцены? — спросил Хэпи холодно.
— Он будет писать мемуары… — предположил Гордас.
После минутной паузы Верти произнес:
— Я не ухожу из театра. Теперь я буду служить не только искусству, но и… — голос его затих на недоговоренном слове, как длинная мелодия, что в конце угасает, отдавая последним аккордам еле слышимый звук. — Мне это интересно, я не слепой фанатик, я лишь хочу разобраться.
Руфус, ничего не говоря, только покачал головой, уткнувшись в отсутствующие на отложной полочке рояля ноты.
* * *
— Что же это я… — Заретта нервно ходила по комнате. — Теперь она подумает, у Азраила сестра сумасшедшая. Она и согласилась прийти, наверное, только потому, что очень уж интересно взглянуть на сумасшедшую сестру гениального актера. А, может, она и вовсе не придет, посмеялась…
В дверь позвонили. Заретта открыла, на пороге стояла девушка в красивом, облегающем, длинном платье, в руках ее была корона:
— Сола, — представилась она.
— Заретта, — проговорила смущенная хозяйка. — Она до сих пор не знала, что ей делать и как себя вести. Все разрешилось, само собой. Сола без приглашения буквально впорхнула в открытую дверь. Копна шоколадных волос и легкая походка навевали мысли о лете и бабочках.
— О, как тут… давай, кстати, на «ты» … как тут у тебя просторно. А я так устала от этой театральной суеты, прямо-таки еле вырвалась. Зрители, овации, поздравления… — она вдруг осеклась.
Заретта все еще стояла на пороге собственной квартиры.
— А чего ты там стоишь? Я, если честно, тебя не такой представляла.
— Почему? — заинтересованно спросила Заретта, понемногу догадываясь о причинах столь раскованного поведения гостьи.
Сола словно поняв ее мысли, проговорила чуть слышно:
— Там после премьеры шампанское подавали, пришлось пить, — она смущенно посмотрела на Заретту.
Та улыбнулась:
— Да ну что ты… — Заретта прошла в квартиру, закрыв дверь, и ободряюще взяла Солу за руку. — Пойдем.
— О, если бы они знали, где я!
— Кто?
— Да все, я же сбежала. Они, наверняка думают, что я там, среди зрителей почестями кормлюсь, а я вот приехала к тебе. А давай дружить? — Сола опять осеклась, сообразив, что сказала глупость. — Ой! Это я, не подумав.
— Да все в порядке, Сола. Чаю? — Заретта поставила перед Солой чашку и налила из чайничка ароматный напиток.
— Спасибо. — Сола села за стол, не зная, куда деть корону и в результате надела ее на голову.
— Расскажи мне о твоей пьесе, о сегодняшней премьере, о театре, вообще — обо всем. Мне очень интересно, — попросила Заретта и села напротив Солы, заранее радуясь приятной беседе.
Вместо этого Сола вдруг выпалила:
— Вот так и отыграли, а он даже толком и не поздравил! Так, только проронил: «Отлично, Сола». Ну кто, ты скажи мне, так поздравляет? — Сола требовательно уставилась на Заретту.
Заретта лихорадочно пыталась собрать мысли воедино:
— Прости, я может, что-то упустила, но о ком ты говоришь? Кто тебя толком не поздравил?
— Ой! Да ну их всех, — попыталась замять Сола, она растерялась и не знала, как продолжить.
— Это он, Азраил, тебя не поздравил, да? — догадалась Заретта.
— Да… — едва слышно проговорила Сола.
— Ясно. Ты влюблена в него?
— Ой! Не надо. Это все глупо. Он и не знает, и не любит, в общем, давай о другом.
— Как хочешь, но он все-таки — мой брат, хотя я его не очень хорошо знаю. — Заретта опустила глаза. — Он странный, правда?
— Правда! — воскликнула Сола, словно слышала слово «странный» впервые, и была очень удивлена и обрадована, найдя верное определение мучившим ее догадкам. — Да, именно странный. Его словно бы что-то гнетет, и оттого он такой… — она задумалась, — …странный.
Глава 14. Оборванный аккорд
В театре было тихо. Все его обитатели разбредались по домам.
— Я ненавижу ее, — Квентин сжимал зубы.
Азраил с любопытством наблюдал за ним. Он уже оделся и теперь стоял, прислонившись к стене:
— Значит, совсем наоборот. Думаешь, она Гордаса любит?
— Думаю, что она меня не любит, — голос Квентина звучал непривычно жестко. — А что там с Гордасом… — он лихорадочно ломал пальцы.
— Да брось, она искусство любит, а ты его чистое воплощение…
— Так же, как и ты, — перебил Квентин. — Все, не хочу об этом. — Он взял с вешалки тонкое осеннее пальто,
— Постой, — Азраил, уже давно догадывавшийся о чувствах Солы к себе, растерянно разглядывал тяжелый браслет в виде змеи, врезанный в его руку. — Не надо спешить. Ты всегда успеешь сделать выводы. Напиши ей письмо, объясни в нем все толком, ну, как ты умеешь, она должна понять и оценить.
— Что? «Сола, я тебя люблю? — спросил Квентин, комически прыгая на высокой интонации и пытаясь попасть руками сразу в два рукава. — И жду от тебя того же?»
— Нет, зачем так? — Азраил взял у него пальто, встряхнул и помог одеться. — Просто напиши то, что ты чувствуешь. Ничего не утаив. Квентин, ты же поэт, ты можешь то, чего не могут другие, — так действуй. Зачем ты чувство свое лелеешь втайне? Оно ведь законное, нормальное здоровое чувство, имеющее все шансы на успех и права на существование. — Азраил сам не заметил, как перешел на шепот, и в шепоте этом было что-то зловещее, горькое, неприятное.
Квентин испуганно посмотрел на него:
— А поехали ко мне, отметим премьеру.
— Нет, — отрезал Азраил. — Уже поздно. Скоро — день новый… — он улыбнулся, проглотив свои тихие слова, и те были ужасны на вкус.
— Так самое интересное обычно по ночам происходит! — глаза Квентина наполнялись лукавой дымкой. — Покинем же наш полуночный театр!
— Тогда — ко мне, я Руфусу обещал… — Азраил замялся.
— Я поеду, — просто согласился Квентин.
* * *
«Пережить бы эту зиму… — Ключи дрожали в руках. — Вроде бы все?»
Барри устало огляделся? вымытый пол, свежие скатерти на круглых столах, стулья отодвинуты в позиции, приглашающие присесть, за окнами — неуютно темно. Он хотел идти, как вдруг передумал. Положив ключи в карман, Барри сел за барную стойку и налил в стакан воды. Лицо его было изможденным, сумрачные тени под глазами стали заметнее. Все остановилось… — продолжал рассуждать он. — Я не справляюсь… Работать здесь, потом бежать на конюшню… за всем следить, проверять… Как же я устал… Домой идти не могу. Сестра сошла с ума! — Барри передернуло. — Бросилась мне на шею, наговорила таких странных слов, не хочет, чтобы я уезжал… — он до боли сжал пальцы. Вода в стакане дрожала. Надо было уехать вместе с ним…» — Барри не мог оторвать глаз от этой дрожащей воды.
— Уехать с ним… — произнес он вслух. — Или убить. Ведь до его появления все было нормально…
Странно, Барри хотел, но также не мог, никак не мог разозлиться на того, о ком вспоминал. Вместо этого он разозлился на воду, взял стакан и выпил до дна.
— Что он имел в виду, сказав, что Мидора погибнет, если я останусь здесь? Какое отношение моя свихнувшаяся сестра имеет ко всему этому? Они виделись с ней всего раз… Решено. Уеду! — закричал он и потом добавил устало. — Пережить бы зиму… Только бы это…
Барри вздрогнул. Ему показалось, что слова, которые он сначала вот так прокричал, а потом добавил, и те, и другие были сказаны не его голосом. Этот новый голос был старше прежнего лет на двадцать. Барри понял: что-то внутри него надорвалось, окончательно изменило форму и цвет, стало другим. Он знал: подобное необратимо — и только усмехнулся этой метаморфозе, больше ничем ее не отметив.
* * *
Азраил и Квентин вышли из театра. Ледяной ветер царапался, и хотелось спрятать лицо. У входа их поджидал Руфус. За спиной у него привычно висел гитарный футляр. Никто и никогда не видел того инструмента, что лежал в нем, давно воспринимая этот футляр просто как продолжение самого Руфуса.
— Пойдемте быстрее, — скомандовал Азраил.
— Эй, подождите, — из тяжелых дверей театра вышел Хэпи. Ветер накинулся на него с жадностью. Руфус глубже запрятал руки в карманы пальто
— Холодно, — процедил Азраил сквозь зубы.
— Угу, — пробормотал Квентин.
Одеты они оба были странно, словно о существовании прогноза погоды никогда и не слышали. Нельзя сказать, что их не интересовала погода: разумеется, и Азраил, и Квентин замечали смену сезонов, последний даже писал циклы стихов о временах года, — и все же природу они воспринимали несколько необычно, отдельно от себя, вроде некой эстетической категории, о которой можно писать, восхищаясь, которой можно поклоняться, но не более того. То, что природа примитивно диктует людям, как надо одеваться в тот или иной сезон, Квентин не воспринимал, считая такое положение дел оскорблением предмета своего обожания. Как думал о природе Хэпи, понять было сложно. Однако одет он был по погоде и не испытывал никакого дискомфорта от холода. Хэпи подошел к стоящим на ветру.
— От кого бежим? Кстати, Квентин, я видел Солу около часа тому назад, она уходила из театра…
Лицо Квентина болезненно скривилось, он закрыл глаза и уже набрал в легкие воздуха, чтобы ответить, но Азраил, посчитавший это опасным, ответил за него:
— Он не хочет ничего о ней слышать, так что не продолжай. Хэпи пожал плечами:
— Мне просто было интересно, куда это она…
— Ну, сказал же, — перебил Азраил. — Все, пока не хотим. — Он мельком взглянул на Квентина, тот с полными воздуха легкими смотрел куда-то вдаль. Азраил принял это за одобрение: — Раз с нами, Хэпи, — идем. А ты, случаем, Верти не видел?
— Верти пакует вещи. Завтра с первым поездом мы лишимся его светлого гения. Обещал писать письма.
— Верти в письмах… — задумчиво проговорил Азраил.
Дорога тянулась в молчании. Квентин, не поднимая головы, двигался машинально, след в след за Азраилом, недавняя сцена с Солой и Гордасом все еще разыгрывалась в его памяти, обрастая новыми и новыми вариантами прочтения. Наконец Азраил сказал:
— Пришли.
Уже подходя к дому, он заметил одиноко стоящего посреди улицы человека. Волосы его были убраны под шляпу, а на лице сверкали солнечные очки. Человек смотрел в небо, в котором громко каркали птицы.
— Забавно, — произнес Хэпи.
— Да. — Руфус настороженно вгляделся в одинокую фигуру.
Квентин предположил глубокомысленно:
— Солнечные очки… может, у него глаза заплаканы… Азраил только нахмурился и свернул во двор. Квентин последовал за ним.
— Что, Руфус, ты к спиртному как относишься? — спросил Хэпи.
— Что? — тот, казалось, не понял предмета обсуждения.
— Ты пьешь?
— Ну да, — кивнул Руфус. Они поравнялись с другой половиной компании. Квентин, слышавший разговор Руфуса и Хэпи, обратился к последнему:
— А ты ведь, Хэпи, не пьешь, чего же ты за нами увязался?
— Люблю слушать пьяные исповеди. Может, и Азраил наконец расколется. И мы узнаем причину его странного поведения. Ты не переживай, я вам подыграю, — добавил он тихо.
Все четверо вошли в дом. Человек в солнечных очках проводил их внимательным взглядом.
Поднявшийся ветер сорвал шляпу с его головы — на плечи рассыпались рыжие волосы. У ног Эля ходили черные голуби.
* * *
На улице стало слишком темно, фонари едва справлялись с очерчиванием фигур встречных прохожих и предупредительным вырыванием из мрака фасадов домов, не подсвеченных рекламных столбов, припаркованного транспорта. Наконец — знакомый поворот. Илвис торопливо свернул к дому. Открыв дверь и пропустив вперед Джексона, он вошел в квартиру. Оба молчали. Илвис закрыл дверь и прислонился к стене. В доме носился запах непросохшей глины.
— Что? — улыбнулся Илвис, обращаясь к собаке. — Даже не лается? — Пес, не поняв, жалостно заскулил и побежал в большую комнату.
— Погоди. — Илвис с невероятным усилием отодвинулся от стены и пошел вслед за ним, на ходу снимая с себя верхнюю одежду и включая во всех комнатах свет.
— Устали… Все мы устали… — бормотал он вполголоса.
Поздняя прогулка не помогла — Илвису не захотелось спать. Все его существо вдруг наполнило неопределенное, цельное, не распавшееся на конкретные образы чувство. Мысленно задыхаясь, он решил подчиниться ему. Илвис знал это ощущение предчувствия. Он закрыл глаза и полностью отдался восприятию его пьянящего аромата.
В глубине дальней комнаты стояла скульптура девушки. Умиротворенное лицо без особых выразительных черт обрамляли тонкие локоны, спускаясь на шею и плечи. Всю ее хрупкую фигуру скрывало тонкое покрывало. Илвис мастерски умел передавать детали, и в том, что покрывало было тонким, полупрозрачным, можно было убедиться по многочисленным изгибам, складкам, заломам, свободно раскиданным по всей скульптуре. Ноги девушки обвивали замысловатые цветы. Мелкие капельки росы были ювелирно рассыпаны по их заостренным лепесткам.
* * *
— Я встретил ее весной. Увидел и влюбился. Не знаю, как это происходит: мне потом казалось, что я уже был влюблен, как только услышал стук в дверь, как только пошел открывать. Влюблен вселенски: и в эту постучавшую дверь, за которой стояла она, даже — в звук собственных шагов. Почему я так хорошо запомнил те минуты? — Азраил глотнул из бокала. — Отец мне ничего не говорил о ней вплоть до ее появления. А я-то был уже влюблен! — прокричал Азраил неестественным срывающимся голосом.
Хэпи положил руку ему на плечо, но Азраил сбросил ее. Сделав над собой усилие, он успокоился и продолжал тише:
— Отец сказал: «Открой дверь, это Заретта». — «Заретта?» — переспросил я, находясь в состоянии счастья, ни о чем не подозревая, не поставленный в известность, не отягощенный знанием и обязательством его принимать. Светлое, чистое чувство. Получается, за него я был обязан этой самой неизвестности. «Заретта!» — бормотал я, влюбляясь в эти звуки, в это первый раз услышанное имя. А оно словно бы цеплялось своим колющим звуком за звук моего имени. Я любил это имя, я шел к двери, за которой была его обладательница. Открыв дверь, я даже ничему не удивился — за ней стояла она, моя любовь, я отчего-то знал, что она должна выглядеть именно так. — Азраил помолчал. — И вот отец сказал, оказавшись вдруг за моей спиной, я, разумеется, не слышал, как он подошел: «Познакомься, Азраил, это — твоя сестра». — Азраил опять глотнул из бокала. — Мне показалось, что я больше не существую. Все остановилось. «Как?» — подняв по-детски удивленный взгляд, только и мог выдохнуть я. — Азраил горько усмехнулся. — И что же вы думаете, моя любовь, так внезапно родившаяся, прожившая несколько шагов, дойдя до двери, умерла, услышав это? Нет, черт возьми! Она осталась. Была она святой, чистой, высокой, ну сколько там еще у классиков эпитетов найдется для моей любви! Была она такой только эти несчастные мгновения. Мгновения шагов до двери, игр с именами, взглядов. Я стоял неподвижно, словно бы в меня вонзили кинжал. Острый, всаженный по рукоять в меня, еще счастливого, влюбленного, еще на вдохе сладостных чувств, разрывал он плоть грубо, некрасиво, жестоко. Выдох был уже в другой жизни. Я долго не мог пошевелиться и только смотрел перед собой. Почему? Так бывает, тут вопрос не эстетики, а грубой науки: вес, сила удара, давление крови, с чем-то не рассчитали, и я только поэтому не упал, а замер. Вот я, не упавший, и живу теперь с тем кинжалом, он врос в меня, так и не убив. — Бледный, Азраил попытался улыбнуться. Улыбнулся. — Да еще в театре играю, когда сам со своей ролью заботливого брата не справляюсь. — Он замолчал. Долго на этот раз длилось молчание. Но вот Азраил поднял глаза, посмотрел на всех и произнес:
— Я люблю ее, люблю свою сестру. Люблю страшно, очень страшно. И грешна моя любовь, так как это любовь не брата к сестре. Я не просто так сказал, что в те первые минуты, когда я еще не знал, кто она, в те минуты любовь моя была чиста. После оглашения правды любовь осталась, но на нее вылили целую улицу грязи, и стала она дурна, пошла, мерзка, ну, какие еще эпитеты у классиков для моей любви… — Азраил осекся на полуслове и стих. — Говорил уже…
Все по-прежнему молчали, то ли не зная, что сказать, то ли зная, что, если скажут, выйдет непременно плохо, ненужно, неуместно. Квентин был потрясен. Собрав все мужество, какое было, а такового было немного, он теперь с видом великомученика давил в себе слезы. Хэпи ожидал чего угодно, но только не того, что услышал. Руфус был мрачен, но, казалось, нисколько не удивлен. Хэпи даже подумал, что Руфус знал об этом. Он посмотрел на Руфуса долгим темным взглядом. Руфус поймал его, и посмотрел ответным, угольным. Хэпи отвернулся, его глаза заныли. Он поправил съехавшую на них косынку, украдкой взглянул на Азраила и заметил, как Руфус, вынув из кармана какой-то пузырек синего стекла, вылил его содержимое тому в бокал. Никто, кроме Хэпи, похоже, на это внимания не обратил.
— Ну вот… — порывистым движением Азраил взял бокал и залпом выпил. — Вот я вам и рассказал о своей тайне.
Странно, ему не было страшно от вылившихся, давно таившихся по углам души слов. Легкое безразличие выразилось в глазах, стоило ему высказаться до конца.
— Необычно, — произнес Хэпи глухо, и ему показалось, что он сейчас умрет от стыда за сказанное.
Но Азраил совершенно спокойно ответил:
— Согласен.
Прошла еще минута, и тут раздался голос Руфуса, тихий, едва слышный:
— Я ведь мог распознать раньше… Отчего же не распознал? Его никто не понял. Хэпи никак не ожидал, что Руфусу, по красноречию равному любому в их театре, тоже, нечего сказать. Оставался Квентин, который по-прежнему молчал, мужественно давя слезы. Наконец он произнес:
— Азраил…
Хэпи ждал продолжения, но Квентин не собирался продолжать: история Азраила повергла его в ужас. Однако Азраил его понял.
— Да, Квентин. Да. — Он устало вздохнул. — Действительно, тут не о чем говорить.
* * *
Найт летел по ночным улицам, со свистом заглатывая воздух. Он ни о чем не думал, ничего не боялся. Никогда не слышавший собственного сердца, Найт вряд ли мог зафиксировать его скачок и тем самым определить момент своей смерти, потому Найту иногда казалось, что он уже мертв, и, уже мертвый, он продолжает лететь вперед. Его неулыбающиеся губы были плотно сжаты. Дороги, улицы, овраги, и опять — дороги, бордюры, запрещенные полосы. Найт любил ночь за отсутствие людей, за ее слепоту. Волосы его трепал ледяной ветер, и оттого они казались словно вставшими на дыбы.
Куда бы Найт ни ехал, куда бы ни стремился, одно чувство неотвязно преследовало его, гналось за ним, поджидало на каждом углу. Это было ощущение плоскости мира. Найт никак не мог ощутить его глубины. Глубина представлялась ему неизведанной мерой. Единственное, что он воспринимал, — сплошную протяженность, и ее хотелось разорвать, проникнув куда-то дальше, за пределы, которые были повсюду.
Одни пределы, границы, грани, хитро перетекающие в другие. С детства Найту было присуще странное виденье мира. С детства ему чудилось, что он именно тот, кто может разорвать, сломать и проникнуть, открыть что-то новое и забрать себе, безраздельно им овладев. Но он только мчался по все той же плоскости и не мог ничего изменить.
* * *
Не произнеся ни слова, Руфус закрыл дверь за Квентином и Хэпи, вернулся в комнату и сел в кресло напротив Азраила.
— Что же это с тобой сделали? — Вопрос звучал риторически. Руфус вздохнул. — Видишь ли, в игре все перемещения фигур мотивированы любовью. Считается, что чем та безнадежнее, тем крепче связь между хранителем и… — он не договорил. –Этот браслет тебе ведь подарила Заретта? — Руфус указал на бронзовую змею, сжимающую запястье Азраила.
Азраил кивнул.
— Ну конечно. Все сходится. Лук амура. Его стрелы пронзают сердца насквозь. Раньше этот лук принадлежал мне… — Он снова осекся, над чем-то задумавшись. — Мы ведь познакомились с тобой в тот же день, когда ты встретил Заретту?
Азраил опять кивнул.
— Игра — забавная штука, — протянул Руфус. — Кто бы мог подумать, что это ты.
Азраил был в той степени опьянения и усталости, когда можно считать весь мир большой игрой, владеть луками амуров, а главное, ни в чем не сомневаться, воспринимая все происходящее как данность.
— А кто я? — он схватил со стола бокал, на дне которого заплескалась синяя влага. Руфус отобрал у него бокал:
— Этого так много нельзя!
— Да ладно тебе, — обиделся Азраил.
— Что? Больно? — вдруг с возмутительно трезвой для выпитого количества интонацией спросил Руфус. — Так больно?
— Ха… А ты сам как думаешь, поди-ка влюбись в сестру…
— У меня нет сестер, только брат, — мрачно, все с той же трезвостью в голосе, отвечал Руфус.
Азраил поднял фарфоровые брови в знак удивления:
— Брат? Я не знал.
— Значит, я вычислил тебя, — продолжал потусторонне размышлять Руфус. — Интересно, кто еще знает о тебе?
Азраил равнодушно пожал плечами.
— Неужели я нашел тебя первым? До конца еще так долго, боюсь, ты можешь не выдержать.
— В жизни — кругом одно зло, — вдруг проговорил Азраил с тяжелым грудным вздохом.
— Ты веришь в зло?
— Странный вопрос. Есть зло, есть добро, они просто есть, чего в них верить?
— И все? Больше ничего нет?
— Руфус, я так устал, что вряд ли потяну высшие материи.
— Ты верно сказал, есть зло, есть добро, но есть еще грань между злом и добром, серебряная грань справедливости, без которой ты не был бы способен отличать одно от другого.
— Серебряная, говоришь… — произнес Азраил, погружаясь в сон. — Такие разве бывают?
— Бывают… — прошептал Руфус, смотря на Азраила, тот мирно спал. — Ладно, спи.
Руфус выключил свет и вышел из комнаты. В ней остался витать едва уловимый свет не то ночи, не то преломленных высотой фонарей, луны и чужих окон.
Азраил заулыбался во сне. Необъяснимая легкость растекалась в душе, чувство, от которого Азраил давно отвык. Он сейчас был пьян не столько вином, сколько именно этим долгожданным чувством, имя которому — смирение.
Эпилог
Заретта проснулась. В окна шептало ночной свежестью. Она огляделась. Свет от ночника загадочно сконцентрировался в одной точке, освещая письменный стол, на котором лежала книга. Заретта встала и, подойдя ближе, протянула к ней руки. Она не могла отвести глаз от обложки. На ней была изображена полуоткрытая дверь с тремя семерками. Над цифрами, словно выжженное по дереву, едва угадывалось слово «Амур». Перемешиваясь с полумраком, в комнату проник молочный свет. Часы простучали глубокую ночь. У Заретты не было стучащих часов, но в этот момент она отчетливо услышала их стук. Заретта задернула шторы, но свет не исчез, он, подобно молоку, пролился в комнату и не мог теперь исчезнуть, впитавшись в ее пространство. Заретта опять перевела взгляд на книгу. В полуоткрытой двери был виден пейзаж: горы, песчаный берег, окантованное цепью гор ярко-синее море, отражавшее такое же ярко-синее небо. Выполненная в серо-серебряных тонах эта обложка не могла передать истинных красок, однако Заретта видела их, три золотые семерки переливались на солнце. Ей даже показалось, что из полуотворенной двери повеяло легким морским бризом. Заретту охватило безумное желание, она отбросила сомнения, которые мучили ее целый день, и вместо того, чтобы открыть, как обыкновенно открывают книги, осторожно потянула за ручку двери на обложке — порога не оказалось. Свежий ветер с моря, теплый песок, разбросанные тут и там мелкие камешки, ракушки. «Только вы можете прочесть ее правильно, Заретта…» — вспомнились ей слова Эля.
Молочный свет, растекавшийся по комнате, постепенно смешивался с предрассветным заревом.
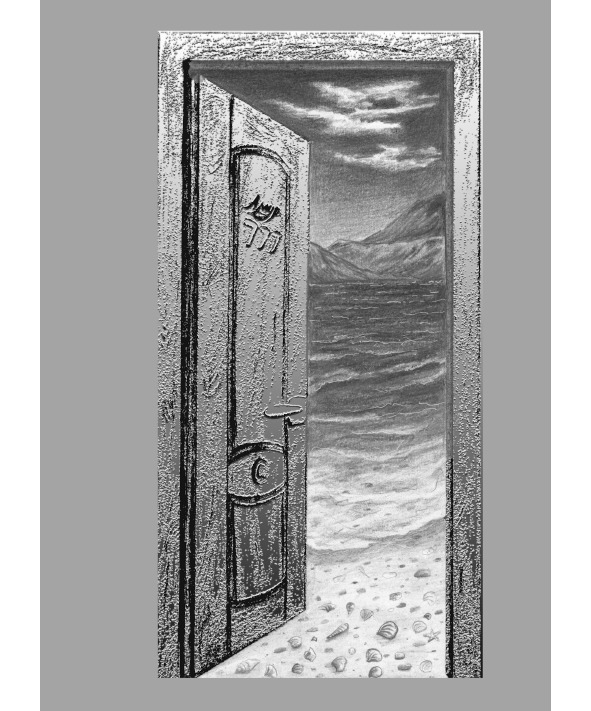
Сезон 2
Глава 1. День первый. Красное вино
Море плавится от собственной нежности под строгим взором рассветного часа.
Воздух задумчив, будто философ перед решением сложной задачи человечества. Ранние лучи грейпфрутового солнца едва согревают влажный песок, на котором отчетливо видна вереница чьих-то одиноких следов. Но куда же они ведут? Пройдемте по звеньям их стройной цепочки. Через какое-то время мы заметим удаляющийся силуэт в легкой пене белой одежды, что шевелится от морского дыхания, играя причудливыми полутенями. Свобода движений, изысканность линий, молодое лицо, добрый взгляд перламутровых глаз. Кто это?
Прибрежные зонтики с вечно перегретыми цветными головами, пластиковые лежаки, созданные выносить любой вес горизонтально отдыхающих, пестрые камешки в переливах прозрачной воды, которые выглядят как настоящие драгоценные породы — все это принадлежащее пляжу пестрое общество молчит, ожидая нового дня.
День во владениях отеля начался довольно обыкновенно: с завтрака. Разноголосые постояльцы еще стекались в ресторан, но их поток заметно редел. Ежедневная церемония во имя существования была в самом разгаре, когда в просторную залу, переполненную шумными лицами и аппетитными ароматами, вошли двое.
— Смотри-ка, еще семи нет, а все уже на местах, — громко произнес невысокий юноша, волосы которого отливали золотом. Он шел, не торопясь, оценивающе смотря перед собой. Одетый модно, богато и с большим вкусом, он словно перепутал по рассеянности обыкновенный завтрак в отеле и шикарную вечеринку звездной молодежи. — Странно. — В его ярко-синих глазах показалось удивление.
— Семи? — контрастно, шепотом переспросил его спутник. На голову выше приятеля, худой, кареглазый, с усталой улыбкой на бледном лице, он походил на его тень, причудливо удлиненную.
— Вон там — свободные места, — опять нарочито громко выкрикнул золотоволосый. — Вон там, в центре. Составим компанию старичку?
— Пожалуй, — согласился кареглазый. — Сперва только возьмем завтрак. — По всей видимости, его совершенно не смущали вызывающе громкие выпады приятеля.
Они взяли по подносу с завтраком и направились к столику, за которым сидел пожилой человек, аристократически помешивая ложечкой чай. Казалось, он не обращал на происходящее вокруг ровно никакого внимания. Этот круговой звук чайной ложечки о края чашки заполнил на мгновение все пространство столового зала, совершенно вытеснив из него другие звуки. Он повис в воздухе, заглянул в окна, пробежался по крахмальным скатертям, приборам, даже — по лицам посетителей — и исчез, растворился. Разноголосый шум вновь ворвался на свою территорию, раскрасив картину прежним звучанием.
Долго кружа между столиками, приятели наконец сели, составив компанию почтенному джентльмену с длинными седыми волосами, затянутыми в пучок.
— У-у-ф… — протянул золотоволосый юноша и бесцеремонно уставился на соседа по столику.
— Доброе утро, — поздоровался его приятель и тихо, как и следует тени, сел напротив.
Сосед по столику согласно кивнул. Не отрываясь от утреннего чая, он обвел молодых людей долгим внимательным взглядом и улыбнулся.
— Слишком шумно для раннего утра. — Золотоволосый огляделся. — Ты не находишь?
— У тебя часы стоят со вчерашнего дня. Неужели ты думаешь, Мони, что сейчас семь?
— О-о… Переведу, — отрезал тот, брезгливо рассматривая разнообразные составляющие завтрака.
— Знаешь… — Его приятель замялся, — этот курорт… — Он пододвинул к себе поднос и принялся есть.
— Ну же, Прокл, скажи.
— Слишком уж…
— Слишком уж как? Примитивно? — подсказал золотоволосый Мони. — И что же тебя не устраивает? Сам говорил: «Не хочу роскоши, никакого эксклюзива, давай ближе к народу». — Он с талантом комедианта передразнил просьбу друга.
— Да ты не обижайся, не нравится мне все это…
— Не удивительно: местечко-то — не из звездных, так себе… — перебил Мони. Он сделал несколько глотков из бокала и скривился. — Вот-вот… — Откуда вино?
— Бар работает круглосуточно, Прокл. — Невозмутимо ответил Мони. — Вот за что тебя люблю, правдой друга не обделишь, но ведь смысла не откроешь, а зачем мне вся эта правда без смысла? Скажи, что тебя беспокоит на самом деле?
Его собеседник задумался:
— Тебе когда-нибудь доводилось быть в черном тоннеле и видеть свет?
— Вот оно как… Меланхолик несчастный, я еще жив и умирать не собираюсь!
— Да ты не понял, я говорю не о смерти. Представь, что этот свет — это все, что у тебя сейчас есть, и…
— Слушай, у меня есть счета в крупнейших банках мира, несколько вилл на островах, квартиры в престижных районах, но света в конце тоннелей не припомню… — Мони набрал в грудь воздуха и продолжил:
— Меня ожидает с десяток выгодных партий, одна другой прелестней, а я провожу время с тобой на курортишке чуть выше среднего, выслушивая бредни о каком-то фонаре в подворотне. Очнись, Прокл!
Прокл смотрел перед собой невидящими глазами:
— …А вокруг грязь и разбитые бокалы некогда дорогого красного вина, эдакое месиво…
— Ого! Пойти павлина общипать тебе для перьев? Умные мысли надо записывать! Да, с такими симптомами ты вряд ли когда-нибудь на нее глаза-то поднимешь… — Ты о чем?
— Или о ком? Не умеешь ты врать. И курорт тебе нравится, и от моря ты в восторге: вот скажи, бывал ли ты хотя бы раз до этого на море? Да без меня ты на свою стипендию дальше остановки своего дома никуда бы не уехал. Но не в этом суть, все дело в том, что ты упал в любовь, мой друг. Однако в силу своего книжного воспитания, которое уже переросло в психическое отклонение, ты, страшно боясь этого чувства, при падении свернул себе шею.
— О чем это ты, опомнись! — Молодой человек даже привстал от возмущения.
— Ну вот, началось. Сядь, Прокл, а то подумают.
— Что началось? — не унимался тот.
— Превращение тебя в нормального человека, поздравляю. Интересно, если гусеницы к концу лета превращаются в бабочек, то в кого превращаются книжные черви к концу летних курортов? Что с тобой будет? — Мони покачал головой.
Прокл сел на место:
— Ты очень проницателен, Мони… — начал было он, смягчившись, но, вдруг оборвав мирное вступление, строго произнес: — зачем тебе все это?
— Брось, Прокл, мы здесь еще два дня, можно было бы что-нибудь склеить, это же отдых, в конце концов! Скоро любимые стены института опять накинут на тебя цепи серьезной учебы…
— Склеить? А зачем? Да и как потом?..
— Ну… Не навсегда же…
— А что, если я хочу навсегда! — молодой человек выговорил это с такой горячностью, с такой душевной страстью, что сидящий с ними за одним столом осанистый старик как-то странно улыбнулся на его слова. Однако, увлеченные предметом обсуждения, приятели ничего не замечали. Они еще долго продолжали разговор, походивший скорее на спор, нежели на мирную беседу.
— Устарел ты со своими принципами, друг мой. Мечтаешь все… — вздохнул Мони.
— Пусть так, — согласился Прокл.
— Но так — плохо, так никто не живет.
— Ты живешь.
— Я? Нет!
— Ты лишь притворяешься, что нет. По сути, ты тоже…
— Ложь! — В ярко-синих глазах Мони прыгало раздражение. — Это я-то устарел?
— Ладно, лгу, — Прокл пожал плечами, — когда решишься признать это, я буду рядом.
Чья-то нежная рука легким движением, будто она и вовсе никому не принадлежала, являясь самостоятельной формой жизни, мелькнула над салфетницей, как коршун в небе, и, захватив с собой бумажную жертву, исчезла, подобно виденью в бреду.
Мони передернуло, он потер глаза и произнес дрогнувшим голосом:
— Что-то в глазах рябит… А ведь это все ты, со своим светом в конце тоннеля… — Пошли на пляж? — примирительно предложил Прокл.
— Пошли.
Внезапный поток воздуха, незаметно проникший под скатерть, в сочетании с резким движением одновременно встающих людей, заставил стеклянный бокал задрожать. Секунду спустя, после неуклюжего вращения, он все же упал на пол, пролив остатки красного вина.
— Вот ведь… На полу лишь маленькая капля… Все остальное на мне. Официант, сюда, здесь нужно убрать!
— Тише, Мони, какой официант? Оглянись, все давно уже ушли, одни мы стоим здесь, как пред содеянным только что преступлением.
Мони огляделся: ни соседа за столиком, ни вообще кого бы то ни было.
— Видишь? — Проклу показалось, что время, еще недавно бурлившее в лице разномастной публики, теперь замерло. — Пошли отсюда поскорее.
— Дай возьму хотя бы салфеток, что ли, попробую оттереть пятна, — произнес Мони, обиженно глядя на себя.
Вымощенная дорога лениво тянулась впереди, то и дело сворачивая к ароматным кафешкам с веселящими напитками и шумными посетителями, и обрывалась лишь у самого пляжа.
— Знаешь, Мони… — Прокл рассеянно смотрел перед собой.
— А-а-а…
— Что я подумал…
— У-у-у… — Мони, по всей видимости, занимало в этот момент нечто поважнее соображений друга.
— Этот разбившийся бокал подобен человеческой жизни. Она вся в осколках, нет ничего цельного, и весь ее смысл только и заключается в том, чтобы из острых мельчайших частиц собрать искусный витраж. А вино, Мони, это не вино, а кровь от порезов.
— У меня вид неопрятный! Надо было все-таки зайти в номер, переодеться. Так что ты там говорил? Вот мы и пришли. — Мони с любопытством огляделся. — Ой, там твой… твой предмет воздыхания. Пойдем?
— Ты же мне поможешь познакомиться? Ведь так?
— Как же, жди. Чтобы первый раз в жизни тебе понравилась девушка и вдруг запала на твоего друга! Ты меня видел? — Мони гордо посмотрел на Прокла.
— Да, — неуверенно произнес тот.
— И что ты думаешь?
— Половина человечества по тебе запросто сойдет с ума.
— Так, — одобрительно кивнул Мони. — Завидуешь?
— Нет. — Прокл вздохнул.
— Ты на нее неправильно смотришь. Бери пример с меня. — Мони запрокинул голову. Его будто и впрямь переплетенные золотом волосы рассыпались по спине. Ярко-синие глаза, тщетно старающиеся напустить на себя важность, попытались заглянуть куда-то за пределы безупречно ясного неба, куда-то за границы человеческой фантазии.
— Какая манерность, друг мой. Я и не подозревал в тебе артиста, — искренне удивился Прокл.
— Работа в театре неприбыльна, — отрезал Мони. — Вот красота! — Он вдруг что-то увидел. –Прокл, иди за мной. — Мони полетел куда-то вглубь полосатых тентов, мелькая между посетителями прибрежного кафе.
Прокл медленно пошел за ним.
— Мони, — с упреком произнес он, обнаружив друга, расположившегося за одним из столиков. — Зачем мы здесь? — Прокл сел напротив.
— Меня мучает жажда. — многозначительно пояснил Мони. — За моей спиной, правее, — опытно скоординировал он.
Мони неотрывно косился на миловидную блондинку в отчаянно откровенном купальнике. Широкие поля ее шляпки кидали густую тень на молодое тело, будто стыдясь за тщательно обдуманную наготу коварной владелицы.
Прокл посмотрел и с улыбкой отвернулся.
— Чем не чудо? — недоверчиво спросил Мони. — Какая спокойная серьезность. Кажется, в твоем вкусе?
— Очередное заблуждение, Мони.
— Что? — раздраженно поинтересовался тот.
— Спокойная серьезность, говоришь? Внимательней приглядись. И это ты называешь красотой? Забавно. Пересядь, а то глаза испортишь.
— Не понял. О-о… Должно быть, это твое художественное мышление, — с иронией догадался Мони, — но ей-богу, чего тут забавного? Открой мои пока не испорченные глаза.
— Смотри, — добродушно начал Прокл, — она застыла в позе невинной девы, хоть картину пиши, сети расставлены, Мони. Слегка опершись на локоть, она делает вид, что увлечена чтением книги: смятение в глазах, наворачивающиеся слезы прекрасно гармонируют с мягким загаром. А дрожащие на ветру ресницы? Но одна маленькая оплошность допущена в этой громоздкой лепнине красоты, ты не находишь?
— Нет.
— Маленькая крошка шоколада, прилипшая к тщательно накрашенным губам, выдает всю фальшь. Ведь искусство, как не старайся, подделать нельзя.
Мони перевел упоенно скошенные глаза с блондинки на друга и стал нехотя прислушиваться к его словам. А тот, казалось, в потоке едва оформившегося в речь сознания уже был сильно увлечен: Прокл выстраивал теоремы и тут же доказывал их с помощью формул простого человеческого счастья, в которых для него не было ни одной неизвестной. Мони забыл о девушке, о ее обнаженной красоте, он смотрел на своего друга и думал: «…Как хорошо, что кому-то дан талант раскрывать людям глаза».
— …И вот тогда мы видим, что ресницы накладные, и дрожат они вовсе не от ветра, а под тяжестью переложенной туши. Сколько усилий надо, чтоб их удержать, я ей искренне сочувствую! А нежный цвет волос лишь видимость, они покрашены. И что? Куда делся твой недоступный айсберг? Растаял, обнажив уродливость души. — Прокл пожал плечами. В его карих глазах была грусть.
— Да ну тебя. Как всегда. — Мони махнул рукой.
— Схожу за соком, — на той же меланхолической волне произнес Прокл и, не дождавшись ответа, растворился в толпе.
— Постой, Прокл! — заторможено сообразил Мони.
Недоступный айсберг, словно почуяв неладное, попытался исправить положение. И растянув аппетитную улыбку, медленно начал таять, позволив себе шевелиться — шоколадная крошка облегченно упала с губ, но поздно: внимание Мони было сосредоточено уже на другом. Он недовольно оценивал винные пятна, которые продолжали наносить урон его изысканной внешности. Досадуя на обстоятельства, Мони вытащил из кармана несколько салфеток и стал перебирать их в пальцах, как вдруг заметил: на одной из них было что-то написано. Он поднес салфетку к глазам:
«Пляж. Семь вечера сегодняшнего дня»
Витиеватый почерк тонул в собственной загадке, разгадать которую мог только его обладатель. По телу Мони пронеслись табуны нервного озноба. Упершись взглядом в ясное небо, по которому были небрежно развешены, как белье на сушильной веревке, клочки облаков, Мони выдохнул и во второй раз прочитал загадочное послание.
— О! –воскликнул он. –Мне назначили свидание? Кто она, эта прекрасная незнакомка?
Кафе заполнила веселая компания туристов, немедленно принявшихся что-то бурно обсуждать. Прокл подошел незаметно. Подобно наивному ребенку, заглядывающему в калейдоскоп, он с непритворным любопытством заглянул в бегающие глаза Мони:
— Отсутствуешь?
— С кем мы сегодня сидели за завтраком? — монотонно поинтересовался Мони.
— С кем-то, не помню. Там вообще было много людей… Держи, — ответил Прокл, поставив холодный напиток перед Мони.
— А точнее?
— Что? Не слышу, тут так оживленно… — Прокл повел рукой вокруг.
— Вижу. — Мони вздохнул. — Тут так каждый день. Сегодня похоже на вчера, а вчера — на завтра. Словно бы кто-то каждую ночь снимает копию с оригинала… — Что? — Не понял Прокл. — Не слышу.
Мони опять вздохнул, на этот раз глубокомысленнее.
— Может это просто жажда? — Он сделал пару больших глотков. — Точно. Значит, ты не помнишь…
— Не помню о чем? — наконец расслышав друга, осведомился Прокл.
— Так… — Мони пожал плечами. — Сегодня я пойду с тобой встречать твой прекрасный закат.
— Зачем это? … — недоуменно спросил Прокл. –Ты заболел?
— Ну почему сразу… — Мони не находил, что ответить и лишь улыбнулся, полный каких-то таинственных мыслей.
Весь остальной день он пребывал в таком загадочно-задумчивом состоянии, что Прокл решил идти встречать закат один. Однако, когда он собрался уходить, бросив официальное «доброго вечера», Мони с не свойственным ему отчаяньем в голосе завопил:
— Ты куда? А я как же?
— Я думал… — смутился Прокл.
— Мало ли, что ты думал! я что тебе сказал? — кричал Мони.
— Не вижу причин так нервничать… — Прокл развел руками.
— Ну так ты попросту ослеп! Впрочем, это не твоя вина. Пошли, прозреешь по дороге. — Мони пронесся мимо удивленного Прокла и рванул входную дверь на себя с такой безумной силой, что та чуть не слетела с петель. Прокл вовремя отшатнулся.
— Что-то не пойму… Ты спятил? По какому телефону у нас неотложная психиатрическая помощь?
Вопрос улетел в пустоту. Не сказав ни слова, Мони уже спускался вниз по лестнице.
Всю дорогу до пляжа друзья шли молча, думая каждый о своем. Наконец Мони проговорил:
— Где же твоя закатная красота?
Прокл поднял голову:
— Туман, видимо…
На изможденном вечностью вечернем небе, будто захлебнувшись в серо-голубом воске, едва заметно тлел равнодушный закат.
— Наверное, он испугался другой красоты? — смущенно предположил Прокл.
Мони осторожно посмотрел на друга.
— Не думал я, что закат встречать должно в столь красочном образе соблазнителя. — Пояснил тот.
— А-а, может, я просто забыл переодеться?
— После обычного ужина? Может, Мони, — шутливый тон Прокла не разрядил напряжения. Мони озирался по сторонам, как молодой монарх, только получивший в наследство престол и власть. Он еще не знает, что может ожидать его в дальнейшем, но врожденная сила самоуважения уже управляет им, подсказывая верные решения. Прокл невольно вздрогнул: впервые ему доводилось видеть лицо своего друга таким загадочным.
— Ты кого-то ждешь, Мони? — тихо спросил он.
— Вот ты говоришь о красоте… — произнес Мони совсем некстати, — …о, если бы ты знал, мой добрый друг, как бы я хотел лишиться этой красоты, на которую смотрят здесь лишь с позиций охотника. Ненавижу!
Они разошлись на мгновение, обходя раскидистое дерево, величественно расположившееся прямо посередине дороги. Мони проворчал что-то невнятное, затем опять поймал волну доступной речи:
— Заманят в чащу, наведут на капкан, а потом, потом… — Последние слова его звучали тихо.
— Что, жертвой себя считаешь?
— Конечно, не будет жертв, не станет и охотников. Красота перестанет пользоваться спросом и померкнет. Ее не удастся продать жадной до молодости страсти, и рынок жизни не получит прибыль от еще одной угасшей чистой души. Красота уже подразумевает в себе продажность.
— Нет! Красота бесценна! — Словно защищаясь, резким жестом Прокл отстранил от себя голос Мони.
— Брось, чем вещь бесценнее, тем выше у нее цена! А если красота перестанет продаваться? — не слушая возражений, продолжал Мони взволнованно. — …Ее перестанут покупать, она окажется ненужной, ей найдут дешевую замену, и красота умрет, а вместе с ней умрет и…
— Ну, давай теперь будем рассуждать о продажности любви. — Прокл смотрел на Мони удивленными глазами, пытаясь угадать причину его столь странного возбуждения. — Хотя, ты, наверное, прав, — прошептал он. –Да, ты прав… — Прокла опять посетило чувство остановки времени, что он впервые ощутил сегодня за завтраком. — Кругом обман. — Он подошел к дремавшему морю, и ударил ногой по воде. — Я думал, это зеркало вечной природы, но я ошибся, оно разбилось, как обыкновенное земное притворство…
— Прокл? — позвал Мони, но тот не откликнулся. Он шел медленными шагами по берегу. Глаза его были закрыты. Темные волосы скрывали природно-мертвенную бледность кожи, словно боясь выдать ложные признаки смерти.
Мони быстро поравнялся с ним. Беззакатная темнота окутала их плотнее.
— С юных лет меня мучила эта болезнь, эта страсть к природной красоте, — тихо начал Прокл. — Эти ежедневные картины рассвета, заката, я не могу без них. Солнце, Луна, море — мои божества. Вся эта невероятная красота не вмещается в простую человеческую душу и из-за того только причиняет боль… — Прокл говорил сбивчиво. — Ею нельзя воспользоваться, нельзя забрать себе, украсть, спрятать и хранить, подобно сокровищу. Я до сих пор, как зачарованный, смотрю на нее, но не получаю ни одной искры счастья. Может, того и нет вовсе, а есть одна только боль. И я болен буду, если не подниму глаза на небо за день хотя бы раз… — Чего ты шепчешь? — Перебил Мони. — Я все равно слышу. — Он хмуро улыбнулся.
— Ты сейчас говорил о людской красоте, — продолжал Прокл, не отвечая, — однако эту красоту я не считаю за ценность, потому что она безумно опошлена ее носителями — людьми. Я давно для себя решил, что в нашем мире возможно доверять лишь природному естеству.
— Природа и человек неотделимы друг от друга… — начал было Мони.
— Разумеется, — согласился Прокл. Он стал говорить громче, выговаривая слова с несвойственной ему резкостью.
— Но так как же ты после этого можешь противопоставлять природную красоту человеческой? Хочешь обезопасить себя от зла, отделившись от людей? Это вряд ли… Как ты понимаешь природное естество? Это же абстракция. Красота, природная или человеческая, — одно. Ведь, согласись, и та и другая в наше время продается. Можно заплатить и получить женщину, можно заплатить и получить кусок земли с душистым садом или лесом. Вырубить лес и уничтожить сад, обесчестить женщину, украв у мира еще одну частицу праведного стыда, чистоты, — это одно и то же, Прокл.
— Как ты невнимателен, друг мой, — голос Прокла опять влился в привычное русло тихой речи. — Я недаром прежде говорил о пошлости именно человеческой. Красота ведь несознательна. Лишь человек, слышишь, мог настолько унизить себя, что произнес во всеуслышание цену себе. И я говорю сейчас не только о падших женщинах, но и о браках по расчету, и…
— Ясно, — нервно перебил Мони. На счету его молодой жизни каким-то образом уже были два совершенно нелепых, неудачных брака. Правда, с чистосердечными предложениями рук, колец, вилл и даже одной из фешенебельных квартир, а затем с таким же чистосердечным раскаянием и отводом этих самых рук от предложенного ранее добра. Мони не любил касаться своих браков, да и, наверное, браков вообще.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
