
Бесплатный фрагмент - Глаза цвета твоих
Сборник миниатюр
Глаза цвета твоих
Я укрыта горячим бархатом. Спасена от жуткого холода теплом твоего голоса.
На моих глазах — сургучная печать тьмы.
Твой голос льется мягко и неспешно, как янтарное масло из узкого горлышка бутылки, и я вязну, вязну и прошу тебя: «Не умолкай, говори! Ты только говори — и я прощу все, пойду за тобой, хмельную, нагую меня понесут люди, распятую на кресте твоего голоса!»
С каждым твоим звуком моя одежда скользит вниз, к моим судорожно сжатым ступням. А гордость плавится, тает, как мороженое в горячей детской руке…
Я забыла, как дышать.
Ну же, давай, это просто — сделай глоток воздуха, почувствуй, как он подсушивает губы, как жидким гранитом льется внутрь и застывает навечно комком в горле, так что ни плакать, ни говорить…
Пленница в собственном теле, безвольном и покоренном.
Но у меня еще остался мой взгляд — мое оружие.
Острый, словно слово, брошенное сгоряча — и такой же опасный.
Я собираю всю себя и бросаю на тебя этот свой последний взгляд — и вижу твои мертвые пустые глаза цвета зеркала, цвета жестокости, горячего цвета, властного цвета, цвета твоих.
Изгнанница
На руках моих вышиты татуировки, символы древние, никто из ныне живущих не прочтет их никогда.
Я медленно иду вдоль влажной стены тумана, ледяного пара, прячущего острые зубы и когти неведомых зверей. Здесь нет ничего яркого — ни цветка, ни растения — только грязное молоко тумана, и я в самой сердцевине страшного водоворота стихии, не сильная и не защищенная никем.
Я всем чужая, они прогнали меня, вытравили собаками, палками, криками из своих жизней, простых и понятных.
За то, что я парила ночами над их крышами и заборами, за то, что я так и не привыкла ходить на ногах, за то, что я говорила с птицами и травами — а не с ними.
Они вышвырнули меня в Стороннее пространство, куда входа нет ни живым, ни мертвым.
Я вошла.
И тьма пожрала мои картинки, мои мысли, она пировала долго, смачно, по-хозяйски разрывая мои вены и любуясь калейдоскопом магии в них.
Вскоре она вышвырнет меня отсюда, из Всемогущего и Безысходного Стороннего пространства, и я снова буду о двух ногах, почти целых.
Мои ноги обглоданы, и это так избито…
А сравнивать туман с молоком — не избито ли?
Брошенка
Вот оно, мое минорное восприятие, моя неопределенная реальность.
Слезы — непрошеные, дым — колечками, я бьюсь в агонии, и она — блаженна. Тоскою сочится все мое существо. Мое знание — это мое клеймо, мое ярило.
На самом тонком мостике своего сознания я стою, как черная балерина, на носочках, тянусь ввысь, а внизу, подо мной, захлебывается собственной мерзостью мое прошлое унижение.
Там, в пошлых любовных клятвах — мой персональный ад, мое пекло. И моя дрожащая неуверенность, моя шизофазийная стихия разверзнется вскоре — я делаю шаг.
Другой или третий — я уже лечу.
Лечу вверх, подхваченная неумолимым тайфуном времени, зачарованная порочностью собственных чувств. Пронизана остриями зрачков, вынесена за скобки пространства.
В полыхающей тьме я набираюсь силы, жестокой силы, неистовой. Я — огненный Хаос, жгучая злоба, счетчики и термометры взрываются от передоза моей яростью.
Пусть безмолвствует Земля!
Пусть изольется слезами Небо, тщась затушить меня! Я теперь — катастрофа, живу местью, дышу зверством, исступленно вздымается моя грудь. Некому покрыть ее поцелуями, остудить, унять зарево пожара в ней.
И вот, на самой субтильной ноте, рванет сердце туда, куда я не достану рукой, и замрет там, нежное и спокойное, пока меня будут накрывать плотной тканью и бормотать: «Не пережила… Не пережила».
Маленькая
Я бы хотела скользить в вязаных носочках по нагретому полу, по дорожкам солнечных бликов.
Ты бы шептал мне бессвязные слова, надрывно, горячо выдыхая сквозь сомкнутые губы.
Мой Гумберт Гумберт, твои глаза цвета моря на том берегу, что люди зовут Лазурным, и будь я чуть старше — я бы не пропустила начало истории.
Ты иллюстрируешь собственные сказки теплыми сухими поцелуями — я не могу не любить тебя за них.
За губы или сказки? Мне нет разницы в этом.
Я сижу у тебя на руках, и колени твои острые и жесткие, как и мои.
Мне неудобно — я не слезу.
Здесь мне место сегодня, в твоей душной ночи, в твоих бархатных пальцах, твоя, твоя, не чья-то…
Слова твои вкусны, как самый смертельный из ядов.
Ты умолкаешь — это мое время, необсуждаемый сигнал. Я вожу пальцами по твоему лицу, по каждому выступу, по закрытым векам. И ты упиваешься мной, свежей, юной — долго ли мне быть еще такой для тебя? Всю жизнь? Ах, лжец….
Твое удовольствие начинается в моем страхе, страхе быть игрушкой в умелых руках кукловода, да чего же тут бояться?
Другие — с мальчишками, неумелыми, грубыми, я же — с тобой, искусным, проворным, нежным-нежным.
В тебе — сотня моих жизней, и не надо мне другого пути.
Маленькая-2
Да плевать мне на Новый Год на эти салюты и хлопушки, если нет тебя рядом.
Я лучше запру себя в ванной, там, где мои соли из Body Shop. Флотилия бесстрашных резиновых уточек рассекает поверхность воды.
Ты — круглый дурак. Круглый, как мир, круглый, как тот отличник, который ухаживает за мной так неуклюже…
Как вышло, что я осталась наедине с самой главной ночью в году так незаметно?
Как же длинна она, словно полушарие мое — южное, а твое — другое, тяжелое и недосягаемое.
С улицы слышен смех детей — у каждого из них есть папа, такой, как ты. В волшебных умных очках, со всегдашней шоколадкой для озорников в кармане солидного вкусно пахнущего пальто.
Давно ли ты слышал мой смех? Давно ли играл на мне свои увертюры?
Я сплю одна, охочусь на неуловимые сны, в которых ты гладишь меня по щекам, и никогда не уходишь с сумерками, в которых ты никогда не оставляешь меня, неблагодарный.
Я буду лежать в ванне, пока не остынет вода, пока не смолкнут голоса людей за окном. До самого позднего из всех зимних рассветов.
Изо всех сил стискивая зубы, чтобы не зареветь.
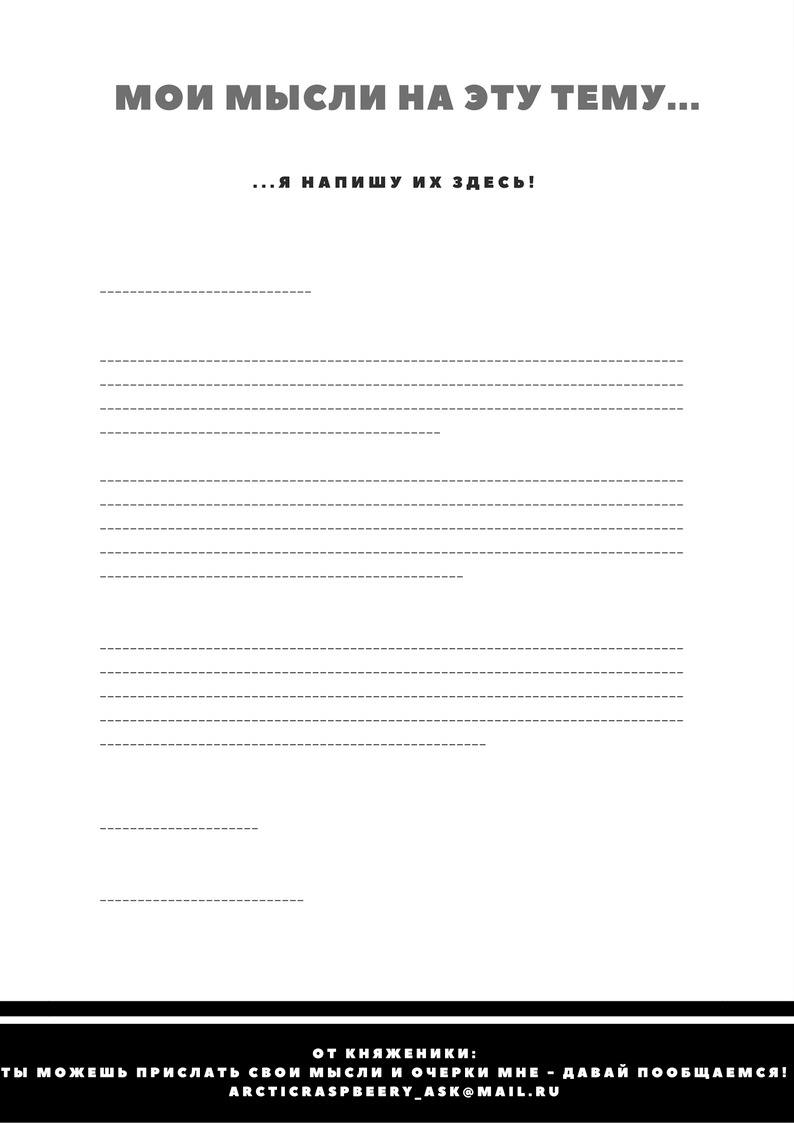
В клубе
Имя — выстрел в упор, навылет.
Я вся горю неоновыми огнями города, стреляю глазами мимо, в сторону — не упустила ли кого? Истерично мигают вывески, пульс все чаще, быстрее…
Ты. Ты сегодня тот, кто останется со мной.
Танец под музыку твоих денег — отражение в поверхности безупречно гладкого льда в твоем бокале.
Я пью виски.
Всегда — только виски. Так я показываю прозрачность своих намерений. Я люблю виски так же, как адово пекло — там, где много градусов, остро пульсирует моя кровь.
Черные, словно пиратский флаг, локоны струятся-змеятся по моим обнаженным плечам.
У меня есть тактика: я всегда открываю что-то одно — плечи, грудь, спину.
Ноги — никогда.
Два безупречно гладких ствола моего главного оружия спрятаны до поры в сатиновом чехле.
Девочки в тряпочках, голые, беззащитные — они уйдут с мальчиками, трусливыми, слабыми.
Я уйду с тобой. Насколько я — Женщина, настолько и ты — Мужчина.
В мыслях нет плана, лишь зацепки на будущую ночь. Самую незабываемую ночь в твоей жизни.
Поторопись, чего же ты медлишь, уйдем же. Скоро наступит утро. Скоро меня не будет.
Хочу в Альпы
Солнце — сильное, безграничное. Ветер стеной, упругий, воет хрипло на склоне.
Я верю только себе, тело сильное, гибкое. Зрачки за стеклами плотных очков — с кончик иглы.
Здесь нет духоты кабинетов и мягкой пыли подушек, хронического тоннельного синдрома — лишь бархатная сладость нового снега, выбранные маршруты и трассы, румянец пятнами на щеках, крепчайший сон до утра после горячего вечернего душа.
Снег поглощает все и выплевывает снежинки прямо в лицо…
Привыкшая к холоду, я не сразу согреваюсь у каминного огня. Снимаю шарф, открываю белую шею.
Мне подносят широкий бокал с жарким напитком, я благодарно улыбаюсь. Как же хорошо здесь, в маленькой комнате, полной теплом до самого потолка.
Выдох — расслабление. Сигариллы здесь вкусные. Вива ла Куба.
Сладок мне вкус дольчевиты — знойная мякоть ломтиков апельсина на дубовом столе, тарелка — Веджвуд, всё только самое лучшее.
Толк в хороших вещах я знаю, этот фарфор даже лучше лиможского.
Насмехаются надо мною часы, ночь еще не пришла.
Вечер будет длится столько, сколько горит шальной огонь в высоком камине, и не гаснет моя сигара, и напиток мой не остынет до утра.
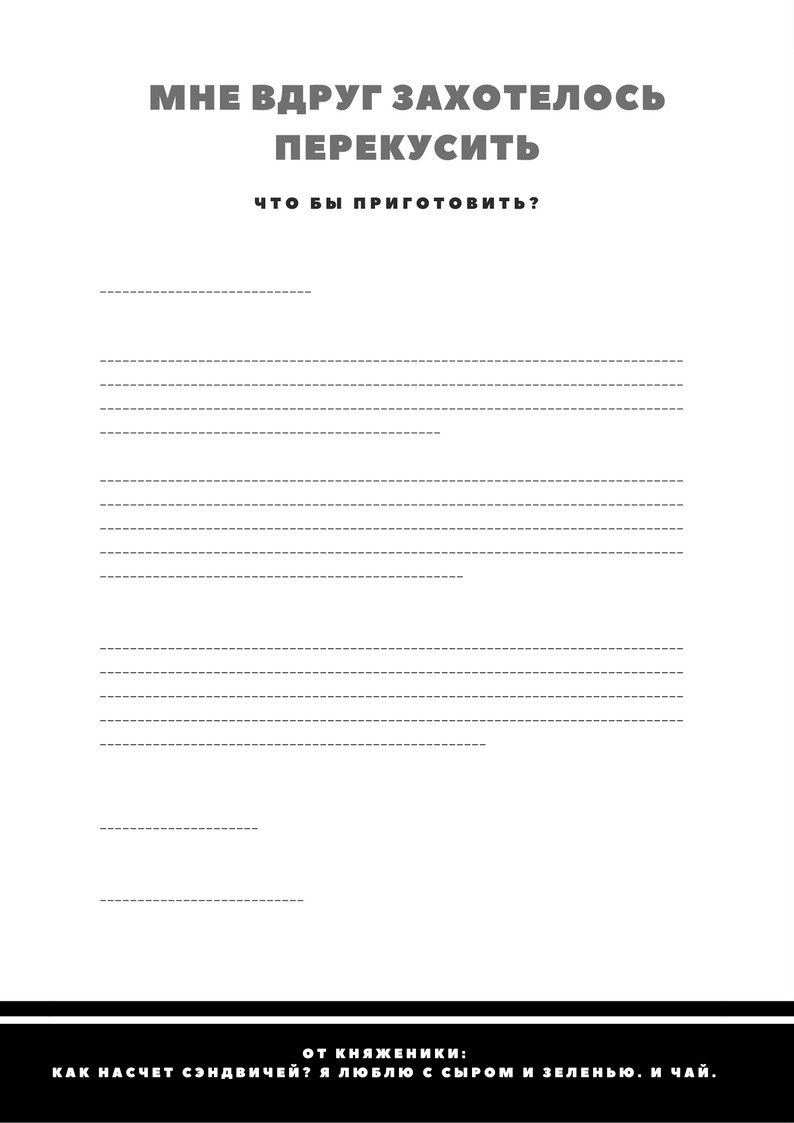
Лицо Бога
Через зеркальный космос я выбрасываю вперед руку и касаюсь лица Бога.
У Бога — золотые скулы, гладкие словно опалы. Бог разрезает чужие сны красками тропических ветров.
Глаза его искрятся льдами Арктики, чистые, прохладные. Бог живет в черничных пещерах, гладит по открытым макушкам недвижных Самадхи, вдыхая капли жизни в их ржавеющие суставы.
Каждое слово Бога множится игривыми солнечными зайчиками, тугими песчинками на берегах вечных океанов.
В начале было слово…
Меня спрашивали о том, кто его сказал. И что это было за слово. А я молчала, размышляла — кто же услышал его. Существует ли звук, который никто не слышит?
Бог на золотых пуантах медленно движется в полной тишине по мрамору времен. Не слыша молитв, не слыша музыки людей.
Аскеза тишины приближает к согласию времени и неба.
Есть ли уши у Бога?
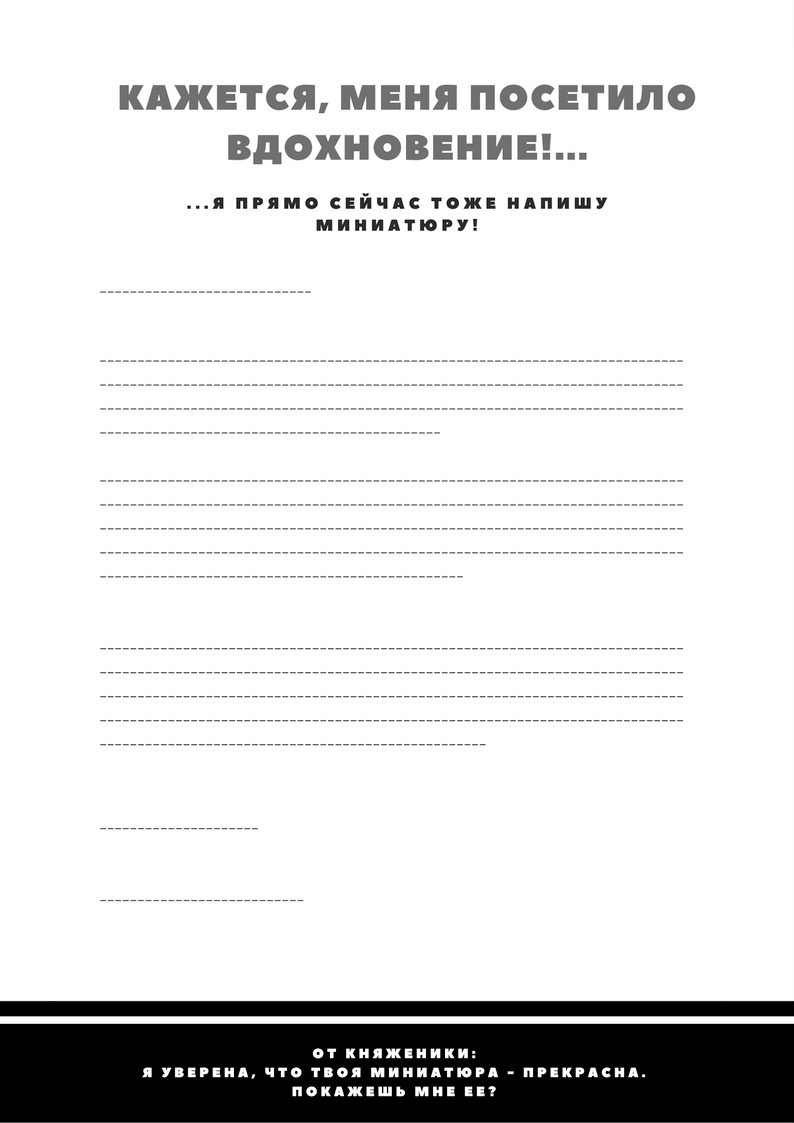
Я люблю жить
Подарки — каждый миг.
Я двигаюсь вязко, словно в сгущенном молоке — и так же сладко. Как же прекрасна жизнь, Господи — снопы жарких искр в камине, отражение поцелуев в зеркальном потолке, погружение души в другую душу…
Мое пространство — связующее звено между мной и целой Вселенной, между огненными сферами звезд и случайных миров.
Мир каждый день меняет свою форму — только для меня.
Я сама выбираю свое сумасшествие — пусть говорят, что глупа, инфантильна, незрела! Зато в моем холодильнике — ледяные бури и изумрудные спирали сталактитов, я танцую ночами в вихре собственных кудрей, и по утрам меня всегда ждет завтрак, ломтик солнца на моей утренней тарелке…
Я никогда не бьюсь в истериках в метро, не бью посуду, не ломаю того, чего я не создавала. Мои ветряные зефирные мельницы медленно переворачивают патоку своими огромными лопастями. Всё то, что в других нелепо и тривиально — во мне расцветает, подсвеченное моей жаждой жизни.
Каждый миг — творение.
Я — творец.
Поездка
Сладка моя эйфория, горячо бьется моя густая кровь.
Авто цвета «мокрый асфальт», я смеюсь — это цвет твоих глаз, а по щекам бьет ветер-нахал. Эй, ветер, разве твоя матушка не учила тебя, что бить девушек нехорошо?
Твои резко очерченные губы дрогнут в улыбке — ты никогда не видел меня такой беззаботной, такой юной…
Прочь футляры, сегодня я — не дива, не полубезумная избалованная мужчинами поэтесса!
Мое женское, неотъемлемое право — быть глупышкой, петь громко, смеяться безрассудно.
И само небо молчит, скалится улыбкой сквозь тягучие облака, и тривиальность ситуации усыпляет твою бдительность.
Ты побаивался меня, словно годовалого питбуля, ребёнка в сущности, но опасного ребёнка — не тронь, не дразни. Укусит.
И желание твое усиливал этот страх. Сегодня ты невыносимо самодоволен.
Я стала для тебя проще, изведаннее, доступнее. И поэтому на самом пике твоего смеха я повернусь к тебе и тихо скажу: «Развернись, пожалуйста — и домой».
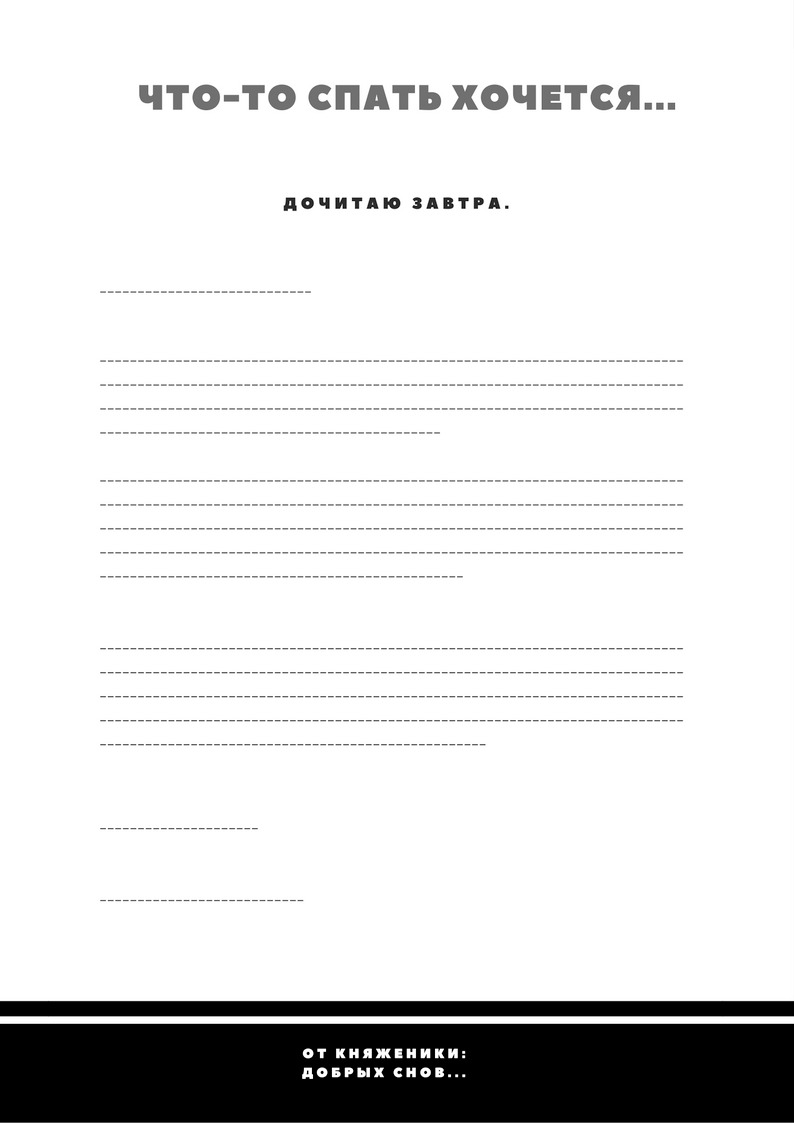
Воздуха!
Время — это одеяло для души.
Укрывает, греет.
Слишком плотным одеялом можно придушить.
Жизнь — на вдохе, а ты делаешь лишь выдох, ибо невозможно кричать на вдохе.
В этот миг ты теряешь все свои роли, ты вновь — младенец, криком молящий о самом необходимом.
Время — это песок. Если вдохнуть его, он забьет твои легкие, и внутри тебя будет миниатюрная песчаная буря.
Смертоносная.
Жюль Верн писал, что самая мучительная смерть — смерть от удушья.
И мне страшно плакать, страшно выдыхать, когда следующий вдох недоступен.
Абонент недоступен.
Цвет ожидания
Сизый. Конечно, сизый.
Цвет сигаретного дыма, цвет влажной пустыни ранним утром.
Пусть о любви мечтают проклятые — а ты умница, ты знаешь, что ждать дольше пятнадцати минут леди себе не позволит.
Ты весь день не выпускаешь телефон из рук, сегодня никому не нужен повод, чтобы набрать чужой номер — но именно в этот момент в тебе вдруг включается принцесса Диана, которая нежным голосом с хорошо прослеживаемым оксфордским акцентом напоминает тебе, что первой звонить мужчине нехорошо.
Ваше свидание ничего для него не значит, шепчет Диана. Тот, кто хочет — тот приходит.
Приходит первым, сидя за пустым столиком, нервничая и нервируя официанта бесконечными просьбами. Издерганному человеку всегда или слишком жарко, или слишком безводно.
Официант приносит ждущему третий стакан воды, в этом заведении воду дают бесплатно, и официант даже не улыбается, протягивая молча стакан.
Вот как надо ждать. А не так, как ты — делая вид, что обновляешь ленту Инстаграма, украдкой проверяя маникюр и бесконечно глядя на часы.
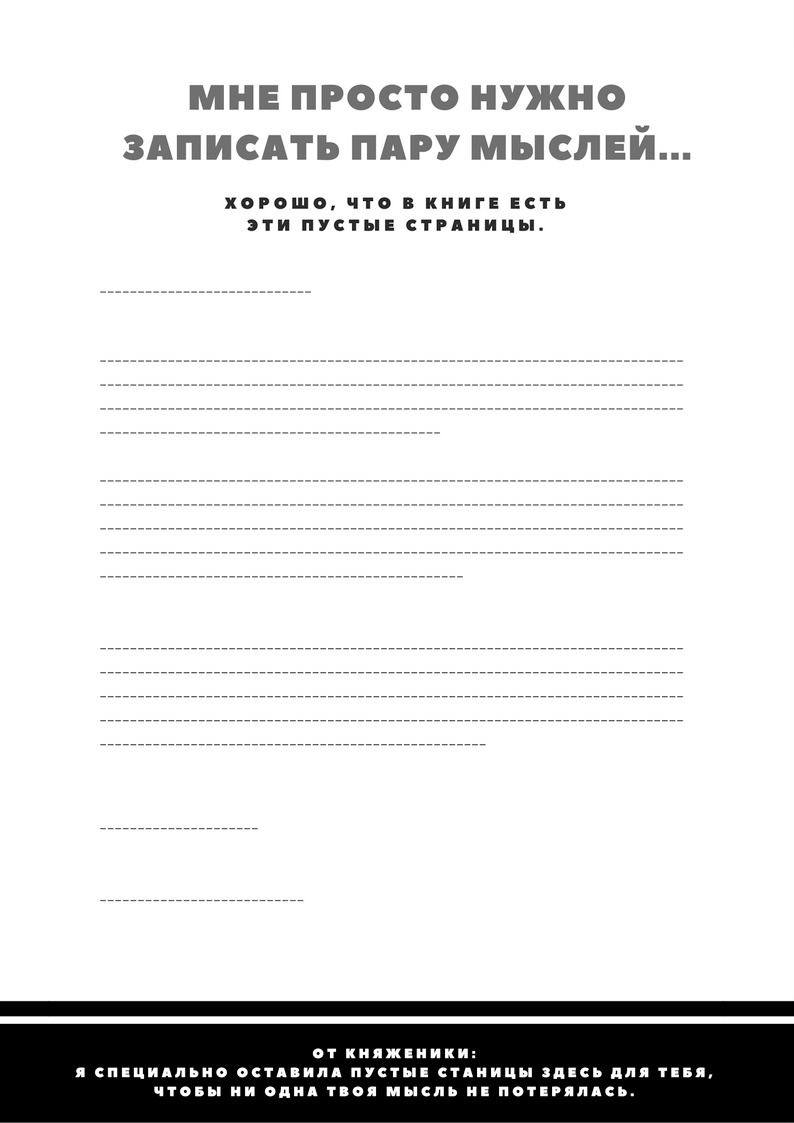
Но я не пришла
И была я богиней, со змеями, спящими в моих волосах, и было мое тело сияюще красиво. И был ты художником, маявшимся бессонницей на залитом лунным светом чердаке. Ты звал меня — но я не пришла.
И была я палицей в могучих руках каменного исполина. И был ты плахой, блестящей от спекшейся крови невинно казненных. Ты звал меня — но я не пришла.
И была я чернокрылой птицей с фиолетовыми глазами, и был ты фьордом на границе одиноких скал. Ты звал меня — но я не пришла.
И была я в черном плаще, и парус мой был цвета обсидиана, и коса в моих руках была наточена добела. И был ты пиратом, кривым и безногим, на белоснежном песке несуществующей земли ты позвал меня — и я пришла.
Кудри цвета шоколада
Я давно уже не мечтаю.
Я впустила в свою реальность счета за коммунальные платежи, ежегодное повышение цен и белые аспириновые кругляши.
Поздним вечером, когда, лежа в своей постели, закрываю я глаза, та, другая внутри меня просится наружу и показывает мне тревожные мандариновые облака, багровые фрески и солнечных зайчиков с кисточками на ушах.
Я прогоняю ее, укладываю поглубже внутрь себя, там, где ей безопасно, хоть и тесно и так скучно, невыносимо скучно.
Мне жаль ее.
Она любит ковры из травы, розовый чай и лилии. А я пью кофе, который ненавижу, потому что он помогает мне довести до конца еще один день. На праздники мне дарят розы, с необрезанными шипами — моветон, сырье для подарка, не букет.
Вот только вчера, когда я вечером сидела над налоговой декларацией, в мою дверь постучали.
Курьер принес мне лилии. И с ними — записку. «Ваши кудри цвета шоколада».
И я поставила лилии в воду, и выплеснула кофе в раковину, и налила себе розовый чай, думая о том, как это странно — быть той, о которой кто-то думает.
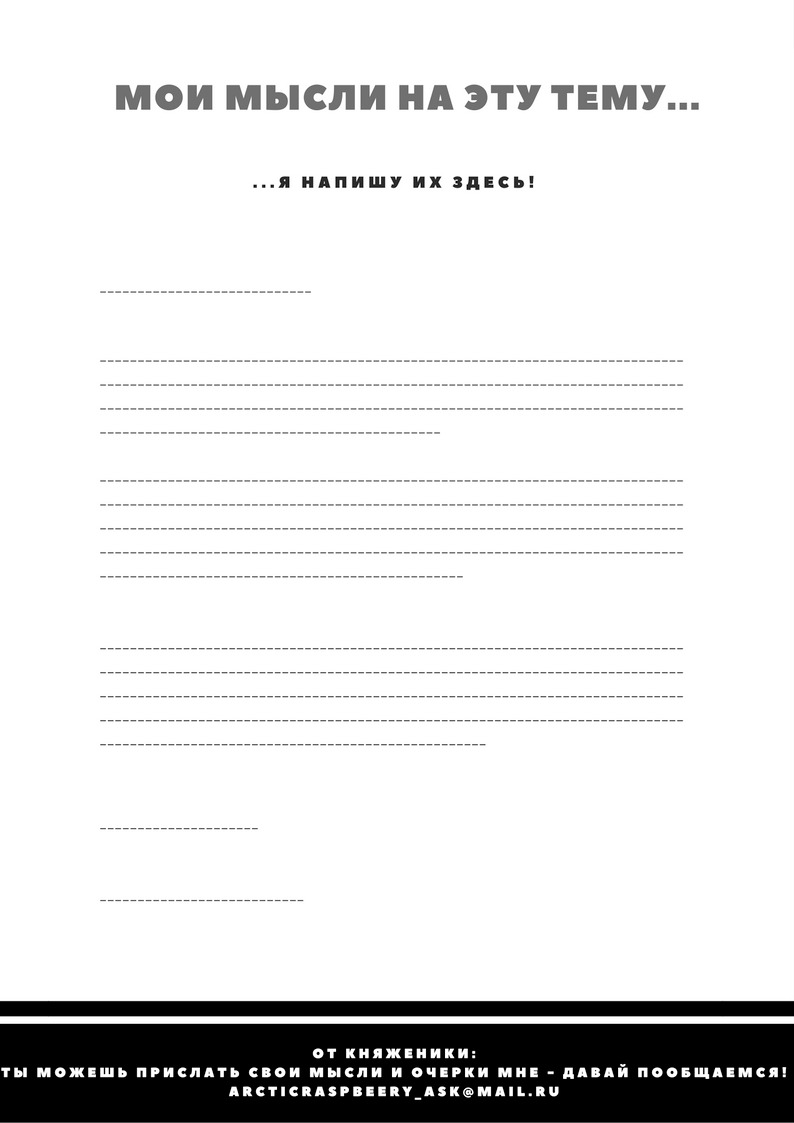
Предательство
Я предаю красиво. Разве можно иначе? Ты любил, тебя любили — так на что ты ропщешь?
Я была щедра на подарки.
Я дарила тебе веру в себя, дарила зеркало, в котором ты был успешен и крепок.
Я дарила тебе медовую негу на своих египетских простынях.
Говоришь, видел меня с кем-то в городе? Да, разумеется. Он кормил меня ягодами. Ты любишь ягоды?
Это ведь город-призрак, милый, тут можно увидеть своими глазами даже то, чего никогда и нигде не было.
Здесь люди скалятся друг на друга, и называют оскал улыбкой, входят в теплый вечерний туман в лучших костюмах, словно там они смогут смеяться.
Ложатся ночью с другими людьми, словно так они смогут спать.
Я люблю спать. Сны очищают мою совесть. В них я все еще тонконогая девчонка, а ты — белозубый мальчик, у которого еще нет галстука, и кабинета, и стола с зеленым сукном, и секретарши с бюстом пятого размера, которую я, кстати, приказала увести в лес и оставить там привязанной у муравейника, обнаженной и плачущей.
А сейчас уходи. И, так как я щедра, я даю тебе шанс проверить, что за тобой нет слежки. Так и быть, я перестану дышать ночами в твое окно.
Фондю
Как же удалось тебе так легко сделать из чего-то сухого и жесткого нечто мягкое и и сочное?
Когда я склоняю голову на твое плечо, твое дыхание царапает мне макушку, и мне становится больше не нужно дышать.
Я горю и корчусь в сладкой муке, никогда больше не жесткая, никогда больше не грубая.
Моя ненависть растворяется в твоей улыбке, я вся — Любовь, я вся — Нега.
Дай мне услышать твой пульс, дай мне ощутить твой вкус изнутри, до самого горла.
Я обрела наконец безумие в тебе, и оно превосходно. Как то вино, которое ты подаешь к сырам. Мы отбрасываем одну тень, одну на двоих, потому что меня не существует, когда ты находишься рядом.
Ты — чемпион по смягчению, по жару и вкусу. Если бы ты был поваром, твоим коронным блюдом было бы фондю.
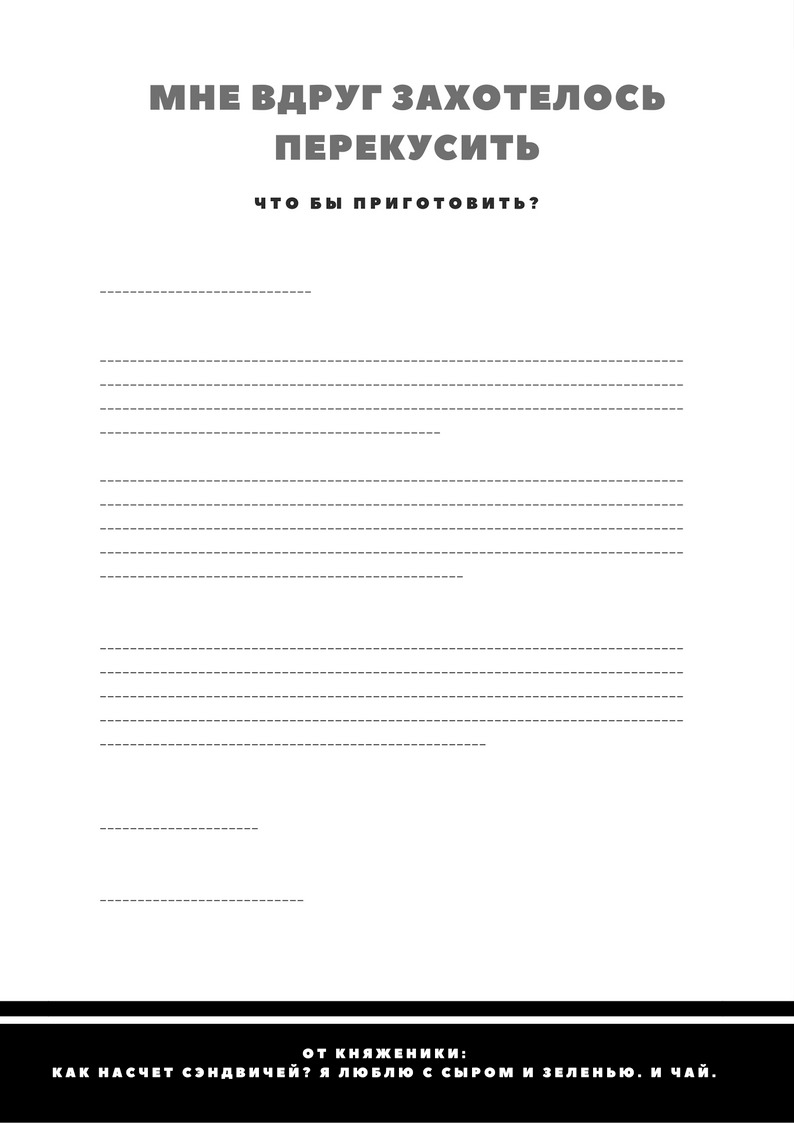
Еще одна ночь
У моего страха плоская чешуйчатая голова, а глаза сводят с ума, как сломанный калейдоскоп.
Невозможно сфокусироваться, невозможно отвести взгляд. Мое отражение в зеркале намного уродливее меня. Оно тусклое и беспомощное.
Ночью, когда я без сна лежу на кровати, прикрыв глаза от беспардонного света уличного фонаря, мое отражение встает в зеркале в полный рост и смотрит на меня.
Я это знаю — и никогда не поворачиваю головы.
Я бесшумно плачу и жду рассвета, чтобы отражение помутнело, подернулось тонкой рябью и растворилось. Обычно это случается за полчаса до рассвета.
Тогда я наконец засыпаю, для того, чтобы проснуться под ненавистную мелодию будильника через пятьдесят минут и прожить еще один день, разбирая бумаги и слушая сплетни у кулера.
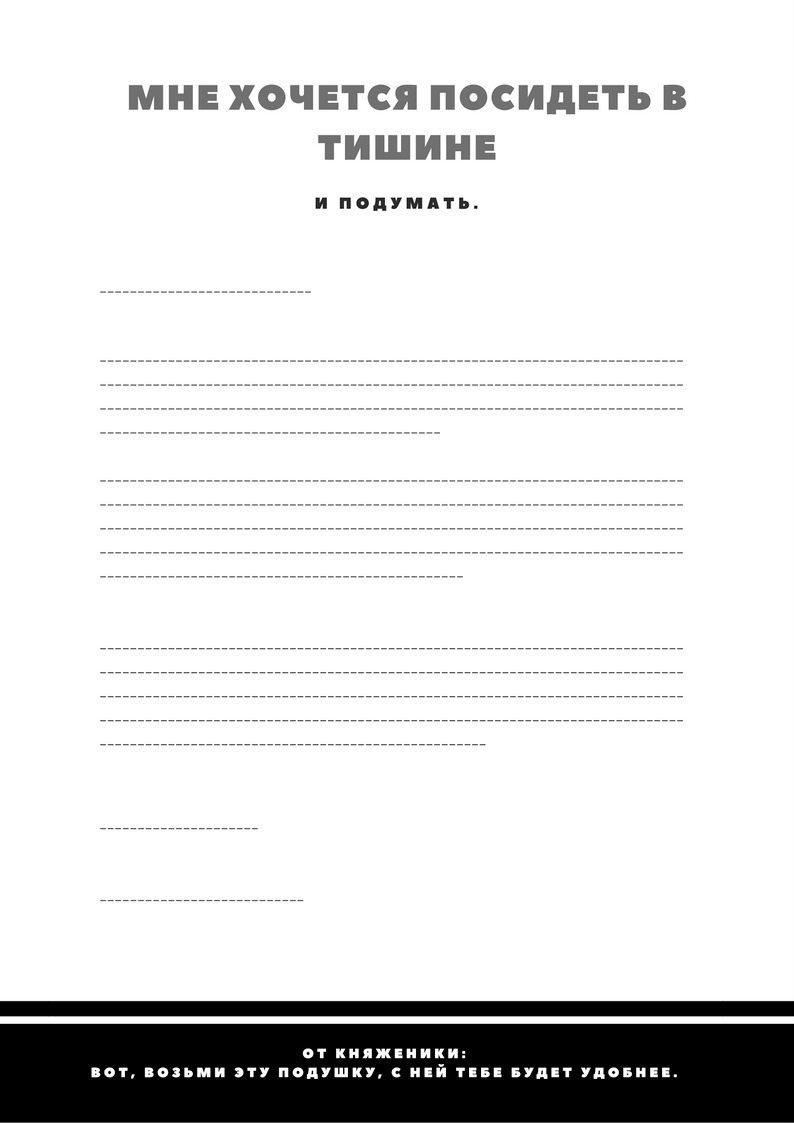
Жертва Сатира
Огненная моя, лакричная, разве мало дарил я тебе своих ласк? Я болен, я одержим тобою — возьми мою руку, послушай, как в ней утихает пульс.
Ромовая моя, пшеничная, разве тех цветов, по которым ступала ты туфельками, не хватило тебе, чтобы забыть о том, сколько лет я живу уже на этой планете. Ты смеялась, ты уверяла. Что тебе неважно, что я самый интересный из всех людей. Я смотрел в твои желтые, как сердцевина ромашки, глаза и верил тебе, верил.
Лазурная моя, голубичная, поцелуи твои холодны как родник, и припаду я к нему, и утолю свою страсть обладания прожитой юностью.
А мой бес в ребре упрашивает меня так тоненько, так ласково упрашивает. Я гоню его, но скорость моя уж не та, а он проворен. Вот она, спит в твоей кровати, на которой ты ждал ее всеми твоими ночами, вот нож, и в руку он ложится плотно. Ты просто попробуй, шепчет мне бес, сует мне точеную сталь.
Облачная моя, лесная, я вонзил нож, вонзил в беса, я спас тебя, тихо-тихо, чтобы сберечь твой сон, а проснувшись утром, ты уходи сразу, чтобы глаза твои майские не видели меня, лежащего у изножия постели твоей с ножом, воткнутым в ребра.
Я знаю, ты изменил
Когда ты вошел, твои губы сразу выдали тебя. Они алели изменой, той сладкой мягкостью, которая случается, когда твердые мужские губы и пухлые женские долго-долго трутся друг о друга.
Когда ты вошел, я не смотрела на тебя — в твоих глазах был свет, а мне видеть его было бы несносимо. И хоть ты прятал его искусно, он вырывался вперед стрелками сквозь твои ресницы и маячком освещал мою темную комнату.
Когда ты вошел, я была готова. Обнаженная сидела я у окна, на потеху зевакам, и волосы мои были мягки, и губы мои были цвета мертвой розы. Дурманное зелье пенилось в бокале, выпьем, милый, до дна, за нас.
Когда ты вошел, ты забыл о том, откуда пришел ты. И никогда больше не вспоминал.
Я видел…
Я видел Перу и Эквадор с той высоты, что страшна даже птицам. Но не видел я счастья в твоих глазах.
Я видел, как люди едят мадагаскарских тараканов, обмакивая их в грязно-белый соус — но не видел счастья в твоих глазах.
Я видел братоубийства и продажу детей, нарядных старух и безногих проституток — но не видел я счастья в твоих глазах.
Я видел пелену дождя в тропических джунглях и маленьких мушек, несущих смерть — но не видел счастья в твоих глаза.
Но когда я вернулся — ты улыбнулась.
И я не видел ничего, кроме счастья в твоих глазах.
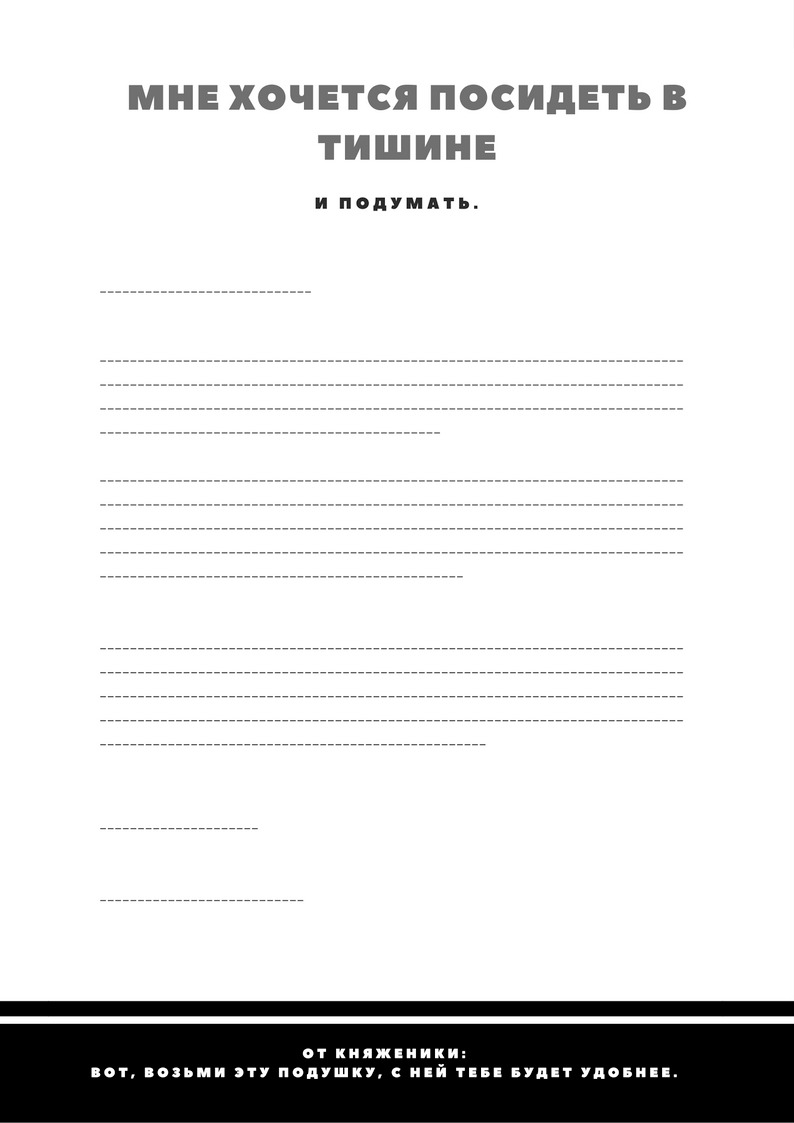
Твой тайный ангел
Я взорвалась — и кусочки меня разлетелись по всему твоему городу, и ты видел их, но не узнал. Я помогала тебе, как могла, осколок моего глаза навечно застрял в зеленой секции светофора у твоего дома, и ты каждый день ехал спокойно.
Волосы мои вплелись в нитки, которыми сшивала лоскуты в одеяло твоя бабушка, и я грела тебя зимой, и ты не заболел ни разу.
Когда ты пригласил ее, нежную и юную, к себе домой, вы собирали паззл, и одного кусочка недостало вам, я спрятала его под кровать, на которой вы ночью обнимали другу друга, а мне было пыльно и душно под этой кроватью.
И в Новый Год ты взорвал петарду, ты загадал желание никогда не разлучаться с ней, мягкой и светлой, и каждая искра огня была моей болью, я застыла в пустом зимнем небе, а ты показывал ей меня и говорил: «Смотри, какие большие здесь звезды! Я подарю тебе одну, хочешь?»
Стерва
Я всегда разбавляю чай — слишком крепкий, он напоминает мне твои глаза, плоские, темные и просящие.
Я пью виски со льдом, потому что ты пьешь только коньяк и просишь меня приготовить к нему «николашки».
Я никогда не улыбаюсь тебе, чтобы ты не знал моей улыбки на вкус, и моя недосказанность мучает тебя, прожигает в твоей мякоти дыру с обугленными краями.
Мне все равно.
Мой цинизм уже не так красив, как прежде, он выцвел, обветшал, но еще может ранить.
Что тренируется — то и развивается.
И я тренирую его на тебе, не люблю тебя, слышишь, не люблю, и мне стыдно за то, что ты прячешь слезы, когда твои глаза блекнут от боли.
Я запрещаю тебе видеть меня.
