
Книга IV. Этот Амендралехо

Любовь —
Зачем ты мучаешь меня?!
Сгорю ли я?!
— Сгорю ли я?!
Сгорю ли я в порыве страсти!
Иль закалят меня напасти!
И в этой пытке!
— И в этой пытке!
И в этой пытке многократной!
Рождается клинок булатный!
Часть I. Revolution
* бушует людей океан, ревут пересудов волны *
В английском парламенте после известий с северной войны произошла очередная смена правящей партии. Россия побеждала Швецию. На пирушках лилось: «за учителей!», то есть за тех же шведов, про которых поговоркой добавлялось: «как под Полтавой». Польский король вернул себе престол, новый русский флот одерживал первые победы над сильнейшим по тем временам шведским.
И так как тори являлись противниками усиления Российской империи в Балтийском море и сторонниками сближения с Францией, то сменив вигов, резко сменили внешнюю политику, впрочем не настолько чтобы встать на сторону последней, против которой они продолжали пассивно воевать. Англия официально не вышла из Большого Альянса. Так как преследовала с его победой свои цели, но запретила герцогу Мальборо, главе вигов, допускать какие-либо военные действия с противником, и в то же время не собиралась выводить с театра войны свои войска.
В 1711 году умер Леопольд I Габсбург, император Священной Римской империи. Трон занял его сын Эрцгерцог Карл, под именем Карла IV воевавший за Испанию, и принадлежавшие короне американские и европейские владения, что грозило повторением времен Карла V и способствовало отходу от коалиции княжеств и монархий в составе самой империи.
Двойственная политика тори, фактически выключившая Англию из коалиции, вносила нерешительность в действия союзников, заставляя Евгения Савойского втягиваться в позиционную войну за крепости и коммуникации, что оказалось большой ошибкой. Виллар прибег к иной решительной тактике и обманным маневром разбил австро-голландские войска в Денен в июле упомянутого года.
Все это позволило французскому королю, прежде добивавшегося мира даже ценой отказа от Испании, в новой, совершенно изменившейся в его пользу обстановке на равных вести переговоры в Гертруденберге и Утрехте, важные для судеб Европы заканчивающейся войны и влияющие на расстановку сил главным образом в самих испанских владениях бывших, и имеющихся по сию пору.
* * *
Однако подходила к концу уборка винограда, а из всех вестей, ходивших без особого внимания на Сицилии, так ни одна ничего не сообщала. Впрочем изнуренную грабительскими налогами Сицилийскую провинцию, находящуюся на периферии общеевропейской войны, события той мало интересовали, так как до сей поры непосредственно не касались ее самой. Единственное что народ ждал от нее, это скорейшего ее завершения, являвшегося причиной возрастания налогов, а вместе с ними тяжелейшего гнета, являвшегося следствием этого и необходимым этому, что было в духе властвования всяким испанским властям. На ведение войны требовались средства, значит нужно было как можно больше выжать денег в виде больших налогов и дополнительных поборов.
Войне казалось не было ни конца, ни края. И в самом деле за ту дюжину лет что она велась, с ней могли свыкнуться, как свыкаются с новой монетой или правителем, новым веком и считать самом собой разумеющимся. И как было не привыкнуть, когда причины побудившие войну заварились в прошлом веке.
Неаполитанское королевство, или вице-королевство, коль уж правитель был давно не король, было занято своими заботами о хлебе насущном в пору сбора винограда, предоставлявшегося им. По-прежнему в поте лица трудился крестьянин — основной производитель и кормилец страны, ему подсоблял редкий работник или подмастерье, и кто как не трудовой люд являлся выразителем чувствования ухудшающейся жизни, и самим чувством того расположения, кое нисколько не улучшилось. А наоборот с ухудшением вызывало в народе резкое недовольство.
Страна, работая и видя сколько из сделанного предстоит лишиться, отдавая труд в виде налогов за море, в своем развитии топталась на месте, что значит потихоньку деградировала в этом отношении, по сравнению с другими государствами, кои оставляли свой продукт при себе, более менее идя вперед на возрастающих с ним потребностях, и потенциях с ними. Подвластная, она была сравнима с тем хилым ребенком, который не щадя себя урабатывается на хозяина, сам при этом отстает в своем развитии от сверстников.
И все-таки Неаполитанское вице-королевство похожее на сапог с окончанием Аппенинского полуострова, пинающий краеугольный камень — Сицилию, было по-своему романтично в своем средневековом укладе, в котором становилась ни чем иным как присущей и естественной надобностью, даже нищетой. Страна консервирующая феодализм, как Европа начала его своевременно подмывать, находясь за сильнейшем католически-феодальным барьером Папской области, оставалась на периферии, все явственней становясь задворками.
Но вместе с тем одинокий в море юг Италии никогда не будучи полнокровно развитым, жил обычными старинными отношениями, не бывшими отжившими и ввиду естественности не были так же отживавшими и подгнивавшими, отдавая опухолью на челе, как во многих других странах.
Бедность, или даже неразвитость, необъяснимо заглаживались в романтические краски ландшафтом природы, былой римской памятью, архитектурой и культурой — в общем всем тем что составляет облик страны, сдобренной самыми разнообразными нравами господскими, бандитскими, антииспанскими, нищенствующими. Последнее особенно преобладало с городской беднотой — лаццарони, оставшимися как будто со времен империи Рима, как и тогда занимавшиеся бродяжничеством, попрошайничеством, различными стяжательствами на жизнь, хотя уже и не брезговали подвернувшейся какой работенкой. Все вместе это и создало тот вид человека, с духом и плотью итальянской, что назывался и представлял из себя лаццарони — городской бедняк, а то и нищий, заполнявший окраинные кварталы и как-то не весть на что живший.
Продолжало беднеть и разоряться мелкое, даже среднее дворянство — вовсе привелегированная прослойка населения в основном допуском на службу и отсутствием налогов с владеемой землицы — составлявшими основными поддерживающими источниками дохода. У той же высшей части знати, у которой эти источники полнощно били, как казалось из рога изобилия, была более чем богата, как всякая высшая аристократия небогатой страны, мнение о которой складывается преувеличенным, питаемой контрастностью и так же большой значимостью денег, там где их мало.
Урожаи нынешнего года выдались удачными, нисколько заметно не пострадав от засухи и прочей различной порчи, но существенных сдвигов к улучшению хозяйственного положения не произошло, как это должно быть после одного двух или нескольких урожайных лет, когда излишки останутся на существование, а само это на общее состояние мало повлияет.
Конечно страну наводнит кое-какая монета за вывезенное вино, прибавится продажного, затребующего больше рабочих рук, понизятся до времени цены и можно ожидать подъем, но грянут налоги и снятая шапка уйдет владычице, снова обескровив, оставив заниматься прямым проеданием излишнего лишнего, только через него представляя удовлетворять потребности в большем.
Излишнее, посчитанное в какой-то части урожая крестьянина увозилось в виде денег с проданного, что было тоже самое, ими испанский король расплачивался с солдатами и за различные издержки, связанные с ведением войны, иначе говоря платил теми же самыми налогами, которые пойдя с обложенной части урожая в виде денег, потом снова превращались в то же самое, но уже для получателя денег за службу. Так циркулировала система государствования, власть над одними с силой другого с частью пользы для подвластной силы и общим для главного, много большего, чем нежели один король. Но королю, как никому другому из правящего класса менее всего нужны были сами деньги, но ощущение полной власти и сама власть, используемая за огромные деньги. Чем сильнее нужна была власть, тем большие деньги становились нужны, и чем виртуозней власть добывала деньги, с тем чтобы продолжать как можно безраззорнее добывать их у подданных, тем лучше она ими принималась и положение ее было надежно. Сначала и новый король из Франции принимался, но затем по мере того как он завел войны и стал широко брать на них у своих подданных, то так же опостылел. Хотя, конечно, поначалу поборы на войну успокаивающе действовали на обложенных более высоким налогом, так как война сильно воздействовала в те времена на непритязательные умы налогоплательщиков, терпеливо ожидавших окончания, затем подуставших и возроптавших. Со временем когда стало приходить прозрение и стало совсем невмоготу прикрывать этим чувство собственного бессилия, антииспанские настроения росли как на сдобренной почве. Все большее количество людей принимало сторону монсеньора Спорада, либо же становились ярыми его сторонниками, но большинство не более чем лояльно относилось к нему, как к возможно новому правителю, так как в народе его недолюбливали по тем значимым для народа приметам или причинам, которые определяют мнение о нем. Жесткого, властного властолюбивого Монсеньора побаивались любить и даже боялись, поэтому все те кто так, или иначе занимал антиправительственную сторону оставались оставаться спокойными противниками существующей власти, пополнив собой все увеличивающуюся неофициальную партию уличного болтуна.
Подобное положение вещей в былые времена, там где кровь у людей была горяча, при наличие общего острого недовольства легко выливалась в восстания…, хотя люди всегда дело свое знали и не смотря ни на какие обстоятельства во время сбора урожая, и работ с ним связанных, непременно занималась им.
Несомненно накаленность обстановки, пока видимой спокойно, необходимо было всячески исправлять, притуплять только снижением гнета. Но в нынешние же времена ничего такого и тому подобного сделать было не в силах, не снизить же налоги, которые /пришел от короля указ/ должны быть еще слегка увеличены. И поэтому из мер всяческого исправления у губернатора князя де Карини оставались в руках только лишь чисто профилактические меры: как распустить слухи что налоги по-видимому опять на чуть-чуть повысятся и взимать будут поэтапно — сумбур, который хоть как-то подготовит настроенность населения, пока оно занято делами не терпящими задержек.
Проходило время особенно ответственное для различного рода скупщиков, перекупщиков, коммивояжеров и всех тех, кто с этим связан в нарождавшейся буржуазии, а так же крестьян, стремящихся как можно выгодней распорядиться собранным.
И вот в этот самый момент, когда деловая активность стала спадать и перед самым объявлением налогов на Сицилию, все еще занятую выжиманием виноградного сока, разливкой молодого бродящего вина, а особенно на Палермо, где люд занимался с вином больше чем где-бы то ни было, налетело словно северный ураганный ветер тревожное непонятное слово: «Утрехт», заставшее врасплох ледяным дыханием пришедшегося сзади со спины холодным нордическим ветром на взмыленные затылки и умы, занятые последними горячими размышлениями, и посему разомлевшими от политики. Обстоятельству внезапности способствовало так же то, что налетело сообщение с самого утра с криками бегавших разносчиков вестей, а потому как в городах встают поздно, то известие заставало так же людей и спросонья в безмятежный дух врываясь ошеломляющими по своим последствиям не ясным, сопровождающим слова: «тайные переговоры» и вопрос кому достанемся мы?
Вопрос можно согласиться интересный для любого жителя страны, в которой поставился такой вопрос, но еще что заставило горожан с самого утра всем высыпать на улицы были вовсе прозрачные крики или даже неясные отголоски о налогах. Ведь если власть перейдет другому государству, значит налоги будут собираться уже им и будет собираться по новому, а не по-испански, кое считалось самым тяжелым и раззорным. Казалось бы что могло заинтересовать горожан в том как будут собираться налоги у крестьян? Но все взаимосвязано в этом мире. Труд горожан так же и соответствующе общему духу облагался налогами, и еще этот труд приходился на ту часть виртуозной машины властвования, которая теперь брала налог не натурой, а деньгами, что бы в конечном счете отдав их служителям государства с ними передать право на оставленную натуру в руках поданного, которая не случайно попадает ему в руки в больших количествах. Подданный производит над ней самые различные виды работ и имеет доход, с которого так же взымается налог. Подданный этот в основном горожанин, так же заинтересован в не меньшей степени снижением налогов, хотя основная масса людей имевшая к этому кроме интереса лишь косвенное отношение, вышла тоже ради интереса.
На улице находилось почти все население города. Вызвано это обстоятельство было способом, каким разнеслась весть с единовременностью. Разносчики вестей от мала до велика бегали по улицам, будоражили собравшиеся толпы новыми самыми непредсказуемыми выкриками, а когда и более подробными разговорами, начинавшихся обычно с вопросов о том откуда идут сведения?
А сведения шли как будто из надежных источников, о чем говорило и то, что сообщали будто сам Монти написал воззвание и оно в виде листков должно было скоро быть разнесено желающим. Само это и то, что там могло быть написанное надежней простых разговоров увлекло толпы, группы, одиноко ходящих на дальнейшее продолжение пересудов, а ожидание слова Монти надежно спаяло сборища оставаться на улицах. При чем это были такие сборища, что свое место в них занимали и вышедшие женщины с малыми детьми, а это уже значило общество, стронутое общим порывом, в котором как ни в каком другом его состоянии интереснее всего.
Мало-помалу народ не собирающийся расходиться до последнего, пока не будут узнаны все без исключения новости и не будет зачитано воззвание, стал сходиться в поисках одного и другого на главные улицы и площади, создавая на них толчею как перед карнавальным шествием. Немногочисленная полиция с самого начала упустившая управление над людьми, теперь глядя на них растворилась. Полиция была обыкновенной служивой местной братией и чувствуя себя уверенно в обществе, где было много женщин, так же интересовалась и слушала то, о чем говорили, что непосредственно и больше всех касалось их.
Размышления, доводы, новости, откровенные сплетни захватывающие слух и внимание носились по городу из конца конец, разбиваясь словно волны прилива о стены и возвращаясь назад бурунами обросшими стеной и непохожими на то чем были, продолжали бороздить толпы. Вдруг листовки воззвания, словно бы разнесенные невидимой рукой ветра поплыли по людям:
Воззвание:
Сеньоры! В этот ответственный и важный день призываю вас не уходить раньше времени от ответа, который обязаны нам дать испанские власти: что случилось на переговорах в Утрехте, и имеют ли право испанцы на налог, которым они в самое ближайшее время собираются нас обложить? Имеют ли они на него право?
Сведения доходящие до меня дают мне с уверенностью сказать, что налоги должны у нас в самом скором времени измениться к меньшему и лучшему, нужно только их дождаться, что скрывается за тем что от нас скрывают истинное положение вещей и именно скрывают, не могу не чувствовать это!
Мое мнение Неаполь и Сицилия отходят от испанской короны, близиться конец многовекового ига, и не спешите считать что на смену ему идет другое, кажется нет, нет. Нет! Мы остаемся при своем итальянском правителе! Встретим его без недоразумений, которые могут с нами и с ним наделать уходящие испанцы! Никаких им налогов!
Сенатор Монти.
Как известно, итальянец брат весьма экспансивный и настроение в нем меняется неуловимо резко. Вот уже от всеобщей народной ненависти к испанцам он перешел к злорадству и насмешкам, а все новые и новые листки с воззванием вливающиеся в толпы заметно усиливали подобные проявления, возвращающиеся так или иначе к обратному. Антииспанские настроения в некоторых местах с определенной публикой накалились до предела, где пользуясь толкучкой и массовостью совершались самые различные антиправительственные акты, начиная от битья окон в домах наиболее ненавистных чиновников и служащих, вплоть до стычек с идущими из города в Портовый замок испанскими мундирами, все больше выражающимися бросанием чем-нибудь исподтишка. Очень быстро лаццарони почувствовали вольницу и обстановка с этим зашла на опасную крайность.
Сначала была остановлена карета управляющего финансами — должность наиболее ненавистная простому люду. И его запоздалое возвращение было отмечено толпой остановлением. На первый раз с вмешательством полицейских инциндент обошелся простым напором людей на карету, желавшим этим выказать свое отношение. Но затем управляющему финансов опять и еще больше не повезло, он заехал на свое горе в толпу наиболее бесноватых лиц. Из окна кареты с завистью было видно как от собравшихся в этом месте лаццарони, с испугом отходят по краю улицы две женщины.
Карета была остановлена и уже не толпа, а банда народных низов, вмиг осознавшая себя за силу, почувствовала себя таковой, когда управляющего финансами грубо выволокли из глубины кабины и поставили на колени перед высоким обозначившимся главарем Росперо, по-видимому и прежде предводительствовавшим среди сей полунищенствующей братии. Всегда готовой вынуть нож. Росперо стоял перед униженным высочайшим сановником спокойно и естественно, как словно перед собственным вилланом, смертельно провинившимся и находящимся в полной его зависимости. Последнее из чего, и было на самом деле.
Пока главарь стоял, упиваясь унижениями управляющего финансов, сподручные Росперо, пользуясь положением чиновника, пользовались и временем сзади, нещадно пиная его заставляя то и дело вскрикивать от боли. И довольно похахатывая с сыпанием ужасных проклятий на голову несчастного.
И подумать о таком еще два-три часа назад было не возможно, даже представить подобное, что перед представителем низов так низко падет представитель власти было бы не в силах, но так стало.
— И что мы будем с тобой делать? — спросил у молящего предводитель народной бедноты, после чего того мгновенно перестали бить, но продолжали удерживать за руки, плечи и голову словно бы он мог вырваться и убежать.
Не на шутку перепуганный управляющий финансов не сразу смог ответить и то невнятно сквозь дрожь во рту что-то пробормотав.
— Что? — прищурившись переспросил Росперо.
— Пощадите… я ни в чем не виноват перед вами.
— Ты виноват перед всем народом! Ты служишь кровопийцем! — возвестил главарь громко, чтобы их разговор был слышен и понятен стоявшим подалее.
Из собравшейся толпы стали выкрикивать фразы угроз и проклятий.
— И ты будешь упираться, что не кровопиец народный.?! — указал Росперо рукой.
— Я не вымогал, не лихоимствовал, никогда не брал. Брал только то, что можно по закону. Отпустите меня не потешайтесь, я старый человек.
— Ты живешь и служишь законам грабителей, ты такой же грабитель, как и остальные. Скажи чем бы ты жил, чем бы занимался не будь налогов?…Теперь настала пора отвечать за грабеж! — грозно проговорил Росперо, вытащив из-за пояса острый нож.
— Пощадите я старый человек! не делайте этого прошу вас.
— А как ты тогда будешь исправлять свои грехи? Впрочем, есть тут одно дельце, по которому ты можешь частично с нами отквитаться. Выпишешь расписку на десять тысяч дукатов?
— Выпишу! Но только в казне всего шесть.
Управляющий финансами до конца оставаясь приверженцем своей службы врал, в казне насчитывалось одиннадцать тысяч, и он с испугом поглядел на требователя, как бы он что об этом не знал и не случайно ли он назвал сумму несколько ниже?
— Хорошо, пусть шесть, но если я когда-нибудь узнаю что ты лгал, отрежу голову как краюху хлеба этим же ножом, — приставил Росперо нож к горлу чиновника, вызвав у него желание признаться, — Лучше признайся сразу заранее прощаю.
Но чиновник во всем проявлял нерешительность, так же как проявил ее и здесь. Расписку он написал после того как распотрошили его портфель с бумагами и необходимым.
Взяв исписанный листок и внимательно прочитав, либо же сделав вид по вполне возможному неумению для этих кругов жизни, Росперо махнул им, проговорив в отношении его.
— Если ты нафинтил, шкуру спущу.
И управляющего финансами повели куда-то, куда только ведшим его было известно. Скорее всего в одну из тех дыр в лачужных бедняцких кварталах, где от обыска запросто можно было утаить хоть коня, обыщи не найдёшь.
У них был заложник! Могли быть и деньги…
Ближе к обеду толпы начали редеть за счет того что женщины стали уводить своих детей, а за ними стали уходить наиболее проголодавшиеся, чаще уводимые ими же, с тем чтобы поевши опять вернуться назад. Поток этот заметно увеличивался со слабенькой струйкой возвращавшихся, с интересом и со смехом. Но основной же массе уходивших надоело подобное времяпрепровождение и они уходили с улиц чтобы не возвращаться, считая что после нагрянут испанцы и прежние места, спокойные утром, станут опасными.
По мере того как горожан становилось все меньше, возрастали и укрупнялись опасные толпы людей, скапливающиеся у церквей, бивших негромко в набат, чем еще больше нагоняя гнетущую обстановку народного недовольства правительством.
Люд же, что усматривал своего будущего повелителя в монсеньоре Спорада, собирался на площади пред его резиденцией — дворцом Циза, восторженно как в прежние времена, когда народ любил своих правителей, кричал многоголосо:
— Да здравствует монсеньор Спорада!
— Да здравствует наш король Сицилийский Фредерик IV!
У архиепископского дворца тоже собрались небольшие толпы людей, и тоже выкрикивали архиепископу Палермскому кардиналу Родриго лестные здравницы. Народ города Палермо любил своего архиепископа может за то, что он находился в оппозиции к правящей власти и занимал сторону полностью мятежного «сюринтенданта без финансов», так в шутку его называли.
В отличие от первых двух сборищ у губернаторского дворца князя де Карини и даже у самого Портового замка собирались наиболее смелые из смельчаков, чтобы вести себя совершенно иначе. Они выкрикивали антиправительственные лозунги, и один из них: тот что звучал в прошлую революцию:
— Долой дурное правительство!
Впрочем этого уже князь де Карини допустить на долго не мог, не долго дав протестующим побесноваться перед самыми окнами, приказал многочисленной страже Орлеанского дворца отогнать толпу с поля, и по возможности подальше друг от друга, аж за самый Нормандский дворец, но при этом осторожней. Губернатор очень испугался возникших волнений в преддверии времени сбора налогов, и поэтому не отдавал приказ навести в городе порядок. Он знал из достоверных источников, чем собственно вызваны волнения: иначе говоря ничем, пустым звуком, и выжидал когда они улягутся сами собой, не решаясь задействовать для успокоения солдат, может быть его нарочно и побуждали к этому. Вид ненавистной желтизны испанских мундиров, особенно в такое время, особенно раздражал толпу.
Солдат пока вполне заменяли небольшие группки полицейских, благо хоть префект полиции оказался на их стороне. Через него князь де Карини слышал об управляющем финансами. Через него же он распорядился послать на розыски пленника и поимку преступников: группу тайных сыщиков, а так же распорядился закрыть казну.
Как уже говорилось, толпы редея, избавлялись от балласта сковывающего действия основной силы массы, становящейся с этим только грозней.
* * *
Почему «утренняя прогулка» в противоположность «Сицилийской вечерне» не превратилась в восстание?
Князя де Карини нельзя было назвать заурядной личностью, но внезапность с какой он был захвачен врасплох и посему поколеблен, любого могла обескуражить, не только человека никогда ни с чем подобным не сталкивавшегося, но имеющим в любое трудное время отличительное качество или даже свойство — преданность короне.
Нужно отдать ему должное, проснувшийся поздно, разбуженный известиями чуть ли не сегодняшней смены власти — прогнал их как провокативные. Пассивность смешанная с испугом прошла в губернаторе весьма скоро, кроме того он не будучи вспыльчивым человеком, был соответственно осторожным и не наделал непоправимого.
Городские ворота открылись в обычное время без задержек, что несколько разрядило накалившееся настроение. Въезжавшие с привезенным крестьяне побуждали отвлекаться на иные мысли: от политических обсуждений на торговые сделки.
Первым делом после позднего пробуждения ознакомившись со сложившейся в городе обстановкой, губернатор предпринял ряд мер, нисколько не могущих раздражать горожан. Затем собрал у себя небольшой совет, чтобы обсудить создавшееся положение и его возможные обороты.
Помимо раскрытия ворот, создавших внутри города с этим будничную обстановку хотя бы вокруг торговых площадей, был отдан приказ открываться различным службам. А для выяснения причин беспорядка имеемых ввиду подстрекателей был выпущен весь имеющийся штат сыщиков. Были отданы на первый взгляд ненужные приказы приведения в боевую готовность частей Палермского гарнизона. Ко всему готовые уже были как те части, что надежно стояли на стороне испанских властей, так и те что уже вызывали у нее большие подозрения во враждебности ввиду их местного сицилийского состава, и того что ими командовал полковник Турфаролла, назначенный на эту должность еще вице губернатором князем де Шакка, в свое время.

Одним разом через посыльных курьеров была налажена связь с кардиналом Родриго, архиепископом Палермо, первым президентом сената, префектом полиции, и с графом Инфантадо, командующим непосредственно Испанским корпусом, и многими другими должностными лицами. Надавав им необходимых предписаний. Получив более точные сведения и мнения от них, и довольствуясь пока этим, князь де Карини склонился к тревожной думе над рисованной картой города, которая как нельзя кстати оказалась под рукой и кто знает какую воздействующую роль на мысли и отдачу приказаний могла сыграть в последующем времени? Пока же принимая на себя отметки чернилами и внимательные изучающие взгляды, упорядочивала ход мыслей князя.
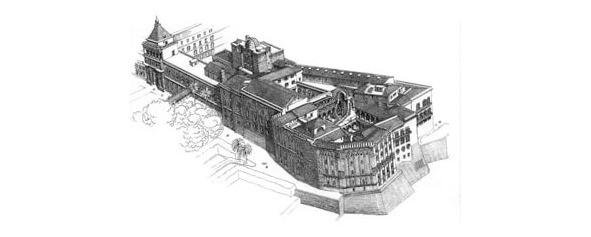
Прежде всего из всех имевшихся сведений, он без труда определил с каким врагом приходится иметь дело, а так как враг этот был всегда, то нынче приходилось иметь дело с народной стихией, распаляемой им. И становилась не так страшна сама стихия взбунтовавшегося народа, цепко удерживаемая ее спорадовскими заводилами, сколько само это удержание с подталкиванием на нужное, чего именно и приходилось опасаться больше всего. Все нити управления народной силой тянулись несомненно от него, нужно было только умело их перервать, а то и перерубить сильным решительным ударом. Приходилось подумать над выбором.
Самим собою вытекало что не следовало злить глубинные страшные силы народа, иначе события сами оборвавшись от нитей, дергавших ими, не начнут развиваться с бешеной скоростью. Спорада, он же Монсеньор, маркиз-герцог, сюринтендант, король, не сказать даже что некоронованный, мог побудить народ на самую крайнюю меру ради него. Спорада мог лишь взбудоражить и самое большее что он мог, это по возможности поддерживать проявления недовольств.
Возмущение народа это огонь поддерживаемый видимыми для этого причинами, без которого он мало-помалу затихает. Можно было стараться не допустить таких видимых причин, чем уморить пламенные чувства голодом. Спорада зажег искусственно сложенную им самим кладку, губернатору предстояло ее раскидать. А вот насчет того как ее предстояло раскидывать, вконец перейдя на афоризмы можно сказать прямо возле стога сена, у князя де Карини было подготовлено и припасено много мер еще в прежние времена, например: большое количество своих ораторов. Правда обстоятельства оказались совершенно другими и им уже нужно было говорить на темы (их написал отдельно на листочке) о великом лжеце Спорада, о том что ничего подобного из того что говорилось о пришедшем ночью судне с тайными известиями, и ночью же ушедшем не было и в помине, ибо так говорить могут только сплетники, которые не знают мореходного дела, когда можно было только спустить лодку и затем еще более тайно отчалить обратно, уже без тайных вестей…
Ему понравился шуточный тон, которым он насмехался над треволнениями многих людей, выразившись таким образом на своем воззвании, которое еще дописал абзацем призыва попусту не волноваться, успокоиться, как Бог решит так и будет — заключил де Карини, и с тем отправил написанное в канцелярию дворца, для размножения ораторам.
Естественно де Карини не собирался отделываться одними устными мероприятиями, его злейший враг по-видимому готовил что-то появней, и не сумей он в ответственный момент защититься, Спорада с ним без волнений или под их шумок разделается, ведь находился-то Орлеанский дворец на самой окраине города и задний двор огораживала только на первый взгляд толстая внушительная каменная стена.
Помимо имевшихся защитников губернаторского дворца князь де Карини отдал приказ в спешном порядке ввести сюда еще один отряд испанцев, который подошел к дворцу в то время как толпа снова стала собираться перед его фасадом. Из окна де Карини с презрением заметил как испуганно заволновались и подались подальше от солдат кучи протестующих. Пятерки солдат хватило бы чтобы разогнать эту чушь, да так, чтобы весть об этом вмиг разбежалась до противоположных краев города и утихомирила желающих попротестовать и там. В принципах князя было: не можешь кидаться не гавкай.
Но творителю спокойствия приходилось служить ему до конца, он имел так же интерес понаблюдать какое возымеет действие написанное на множестве экземпляров воззвание с его словами, имея от этого чисто самолюбивый авторский интерес, ну и конечно с как можно более воздействующими на умы последствиями силы его слов, разнесенные желательно как следует.
Пока канцелярия писала приходилось выслушивать отдельные крики и небольшие хоры группок: Да здравствует Спорада! Долой Карини! Долой налоги! Долой иго! Иго долой! — в общем все то, что кричалось на множестве улиц перекрестках и площадях, так часто, что даже пришедшими крикунами сюда здесь перед самим Карини кричать против него не казалось уже чем-то особенным.
Но все же было нечто такое, что самые отважные смельчаки из смельчаков, собравшиеся здесь, не осмелились кричать, ни сам князь не допустил бы этого оставленным безнаказанно, это крики раздавшиеся по-видимому только у здания сената: — Да здравствует Монти, да здравствует республика!
Услышь он это, его бы мысли прошли в направлении ясного понимания того, что замысел Спорада не так прост, чтобы только акцентировать внимание на одних лишь волнениях с целью стихийного восстания с возможными прежде замыслами его вооружения, что было крайней мерой при нынешних-то республиканских настроениях, кои равноедино сильны как в народе, падкому к этому виду власти по чувству новизны, так и в так называемом с чьей-то легкой руки «сенате», в котором эта мысль благодаря Монти и некоторым склонным к нему так называемым «сенаторам», а иначе советникам, устоялась как жара в летний день, несмотря на то что и создавался тот совещательный сенат испанской администрацией как средство придать вольноопределяющейся буржуазии хоть толику видимости заучаствованности, чтобы отпугнуть от острова алчущих лакомства и чтобы приткнуть к себе, оторвав от дурного влияния Монсеньора, и вот тебе еще одно: с которым бороться-то по идее не возможно — республиканское. Оно как дух, который может в самый последний и решительный момент склонить на свою сторону весь народ полностью. И что это будет за момент — раздача народу оружия? Не думавший до этого ни о чем республиканском де Карини подумал когда наткнулся на предположения об этом моменте. Сомнения затеребили его голову. Будь на его месте князь де Бутера, он бы не сомневался и давно бы постарался сделать так чтобы улицы живо опустели, и может ввиду своей строгости и железной хватке не попался или разрушил ту западню, коя могла быть сготовлена у начальников итальянских отрядов, что были себе на уме по отношению к губернатору, может испугались бы другого человека. Им отсюда не уходить. С ними губернатор всегда чувствовал себя неуверенно и раздражался от своего бессилия.
Грешным делом подумал вызвать де Бутера из Марсалы для разбора беспорядков. Мало ли что могло случиться с этими начальниками не дай Бог, вторая ставка будет на них. Тогда нужно заранее об них подумать и определить кто из них кто? А лучше было не гадать, да сразу заменить охрану арсенала другим отрядом, вернее даже просто добавить к нему испанцев, а начальника вызвать и оставить по неопределенным причинам, просто и обыкновенно оставить, так обезвредив хоть одну силу. Можно было даже поодиночке вызвать всех начальников отрядов, заставить все время находиться во дворце, а к оставшимся без них отрядам приставить по испанскому на смешение. Так обезвредится опасная в будущем сила. Может даже расформировать один из отрядов вообще, так чтобы быть полностью уверенным в перевесе и превосходстве надежных и верных ему сил.
Князя де Карини постоянно осведомляли о обстановке в том или ином месте города, улицы или двора, присылая маленькие реляции, на основе которых у него сложилось примерно такое представление: улицы уже не полны как прежде, но по ним ходят толпами и вовсе подозрительными кучками, ходящими как по делу, горожане по-видимому вооружаются кто чем может, но предпочитают оставлять оружие дома или скрытно носить его при себе. Особенно представляют собой большую опасность переполненные питейные таверны. Совершаются многие акты беззакония, избивают полицейских по-прежнему, по-прежнему кричат что хотят. Налоги платить не хотят. Префект полиции большой молодчина был, крайне недоволен его мягкотелой политикой и прямо на это указывал. Он так же требовал чтобы ему в поддержку дали хоть немного солдат.
Смутьянов было разогнать весьма легко, тем более в обеденное время, когда количество людей на улицах заметно поубавилось. Сейчас в это разреженное время, когда помимо голода, по домам загоняла усталость, надобность сиесты, можно было предпринять несколько уведомительных рейдов одного единственно, но многочисленного отряда для окончательного успокоения.
Обстановка постепенно нормализовывалась, несмотря на отдельные вспышки бунта у домов влиятельных лиц, или в отношении к патрулям и полиции. Портовый замок надежно укрепленный как внутри, так представлял собой неприступную крепость снаружи по возможности держа под прицелом площадь Морского министерства, порт и прочие прилегающие к нему кварталы.
Проповеди архиепископа Палермского производили большое впечатление, к нему больше не возникало никаких претензий. В соборе на соборной площади от него звучали только проповеди к миру и ожиданию. Пусть хоть так.
И все-таки воцарившееся спокойствие было сомнительным. Ярые сторонники Спорада пытались провоцировать беспорядки. Многое свидетельствовало по тем неуловим интуитивным заметкам о чем-то готовящемся и нарастающем. Немногочисленные озабоченные кучи горожан по делу сновали по бедняцким кварталам.
Народ слишком недозволительно осмелел, но не видя то, на чем можно было бы выместить свою злобу, постепенно расслаблялся, расходуя ее на пересуды о том, о сем, и особенно о предстоящих событиях, которые несли с собой перемены.
В последнее время случилось то, чего меньше всего хотел и боялся потерявший время на разное по пустякам, но не на дела, намеченные де Карини прежде. И глазом моргнуть не успел как настало то время, на которое он надеялся, что оно самой по себе послеобеденной размеренностью уймет горлопанов. Но видно не обилен был обед у простого люда. Огонь народного недовольства не затухал, и не получая дров, не слыша выстрелов и пальбы пушек, не видя солдат люди снова хлынули на неопасные улицы. Теперь давали воззвание князя де Карини и чуть погодя Спорада, которое распалило прежде горевшие уголья в настоящий пожар. Факт предстал на лицо, но город был взбудоражен, Монсеньор рассудил о налогах так: глупо пытаться собирать большую часть налога от маленького урожая или денежной прибыли, если бы он был властью, он бы сделал так: собрать маленькую часть налога, а когда урожай готового вина и прибыли станут больше и остальная часть будет давать больше доходов в казну, чем прежде.
После этого воззвания, всплеснувшего всеобщий восторг, конкретным проявлением его оказались предпринятые попытки строительства баррикад, но все они были успешно развеяны силами полиции вместе с солдатами. И только в районе Сената и переименованной сенатской площади обнаруженные слишком поздно три небольшие баррикады перекрывающие те или иные подходы к нему. Баррикады защищались наскоро сложившие их люди, и чтобы убрать эти преграды для власти в своем еще городе требовалась уже большая военная акция, чтобы сместить явный очаг восстания.
Губернатор понял что сильно сплоховал прежним временем, оказавшимся не выжидательным, а вялым. Дав самому себе такую оценку, он ничего не мог с собой поделать и продолжил прежнюю политику, пока только предупредив вставших в позу за кучей хлама, что если в самом скором времени они не прекратят своего, с ними жестоко обойдутся. Если они не прекратят своего де Карини возлагал все надежды на ночь, а пока допускал чтобы на баррикады стекались со всех сторон города вооруженные люди, одним ударом покончить с самыми боевитыми.
Люди и сходились на баррикады по тем не перекрытым лазейкам, которые всегда находятся. Ближайшее окрестное население делилось с ними своими съестными припасами, веря безрассудной наивной народной верой в то что они отстоят снижение налогов, о котором всюду говорят.
Так прошло все светлое время дня, надвигалась ночь не сулившая ничего доброго. Видно было что незримо присутствовавший во всем Спорада довольствовался пока тем что есть. Ближе к ночи, как и следовало ожидать, люд уставший от событий прошедшего дня стал расходиться по зову ночи по домам.
Не время было еще ложиться спать губернатору, под покровом ночи один на один с явным врагом он решил брать у него инициативу в свои руки. Просеивать городские кварталы устремились колонны солдат дополняемые уже находившимися там служащими правопорядка. Тихо и без особых сложностей хватались все попавшиеся подряд, и почти все вооруженные. Без трудностей брались баррикады и разгонялись защитники, не сумевшие оказать никакого сопротивления. Опять же вылавливались заходящими с тыла отрядом правительственных солдат, который обезоруживал и отбирал некоторую часть людей по виду, в которой могли находиться зачинщики и главари. Их, а так же отловленных по одиночке уводили в Портовый замок, а тех что были согнаны с баррикад заставляли своими же руками их разбирать.
Последнее что сделали князь де Карини перед тем как улечься на покой и после того как узнал о быстром завершении необходимых акций и возвращающихся с успехом войск гарнизона, это назавтра рассчитывая проснуться поздно, отдал заранее приказ вызвать к нему президента сената.
* * *
Получив приказ и откланявшись у губернатора, президент сената первый из сенаторов Камоно-Локано пошел в сопровождении слуги, дождавшегося за дверью по длинному коридору пока не достиг площадку лестницы уступами уходящую извне дворца.
На лестнице было безлюдно и тихо. Шедший позади закутанный в плащ зябко поежившись от утреннего холода с зевом, вдруг как-то непочтительно дернул сенатора за рукав, и тем привлек к себе внимание:
— А его запросто можно было порешить, — сказал он о губернаторе и раздвигая полы плаща показал свой арсенал на поясе.
Камоно-Локано с меланхолической задумчивостью посмотрел и очевидно хорошо обдумав ответ, затем только произнес.
— Зачем? Свои же люди. Карини просто золото, весьма высокопробное, которое в надежных руках… вернее сильных руках будет прекрасной глиной. Вы разве не видите как он напугался обыкновенных уличных толп. Как его весь день вчера обсирала всякая чернь, это же только вспомнить.
Они оба засмеялись
— Но я полагаю если бы его убрать, было бы еще лучше?
— Ах, граф, граф. Нам ли лезть в большую политику. Как мне вам отвечать когда я не знаю что будет даже через час. Поставят префекта это стальной орешек, лояльничать с Цизой не станет, по камешку разнесет.
— Мне кажется что вы сейчас думаете совсем о другом? — строго сказал тот кого назвали графом. — Не считаете ли вы что я не справился бы с его охраной?
— Судя по вашему снаряжению нечего бы было делать.
Граф с ярости закусил губу, со злости на себя за то что как-то вдруг некстати развел похвальбу перед этим буржуа, показавшимся насмешливо успокаивающим его от сих намерений.
Во дворе их ожидал экипаж, на котором они укатили в центр города до фонда Мармино — казначейства всей островной провинции. Остановившись у него со стороны улицы Рима экипаж выпустил сенатора, имевшего не только право входа в любое правительственное учреждение в допустимое время, но и вмешательство в его дела.
Через четверть часа вошедший в фонд, оттуда вернулся и экипаж продолжил свой путь на Мединскую улицу, там ссадив Камоно-Локано.
— Я же говорил, что все пойдет благополучно, — сказал граф перед тем как закрыть за ним дверцу, и без него тронулся далее.
Сенатская площадь, взявшая негласное название от здания Сената, выходящего на нее фасадом, была небольшой, как будто в соответствии с убогим тем значением какое имел сам сенат, как учреждение в структуре администрации, самой мало что значившей зависимой от Неаполитанского вице-короля и через него непосредственно от далекого испанского же короля.
Давно прошло то время, когда сенат был главным органом Рима, теперь же убого как в насмешку возрожденный после прошлой республиканской революции для торговых противодействий сюринтенданту буржуа-торговцами ради своих интересов, сбитых тем самым в корпорацию; значение его было ниже всякого здравого смысла, и нужен то он был как фетиш. Но фетиш на полную традицию и представленные в нем высшие и низшие чувствовали себя деятельными. Кто не ленился ходить на каждое заседание мог считать себя в курсе всех событий третьего сословия, а так же имел сенаторское достоинство.
Несмотря на ничтожность значения особняк Сената в противоположность этому и площади был отгрохан вернее перегрохан с прежнего здания на новое, ныне покойным князем де Шакка для буржуазии, к которой особливо благоволил.
С реконструкцией особняк расширился, приобрел современные черты стиля архитектуры барокко, заменившего прежние громоздкие черты. Была увеличена главная зала — сердце самого учреждения, где проводились заседания Сената и все прочее. С перестройкой же здания приобрело не только чисто умозрительный простор от выхода высокими окнами на площадь к естественному освещению, но и избавилось от готики, давившей на чувства. Новая мебель, необычайная конструкция установки кафедр, лучами отходившая от ораторского и председательствующего места, приводили в первое время сенаторов в восторг, а когда вице-губернатор умер, оставили о нем добрую память.
Сенатская площадь, как уже неоднократно отмечалось, сравнительно небольшая по размерам, как нельзя лучше этим способствовала тому чтобы на ней собралось множество народу посудачить о том, о сем, и конечно же о роли Сената, что ему можно и нужно было делать. Но так как здание весь день пребывало в пустом состоянии от сеньоров заседателей, ничего существенного не произошло на переполненной площади, а к вечеру уступили место разместившемуся заместо их на площади испанскому отряду, небольшому по численности, но достаточно внушительной силы, с какой они вытурили с площади собравшийся люд зевак для осмотра событий вокруг Сената.
Новая массовая прогулка в этот день не состоялась вовсе не потому что по улицам рыскали солдаты. Предчувствие заставляло глав семей оставлять жен и детей дома, а так как быть на улице не возбранялось, тогда еще комендантских часов не изобрели, то вышли сами те кто больно радел за снижение налогов и многих других вещей.
Разные слои горожан большей частью скрываясь в укромных дворах, а то и открыто как на Сенатской площади составляли различные петиции, в одной предлагали губернатору помочь сделаться маркизу Спорада королем, а самому ему стать его констеблем, а в другой стать королем самому губернатору и снизить на этот год налог на треть, а то и половину. Далее подобных предложений дело не зашло.
На мирное настроение влияло еще может быть то, что погода выдалась прекраснейшей, какой она только может быть в тех числах, а главное приветливость дня после тревожной ночи возымела свое действие.
На следующее утро успокоившемуся было губернатору, ничего не ожидавшему уже от города, пришлось с неприятностью для нервов узнать прямо первым что он узнал на следующий день, это то что несказанно могло ошеломить губернатора. Его подчиненные обсуждали вопрос: о налогах, и ни кто-нибудь а самая опасная часть его подчиненных ввиду отсутствия прямо подчиненности лишь косвенной. Сенат с самого утра заседал.
Де Карини был поражен этим известием как преданный, почувствовавший себя бессильным уже что-либо поделать. Но у него-то было средство как унять сей последний язычок пламени. Оставалось только узнать подробности того как это случилось? А произошло следующее: наступила пятница с очередным установленным на нее заседанием, о котором князь знал, и знал что состоится оно в полдень, но произошло следующее из-за чего губернатор опоздал со своими наставлениями сеньорам представителям от различных цехов и купеческих гильдий:
…Из-за своей ничтожной значимости события происходившие в сенате не могли быть на виду у всеобщего внимания, потому порой вольно определялись. В противоположность другим значащим институтам власти, где церемониал и ритуалы были отработаны от сих до сих и не изменялись, в Сенате стоило только раньше времени собраться большей части сенаторов, как тут же и начались обсуждения, то бишь заседание. Никакие такие правила и законы не удосужились возбранять им это делать не дожидаясь остальных, а собственные правила на то были свои чтобы самим их нарушать. То что привело большинство сенаторов намного раньше времени и кинуло их сразу же в споры и рассуждения вылившиеся в видимость заседания был вопрос о налогах, которые требовали все прошедшие два дня снизить по методу предложенному воззванием Спорада. И которые перед волнениями /ходил слух /, собирались еще и повысить, сеньоры заседатели горели желанием раскрыть правительству глаза на действительное положение вещей в налогах и их последствиях и писали петицию, коя вместе с рассуждениями и сложила впечатление у осведомителей как в обсуждение.
Вместе с ранним съездом к зданию сената на площади и улице за ней, а так же с задней стороны от фасадов сошлось много народа, так что рядам испанцев стоявших и там и там приходилось с трудом отражать напоры толпы и сносить различные выходки, как отдельных личностей, так и массы в целом, вызванные глубокой ненавистью к желтым мундирам.
Сдерживая дулами ружей натиск напирающей толпы, впрочем легко расступившейся, пропуская кареты сенаторов, умчались к тому же еще и достойно встречать пребывающих сенаторов, разгоняя последних расступившихся ударами прикладов.
Надо сказать что такое случалось не часто, подъезжали последние из запоздалых сенаторов, и кто из них пожелал проехаться прямо по толкучке, не пожелав проникнуть в здание сената открыто через соседнее, были казалось самыми горячо любимыми. Радостные приветственные возгласы как будто были надежным тому подтверждением:
— Да здравствует защитник наших прав, Монти! Ура сенату! Напишите петицию! Мы с вами! Долой налоги!..
Эти и другие крики раздавшиеся с приездом упомянутого в здравии сенатора сильно терзали Камоно-Локано, больно задевая главенствующие струнки президента, видевшего как перед тем почтительно расступаются. Но и он получил свою долю приветствий когда вышел на длинный балкон второго этажа со стаканом воды в руке и так, и не отпитым, потому что отвечая на приветствия маханием нечаянно намеренно выплеснул воду вниз получив всеобщее одобрение и смех, и злобное проклятие того испанца…, который защищал сенат от напора и на чью голову он пролил воду.
Но более чем через минуту произошло еще одно действие, несказанно развеселившее горожан и перечеркнувшее все сложившиеся стереотипы о сенаторах, как о людях старых или почтенных. По дороге очищенной заранее расступившими людьми браво скакал верхом на ретивом ишаке сильно свешивающимися при этом ногами один из представителей той корпорации, не старый и не почтенный, и весьма известный среди них в широких кругах подобными выходками. И приветствия ему были особенными и особенно одно из них.
— Ура Одурелому! — заставившее применить выражение доселе светлое на презрительное в ту сторону откуда донеслось его прозвище данное ему друзьями товарищами по сенату, в котором не друзей и не товарищей, то бишь врагов у него не было.
Высокий аристократический жест только подлил к нему симпатии даже у того на кого он был обращен. Далее на него неслось только через солдатский ряд только положительное, никто уже больше не посмел произнести подобное.
Спрыгнув с ишака еще до того как тот остановился перед длинной лестницей парадного входа, и не имея за спинами испанцев того кто бы мог отвести его в конюшню, скоро додумавшись завязал длинный повод от морды ишака к заднему колесу отправлявшейся в конюшню кареты Монти, немножко подзастрявшая в данный момент, но затем когда она не спеша поехала, то потянула с вращением колеса бедное животное, то вниз, то вверх, а так же при этом и вперед. С обидой и-акая ишак потащился мотая головой вслед за колесом под всеобщее рыкание, а сам Одурелый проворно взбежал по лестнице и скрылся за дверьми.
В одиннадцать не смотря на то что не пришла еще некоторая часть из шестидесяти сенаторов, президент сената Камоно-Локано желая сделать большое заявление объявил с ораторской трибуны в начале заседания.
На миг, все кто находился в зале недоумевающе посмотрели на президента и в высоких сводах затих шум характерный для помещения, где находится много оживленных людей. И вот когда этот шум, состоящий из шорохов и разговоров стал возобновляться, /ведь стали садиться, быстрее досказывать то что не смогли бы во время выступления /этот шум прервался возмущенными криками.
— Это не допустимо, это вне правил!
Поднялся свист тех, кто тоже не согласился с подобным.
— А на каком основании вы это заявляете? — спросил президент спокойно, но так чтобы его уверенный тон все слышали.
— До начала заседания остался еще час /посмотрел на часы/ — час, и поэтому не все еще приехали! — крикнул встав со своего места сенатор Аньолино, которому де Карини было поручено изложить некоторые вопросы финансового характера, относительно постройки нового причала, а вернее чтобы отвлечь сенат, большей частью недоброжелательно относящейся к губернатору, при наличии толпы рядом за окнами, на решение пустяковых вопросов оторвавших бы сенаторов от событий в городе на липу, которую представляло раздуть как серьезную задачу, сложившую бы впечатление о том что прежняя власть занятая делами строительства не собираясь пока никуда уходить.
— Как известно, это заседание /президент выделил слово это интонацией/ не было назначено на какое либо точное время, да будет вам известно, сеньор Аньолино. А мы и так уже остальных достаточно прождали, кто не приехал тот значит не собирался, нет смысла терять времени: прошу садиться.
— А я попрошу не начинать заседание не далее как до двенадцати. Все заседания в пятницу у нас начинались в это время, и к этому времени они должны приехать.
— Навряд ли после последних двоих никого больше не было, да и те полагали что опоздали. Все кто хотел приехать — в сборе.
— А меня вообще берут сомнения.
— Меня не интересует что вас берет.
— Вот что! Это точно сделано нарочно, чтобы отсеять неугодную часть сенаторов и решить свои делишки без них.
— Так сбегайте за ними оповестите пока мы выберем председательствующую комиссию. Садитесь, сеньоры.
— Нет, стойте!!! Вы посмотрите кто не был приглашен и кто присутствует. Ах ты республиканец!.. — прокричал Аньолино, договорив после что-то сквозь зубы со злостью глядя на Камоно-Локано.
Присутствующие загудели в пересуде. Республиканцем впервые обвинили, чего вообще никогда не случалось, но и чувствовалась не беспочвенность сказанного. Имелись на лицо все подозрения в этом и тех за кого заступался Аньолино.
— По вашему так тут все кто присутствует предупрежденные республиканцы?
Эти слова метко кинутые с трибуны в ряды начинавших сомневаться возымели то воздействие, какое в них было вложено. Ропот неодобрения пришелся снова на возмущавшегося, да и хотелось скорее начать. Большинство стало расходиться из нескольких сборищ на свои постоянные облюбованные места.
— Нет!! Стойте!! — заорал протестовавший еще громче, собираясь еще сто-то сказать, но его фальцетом перебил Одурелый.
— Так стоять или садиться?!
На всех присутствующих дурной выкрик произвел самое расслабляющее впечатление и разрядило обстановку грозившую вылиться в скандал или иначе говоря политическим языком в раскол. Смеясь почти все, сенаторы потянулись к своим местам оформленным под чередующиеся парты тремя узкими лучами отдельно отходящими с расширением от ораторской кафедры.
На и без того уже посеребренных волосах Аньолино прибавилось седин. Если у Одурелого до сих пор и не было врага, то теперь он появился в лице застывшего словно пораженного ужасным зрелищем сенатора. Он проиграл сражение на чувствах и нервах у Камоно-Локано из-за дурости. Одурелого. После выступления президента начнутся долгие прения и ему уже о вопросах строительства причала не представится случая выступить.
Но не он один не двинулся с места и это Аньолино заметил сразу же когда выругался о дурости, то есть когда пришел бы в себя. С ним остались стоять все те кто из собранного им сборища вокруг себя по заднему краю слушал его только что.
Одурелый своим туповатым затылком шел со всеми остальными на прежние места к тем кто уже сидел и количество рассаживающихся оказалось куда внушительней.
Аньолино провожавший каждого гневным примечающим взглядом с этим, хотя и поздно, но нашелся что сказать и бросил всем:
— Если бы наши товарищи, бессовестно обманутые этим!… — сейчас он не договорил в порыве волнения. — Увидя что он здесь творит и так бы покинул залу. Вам больше нечего их бояться сеньор президент.
Взоры всех снова испытующе устремились к Камоно-Локано.
Он, надо заметить не ожидал подобного хода на совесть и начал с неуверенного обвинения.
— А вы вспомните, что говорили о республике Шпъяра!..
..Каждый заметил что о запретном понятии стали безбоязненно говорить.
— А ведь его тоже нет среди нас!
— Я здесь! — крикнул входящий с галереи тот, о ком сейчас говорили.
Камоно-Локано со всеми остальными настала очередь смеяться над самим собой. Особенно выделялся взвизгивающий голосок Одурелого.
— Почему вы опоздали? — живо осведомился Аньолино, предупреждая Шпъяра о том чтобы тот не начал подобающим всякому опоздавшему извинениями соблюдать таким образом приличие.
— О! Если начинать отвечать с самого начала, то я очень долго занимался с завтраком! /сейчас только бросились в глаза его полнота и выпуклость живота/..И вдобавок лошади еле ноги переставляли, клячи водовозные!
— Значит вы малость перебрались в еде и лошади не смогли уложиться в обычное время — размыслил с иронией своим прежним скрипучим голосом Одурелый, чем вызвал новую вспышку веселости.
— И это вы до одиннадцати часов ели? — проговорил без крупицы иронии со злостью сенатор Аньолино, видя что тот оправдывается о причинах, а не о осведомленности.
— Ну зачем же до одиннадцати? — проговорил бормоча Шпъяра с обидчивостью, — Сейчас только… тут у меня сколько?..
Видно было что за столь долгим обедом он напился изрядного количества вина и каждый понимая это подсмеивался кроме Аньолино, который с нетерпением ожидал от вялых неверных движений пьяницы, когда тот наконец достанет свои часы чтобы сказать что собирался, и уже начал предыдущими обрывками речи, да как бывает у пьяниц непонятно по каким причинам и взяв уже часы в руку перешел к оправдываниям не касающимся часов.
— Я же ведь еще и долго ехал и поэтому опоздал.
— Но ведь вам ехать!..От вашего дома до сюда рукой подать, пять минут ходьбы! Значит вы зная что скоро одиннадцать продолжали жрать!? — криком вне себя от злости тонко намекнул Аньолино — сущему бревну.
— Что вы на меня кричите, много вас тут крикунов! Я-то хоть вообще решился приехать даже плохо себя чувствуя. Далла меня собирался споить — не вышло, сколько времени я на него потратил, чтобы уломать. Трус он, чего бояться этих лаццарони. Вон же сколько солдат шастает.
В итоге от сказанного Аньолино еще сильнее упал в глазах основной части сенаторов. Он проиграл второе сражение защищая отсутствовавших по причинам праздности и трусости, испугавшихся народных волнений.
— Что ты несешь такой вздор, будут Далла и Бруно с тобой пить! — не унимался нервничая Аньолино, сомнительно пытаясь оправдать тех, и чувствуя это весь вышел из себя, сбившись на высокие тона в голосе, как будто перед тем как заплакать.
— Сеньоры прошу всех сесть.
Этой просьбе последовал лишь Шпъяра. Аньолино несмотря на свое второе поражение нисколько не изменил своих взглядов на то что ему еще нужно было делать доклад. Он пепелил глазами президента и мстительно думал о том что он скажет де Карини.
— Ну хорошо, кто не хочет садиться пусть так стоит, говорят для пищеварения полезно, а так же и для здоровья. В нашем уставе ничего запрещающего в этом нет. А теперь приступим к делу.
Для работы выбрали председательствующую комиссию, а затем стали решать как быть без отсутствующих? Оборвав всевозможные разговоры, начавшиеся по этому поводу на площадку перед трибуной, перед которой неширокими дужками начальных парт, начинались три луча выскочил Аньолино.
— Предлагаю лучше закрыть заседание за отсутствие большой части сенаторов /сейчас уже не решился сказать товарищей/ по известным причинам.
— По причинам трусости! — выкрикнул Одурелый, и помимо смешков возбудил и протесты. Ведь причины могли в самом деле быть разными, и только у двоих они были известны.
Слово взял Монти, приход которого на трибуну, а не забег Аньолино на секунду какой он вызвано предпринял, возбудил бурю восторгов. Монти, подняв руку делая знак тому что он начинает говорить, когда все аплодисменты и крики стихли начал:
— Сеньоры сенаторы, все вы и без меня не по наслышке зная, воочию видели что у нас происходит в городе…
— Наверное сейчас выпадет снег если он не побратает с этим сенат, — буркнул Аньолино своим сторонникам, с которыми стоял в одном из проходов возле крайнего ряда.
— Может сказать испанцам? — предложил тихонько кто-то, но внимание обратилось к продолжавшему говорить после недолгой паузы, в которую Аньолино успел еще подумать что испанцы ничего не смогут: сдерживать толпу спереди, и арестовывать сзади.
— …И в это время когда страна переживет огромные трудности связанные с политикой нашей администрации на выколачивание как можно больших средств из нас, а у Аньолино важный доклад о строительстве дополнительного причала…
Положительно в этот веселый денек симпатии были на стороне тех, кто мог рассмешить.
— …Во всегда полупустом порту эти сеньоры сенаторы, с позволения сказать не соизволили почтить нас своим посещением. И поэтому я предлагаю этих товарищей, как их назвал сенатор Аньолино, а я называю дезертирами, самым настоящим образом представивших нашу корпорацию перед народом не в самом лучшем свете, таких как Далла и Бруно исключить из наших рядов, а не расходиться под насмешки. Трусов вон, нужно отделаться от них навсегда чтобы смыть с себя пятно позора, которое наложили на нас эти сеньоры! Почему я настаиваю на этом: потому что волнения в городе почти прекратились, как и под окнами сената… они выходит побоялись собственного народа, который раздавленный бедствием и налогами кричал и просил нас защитить их! Они побоялись своего права быть представителями своего народа! — вдруг ни с того ни с сего нагонял экспансии.
— Давай давай, заливайся петушок, — выкрикнул возмутитель спокойствия Аньолино.
— Потом когда выяснится чего они боялись не придется ли вам сеньор Монти кое-чего побояться от них? А побояться их все же стоит, их как никак больше десятка.
Вопрос был поставлен на голосование и поставлен он был Монти следующим образом:
— Кто за то чтобы оставить отсутствующих в числе членов сената?
Аньолино захотелось даже чтобы их растяп изгнали, чтобы они потом ненавидели республиканцев. Еще больше, и что самое главное чтобы против этих самых республиканцев, коими он считал каждого кто в отличие от него не поднял руку имелось потом обвинение. Он нехотя поднял руку как и все стоящие рядом с ним заметно пополнившиеся прежде с сидевшими, но затем демонстративно вставшие и присоединившиеся к стоящим.
Желание Аньолино сбылось: за голосовало менее двух десятков, против оказалось лес рук. Председательствующая комиссия ратифицировала предложение Монти, исключить трусов из сенаторов. То был успех Монти и потаенный успех Аньолино, как он сам для себя посчитал.
Сенат уменьшился до сорока семи мест.
Посмотрев на часы и решив что он прекрасно уложится Аньолино снова произнес громким отчетливым голосом:
— Сначала комиссию выбрали, а затем и число сенаторов определили все шиворот-навыворот.
— Если бы сенат только организовался тогда бы вы были правы, — сказал один из комиссии, — Но сейчас когда сенат в неопределенном составе занят разрешением как раз вопроса составности приходиться сначала выбрать комиссию.
Говоривший опустил из того что нужно бы было сказать: ввиду возможного затем после выбора комиссии подъезда новых сенаторов.
— Да зачем вы нужны были!? — крикнул Аньолино на старейшего из всех присутствующих в зале. Старикан чувствуя еле сдерживаясь от волнения в голосе встал и ответил снова:
— Вы не согласны с тем когда выбрали комиссию? По-вашему она только сейчас должна была быть выбрана? — Какая разница? Ведь выбрали ее те же что сидели несосчитанными и так же выбрали бы после определения количества членов. Одно и то же.
Старому сенатору зааплодировали в умении логически мыслить, посрамившим склочного Аньолино, который меж тем вообще разойдясь и потеряв всякое самоуважение вышел к трибуне.
— Так вы разрешите мне выступить по вопросу князя де Карини о строительстве причала в самое ближайшее время, который мы ему обещали разрешить в сегодняшний день? — обратился Аньолино с недовольной просьбой к комиссии.
Встал президент сената Камоно-Локано.
— Сеньоры! — с расстановкой, даже похожей на скорбную проговорил он, — Этот вопрос не может быть рассмотрен, ни в ближайшее время ни через год. Ни у нас, ни в казне не будет денег.
Произнесенное человеком весьма почтенным в сенатской среде, слов на ветер никогда не бросавшего, поразили буквально всех для кого сказанное было новостью и произвело огромное впечатление, выразившееся сначала в полнейшей тишине, такой что четко и ясно были слышны крики на улице и шаги возвращавшегося на место и вконец посрамленного Аньолино, который сгорая со стыда, что розово выражалось на его лице, в то же время с ехидством нахально улыбаясь поглядывал в сторону и в пол-голоса что-то при этом приговаривал, что уже настораживало.
— А какие у вас доказательства?! — вдруг остановился и обернулся все еще не унимавшийся Аньолино.
— Вот подлинные документы, — показал Камоно-Локано кипу украденную сегодня из канцелярии фонда, и передал на рассмотрение комиссии за соседним столом, — Испанский король решил что Сицилийская казна совершенно!… Я говорю без преувеличений совершенно будет пуста до следующего года. Таков от него пришел приказ.
Явное доказательство произвело среди присутствующих так же огромное впечатление. Поднялась такая буря возмущения и негодования, что глядя на них можно было не сомневаться в том что итальянцы самая эксцентричная и экспансивная нация. Ненависть поднялась на самую высшую свою ступень, казалось окажись здесь сам король нашлось бы много Брутов.
— Во первых не от него, как вы сказали! — перекрывая гул начал свое Аньолино, — А от их величества, раз уж он твой король. — С умыслом добавил он.
— Сдались мне такие короли! Страну нищей без денег оставить хочет!
— Но ты! Язык то на него не поднимай. Раз его величество решил, что нужно взять все, так оно и будет! Слово короля закон!
— Долой такого короля! Язва! — выразился Шпъяра, то ли на короля то ли на Аньолино.
— Вы все за свои слова ответите, мятежники! — сказал тот со злорадством отходя к верным сторонникам и с удовольствием чувствуя что его слова произвели хоть немного впечатления, что сказалось на силе эмоций. Они стихали, что ему даже совсем не нравилось, но его душу переполняло ликование возмездия. Он знал, что к де Карини под шумок гонца уже отправили, оставалось еще накалить обстановку, выставляя себя в ней в самом наилучшем свете, чтобы усугубить возмездие за все сегодняшнее, да и прошлое.
Между тем пока страсти кипели, каким-то невероятным образом становилось известно о говорившемся и за пределами здания, как будто бы заразой эмоциональности передаваясь по воздуху нервозностью. Народ бушевал в неистовстве своем создавая опасность смять жидкий ряд испанцев навалившись на них всей массой. Кричали о снижении налогов и в поддержку сенату, которого как ярого защитника своего стали боготворить.
Солдатам с большими усилиями удавалось отпирать напоры. Ни о каком аресте сенаторов не могло быть и речи, их бы тогда живыми разодрали и лучше было не вмешиваться. Почему «стоящим» во главе с Аньолино на них нечего было рассчитывать, приходилось ожидать высланного де Карини отряда, ни в чем нисколько не сомневаясь.
Чтобы наверняка отгородиться от защитников сената закрылись от них на все двери и только тогда продолжили дальнейшие рассуждения, чуть с остывшими головами. Но словопрения разгорелись с не меньшей от этого силой. Однако же и чувствовалась опаска. Стоявшие сзади как над душой, «стоящие» которых бы еще можно было бы назвать этим очень давили на робкие натуры «молчащих».
Камоно-Локано приметив это произнес:
— Интересно что же думают по этому поводу сеньоры «стоящие»? Или вам это ничего что страну довели до разора, всех готовы по миру пустить и себя самих, ради того чтобы у Филиппа (дальше его он никогда не называл) не сложилось плохого мнения о вашей провинции?
Никто ничего не отвечал, изредка поглядывая в сторону балконов и окон, со стороны которых отчетливо слышались крики: «Не поддадимся! Не оставим их!»
На площади завязалась настоящая схватка со звоном стали и выстрелов. Так что казалось испанцев сейчас сомнут. Одурелый единственный не пугаясь действительности подошел к окну.
— Лупят народ наш! Гонят кормильцев!
Испанцы уже действительно прогнали толпу, подавшуюся под напором передних напуганных угрозами применения холодного острого оружия, а так же применением горячего, и вскоре тесня и подталкивая безоружный люд с площади на улицу, солдаты почти всю ее очистили, но вынуждены были оставаться на Мединской и еще четверть часа сенаторы оставались в покинутом положении, оставаясь хозяевами сената.
И тут как будто в опровержение всех чаяний мятежников, зашедших слишком далеко чтобы отступать, они морально поддались когда послышались с задней стороны крики: «Солдаты!» каждый, хоть в какой то степени подумал, что зашел слишком далеко. И в это же самое время нагрянуло другое поражающее событие в дверь со стороны двора стали оглушительно долбиться.
Понимая что никакой речи не может быть о побеге, сидящую часть сената охватило замешательство и тут-то снова заговорил Аньолино:
— Теперь-то вы поняли сеньоры к чему вас привела непорядочность и безрассудство? Я буду короток. Вас нагло наинтриговали некоторые сеньоры и только из-за них вы уподобились мятежникам. Переходите на нашу сторону, покиньте скамьи.
— Не поддавайтесь на запугивание! Поступайте так как вам велит голос души и сердца, а не сенатора Аньолино! Не уроните свою честь присоединившимся к прислужникам тех, которым судьбы страны ничто. Пусть вами руководит чувство благородства, а не трусости и вы будете возблагодарены и вознаграждены хотя бы чистой спокойной совестью — сказал президент.
Встал Монти, обращаясь вокруг ко всем:
— А что там говорить, кто чувствует что слабак, а не борец, только так… трусливое недовольство и шарлатанство, чтобы только покричать, пускай уматывается с наших рядов! Очистите нас и спасибо случаю!
Договорив Монти сел, ясно давая понять, что он ни шагу не намерен двинуть со своего места. А некоторые все же вставали и постыдно переметывались, не смотря на всю вескость и правдивость слов делавших из всех вставших подлецами. Но таких оказалось немного, что было к очень большому неудовольствию Аньолино, ведь сенат большая часть которого будет арестована, тогда будет распущен и ему не придется в нем заправлять. Впрочем он уже нашел выход из положения всю вину свалить на нескольких наиболее неугодных, а остальные ему будут только благодарны.
Когда переходить перестали, снова послышались сильные гулкие удары кулаков, и такие которые запросто бы могли расширить эти самые двери, на которые даже во всем решительный Камоно-Локано смотрел с еле скрываемой опаской и боязнью.
— Да откройте же наконец!! — послышались из-за двери бравые крики, — Я Турфаролла!
* Турфароллова чистка от «стоящих» *
Неизвестно какое впечатление эти слова произвели на сенаторов, само имя мало что могло говорить, да и было то оно какое-то больше испанское.
Стоявший неподалеку от окна Одурелый пошел открывать звеня во всеуслышанье ключами как колокольчиком.
Через открытую дверь ввалилось несколько вооруженных солдат итальянцев и впереди заметный полковник Турфаролла.
— Сеньоры сенаторы, отныне я и мой полк всецело переходит на вашу сторону.
Это было нечто невообразимое, на защиту сената встала часть палермского гарнизона и сейчас Турфаролла указом руки указал своим ребятам через противоположную дверь на площадь зайти в тыл к испанцам. Это на глазах у народа будет захвачен в плен целый отряд!
— Тогда арестуйте и вон тех! — указал Камоно-Локано на сбившуюся в группу кучку «стоящих» еще до того как среди оставшихся сидеть поднялась буря восторгов и главным образом облегчения. Можно было легко вздохнуть. Неописуемая радость поднялась на душе при мысли что вместо того чтобы быть арестованными и уведенными, они остались на своих местах хозяевами сената, даже пока не задумываясь о последствиях и следствиях, каковые привели к этому.
А произошло следующее: де Карини получив сведения о том что в сенате обсуждаются налоги, пришел сначала в неописуемое негодование, а затем в ярость и гнев. Порвав то, что он до этого держал в руках, а именно перинный веер, князь приказал срочно вызвать к себе графа Инфантадо, но не в силах дождаться того когда он приедет, написал ему раздраженное письмо, которое в речевом переложении скорее соответствовало не приказу, а виду нагоняя.
— Вы куда смотрите ваше сиятельство? Вы не знаете что вытворяют сенаторы? Это измена! Немедленно ведите туда надежных солдат и всех арестуйте!
Инфантадо взял как ему показалось достаточную силу числом более ста испанцев и несколько десятков попавшихся под руку служивых итальянцев в Портовом же замке. Полторы сотни считая имевшихся «защитников» сената было более чем достаточно чтобы навести там полнейший порядок. Но во время марша на перекрестке улиц столкнулись с внушительной силой в несколько сотен солдат итальянцев Турфаролла перегородивших им путь. Легко оттеснив испанцев назад и после завязавшейся недолгой рукопашной схватки обратили в бегство. Потери отряда графа Инфантадо оказались ощутимы, но выражались они не в нескольких раненых и убитых, а тем что произошел полный добровольный переход его итальянцев на сторону восставших и воспользовавшись братанием испанцам оставалось только поскорее отступить.
Теперь у графа Инфантадо оставались только его испанцы и продолжать следовать приказу не имело смысла чтобы добраться до сената и успеть нужно было дать большой крюк в обход, когда как противная сторона шла туда же наикратчайшим путем.
Выйдя к сенату с задней стороны народ стоявший там вместе с военными нападал и обезоруживал желтомундирников.
*переговоры с бывшим ничтожеством, простое предложение *
Мало интересуясь тем как арестовали стоящих во главе с Аньолино и препроводили в подвалы, ставшие временной сенатской тюрьмой, за неимением пока городской, Одурелый лишь изредка поглядывал на то что происходит на лучах, ходил взад вперед как отшельник, от караула у дверей и до конца по приподнятой потолочной площадке у балкона и окон. Уверенное задорное своей смелостью счастье испытывал он и слушал пока о том что говорилось в зале с пятое на десятое. Его занимали приятные размышления, кои можно было определить по довольному выражению угловатого скуластого лица, подходящего разве что шуту, но никак не сенатору. Языки внутреннего пламени изнутри лизали его благодушное лицо приятно воспринимающим происходящее.
На площади опять все сплошь до самых стен было забито ликующим народом, мало-помалу начинающим браться за дело. Несколько тысяч народу пребывавших в этом районе города помимо поддержки овациями и криками возводили в спешном порядке по нескольку баррикад на улицах прилегающих к сенату, и возводились преграды тем быстрее и увереннее, что имели у себя в тылу целиком переданный сенату восставший полк — одна из сильнейших составных всех имевшихся в Палермо войск, при условии что за них всецело было огромное необъятное народное воинство.
Полк, восставший на баррикадах народ, было более чем отличной защитой сената при мотиве всеобщего нежелания платить налоги власти уходящей, и самое главное — ситуация смены власти.
Солдаты размещались во дворике особняка на задней стороне. Но спать как их великие предки под открытым небом завернувшись лишь в свои плащи, не собирались, им усиленно подыскивали места ночлегов в соседних домах.
Внутри сената ускоренно решались организационные вопросы. Подсчитывали сколько осталось сенаторов после второго очищения. Кто-то внес предложение проголосовать за зачисление Турфароллы в их ряды, а так же некоторых других достойных людей, чтобы хоть как то восполнить малочисленность. Турфаролла конечно же стал отказываться, ссылаясь на то что нему следует работать с оружием в руках, а не здесь. Но этот довод посчитали неубедительным и стали решать.
— Единогласно! — сказал Камоно-Локано, даже не став подсчитывать число голосов, видя что никто не был против.
— Я против, — донеслось безразлично со стороны окон, и точно, у Одурелого сидевшего на подоконнике руки делано свешивались вниз.
Его спросили в чем причина несогласия.
— Я не согласен с единогласием, я не желаю чтобы потом про нас распевали примерно такие куплеты:
Кто с оружием придет
Тот себе в сенате
Место обретет.
Сенаторы чувствовавшие к нему из-за отказа пренебрежение, разом зааплодировали за только что испеченные стихи и в первую очередь успевший нахмуриться полковник Турфаролла. Послышалось так же:
— Браво!
Было уже поздно, многие зевая поглядывали на общие часы в зале. Истекшее светлое время дня, полное порой драматических событий очень утомил Шпъяра, не выдержав более этих мук давно спал с храпом. Одурелый тоже уже развалился на подоконнике одного из высоких окон, положив свою шляпу под голову хотя еще смотрел и слушал, а так же не забывал поглядывать в обратную сторону, то бишь вниз на заполненную все так же до отказа площадь, откуда веяло ветром новой неаполитанской революции. Или же восстания, что безразлично.
Успели только зачитать все документы о правительских налогах, как их назвали и решительно осудили, и встали пока что называется в оппозицию к ним. Если их требования, а какие точно они решат завтра, не будут выполнены, тогда уж будут все основания объявлять правительство вне закона.
Когда сенат разместившись кто-где, начиная от лавок на лучах и кончая окрестными домами отходил ко сну, на вилле Таска в зале с оформленным в ней алтарем у монсеньора Спорада собралось до полусотни священнослужителей, начиная от простого монаха и до самого епископа Трапанского, который со своим неразлучным коадьютотором были единственными из всех кто не был из города и самой близлежащей палермской округи. Об этом черном сборище ряс, казавшимися такими из-за не яркого свечного света и полночи можно было бы подумать что угодно, если бы среди них не было герцога Спорада, который вел долгую и настойчивую речь, полную увещеваний об одном чтобы окончательно и бесповоротно порвать с прежней властью и вести проповеди в своих приходах, церквях, на улицах, везде проповедуя о непримерении с испанцами и за собственное государство. Так же он просил вызвать нему всех способных людей, которые могли бы поднять весь народ на настоящую борьбу.
Совещание с церковниками, где они подтвердили что церковь была и остается на его стороне оказалось плодотворным и полностью удовлетворило герцога Спорада. После окончания разговоров состоялась короткая молитвенная служб, которую можно бы было назвать ночной мессой благославления дальнейших деяний. После собравшиеся разошлись. Каждому кто уезжал человек от «монсеньора» или от «герцога» раздавали белые листки, а кому и деньги в придачу.
Эти же листки и так же деньги появились и на ночной площади перед дворцом Цизы, где собрались кучки подозрительных на первый взгляд личностей, жавшихся ближе к решетками ограды прилегающего парка, или же ближе к самому фасаду, великолепному даже при слабом освещении. Делали они это несомненно затем чтобы на случай если площадь зайдет испанский патруль укрыться от него в парке за оградой или проникнуть под арки под защиту дворцовой стражи. Пока же это не случилось листки с призывом ко всеобщему восстанию, и более конкретным допискам по отношению к каждой из групп собравшихся выносились им.
Дописки эти более чем что-либо интересовали тех или иных личностей, и заставляли приступать к делу в одиночку или уходить целыми группами. Помимо того что уходили из самого дворца просто пешком, выезжали тяжелогруженые экипажи и укатывали в определенном направлении отвезти оружие на место, о котором уже достоверно точно было известно как о поднятом.
Через некоторое время одним из таких мест стала сама большая и мощенная площадь перед Цизой, потому что на ней с разных концов города собралось множество пришедших неорганизованно людей и один из экипажей уже открыто стоял посреди и раздавал оружие. Чтобы хоть как-то сбить толкучку и придать ясность обстановки на площади: зажгли множество факелов, отчего засиявшая темно-желтоватым светом Циза, стояла как манящая надежда и таинственный символ готовящегося восстания. И он манил спонтанно восставших людей, собиравшихся толпами, которые опять же для того чтобы разрядить обстановку на площади и сразу заучаствовать в деле отправляли с посыльными людьми вместе с расписками о долгах владельцев оружейных магазинчиков, каковые тем следовало оплатить оружием.
Циза и площадь наполнившаяся вооруженными отрядами, чувствуя силу и способность отразить любое нападение, стала раскидывать людей в самых разных направлениях на сооружение баррикад и прочное завладение других частей города.
Не смотря на столь позднее время Палермо не спал. Сознание его жителей будоражили разносившиеся слухи. Посланцам Спорада не приходилось будить или побуждать: каждый воспринимал происходящее как должное, неотвратимое и восприимчивостью того времени, когда человек всецело отдавался главному, с огромным пылом на что он шел сейчас, главное было воевать за свои деньги. И безрассудством, и наивностью людских масс считая что будет воевать именно за то что ему хочется, и в победе эта цель будет достигнута. Но главное все-таки что вело людьми было умело подхваченное и на нужное направленное излияние их застоявшихся чувств, которые накипели от ненависти и не выраженности.
В темных не освещенных улицах /казна на освещение излишне не тратилась/, шла усиленная трудоемкая работа, от которой в ночное время в городе стоял шум громче дневного, куда громче потому то в эту ночь город напряженно не спал, вздрагивая от каждого шума, будь то скрежет отдираемой на баррикаду доски или шествие многих ног вместе.
С рассветом и новым восприятием окружающего город как только что проснувшись ужаснулся ночным приготовлениями. Особенно картина окружающего представлялась полной с высоких мест, откуда казалось что улицы кишат баррикадами. Хотя на самом деле это было не совсем так, большая часть преград за ненужностью была не достроена до приличествующего преграде, но зато на важных баррикадах и местах находилось множество вооруженных людей. Положение стало настолько критическим, что не открывали даже ворота из тех что еще оставались в руках властей, не говоря уже о том что глава их князь де Карини ловко маневрируя с оставшимися у него силами отдавал приказы захватывать близлежащие улицы к дворцам Нормандов и Орлеанскому, у которых еще не успели разместиться и укрепиться восставшие. Хотя одна баррикада все-таки настолько близко подступала к обоим дворцам, держа так же на виду тыл ворот ди Кастро, что между ними; что губернатор отдал строжайший приказ немедленно штурмовать баррикаду и взять улицу деи Бенедеттини. Вместе с собором Сан-Джиованни-дельи-Эремити, ниже которого как в глубоком каменном каньоне эта улица пролегала до ворот Монтальто. Эти ворота так же стоило захватить, дабы заперев их отгородиться от бедняцких трущоб за стенами города.
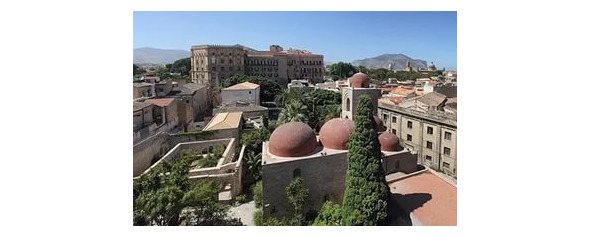
Итак, Спорада подняв и вооружив народ фактически объявил себя противником. Но взять его, или хотя бы его гнездо — блистательную Цизу, уже не представлялось возможным, об частые баррикады можно сказать аллегорически: ноги сломать. Если день назад, даже пол-дня, Цизу можно было захватить без особых усилий, то теперь на ее защиту стал бы весь город и лег бы грудью, прежде чем дал бы добраться до Цизы, или же Сената.
Тот и другая имели собственную защиту. В Цизу к тому же забаррикадированную со всех сторон многократными поясами защиты, еще под покровом ночи через ворота Гуччья, захваченными на долгое время восставшими и посему пропускными, въехал конный отряд числом более сотни, под главенством барона д'Танка и без особых задержек добрался до Цизы, проникнув под арку которой разместился на широком поле за ней. Кроме того с ними же прибыло несколько стволов кулеврин, две из которых ощетинили жерлами высокие зубцы на гребне фасада, чем еще более придали Великолепной мятежного символизма.
Войска сената, или же если отказаться на всякий случай от его определения, войска защищавшие сенат увеличились лишь за счет внутригородских сил, и именно сил, потому что на баррикады без оружия не допускали. Само здание Сената ночью представляло собой сонное царство не желавших разойтись по домам хоть на время. Об этом не могло быть и речи.
За утро и за ночь жители сочувственно относившиеся к восставшим от гнета, в том смысле что понимали не только их требования, но и нужды, натаскали провианта достаточного на несколько дней и забившего те отсеки подвала, в которых не содержались пленные испанцы. Поэтому обеспечение по части собственных утроб в сенате и на улице, первым делом что буквально все сделали проснувшись голодными после ночи и вчерашнего дня — это наелись как можно лучше на день следующий, обещающий быть не менее трудным. Кто знает что он сулил? Лучше было выступать в него с зарядом внутренних сил.
Когда наконец после обильного неразборчивого завтрака, после приведения себя в полный порядок сеньоры сенаторы стали наконец собираться в заседательном зале, оказалось их там ожидали только приятные сюрпризы в лице старшин городских кварталов, различных синдиков, большой части магистратуры с мэром города, которые встали на их сторону и пришли выразить свою поддержку. И что самое существенное к сему представленному букету высоких должностных лиц: прибыл посол от сюринтенданта Сицилии, монсеньора герцога Спорада, заявившего о союзе с ними.
За последние сутки столько свалилось и подвалило на головы бедных сенаторов что могло окончательно вскружить даже до такой степени, чтобы подумать о свержении правительства и установить иную новую форму правления. Однако же выступивший послом Монсеньора неприятно стал склонять к установлению монархии в лице своего посылателя.
Решили однако повременить от решительных действий и выступлению не дали ход, замяв предложением Камоно-Локано, предложившего выдвинуть кабальный ультиматум испанской администрации, чтобы начинать не с бухты-барахты и без лишней агрессивности.
Президента поддержал Монти и горой стоявший за того Шпъяра со всеми их сторонниками, коих после прошлых двух чисток оказалось значительно больше, чем остальных вяло сплотившихся вокруг Турфаролла, которых хватило лишь на то чтобы дать слово посланнику Спорада еще раз и заставить аплодировать его указкам на решительные действия и угрожающих предвещаниях расплавления народного настроя, в которое при сложившемся положении трудно было поверить. А думалось совсем другое, что нужно было как раз совсем наоборот потянуть время, дабы страсти по раздавателю оружия успели поостыть, вместе с этим люди успели бы привыкнуть к оружию как к своему.
Прежде всего дело коснулось и пошло на составление ультиматума, начавшееся за спорами и разговорами, с которыми время прошло на удивление быстро. В воздухе понесся перезвон Палермских церквей извещавших полдень.
Слово испросил Монти и тоже развел антимонии на пол-часа о том чтобы народу было предоставлено право выбирать самим какое им лучше правительство…?
— Или правление, — двусмысленно добавил он, после сделанной паузы, дав понять каким образом сенату следует перетянуть народ на свою сторону.
Этот пункт в ультиматуме был добавлен к остальным, хотя и пугал самих сенаторов неопределенностью. Против голосовали только сторонники Турфаролла. Не смотря на то что сам он ни на чуть-чуть не понял в сделанной Монти паузе перед словом правление с определительным союзом, но нутро полковника подсказывало ему иметь поменьше дела с народом, не смотря на то что посланец Монсеньора, участвовавший в раздаче оружия даже как будто обрадовался этой перспективе и допустил согласное выражение в представительской делегации, наблюдавшей за ходом заседания.
Этот пункт довольно смелый по замыслу, принесший победу Монти и авторитета, как сладостный бриз разнесся в народе. Этот пункт должен был заставить де Карини отвергнуть его всем нутром. Удовольствовавшиеся этим пониманием сенаторы подписались каждый на пущенном по рядам листке, затем так же предоставив расписаться на нем и представителям делегации, и оставив председательствующей комиссии переписать все проголосованные пункты ультиматума, и уже составленным отправить губернатору, разошлись на обед и отдых.
Но и не смотря на долгое его продолжение особенно с последним, непременно сопутствующим тому, ответ князя де Карини пришел только через час после того как продолжилась работа заседания прерванного на пару часов. Князь сообщал что он внимательно рассмотрел их требования… по началу показалось что он насмехается, от него ждали возмущения и угроз, или по крайней мере ничего не ждали, а дождались невыносимой тяги времени. Факт был налицо предложением дождаться вестей с Утрехтских переговоров о разрешении Неаполитанского вопроса он тянул время. Чувствовалось так же и то что впереди тихое время, решения из Утрехта, которые ожидались, сковали испанцам руки и ожидать решительных действий от них стало нечего, если они конечно все-таки пожелают собрать напоследок налоги для Испанского короля. Хотя навряд ли от князя де Карини можно было ожидать подобных намерений, он итальянец и оставался здесь при новой власти в своих владениях поблизости же от Палермо к северу на побережье. И ему рвать и метать для уходящих испанцев, как и самим им было только в ущерб. Понятно что от них можно было ожидать выжидательной тактики, настроенной лишь на оборону и надежное укрепление правительственных объектов, которые при такой тактике представлялись железными орешками, неприступными многотысячным ордам, но об те же орды на баррикадах могла разбиться любая армия. Все способствовало успокоению.
В тот день ничего больше не намечалось, де Карини обещал назавтра отправить делегацию для переговоров, и посему на непродолжительном вечернем заседании только велись рассуждения о будущей власти, выявив два четких течения: это монархическое за становление Спорада королем! Во главе партии реалистов стоял Турфаролла и сторонники его вместе с ним занимали средний луч. Другая, чисто республиканская партия была ведома и возглавляема Монти, занимала правый луч, тесно скученный в самом начале. Поэтому на самом верху этого луча, а так же на разреженном левом, ввиду его умонастроений, собрались те что представляли из себя обыкновенно интересующихся происходящим и не желавшим видеть у власти ввиду нежелания острых перемен, ни Спорада ни Республику, но президента Камоно-Локано. Хотя были у каждого из них на случай компромисс ограниченная монархия сенатом во главе с прежним президентом, коль уж рядом сидели сторонники Турфаролла, за председательским столом сидел Камоно-Локано, а среди них на левом луче сидело много многоопытных трусов по себе знавших что никогда не надо спешить с обострением отношений. По тем же причинам сенат воздержался от обсуждения вопроса о конституции. Лишь поднятым, точнее упомянутым вслух.
За окнами на площади все так же стояли люди и не было никаких сомнений что уже назавтра крики и настраивания о конституции будут столбом стоять в самой заседательской зале, так что настаивать на ней особо не будет нужно, Монти народное требование заставит, и оно-то как раз и будет связующим путем к нему. Через конституцию рано или поздно можно будет протащить все.
На следующий день сеньоров как оказалось ждало ошеломляющее известие: в конце одной из улиц примыкающей к Толедской, что выходила на сенатскую площадь разместился целый отряд испанцев между двух наскоком захваченных баррикад у фасада дома, укрывши так же в нем отряд неизвестной численности; кроме того на баррикадах появилась артиллерия.
Сначала это сообщение вызвало переполох и испуг в местах сна, отведенных сенаторам по их взглядам. Затем только стало известно что с испанцами пришли послы. И выдвинули ультимативное требование в свою очередь: освободите пленных испанцев — они освободят то место угрожающе близко находящееся к Сенату и в тылу поясов баррикад.
Переговоры начались.
* * *
Дворец Нормандов, называемый так же дворцом короля Рожера, во время восстания… несмотря на явное присутствие такового в городе, представлял собою самое наиспокойнейшее место и наипрекраснейшее зрелище, с выходом на пустыри и загород. Отгороженный надежно от остального мира стенами, решетками, солдатами, будучи пока лояльным к стороне Монсеньора и оставаясь пока вполне лояльным к существующему пока правительству своему неподалеку в Орлеанском дворце, имея для сей отрешенной жизни все необходимое, мало был проникнут духом напряженности, будучи на легком веселе, кое сюринтендант в нем устроил за собственные деньги, в преддверии большого празднества, которое собрался он дать поначалу, скрывшейся во дворце от начавшихся волнений основной массе мелкого и среднего дворянства города, которому некуда было податься за город, и наоборот в который — во дворец из провинции на празднество прибыли видные великосветские лица, ввиду важности намечавшихся событий. Монсеньор собравший и в конец приручивший к себе дворянство, сплотившееся с ним перед лицом низового врага, питал большие намерения. На случай вражды с сенатом герцог планировал созвать и составить из них ассамблею провозгласящую его королем официально, как уже было на Сицилии однажды в XIII веке с арагонским королем Пьедро I, но об этом вспоминать было уже лучше только дворянству.
Однако ассамблея должна была случиться на самый крайний случай, лишь для громкого прецендента установления монархии, главное же пока что устроитель сего ожидал от празднества: это быть королем хотя бы среди высшего сословия населения, установиться в чувствовании себя им и показаться в сем свете главному и все решающему городу, который должен был к нему привыкнуть и тем уняться, после решающих дел с ним заодно.
Во дворце Нормандов, готовимый перед самым носом у губернаторской администрации как настоящая королевская резиденция пышно и беззастенчиво, отчего сии приготовления не могли уйти от внимания той, в то же время ввиду сего обстоятельства не был посещаем герцогом-королем на всякий случай, дабы не воспоследовали решительные действия из дворца поблизости, хотя навряд ли Спорада, раздававший оружие был там опасен. И сам он не думал отбить Орлеанский дворец чтобы более наедине не оставаться с Сенатом с глазу на глаз. Так получалось что возле дворца губернатора, дворцу короля было спокойней и наоборот. Получался не только двуумвират, но и триумвират, каждая из сторон которого желала столкновения двух других, главным образом для ослабления и той и другой, как например Спорада желал поражения Сенату и с тем разуверенья в него народа, а испанцам ослабления до такой степени что уходя они сдали бы свои бастионы ему как второстепенному врагу, желая так же насолить внешнему врагу Испании, кому достанется удел устанавливать свою власть здесь.
Но дворянство собравшееся во дворце, далекое от этих политических размышлений, особенно той его части, которой основательно стоило подготовиться к праздному вечеру, занималось бальными платьями и кружевами.
Обед как водилось давался в три. Как раз к этому времени и подъехал герцог Спорада — великолепный всемогущий сеньор с военной силой, даже государь, кого он без затруднений из себя представлял. На изысканный обед, сдобренный тонко льющейся музыкой, не мешавший разговорам пошло часа полтора. Следующих два с лишним часа пошло на разное с главным: на одевание бальных нарядов. Весь дворец был казалось только этим и занят: приготовлением своей особы к предстоящему торжеству.
Итак, перед семью наступил такой момент когда оживление достигло наибольшего предела до того времени когда предстояло собраться в зале и под шум оркестра закружиться в танцевальных па, оставалось около полу-часу, и потому оживление в салонах, где собирались по возрастам, достигало наибольшей остроты. И особенно там где собралась молодежь не столько по возрасту, сколько по интересу, какой только можно испытывать в только таком возрасте и в только таком обществе. Хозяйкой и заводницей которого была словно царила герцогиня Неброди, подругой у которой была загадочная княжна Мальвази де Монтанья-Гранде. На нее любопытно было хотя бы взглянуть.
Но первой все же отдавалось предпочтение и по вниманию и по интересу молодой герцогини, потому что она была самой обаятельной и привлекательной, живостью и экспансивностью речи ее игривой и темпераментной, и вообще всем тем понемножку из чего складывается привлекательная девушка, в особенности если она незамужняя и хорошенькая собой с приданным в сто тысяч дукатов и будучи единственной дочерью с видами на все остальное состояние.
Именно поэтому возле нее всегда крутилось множество обожателей, что ей несказанно нравилось.
Сеньора Мальвази ставшая де Монтанья-Гранде и имевшая настоящее другое христианское имя, наоборот таковых не допускала, и с ней не могли бы себя вести иначе, чем как она того желала. Она могла бы составить подруге конкуренцию. На первенство, но ввиду того что напрочь этого не желала и всегда старалась воздерживаться от лишних эмоций. Печаль и спокойствие отличали ее от подруги и убавляли в ней, но вообще обе подруги прекрасно дополняли друг друга, и в их кружке, привлекавшем внимание всех, можно было видеть князя де Годо, и де Бутера младших. Де Монкада-Патерно, представителей семейства Вентиммилле и Рудини, что говорило о многом и одном главном: именно так у аристократии велось по старинке выбирать себе пару со знакомства в разговорах и затем предложение, отказывать которому было равносильно оскорблению одного семейства другим. Что лучше было заменить породнением, и аристократки порой выдавались слишком рано. С теми же кто достигал возраста самостоятельности приходилось особенно затруднительно вести разговоры на увлечение внимания той или иной девушки своей речью… За окнами на улицах — баррикады, а приходилось обходить эту тему, чтобы ни чем не омрачать увлекательную атмосферу.
Празднество началось с приглашения на лотерею, где разыгрывались три дорогие драгоценности, одна из которых лежала рассыпчато на виду и указывалась в номере сразу, а две другие объявлялись по номерам. Княжна Мальвази подумала чтобы только де Бутера не достался выигрышный номер, он непременно сделает ей подарок.
После лотереи показавшей настоящую королевскую щедрость будущего монарха и кусочек из заманчивой придворной жизни при собственном короле, начались танцы.
В голубизну ночи вихрями взметались снопы искр и звон оркестра прорезали отбойные шумы выстрелов шутих. Среди всеобщего говора у окон залитой светом залы Мальвази вдруг расслышала тихие слова, обращенные по видимому к ней. Ее кто-то почтительно звал сзади. Но не успела она обернуться, как с другой стороны подошла герцогиня Неброди, одним уже этим заставив обратить на себя внимание:
— Послушай, Мальвази, вчера… — ударил оркестр и ее не стало слышно, отчего ей надолго пришлось замолчать, повернув голову в ожидании когда придет в норму оркестр затем еще более недоуменно обернувшись в окно, прижмурившись от грохота канонады разрывающихся шутих.
Мальвази же за это время улучила возможность посмотреть на того кто ее звал. Им оказался лакей, на которого не без интереса обратила внимание и сама герцогиня, желавшая узнать что у него может быть с ней.
— Приехал Пираже, сеньорина, и просит немедленно свидеться с вами.
— И ты сейчас пойдешь? — спросила герцогиня княжну Мальвази.
— Надо идти, Пираже просто так никогда не просит.
— Ну! Нашла важность. Сейчас будет так весело, представляешь генуэзская труппа!
— Приду если успею.
— Да. Мальвази! Что ты вздумала, пошли в театр!?
— Если я успею.
— Ну, какая-ты!
И все такая же Мальвази де Монтанья-Гранде в сопровождении лакея направилась куда он повел.
По узкому затемненному коридору, расхаживал молодой статный дворянин в ярком бархатном костюме с коротенькой придворной шпагой; когда же он услышал что в коридор вошли, то внимательно посмотрел и даже с какой-то нерешительностью двинулся на встречу к княжне, чувствуя себя навязчивым и потому неловко, собираясь из-за этого оправдываться. Мальвази видя его смущение дала на поцелуй руку и отняв вошла с ней в дверь, не желая слушать излишних оправданий, оставив его же лакея с ним перед дверью.
За дверью Мальвази сразу встретила Дуэнья.
— Он только сейчас приехал? — спросила она ее.
— Да, только что, просто не знаю как ему удалось пробраться?
Из будуара, оформленного в помпейском стиле, княжна прошла в дверь кабинета, где ее дожидался приезжий Пираже.
Де Бутера остался стоять в коридоре под предлогом ожидания скорого возвращения княжны, а так же охраняя вход в ее покои в темном коридоре от разных случайностей.
Вошедшая Мальвази не дожидаясь когда усталый Пираже встанет и поклонится уняла его махом руки и уселась рядом с нетерпением ожидая вестей из определенного места, откуда он к ней приехал.
— Что сеньор Пираже? О тебе сказали что ты приехал с важными известиями?
— Настолько важным, что… вот почитай.
Пираже подал ей записку запечатанную сургучем. Мальвази надломила его и слегка надорвав краешек листка открыла нутрь.
«Сеньора, приезжайте и как можно скорее! На виллу устроился писарем на службу один молодой человек, как вылитая копия похожий на одного хорошо известного мне француза. Может быть это и есть он! Мне очень так кажется.
Марселина».
Прочитав это письмецо, Мальвази не удержалась от радостного восклицания со смявшейся в тонких пальцах бумагой.
— Я знала, он жив!
Никто не мог слышать глубокого печального вздоха князя де Бутера младшего, раздавшегося у него в груди и сердце.
В кабинете же плакали от счастья и Мальвази, и вошедшая Дуэнья и сам Пираже расспрашиваемый разволновавшейся девушкой о том видел ли он его, и что думает по этому поводу?
Старина Пираже видевший его, не мог себе позволить омрачить ее радость и поэтому стараясь сильно не обнадеживать рассказал ей все как нельзя лучше.
В то время как князь де Бутера терзался, а Мальвази де Монтанья –Гранде плакала от радости, в кабинет незаметно подошла герцогиня Неброди и не замечая измены настроения на лице подруги проговорила чисто машинально из того что хотела сказать.
— Эти жалюзи отвратительны!…
Не зная сама ли она была застана врасплох или застала в нем заплаканную Мальвази, обратила внимание на письмецо в ее руках и с присущим только ей своеволием выхватила его из ее рук. Та и рада была с ней поделиться своим счастьем, одаренным улыбкой.
— Однако твой француз… я даже не знаю что об этом можно сказать.
— Вот и ничего не говори, молчи, ты слышишь не смей даже рот на его счет открывать!?
— А за это придет время ты мне о нем все, все подробненько расскажешь или напишешь. Ну а теперь…
— Ну а теперь мне нужно немедленно отправляться в дорогу.
— Ой, какая ты дура, куда ты сейчас поедешь? Это в городе еще ладно, а за городом что, ты думаешь хоть маленько?
— Я уже не могу думать, я только чувствую, что больше не смогу пробыть здесь ни лишней минуты.
— Но как ты себе это представляешь, идиотка, дождись хотя бы утра!
— Чем полагаться на утро, я лучше во всем положусь на сеньора де Бутера, он обязательно должен мне помочь. Помоги и ты если можешь.
— Чем я тебе помогу?!
Вместе с тем как герцогиня насмешливо отказалась, в кабинет смущенно вошел де Бутера, невольно слышавший все о чем говорилось за двумя дверьми, и не в силах скрываться вошел с готовностью выполнить любое желание княжны.
— Сеньор де Бутера, — чувствуя себя виноватой произнесла Мальвази, — помогите мне выбраться из города.
— Я весь к вашим услугам, — выдавил он из себя и откланялся.
Только одна герцогиня почувствовала с какой тяжестью он согласился, на первый взгляд машинальной фразой, трудно давшейся ему для произношения и еще трудней последовать своему согласию, самому же отрывать ее от себя. Одна герцогиня Неброди, проследившая за уходом де Бутера понимала как горько ему и как тяжко ему сейчас, как измучила его княжна и сама измучилась. Но не оправдывая этим нисколько подругу, она в тоже время очень жалела молодого князя, беззаветно любившего ее вот уже сколько времени, кажется лет!… Что герцогиня тронутая великодушием его захотела перенять его любовь на себя и утешить горе. Она захотела полюбить его, да и то сказать он всегда ей нравился.
Идя покорно выполнять порученное ему задание, невыносимое и приятное от одного того что его просила Мальвази, князь шел выполнять его со всем желанием выполнить и в то же время желал чтобы оно оказалось невыполнимым и невозможным. Но как на зло ему на голову приходили мысли одна другой лучше, пока он шел по дворцу к тому месту у выхода, где можно было найти распорядителя конюшен.
С ним разговор был недолог. Он ничем помочь не мог.
Не удовлетворившись отказом князь де Бутера ни за что не решаясь придти к Мальвази без ничего, сам не зная что искать, пошел бродить вокруг дворца в том числе и по его склонам от оснований непрерывной цепи корпусов в поисках того неопределенного что могло подойти для выезда княгини. Заходил он и на конюшню, осведомлялся при помощи золотой монеты о наличие лишнего из колесного транспорта и копытного. Но дворец был ничейный и ничего в нем из того чему следовало бы быть не было.
У самого него кареты не было, друзей у которых можно бы было таковую позаимствовать тоже не было, и князь не зная что и делать прошелся вокруг дворца по подножию то и дело замечая то в саду, то схороненных за кустами и прочими укрытиями вооруженных людей, внимательно наблюдавших за ним, за стороной поля откуда могла показаться опасность, а так же следя за каждой лазейкой из дворца Нормандов.
Дойдя до края, точнее сумасшедшего обрыва к воротам ди Кастро подпоясанного стеной он посчитав свои действия безрассудными повернул назад и вернулся к подъезду входа во дворец со стороны сада, уходившего вниз. И только там остановился думая что он скажет ей в свое оправдание и как она безрассудно пожелавшая нереального будет опечалена… взгляд его несколько обратился на стоявшую у бортика приподнятой терраски подъезда по входу отличную карету запряженную четверкой и вместе с картежем из шести наездников находившихся наготове рядом же. Можно было не задумываясь понять что это карета Монсеньора и картеж его на случай если возникнет угроза его жизни и придется скорее рвать. Совесть тем очистившаяся, подсказала ему что нужно делать.
Князь де Бутера-младший подошел к двум сидевшим на козлах.
— Вам следует отъезжать на площадь Порта-Нуова и встать у самого выхода. Приказ Монсеньора.
Привыкшие выполнять приказания карета и эскорт отбыли в указанное место.
С горечью на сердце проводив их взглядом насколько это было возможно князь как пораженный горем поплелся туда где его ждали, но туда вошел уже вполне пришедшим в себя.
— Вас дожидается карета Монсеньора с шестью эскортерами, — вполне твердым тоном проговорил он.
Пускай Монсеньора, пускай на том же месте где сидел этот отвратительный человек, Мальвази было все равно, главное с его гербами и людьми она повсюду проедет! И очень обрадовавшись этой перспективе в порыве радостных эмоций, даже не догадываясь какую боль причиняет молодому человеку, совершенно по дружески схватила его руку подбегая и поцеловала в щеку. Он был сполна вознагражден!
К отъезду давно уже было все готово, герцогини не было, она либо пошла спать, либо все еще крутилась на балу. Де Бутера с трудом нашел в себе силы не дать волю чувствам, а держа себя в руках пойти проводить княжну до кареты.
За ними же направились Дуэнья и Пираже.
Доведя их до лестницы выхода, где стояла карета, де Бутера сначала остановился, но затем не выдержал и опередив по спуску княжну, открыл ей дверь кареты.
Подходя к ней Мальвази только теперь поняла какую верную и неоценимую услугу оказал он ей против своей воли и в тягость себе, и понимая что она с ним сейчас делает прошла рядом, забираясь по подножке мимо него, не поднимая глаз, отводя их в сторону от его взгляда и не могучи ему даже на прощание ничего сказать. Она как забыла или не владела уже даром речи.
За Пираже дверца безжалостно закрылась перед лицом князя. Он все же нашел в себе силы не дрогнувшим голосом приказать кучеру:
— В Трапани!
Хотя нужно было только в его предместье Эриче, князь с расстройства уже переставал понимать. Слезы невыразимой обиды исказили его зрение и лицо и он прошел мимо удивленного берейтора.
…Простите князь я делаю правильно. Мы бы всю жизнь мучались.
* * *
Раннее утро нового дня, холодное, но светлое от поднимающегося с востока солнца, видимого на чистом небе из-за холмов окружающих Палермо. Поэтому еще как будто в туманной дымке пребывала неширокая гавань Ла-Кала, выдававшаяся из обширного залива Конка д’Оро и являвшаяся основным сосредоточием причалов и складов маленького порта. Свежие насыщенные парами тумана бризы с моря, обязательные по утрам, наносили холодной влажности на прилегающие к выдающемуся заливу улицы и площади, и в частности на площадь Фондерья, открытой на широкий полукруг, коим кончалась Ла-Кала.
Имея такое расположение городские власти распорядились убрать от видов с площади всякие склады, а причал предназначить для погрузки товаров и людей на принимающие их суда, или же прочую морскую посуду. Именно поэтому на самой припортовой площади, откуда целиком и полностью открывался вид на правую сторонку порта, продолжавшийся молом уходящим в море, было много питейных заведений, но в основном Фондерья составляли дома со здающимися комнатами, и наиболее ветхими из них на чердаках окна, кои представляли собой выглядывающие застекленные вздутия, угловато выглядывавшие из темно-красной, или еще каких оттенков поверхностей черепичных крыш.
Черепица интересующего нас дома была какого-то серо-темно-бурого цвета из-за ее странности и ветхости старого дома, весьма сложного в строении из-за различных пристроек со стороны двора. Вообще если находиться там можно легко ошибиться и подумать, что находишься не у самого порта, а на окраине, одном из бедняцких кварталов.
Со стороны площади, то есть на фасаде дом имел парадный подъезд и был немного получше на вид, к тому же рядом стояли дома нисколько не лучше. Церковный колокол с церкви святого Себастьяна напротив стал сколько-то отбивать, как ставни чердачного окна с яростью распахнулись и оттуда на квадратную в шаг площадку под окном образованной прямой карнизной выемкой, в крутом скате крыши выскочил в одном нижнем белье Одурелый, мгновенно застывший созерцательно, когда воззрился на один из пирсов. Он был уст, но к нему подходил корабль! Почти рассвирепев Одурелый юркнул обратно, только ставня за ним хлопнула и снова медленно стала открываться.
Выйдя из комнаты, уже в рясе монаха–францисканца и потому подпоясываясь веревкой, все такой же свирепый, он стал спускаться вниз по лестнице в застарелую залу, куда выходило также несколько дверей. Там же находилась кухня и стол, на который накрывали его жена и сестра, две дочери и служанка на которых он накричал со всей горячностью и темпераментностью, соответствующей своему настроению. Еще не успев сойти со ступеней.
— Какого дьявола вам сейчас вздумалось садиться за стол!
— Тебя забыли спросить! — неповторяемым жестом отмахнулась его сестра и не успел он что-либо ей ответить, как на него напала жена.
— А тебе то что!? Не бойся, о тебе не забыли!
— Судно подошло! Знаешь сколько время? — осекся он выражением лица взглянув на часы. Видимо судно подошло значительно раньше времени. Жена тоже посмотрела на часы, на которые он ей указывал. Теперь настала ее очередь высказать ему все что она думала и об его сенаторстве, и о всех горестях что оно принесло, и наоборот не принесло в последний месяц никакого заработка, потому что видите ли им совестно было брать за свою деятельность деньги, и даже прошлась по тому что он смеет преспокойно стоять перед дочерьми в монашеской рясе, и так же для явного показа одной схватила и оттянула на себя край материи, как будто и так не было понятно, что это и есть о чем она говорит.
Одурелый пренебрежительным жестом смахнул руку жены, как подлил масла в огонь. И это оказалось еще не все: его художества ее в конец замучили, чтобы жить нормальной человеческой жизнью. Все из-за него вынуждены скрываться в какой-то дыре и все бросив, почти без денег ждать корабля чтобы только выплывать в какое-то там Ливорно, где не будет угроз. Постоянно получаемых в письменном и устном виде.
Она закончила, и закончила-то только потому что он ни слова не говоря повернулся кругом и пошел обратно наверх, зайдя за дверь и выйдя обратно ровно через минуту в новом модном костюме с тростью, и поигрывая ей стал чинно спускаться, как видно критику поняв. Так же чинно ни слова не говоря, но искоса замечаемый всеми, он гордо вышел из залы на лестничную площадку. И буквально через минуту снова вернулся со сконфуженным видом как будто собираясь сесть со всеми за стол. Но Одурелый резко опроверг их мнения сложившиеся о нем.
— Ах. Черт! Хозяин заячья душа, запер двери не выпускает.
Не услышав чтобы его позвали за стол, он вынужден был снова пройти к себе наверх. Через минуту когда за стол уже расселись и выждали некоторое время чтобы затем сказать: долго они еще будут его дожидаться? — с чердака послышался радостный вопль и его житель сам появился в створе раскрывшейся двери с лицом пресыщенным восторга.
— Мария, — обратился он к жене, — можешь оставить деньги на плаванье при себе, или лучше отдай их тем, кому хотелось бы уехать, этим ты принесешь большую пользу..
Закрывшаяся дверь от ее пинка ноги, снова открылась.
— Фьерелла, перчатки!
— Да объясни же что случилось?!
— Что произошло?
— Об этом узнаете после. Об этом будет говорить весь город. Я иду на заседание!
Фьерелла не утруждая себя подъемом по лестнице, но выполнив просьбу кинула снизу вверх пару перчаток из кожи, точно пришедшиеся в просителя сего и наполовину им пойманные. Подняв вторую Одурелый кинулся к окну.
За ним поняв его намерения слазить через крышу с криком и визгом кинулась вся женская половина его семьи. Одурелый поняв в чем причина криков, заблаговременно вылез на заоконную площадку, но прежде чем бежать, не мог себе отказать в удовольствии еще раз воззриться через подзорную трубу на стоящий фрегат, который он прежде знал под названием Инфанта, а теперь еще раз убедился: на борту обращенному к городу крупными буквами по-итальянски было написано: «Республика». С перекинутых трапов его начинали сходить солдаты. Сразу строясь в колонны и нестройным маршем начиная идти на площадь. Впереди шел и вел остальных за собой быстрым шагом высокий дородный человек с бородкой, очень ему подходящей.
Видимо было что Одурелому очень захотелось к нему. Закинув ногу в сторону он успел увернуться от рук, чуть не схвативших его сзади в сторону, и несколько не беспокоясь за себя пошел по черепице, представлявшей собой все-таки единый настил, через гребень его к задней стороне, откуда принялся по пристройкам, по самым различным удобностям слазить вниз. Не совсем благополучно спустившись, поднявшись после упаду с земли отряхнувшись по заду словно заправский лаццарони, побежал с тросточкой же за угол в обход дома, на встречу голове колонны.
Намерения Одурелого сразу же были замечены, но как раз в это время чтобы пробудить сонный город, ведущий солдат человек с бородой отвлекся на приказание приветствовать утренний Палермо, и в то же время раздался зычный многоголосый резкий древнеиталийский клич. Одурелого ведущий заметил только тогда когда тот приблизился к нему, не сомневаясь в важности и нужности своей персоны и сведениях, которые он мог ему поведать.
По пути которому Одурелый повел их к сенату почти не встречалось баррикад, как будто бы восстание было подавлено. Но так не было на самом деле: просто чьи-то заботливые руки усиленно наводили на улицах порядок в установившееся затишье на время переговоров.
Спорада ожидал когда наконец сенат решит на них что-либо существенное, или же объявит о разрыве, чтобы граф Инфантадо имел прекрасный повод захватить сенат. Карини ожидал и того и другого: другое было ожидание дискредитации Монсеньора в глазах восставших, появившегося с празднеством во дворце Нормандов и трениями с сенатом. Карини всеми мерами занимался успокоением народного недовольства, заметно утихомирившегося под влиянием затишья. По крайней мере зазывалы уже не были в состоянии поддерживать накал ненависти на прежнем уровне и на баррикадах людей становилось все меньше и меньше — а это гибельная тенденция для восстания.
Спорада видя что ему чужими руками жар загребать не удастся. Занимался привлечением сената на свою сторону, занимаясь откупом и сманиванием сенаторов, а то и откровенным запугиванием. Партия роялистов открыто ставившая цель превратить Сицилию в королевство, непомерно возросла, занимая битком набитый серединный луч. Их глава все тот же Турфаролла, продолжал держать у здания сената, весьма поубавившуюся от прежней численности силу, но то уже не были солдаты подчиненные сугубо Турфаролла, они больше подчинялись крикам с площади, Камоно-Локано и даже Монти.
Однако число сторонников роялизма росло не по дням, а по часам и могло бы перевалить сторонников Монти, и сторонников президента, не известно чего сторонников, если б не были объявлены выборы на отсутствующие места и доведение числа сенаторов до прежней численности в шестьдесят сенаторов. С новыми продолжились буквально все тенденции, продолжали увеличиваться роялисты, продолжал колебаться за ограниченную монархию или республику. И наконец некоторые сенаторы продолжали все чаще и чаще отлынивать от заседаний, что дало Турфаролла возможность поставить об них вопрос на удаление, назвав его третьим самовольном отсеиванием, но проиграл его. С намеком заставили согласиться что причины могли быть самые уважительные. И пока работа сената сводилась главным образом к переговорам с послами губернатора, решили что особой обходимости в них не имеется и решать вопрос о них сенат будет в любом случае после строгого предупреждения.
Князь де Карини был почти равнодушен к происходящему, кое он всегда интуитивно ждал, и вот как бывает, когда оно случилось — успокоился. Бороться за что-либо не стоило, тем более что по своим каналам он знал что вся испанская собственность в Италии решенно уплывает как разменная монета в оплату за Испанию самую. Было только нужно умело сдать власть. Ему ужасно интересно было то как опасно спровоцировал Спорада народ из своей никчемности на большие дела, кои все также пойдут на руку ему же. Видно было Монсеньор решил поэкономить свои средства, используя силу приливной волны, без которой он был возможно слаб, но силен с ней.
С приближением к сенатской площади республиканский отряд встречал все большее количество препятствий, но их на каждой баррикаде неизменно пропускали, видя Одурелого с ними и чувствуя неподдельные приветствия к себе поднятой рукой человека с бородой к которому издали по виду возникали импонирующие чувства у защитников заслонов.
Цепочкой было идти, преодолевая валы баррикад, куда легче и в приближении к Сенатской площади эту оптимальность стали использовать для более быстрейшего продвижения. На площадь республиканцы вообще выбежали трусцой, издавая и там приветственный клич, ошарашивающий боевое охранение, состоящее из таких же солдат, что и они, если судить по одежде.
Вид итальянцев в военной форме давно уже перестал вызывать у восставших предубеждения, так как каждый служивший в гарнизоне испанцам давно уже перебежал на противную сторону. Но с подходившими цепочкой не знакомыми людьми обыкновенно растерялись, не зная как встречать. Ясность навел ведущий с бородой, обстоятельно объяснивший им кто он и что привел с собой три сотни марсальцев на корабле, который должен бы был привесть три сотни бутерцев надежно бы вставших на сторону правительства. Свои цели, которые он преследовал придя сюда, он объяснил просто: разрешить от сомнений относительно пути и снять камень с шеи на таковой.
С этими словами человек с бородой легко взбежал по ступеням во внутрь особняка, хорошо осведомленный положением вещей в сенате ведущим. Весь вид оного являл собой решительность и спонтанность, указал своим сторонникам окружать серединный луч, а сам двумя-тремя сопроводителями подошел к ораторской трибуне.
Дождавшись когда его солдат достаточно соберется в зале чтобы окружить плотным кольцом серединный луч, предводитель явных республиканцев поднял правую руку привлекая внимание:
— Объявляю четвертую чистку сената, от роялистов. Да здравствует республика!
Этот призыв дружно подхватили его солдаты. Одурелый и луч со сторонниками Монти. На другом луче вяло.
— Я Кончино д'Алесси! — представил он всем себя и показал рукой отвести пленных в подвалы.
Его имя произвело на окружающих самое ошеломляющее впечатление, даже на тех кого его солдаты под дулами ружей выводили из рядов и прогоняли далее. Каждый из них невольно обратил внимание, на внука того самого Джузеппе д'Алесси, лет больше сорока, то тот Джузеппе приходился ему дедом и в таком родстве в республиканском наследии от дела, совершенно сейчас чувствовалось насколько твердо и прочно будет он крепить традиции республиканизма и с ним прочно установится то чего желала партия республиканцев Монти и на большую половину партия президента. И общей республиканской партии, предстояло очень укрупниться партией сторонников д'Алесси, которых он выборно стал усаживать на освободившийся средний луч. То есть тем самым возводить в достоинство сенаторов. Маленькая удобная бюрократическая вошкотня.
После замены роялистов своими людьми сверх числа арестованных, сенаторов стало чуть больше шестидесяти. Немного поразмыслив д'Алесси сказал что:
— Всякое число народа можно обозначить за сто процентов, так пусть же и представителей от народа будет ровно столько же.
Никто ему не возразил и д'Алесси стал подсчитывать число сенаторов. Необходимое количество до ста он направился набирать на улице. За окнами было слышно как он обратился к солдатам Турфаролла, бывшим некогда зачинателем и главой восстания:
— Десять человек желающих быть сенаторами.
На улице собралось на события довольно уже заметное количество народу и было слышно как он обращается к простым людям с подобным предложением. Этакое некоторых сенаторов заметно нервировало и даже Монти почувствовал заметное ощущение принижения сенаторского достоинства. Но все равно это было неожиданно ново, это была настоящая республика! Никто не посмел возразить вошедшим и с усадом на свободное место ставший и даже ставшая одна сенатором. Это было ошеломительно и кто бы мог подумать, что в этот ничем не примечательный день начавшийся обыденно и потекший вялым чередом будет оборван зычным римским приветствием в течении следующих пяти минут перевернут неузнаваемо.
Сенаторов переписали и пересчитали, ровно сотня. Д'Алесси окинул взглядом все ли готово к дальнейшей работе. Зал пришел в порядок и кроме солдат стоявших на корабле у входа, он из лишних людей заметил только троих солдат стоявших со стариком сенатором, оставшимся почему-то в отличие от всех роялистов уведенных в подвалы. На его вопрос солдаты ответили:
— Вот. Попросился остаться на немножко, плачет дать ему посмотреть на вас.
Д«Алесси естественно такое желание плачущего старика удивило и он расспросил в чем дело? Оказалось что старик в 47-м году будучи тогда очень молодым, даже юным, принимал участие в делах сторонников д'Алесси — Джузеппе и это некоторые сенаторы подтвердили о нем. Понятно было что видевши деда целую вечность тому назад, старику очень хотелось и он сильно просил только об одном оставить его посмотреть что будет дальше, но дальше произошло невероятное. Д'Алесси-внук, которого тот на свою беду дождался пошел и обнял слезливого старика, и предложил ему сенаторское место вместо себя. Представители нового и старого республиканского поколения… многие сеньоры сенаторы и из тех что привыкли к серьезности, умилились его предложению. Некоторые собирались вскоре посмеяться, но старик по приличию отказался от предложения. Тогда д'Алесси размыслив снова сказал уже обращаясь ко всем.
— Хотя населения всегда сто процентов, но некоторые люди больше чем люди, на них незримо держится мудрость общества и опирается в самые трудные минуты. Так пусть же он займет место почетного члена сенаторов на тот случай если их голоса разделятся поровну у него испросят мнение на самое мудрое решение спора.
После того как старейший из сенаторов был переведен и усажен довольным за стол комиссии, а президент Камоно-Локано подумал что к его партии добавился сенатор, нужно только его было сделать полноценным, д'Алесси в это время снова зашел на трибуну.
— А теперь сеньоры сенаторы, по праву сильного объявляю полную свободу мнений, рассуждений и совести. Пожалуйста кто что считает считайте!
В этот самый необыкновенный миг когда сильное высказывание начало только перевариваться в умах ошеломленных слушателей в залу Сената из дверей вошел сержант и крикнул во всеуслышанье:
— Капитан, привезли артиллерию!
— Сеньоры сенаторы, — по деловому скороговоркой проговорил д'Алесси, — Неотложное дело заставляет меня покинуть вас. Уходя я оставляю на голосование переименовать сенаторскую площадь в республиканскую. А сенат объявить в правах парламента. Свое мнение по этому поводу я вручаю нашему почетному члену.
И под восторженные рукоплескания д'Алесси вышел.
* * *
Площадь Морского министерства не смотря на столь ранний час, была многолюдна как от лаццарони и прочих зевак, так и гвардейцев, кольцом окруживших эшафот наскоро сколоченный этой ночью напротив особняка Дера.
Собираясь устроить казнь Росперо и Мачете — видных народных вожаков перед самым носом предводимых, правительство рассчитывало запугать массы и повысить свой пошатнувшийся престиж, вселить в сознание и чувства тот дух, когда оно не было ничем ограничено, показать его сегодня, прежнюю свою не стесненность и напомнить о подданническом повиновении.
Но обстоятельства сегодняшнего утра резко изменили ситуацию и власти не собираясь отказываться от казни, ясно себе осознавали что это может больше навредить, чем привести в порядок люд, распустившийся в первые дни волнений. Поэтому ввиду опасности вызвать новую волну ярости по отношению к себе и опасаясь того как бы чего не случилось на казни, ее самым спешным порядком перенесли на самое раннее время, отчего зрителей смертельной экзекуции собралось лишь раза в три больше чем солдат охраны, кои с легкостью могли бы сдержать любой натиск окружающей толпы. Испанцы лишь следили, за тем чтобы лаццарони, которых здесь было большинство, не приближались близко к внешнему ряду, чтобы не поучилось тесного соприкосновения, где ножи и прочие колющие предметы одних оказались бы в куда более предпочтительном положении нежели чем длинные шпаги и ружья других, кои в тесной рукопашной могли бы оказаться бессильны против удалого сброда весьма ярого в поножовщине.
Спасало от этого так же зрелище, жуткое и кровавое. Новоявленный палач в который раз бессильно опускал топор тюкая по шее и плахе, но так еще и не отстебав голову жертве. И Росперо орал жутко по-кошачьи, не имея уже прежнего голоса и не в силах хоть как-то пошевелить перебитой головой. Струей била кровь, живые ткани, вены мышцы монотонно, но неумело рассекались вялыми руками и как тупым лезвием.
Ко всякой работе, особенно палача, нужна сноровка и внутренняя подготовленность. Когда Ришелье приказал казнить де Шале профессионала палача на него не нашлось. Пришлось пригласить на эту работу преступника, обещав подарить жизнь. Голова заговорщика маркиза была отделена от тела только на двадцать седьмой удар. Похожее произошло и в данном случае: старый палач давно покинул Палермо, опасаясь народного гнева, а новый, насмерть перепуганный тем за что взялся, опустил уже тридцатый удар, на этот раз выронив орудие убиения — топор из дрожащих рук.
Росперо уже перестал орать но белые члены шейного позвоночника еще не были полностью перерублены. Вывернутые куски мяса с жиром продолжили обильно омываться кровью. Живое еще тело стало сползать с плахи в собственную лужу крови на дощатой поверхности эшафота. Палач придя в себя обагряя руки в крови снова навалил тело на пенек плахи. Раздались последние предсмертные крики вызванные движением тела.
Толпа вышедшая из оцепенения стала протестовать и расступаться перед подоспевшими солдатами-республиканцами, вклинившимися в ряды охранников. В то же время и толпа почувствовав силу в ударном месте сама навалилась, став теснить отступавших желтомундирников под натиском республиканцев. На эшафот проворные лаццарони навалились быстрее, чем это можно было представить и дико свирепствуя за своего предводителя в мгновения люто растерзали палача, отрывая ему руки волосы, отрезая уши, ноги, голову терзая лезвиями тело и словно упиваясь льющейся кровью.
Смерть палача ужаснула д'Алесси. Несколько секунд он брезгливо всматривался в разъяренную. алчущую Толпу, стоя на краю эшафота, постланного материей. Можно ли с ними было построить то что он собирался? Затем его мнение переменилось, видя какую силу он имеет в руках.
Испанцы многие подколенные, безоружные, вырвались общей массой из толпы, унося ноги прочь.
Когда страсти начали мало помалу улегаться, слово взял д'Алесси, став растолковывать кто он и кто такие республиканцы, одновременно склоняя на свою сторону.
Мачете оставшийся единственным вожаком лаццарони сказал д'Алесси за всех что они будут собираться на площади Четырех Кантонов, что через Толедскую улицу — только дайте им оружие и они все разнесут!
* * *
На площади, новое название которой решилось отрытым голосованием, толпилось единой массой множество народу. Чувствовался настрой, новая пружина заставлявшая механизм народного состояния двигаться по-иному.
Много было неясного, что заставляло временить с мнениями, но слух что там арестовывали роялистов и Турфаролла!… Заставило собраться здесь и на прилегающих улицах великое множество народу перед новыми зреющими событиями, поэтому оваций ввиду разносившихся ошеломительных слухов почти совсем не было, а стоял однородный нескончаемый вопросительный гул. Кое-где раздавались вопросительные крики, кое-где подхватывались республиканские, и над головами витала общая неясность грядущего.
Остатки полка Турфаролла: две-три сотни занимали небольшой конюшенный двор сбоку от сенатского особняка. Настроений за то чтобы освободить бывшего военноначальника не было и в помине, он был не такой человек среди них, за которого можно было бы заступиться и почему с этой стороны опасностей возникнуть никаких не могло, к тому же особняк все-таки защищался республиканцами Алесси.
Среди люда заметно поднялось оживление, а вызвано оно было тем что к фасаду здания по площади пробирался отряд во главе с д'Алесси, одетого в форму морского офицера, но без королевских регалий. Поднялась буря криков вся человеческая масса пришла в движение. Д'Алесси обернувшись назад только недолго поприветствовал народ характерным ему поднятием правой руки и вошел в приоткрытые двустворчатые двери.
Одурелый, который не сидел никогда ни на одном из лучей, предпочитая разгуливать где придется, сразу обернулся и обратился к вошедшему.
— Могу тебя поздравить, твое предложение с треском провалилось.
Облачко омрачения накатилось на лицо его и это не мог не заметить Одурелый, тем не менее продолжавший.
— И я все так же сенатор.
— А тебе что хотелось бы быть парламентарием? — спросил резко д'Алесси проходя.
— Так хотелось, — не отставал Одурелый с видом подлизы, — Что я был единственным кто проголосовал «за».
Д«Алесси невольно глянул на своих и тех от кого бы он хоть в благодарностях мог бы ожидать поддержки. Сейчас он понимал что предложил неудачное, но все равно как обыкновенный человек был удручен.
— Не подумайте ничего плохого, — поспешил успокоить его Камоно-Локано, — Сенат — древний итальянский орган власти — республиканский, возникший еще до Рождества Христова. И ничего в том удивительного не было что было решено оставить традиционно итальянское. Но зато улица Толедская переименована в Республиканскую, а как известно она проходит у Сенатской площади и этим указывает на сенат снова ставший республиканским. Обсуждается вопрос назвать площадь Четырех Кантонов — площадью Республики.
— Вы вот что! — оборвал Камоно-Локано д'Алесси, подошедший к самому началу, где сидел один, но могло сидеть двое, — Давайте определять четко кто за что!
Камоно-Локано обобщенно прояснил картину:
— Итак, количество сенаторов сто и состоят они примерно в трех партиях… посмотрел на право от себя на левый луч указал:
— Республиканская партия во главе с Монти.
— Это почему же? А нам прикажите какое название носить? — спросил д'Алесси про свою партию.
— Мы что не республиканцы что ли? — зашумели на среднем луче.
— Э! Нет, нет, нет! — остановил возражения президент, — они открыто выявили себя как республиканцы, еще до восстания и позвольте уж хоть называть их так, а не иначе.
— Послушайте! — громко сказал ставший д'Алесси, — Это не игрушки что мы здесь. Зачем раскалываться на несколько партий перед лицом опасности. Набралось много новых людей и я поэтому спросил в общем… Значит так! Я вижу у вас говорителей все идет к тому чтобы расколоться и повоевать друг с другом, а не с тем с кем надо! Нам нужно сейчас воевать с нашими врагами, которые окружают нас! Это испанцы де Карини, это роялисты Спорада. Нашей власти! — власти восставших нужно скрепляться меж самими собой и вооружаться!.. Это нужно хорошо уяснить себе каждому. Сегодня же можно и нужно собрать несколько сотенных отрядов добровольцев вдобавок к тем войскам, что я привел с собой. Склоните на свою сторону остатки полка Турфаролла, что рассиживаются в казармах неподалеку. Мне известно у них царят неплохие настроения, своего полковника заядлого Спорадиста, никто из них даже не думает… чтобы любить и за него заступаться! Они еще не забудьте — итальянцы! Это значит их волнует только то, что хорошо для их страны. Это значит их волнует тоже что и нас! Вот поэтому давайте возьмем себе за девиз: больше дела меньше слов! — хотя ваши дела это и есть слова, добейтесь того чтобы это было не просто словами, но и делами! Мне нужны отряды! Пошлите к ним делегатов. Сделайте так чтобы они встали на нашу сторону! Я пойду поднимать народ. Этой ночью мы должны будем уже ударить по королевским дворам! Роялистское гнездо должно быть разорено! Пока они беззаботно веселятся там у себя, наша власть под сомнением! Нужно штурмовать дворцы! И по возможности захватить их в заложники! Тогда мы свяжем руки аристократии Сицилии!
Его речь прервали аплодисментами. Алесси достойно дождался утихания рукоплещущего шума.
— Итак, принимайтесь за дело, друзья мои! Идите в народ! Поднимайте народ за счастье свое! Я удаляюсь заниматься тем же самым. Я должен придти не с тем чем ушел! И я должен прийти не к тому же от чего ушел. За дело!
С этими словами д'Алесси ушел.
* с глазу на глаз *
Его ждала важная встреча с человеком из Кальварузо, который и получил свое народное прозвище по названию места, откуда был родом. Он интересовал д'Алесси как народный предводитель, могущий собрать и повести за собой много надежных людей.
Сейчас Кальварузо, как и было уговорено, поджидал прихода д'Алесси на встречу в таверне, название которой уже сменилось на «Республика» — так быстро менялись события в городе. Кругом были расставлены его люди и Кальварузо можно было преспокойно дожидаться, не теряя времени за столом. Он монотонно умял уже всего поджаристого цыпленка и допивал уже вторую бутылку вина. На что хозяин таверны, принесший третью бутылку не преминул зудливо заметить.
— Вы сеньор две бутылки выпили, а не в одном глазу!
— Нельзя мне сейчас пьяным быть!… Оставь эту! Не открывай!
Кальварузо был хмур, потому что много думал. Тот кого он ждал пришел. Это был человек полной противоположности туповатому народному человеку, но живой открытый прямой и завораживающий. Простенькое светлое лицо д'Алесси обведенное аккуратной полосой бородки, честный заинтересованный в нем взгляд, деловые манеры быстро расположили к себе Кальварузо чисто по-мужски. Предводители через стол обменялись рукопожатиями, посмотрели друг на друга и оба повеселели, сев за стол. Д'Алесси запросто принялся за предложенного тавернщиком цыпленка и это еще сильнее расположило к себе. Последняя настороженность прошла, он хоть и был аристократом, но с каким именем!
Но от вина, принесенного нарочно плохого, д'Алесси ни в чем не сомневаясь оказался, да и кто искренне станет пить плохое вино?! с этим мужиком все было нормально. Отъевшийся к сему времени Кальварузо, ожидал когда можно будет начать разговор, но чуть Алесси обращал на него внимание, неопределенно указывал ему есть. Никуда не спешить. Перед всяким делом нужно было как следует подкрепиться. Они выпили вместе по завершении трапезы гостя.
— Что надо делать? — прямо спросил его Кальварузо.
— Драться! За каждый клочок города. Город будет наш — возьмем весть остров и Спорада одолеем!
— А что он тебе так сильно не нравится? Ты выполняешь волю князя де Бутера?
— Я сам от себя и выполняю волю только моего прадеда! О князе де Бутера могу сказать только хорошее — перейдет к нам. Марсала будет нашей!
— Что ты хочешь начать делать?
— Ударить по дворцам! Нужно захватить эти гнездышки вместе с птичками! Мне нужна поддержка народа и мне нужно знать как можно это лучше сделать?
— Захватить дворцы не мыслимо. Защита Спорада!
— Но нужно хотя бы ударить! Не пуганными их нельзя оставлять, иначе они не разъедутся! И нужно ударить как можно покрепче. У меня есть для этого надежные силы. Мне бы только знать куда бить.
— Я знаю куда бить, есть у них одно слабое местечко. Сколько у тебя?
— Пол тысячи! Может быть тысячу наберу! Сколько ты собрать можешь? Можешь большой отряд, чтобы он был постоянно при тебе?
— Могу. Сотни две набираю. Оружия много нужно!
— Дам оружия. Нам нужны такие отряды позарез! Нам нужно только постоянно действовать и мы вынудим кого бы то ни было оставить город. Дворцы возьмем штурмом! Испанцев вынудим уйти из Портового замка блокадой! Выбьем и Спорада из его мест! Нужно только стать полновластными хозяевам в городе и за нами соберется целая армия! Объявим один налог — подушный, и очень низкий. К нам воевать сбежится целый остров!
— Когда будем начинать?
— Этим же вечером! Чего ждать?! Сенат будет телиться, может у меня будет совсем не столько, сколько я думаю, но главное ударить хоть малым числом!
— Я полторы сотни могу набрать, причем это будут стоящие люди. Когда я получу оружие?
— Подходи к сенату. Там со всем разберемся. Могу ручаться, у меня оружие будет там!
— Пойдет. По рукам. К пяти я могу быть.
Они пожали друг другу руки и разошлись.
Через несколько минут таверну обстреляли и захватили молодчики незаметно понаехавших экипажей, откуда они высыпали валом.
* * *
В бальном зале Дворца короля Рожера, он же Нормандский дворец музыка закончила играть кардебалет и танцевавшие были приглашены к темным от ночи окнам и балконам, обращенным на старый придворцовый сад, залитый ярким светом. Внизу маленький толстенький маркиз Маласпина стоял перед виселицей на которой висел жуткий манекен, вытащенный из катакомб капуцинов: останки одного из грешников одетые в замшелую одежду. Оскаленные зубы на челюсти были подпояшены узкой полоской бородки.
— Сеньоры и сеньорины представляю. Вам Алесси. Это бренный прах прадедушки нынешнего Алесси, который так же хочет установить республику. Мы позаимствовали у братьев капуцинов одного Алесси, а обещаем вернуть два! Ура-а!!
…А теперь приглашаю вас к торту с сюрпризом! — громко воззвал маркиз, указывая рукой вверх, очевидно за спины смотрящих. Все обернулись назад: по зале везли огромный торт величиной и высотой с большой круглый стол. Поэтому не было ничего удивительного в том что шоколадный мавр умещался глубоко в середине и чтобы достать конверт из его шоколадных рук пришлось тянуться при помощи с опасностью влипнуть.
Конверт достали и вслух зачитали коротенькое письмецо: в нем главный повар упоминал о сюрпризе — нужно дождаться когда догорит свеча. Она уже догорала в руках мавра, и долго ждать не пришлось… сначала с сильным хлопком разлетелся в сторону мавр, потом рвануло из недр кремово-бисквитного наслоения обдав залу и присутствующих обильным количеством неприятного вещества, облепившего особенно на ближайших лицо волосы и не так уж страшно — одежду. Всеобщий крик, особенно недовольный женский. И если среди мужчин нашлись шутники сказавшие — поели, то слабый пол был просто взбешен подобной выходкой и тут же начиная очищаться от сладкого стали недовольно расходиться. Князь де Бутера — младший подумал хорошо что здесь не было Мальвази.
В то же время со стороны Палермского собора видимого вдалеке за вершинами садовых деревьев, освещенного некоторым светом, послышалась трескотня выстрелов. По широкой площади перед собором демонстративно наступали толпы восставших. Они шли медленно, казалось крайне неохотно и поэтому капитан засевшего в саду отряда приказал наступать, чтобы разогнать сей мятежный сброд заблаговременно, не подпуская близко к дворцу, который стоял за садом и виллой Бонанно не так далеко, чтобы не пострадать от выстрелов, особенно по окнам.
Защитники большей частью бросились в нападение по широкой виа на соборную площадь по которой шли и уже приостановились бунтовщики. От них раздавались редкие гулкие выстрелы, но защитники дворца бежали не обращая внимания, желая как можно скорее приблизиться. Они уже добежали до самой площади и начали гнать, как в это время из-за боковой стороны соборных пристроек им чуть ли не в тыл обрушился сильный засадный отряд восставших марсальцев д'Алесси. В это же время кончили притворное отступление на площади. Наступавшим грозило попасть в полное окружение, но капитан, оставив заслоны от одних и других, устремился на маленькую улочку Виколо-Брунья, справа, в ее узком пространстве, меж высоких глухих стен отряд нашел укрытие, если не сказать спасение, потому что марсальцы видя как среди них много испанских мундиров налетели на них с убийственным остервенением атаковать и в узком уличном проходе. Но вскоре было видно от них остался один заслон. Защитники дворца не давая себя отрезать, бросились по улочке до конца, свернули в сторону свернув в сторону дворца направо на площадь Сан-Джованни…, с которой уже виден был надстоящий на возвышении, как развернутые книги, Нормандский дворец, и до сада было вовсе рукой подать, но было слышно как участились ружейные выстрелы. Д'Алесси прорвался возле ограды сада, почти безболезненно отогнав остатки защитного отряда. Отогнав его от решеток не перелезая через них. В это время основная часть его во главе с д'Алесси сломав решетчатые ворота устремились и мимо виллы Бонанно через широкую садовую дорогу к самому дворцу, во дворец. С налета ворваться не успели, потому что успели ударить защитники и удар их был настолько силен, что пришлось отступать в самый конец дворца к Порта-Нуова. Она была захвачена, но все входы и выходы были закрыты и защищены внутренней дворцовой стражей. Защищаясь узким проходом Порта-Нуовы д'Алесси повел основную часть отряда в несколько сотен человек в открывшуюся им другую сторону дворца, оказавшуюся невозможной для штурма из-за высоких стен. Д'Алесси почувствовал что сильно просчитался. Нужно было дать бой защитному отряду и по возможности уничтожить его.
Он повел пошедший за ним отряд обратно, но увидел что остальные отряды устремились уже вниз в долину к Орлеанскому дворцу. Это сулило еще больший успех, можно было еще захватить ворота Кастро, с тем чтобы разрушить их. Больше шуму и меньше крови.
Оставшийся открытым Орлеанский дворец был захвачен. Д'Алесси ходил по его залам чувствуя себя победителем. Ворота захватить не удалось, его защитил какой-то отряд, засевший на узкой улице Бастионов под дворцовой горой. Их невозможно было достать, даже зайдя по подножию дворца сверху, настолько неудобен был склон.
От Кальварузо пришло сообщение, что из Портового замка вышел большой отряд испанцев. Нужно было уходить за гору, стоявшую над собором и дворцами.
Зачем испанцам сдалось это? видно де Карини плясал под дудочку Спорада, и во дворце скрывались жены знатных испанцев.
* зажигательная речь *
Наутро следующего дня, дав сенату собраться д'Алесси вошел одним из последних под восторженные крики и отчасти на осторожные взгляды, взойдя на трибуну он начал свою речь, которую готовил всю ночь. Он говорил выучено, зажигательно о низчайшем налоге и о войне, которую нужно устроить за это дело, в общем обо всем том, от чего многих тошнило и они вспоминали те радостные времена, когда были у Спорада за пазухой. После событий вчерашней ночи не только у дворцов, но и перед зданием сената многих ныне подташнивало от того с кем их втянули сцепиться. Монти вообще хотел реабилитироваться в глазах Спорада через наушников его бывших и здесь, и на площади. Он перебил д'Алесси в защиту Спорада:
— Пока вы вчера были около дворцов Спорада запросто мог захватить сенат. Но он этого не сделал однако же!
— Потому что не смог бы этого сделать! — отпарировал д'Алесси.
— Он бы смог, это мы бы не смогли защититься. Пришлось откупиться арестантами.
— Что?! Кто посмел выпустить арестантов?! — вскричал раздраженно д'Алесси и обратил внимание на выступившего из дверей начальника охраны и командира единственно оставшегося защищать сенат отряда.
— Мы бы не удержались. Их был целый полк! Я вынужден был уступить требованию!
— Что?! Отдать Турфаролла! Почему не защищались!!
Д«Алесси с гневом выхватил пистолет всегда у него взведенный и выстрелил во Фьора. Тот упал раненным.
— Командор! — вскричал Монти, — Кто вам давал такое право!
Д«Алесси и сам почувствовал что погорячился, но все пошло не к лучшему, а худшему.
Этим утром последние гости покидали дворцы, уезжая под охраной от города в свои места…

Часть II. Вылитая Копия
В ранний рассветный час подъезжает карета княгини.
Местоположение виллы Монтанья-Гранде между морем и сушей, приподнятой над берегом, приходилось как раз на гребень поднятия, что делало то место краем, от которого с одной стороны опускался пологий уклон к воде, а с другой лицевой стороны продолжалось ровное место. Оно незаметно переходило от естественного покрова со светлым полотном дороги через еле заметную, редкую ограду, на открытую на первый взгляд ровную площадку двора, заставленную однако же бортиками клумб и бассейна.
Позади же коричнево-светлого здания изящного барокко, высившегося над склоном, опущение представлялось где ровным, где обрывистым, как за огражденной терраской над заводью пруда, неподалеку от подножия и больших прямоугольных окон, а где просто всхолмленным, но так или иначе полностью заросшим и обросшим почти до самого песчаного берега, куда меж райских кущ садовой зелени опускалась террасками белая лестничная дорожка.
Въехала карета с эскортом, который сразу же по остановке был отпущен на все четыре стороны вместе с полученным на всех весомым кошелем.
Приезд был ранний и нежданный, поэтому из слуг, встречавших княжну по прохождению ее по лестнице наверх успели только бодрствовавшие стражники из охранения и только две служанки, поднявшиеся столь рано по служебным обязанностям. Несмотря на то, что приезд сеньоры событие для домашней челяди большой важности, и слуги, и служанки застыли в преклоненных позах, глядя на них можно было бы заметить переглядки. Виновницей сего события была хрупкая фигура, тонкие черты, очарование и восточная прелесть в лице: что-то креольское, или даже сарацинское, но скорее всего столь зачаровывающее на лице смуглянки выразились итальянские мотивы. Марселина же вызывавшая в одном парне много нестерпимых душевных чувств, что они прорывались через стеснение, сама напротив была к нему ярко выражено равнодушна. Да и был этот молодчик ей в самом деле неподходящ: широк и статен, неуклюж и вязок, и это при ее-то резвости, чувствуемой даже в неподвижной позе. И в дородных продолговатых чертах лица, толстых в палец губах — все в полную противоположность ей, но как раз в этом несоответствии через обратное сеньора княгиня, смотревшая что называется «со стороны» нашла, что они очень подходят друг другу. Но ее более интересовали свои чувства. Обуреваемая ими она еле сдерживалась, чтобы не дать искушению нескромной радости прорваться нескромным вопросом. Мальвази поднимаясь по ступеням бессловно указала Марселине идти за ней. Та, уходя, прыснула, заметив, что увалень не сориентировавшись по изменившейся обстановке продолжал стоять в согбенном положении к ним задом.
Гостиная зала, очень большая, обставленная роскошью, свойственной дому Спорада, повлияла на вошедшую приезжую так, как влияет свойственная душе обстановка, в которой чувствуешь себя как дома. Сеньора Мальвази и была дома, входя и проходя вместе со служанкой на удобное место, где ей с нетерпением хотелось поскорее расспросить.
Поснимав перчатки с рук резкими срывающими движениями и бросив их на широкую заднюю спинку софы, Мальвази разом же и уселась напротив стоявшей Марселины, выжидающе вопросительно взглянув на нее, взволнованно в это же время положив обе руки на четко очерченный из-под низу подол. Марселина видя, что госпожа приготовилась и ждет услышать то, зачем она сюда приехала, все же начала не с того.
— Наконец-то вы вырвались сеньора, вы снова здесь! — воскликнула она с оттенком неподдельной радости.
— Благодаря тебе. Не твое бы письмо, я не в жизнь бы не решилась! Да, а… Где тот, о ком ты писала?
— Он занимает комнату этажом выше и к настоящему времени еще наверное не проснулся.
— А он…?
— Вы все решите сами. Я право и не знаю, что и говорить о нем, но вы сами когда увидите его поймете, что я должна была вам обязательно написать то, что я написала, — прочувственно проговорила Марселина и обратив внимание на какой-то шорох, указала рукой. — А вот наверное и он идет. Идите скорее, встретьтесь на лестнице, пока никого нет!
Мальвази с волнительно колотящимся сердцем поспешно встала и направилась к дверям, со страхом и радостью думая о том, кого она может там встретить? В груди казалось готово было разорваться, когда она подходя слышала, и причем отчетливо, что в тоже время с коридора один за другим быстрые шаги приближаются все ближе, и вот!… в раскрывшейся створке она увидела его! Их взгляды встретились, но так как он продолжал идти не смогши остановиться сразу, а взгляд его был устремлен вперед, то не смотря под ноги и как не чувствуя их, наступив на небольшой порожек, следующим шагом запнулся и не выровняв положение, чуть не налетел на сеньору. Но вовремя спохватившись, он выпрямился, затушевав оказию движением руки соответствующим реверансу поклона. Он был такой же, но с более волнистым волосом, рассматривала она его почти с ужасом, совсем загорелый, старше и мужественней, лишь только черты лица чем-то напоминали знакомые, а вроде бы и совсем не он, но похож… Совсем запутавшись, она чуть не вскрикнула, когда он вновь поднял на нее глаза, такие знакомые, чуть не склонившие ее к великой радости. Выразительно с надежной глядя в них и не находя ничего кроме интереса к ней, сильно опечалилась и как последний всплеск надежды или слабости было то, что она еле прошептала, смутившись к окончанию:
— Франсуа…
Франсуа не было, это она словно бы вновь явственно поняла с тем, как услышала от самой себя это милое печальное слово, столь неуместное в данной обстановке и несбыточное в последующей жизни, что почувствовала себя непонятно равнодушно, после этого нахлынувшего: отчаянно жаль невозвратимое.
Наблюдавший за чувствами, охватившими сеньору, молодой человек, словно бы чувствуя за собой вину, что не оправдал собою ее надежд, оказавшись не тем, высоко эмоционально переживая ее печаль, и как будто перебирая с этим, что можно было бы подумать, он насмехается или гримасничает после прошептанного: «Франсуа», горечно ужался и не выдержав, бросился перед ней на колено:
— Сеньора! Я знаю о вашем горе!.. уверил он. — Я вам его заменю!
Но ее минутная слабость прошла и она выразительным взглядом осадила его пылкость.
— Пойдите вон, кто вам сюда позволял входить?! Закройте дверь с другой стороны!
Растроганный до глубины души несчастьем сеньоры молодой человек в темном или черном костюме, имевшем оттенок траурности ровно настолько, насколько имело оное его лицо — нинасколько, когда его осадили и выставив вон, показали спину, так же до глубины души оказался раздосадованным и вид его теперь представился жалким и побитым. Неожиданный оборот как обухом по голове прозвенел в его голове, после чего оставалось только чтобы не портить карьеру, убраться по добру по здорову, не раздражать. Только он это сделал, постаравшись все же как можно послышней закрыть за собой дверь и сам не зная, что этим хотевши добиться, как Марселина переведя от дверей робкий взгляд на проходившую сеньору, виновато попросила:
— Простите меня пожалуйста, я вам принесла только лишние огорчения.
— Неправда. Воспоминания о нем самое лучшее, что у меня осталось, — глубоко разочарованно вздохнула княгиня. — Тем более, что он действительно немного похож и тебе ничего другого не оставалось, как сообщить об этом мне.
Минуту спустя, прошедшую в молчаливой задумчивости, сеньора Мальвази почувствовала усталость пред несбыточностью надежд, попросила:
— Я устала с дороги, расстели постель и помоги раздеться.
* * *
Неподалеку от виллы Монтанья-Гранде, но подалее от моря, в зелени сада расположилась вилла Дианы Тарифа в окружении проглядывавших решеток и стен. Сама же тетка Диана взобралась на самое высокое место на открытую беседку бельведера и собиралась пробыть там долго за питейным времяпровождением. День выдавался ясным и приветливым, и к тому же событийным. С самого утра она знала, что приехала к себе на виллу княгиня де Монтанья-Гранде, и так что день действительно представлялся интересным, главным образом последующими событиями, которые старая Диана хотела пронаблюдать с высоты бельведера. Ждала она главным образом того, что эта мерзавка Клементина, которую она опасалась как огня, поедет нанести визит, и как она это проделает, было интересно посмотреть! На то и нарочно бельведер был поднят так высоко!
Пока же тетка Диана обозревала сверху свою виллу. Кругом все выглядело в лучшем ярком свете. Свежий ветерок с видимого отлично синего моря способствовал аппетиту. Живописнейшие окультуренные окрестности только придавали настроению внешний комфорт. То же, что называется внутренний комфорт, или вернее сказать душевному спокойствию очень способствовало то, что ее воспитанник занимался умом, играя с учителем сеньором Ласаро в шахматы и уже довольно долгое время, что означало столь долго сопротивляясь он проявлял при этом большую умственную способность. Только-то и осталось что так косвенно влиять остатками былой роскоши от прежнего прекращённого. Хотя стоило только о Альбертике хорошо подумать, как он не изменяя самому себе тут же нарушил подобные представления, бурно сведя партию на ничью — китайскую, как он сам громко объявил и схватившись за краешек большой шахматной доски навернул ее с немногими оставшимися в живых фигурами на сеньора Ласаро, с которого, а прежде на которого те посыпались как камни. Беседка, где игрались шахматами, была без навеса и вообще находилась на открытом месте, так что старая Диана могла видеть как выражает свое недовольство с едкими сухими гримасами сеньор Ласаро, и как заливается выхлопами звончайшего смеха, отклоняясь спиной на спинку, паскудный толстяк, это дрянной мальчишка, вмиг выведший ее из себя, так что ей от прилива злости захотелось оказаться рядом и потумкать острыми костяшками своих кулаков по его бестолковой голове! Руки Дианы нервно сжались и после того, как она дала волю напредставлявшись как бы она его отволтузила, представила как бы он после этого медленно протяжно и надолго затянулся бы ревом с неизменным под конец: «ду-ра!» — успокоилась, дав чувствам уняться.
…Хотя играл этот балбес в шахматы просто изумительно! И это сеньор Ласаро сам вынужден был ей смущенно признаться, как ему это не было трудно, что такого не удавалось еще никому! На пустой доске в середине загнать единственно оставшегося у черных короля единственно оставшейся у белых королевой — короля в мат! Это невозможно!! Тут ей, Диане, самой немного игравшей в эту игру, пришло в голову, что это действительно невозможно?.. Это трудно даже кучей фигур… Но сомнение развеялось, когда она заменила в своей голове «загнал в мат» на «победил». Она сама это видела: — сеньор Ласаро отвлекся сказать ей как этот чертенок хорошо играет, а тот воспользовался моментом и рубанул короля.
Долго ли, коротко ли, старая Диана так сидела то в думах, то созерцании, все более уходя в себя… как внимание ее привлекло…, она чувствовала такое, что сразу заставило ее прийти в себя, в то состояние, когда кулаки ее снова нервно сжались при виде этой мерзавки Клементины, когда та не просто вышла, но явно намеренно, о чем свидетельствовало в ней все, и в том числе то, как она была одета. Совсем не та распустиха, как она позволяет себе выходить из спальни и прогуливаться дальше без стыда и совести. В одном пеньюаре!
Нечего и говорить, что успокоенного настроения Дианы как не бывало и вся она превратилась в сильно сжатую злость и раздувшееся внимание. Вследствие чего ею было сразу замечено, что платье на Клементине совсем не парадное… Это дало заподозрить старухе совсем уж неладное, и обрадованная возникающими у нее подозрениями Дюха, так и подумавшая про себя, что она покажет этой …, какая она Дюха, стала неотрывно следить как потаенно пробирается та, стараясь не попадаться на глаза, старательно обходя беседку, где играл Альбертик. Но как ни старалась она затеряться под занавесом зелени, зоркий глаз Дианы видел насквозь, что творилось за спиной у ее горячо любимого воспитанника, болванчика, которого она ни за что не даст в обиду!
Преисполненная сильной решимости проследить за намерением прижитой гадины и вывести черное предательство на чистую воду, после чего выпнуть ее из дому на законном основании, чтобы духу ее больше здесь не было и глаза ее больше не видели: Диана от волнения не сразу даже заметила как Клементина тихонько подошла сзади к Альбертику и осторожно закрыла ему глаза.
— Дюха!? — начал гадать он, но затем понял, — А-а! Клементина! Ты куда пошла?
…Но все же, куда она пошла? — стала думать и гадать Диана.
— На кудыкину гору, мышей ловить, тебя кормить!
— Я тоже с тобой пойду! — прицепился он к ее руке и рукаву.
— Нет, я скоро приду.
«Скоро» успокоило его, а Диана, глядя на Альбертика, подумала все же как легко ей скрывать свои шашни и обводить своего муженька вокруг пальца. И незачем конечно даже скрываться. Но она-то отсюда, со своего высока, заместо него проследит и вмешается в любое распутство этой шалавы. Куда она все же пошла?
Клементина вышла к воротам, за которыми ее, как оказалось, ждала приготовленная карета и укатила в сторону виллы Монтанья-Гранде. Диане только осталось понервничать на себя из-за того, как она могла пропустить мимо своего внимания такое значимое событие, как подготовка к отправке ее кареты, и не предотвратить.
Диана стала громко звать долго оглядывающегося в непонимании конюха, откуда его зовут, чтобы справиться о том, о сем.
* * *
Проснувшись со вздохом, вызванным беспокойным сном, Мальвази подняла голову и внимательно огляделась. Через открытое на балкон окно проникал сквозняк, создавая неприятное ощущение, так что ей подумалось даже, что она простудилась. Но обошлось, первые ощущения оказались ложными, незаметно заменившись воспоминаниями сегодняшнего утра и размышлениями над ними. На некоторое время они полностью захватили ее; отвлечение же последовало сразу после того, как из-за окна послышалось конское ржание и непродолжительный скрипящий железом шум, вызванный небольшим перемещением осей колес.
Кто-то приехал..? Наверное из-за шума приезда она и проснулась, по крайней мере. Нет, не из-за него, но другого, потому что даже сейчас смутно припоминался какой-то другой шум по пробуждении.
…Дверь залы приоткрылась, показав из-за створки светловолосую головку Климентины.
— Ты не спишь?
— Заходи, присаживайся. Я так рада тебя видеть!
— Я тебя в сто раз больше! Рассказывай!
— О чем? — по-первой смутилась Мальвази, но потом поняв, что от нее ждут, попыталась о чем-нибудь начать говорить, что первое на ум придет, но что попалось на слово было безудержно перебито подвижной и языкастой Климентиной, как помниться, услышавшей вопрос: о чем рассказывать…
— Как о чем?! Как это о чем?!! У нас в провинции ходят такие слухи, один ужасней другого, а она была там и не может припомнить!
— А-а! — как зевнула молодая княгиня, равнодушно махнув рукой.
— Ну да..а! Смотри, какая она смелая, даже и рассказать ничего не может.
— Что было — то прошло, меня интересует настоящее, о чем я тебя хочу хорошенько расспросить.
— О-го-о! Все последнее время, насколько я тебя знаю, ты жила только своим прошлым. А теперь тебя вдруг заинтересовало настоящее?! Я рада. Но что бы это могло значить? Ах, да! Ты надеешься, что тот писарь может оказаться им?
— Клементина, замолчи! По крайней мере не болтай об этом так легко! Как, каким образом он может оказаться им? Притворяясь зачем-то прежде? Ты убиваешь у меня последнюю надежду. А она у меня было снова появилась.
— Значит ты уже видела его! Ну как?
— Даже и сама не знаю, что подумать. Конечно нет! Но сердце мне подсказывает, что этот франт особенен и слишком уж неестественен.
— Ну, тогда что бы ты подумала о нем побольше, мне нужно тебе рассказать о нем, что я видела. У меня сложилось впечатление, что этот Амендралехо опасный тип, или по крайней мере очень странный, я просто боюсь с ним сталкиваться! Не знаю, что о нем плетет Марселина, но что касается его, то он к ней кажется имеет свой замысел. Вот послушай, что я видела из окна на море, кажется на прошлой неделе… Амендралехо спускался вниз к берегу, а оттуда как раз возвращалась Марселина, ее красное платье очень приметно издали. Так вот, я заметила за ним, что как только он ее увидел, поведение его сразу изменилось. Вместо того, чтобы продолжать свой путь, он моментально свернул на боковую дорожку, стараясь не попасться ей на глаза. Сам же не выпускал ее из поля зрения ни на секунду и так проследил за ней пока она не скрылась. Затем вернулся на центральную дорожку, хотя до берега ближе было дойти по боковой. Я так поняла, что на центральную он вернулся и по ней прошелся специально, чтобы попытаться обнаружить на ней следы того, что Марселина могла делать у берега? Иначе нечего бы ему было наблюдать за ней на всем ее пути, ведь не из каких-же-нибудь чувств к ней он за ней наблюдал? Он бы тогда пошел к ней на встречу. На встречу — выделила Климентина интонацией в голосе. Он же этого как раз не захотел, ну а следил он за ней, чтобы определить, зачем Марселина ходила на берег и несла ли она в руках что-нибудь или нет? Этого ему увидеть не удалось из-за кустов, вот он и пошел по ее следам, допустим посмотреть не осталось ли на камне мокрого песка с подошв, если она сбивала.
— Как бы это не был шпион твоего дядюшки, побрали бы его черти, — испуганно оглянулась Климентина, понижая голос, — боюсь что Марселину решили украсть…
Мальвази внимательно слушавшая все, что Климентина видела, равнодушно пропускала мимо внимания домыслы подруги, строя свои и объясняя своими. Они-то несказанно обрадовали молодую выдумщицу. В них она подчерпывала силу надежды, а не подозрений. Поэтому вообще не слыша, чем закончила свои рассуждения собеседница, Мальвази хотелось одно: поскорее видеть его вновь! И поэтому Мальвази постаралась продолжить разговор, выведя его к тому, чтобы позвать Амендралехо сюда. Слово шпион как раз давало такую зацепочку.
— Но у нас нет никакой возможности доказать, что он шпион. И…
— Но разве ты не можешь отличать ложного от настоящего, говорят тебе правду или врут, особенно мужчины. Я лишь хочу тебе предложить, чтобы ты на него смотрела не только глазами воспоминаний, но и трезвыми проясненными глазам, и без всяких чувств, — ущипнула ее Климентина, и для Мальвази ранее задуманная задача сделалась еще более трудноразрешимой. Ей так показалось, и она просто не нашла сил, чтобы попытаться как-либо выйти на нужное русло. Сказать прямо она уже стеснялась. Молчавшей Климентине хотелось того же самого, но тупик приводил ее к задумчивой успокоенности.
Наконец Мальвази нерешительно, даже слабо упомянула о Марселине, что хотела бы ее видеть. Она также же поднялась с места, на котором незадолго до этого лежала, но Климентина тоже привстала с края стола и через несколько шагов была уже у окна, раскрытого настежь.
Пока она высматривала во дворе к кому бы обратиться и отдавала приказания, Мальвази заняла место поудобней, усевшись в шезлонг.
— Идет! — оборотилась от окна Климентина, заняв удобную позицию у подоконника. То, что она приготовилась к последующему решительно, можно было судить по ее словам:
— Если ты хочешь что-либо выведать у нее — пустая затея. Она что знает — не скажет и другого с испугу напоет.
— А почему так?
— Потому что она к нему неравнодушна. И боюсь как бы он это не использовал, отчего в своем доме ты будешь иметь уже целых два шпиона.
— Климентина, ты клевещешь на отсутствующих.
— Нисколько, я говорю обыкновенные банальности, каждый себе шпион. Кроме, я вижу, тебя самой. Прошлые беды тебя ничему не научили.
— Что ты мне предлагаешь? — с интересом спросила Мальвази.
— Внимательно к нему приглядеться… И если он здесь только потому что похож, его нужно поскорее отсюда гнать. Если даже ты ошибешься, это скоро выясниться.
— Ах, Климентина, сколько лет прошло. Его я готова держать у себя несмотря ни на что, лишь как воспоминание. Ну, как я его выгоню?
— Очень просто. Прошлый твой секретарь насколько мне известно, занимался стихоплетством. Вот и этому скажи оправдать занимаемую должность. Иначе — вон. Если он побежит списывать мадригальчики в библиотеку, это можно будет узнать не копаясь в книгах, стоит лишь проследить за библиотекой, а вернее ее закрыть.
Предупреждая встречный вопрос Мальвази о том, что Амендралехо вполне может написать хорошие стихи, Климентина сошла с места, направившись к двери в коридор, в которую давно бы уже должна была войти позванная Марселина, но которой все еще не было. Ни за дверьми, ни рядом с дверьми ее не оказалось, она поднималась по лестнице снизу, неся что-то в руках.
Климентина повернулась назад и оставив дверь открытой, вернулась на исходную позицию. Нечего и говорить, что позванная Марселина вошла в открытые двери несколько оробелой от сего приема, попав к тому же под испытывающие молчаливые взгляды, она вовсе смутилась, от волнения, покрывшись предательской краской. Но в руках у нее был сосуд с прохладной водой для омовения для проснувшейся сеньоры, и неестественно даже неуместно чуть присев в поклоне в забывчивости против договорённостей, с плеснувшей водой Марселина подошла к сидевшей в шезлонге княжне.
— Не надо, оставь, — остановила Марселину Мальвази, чем нехотя заставила ее почувствовать себя еще более неуверенно.
— Скажи, ты знаешь, где может сейчас быть сеньор Амендралехо?
— Он обычно проводит время у себя в кабинете или в саду.
— Вот служба: в кабинете или в саду. Ну ничего, сейчас ему придется побыть в работе. Зови его сюда если он в кабинете, а если отдыхает в саду, пошли за ним кого-нибудь, сама не ходи.
Марселина не знала как и понимать сказанное, поспешила поскорее удалиться. Вскоре послышались приближающиеся шаги, но единственной, кто показался в дверях в последующее время была Марселина, вошедшая почти бесшумно. Куда пропали шаги, которые несомненно не принадлежали Марселине? Сразу бросилось в глаза и выяснилось, когда через несколько секунд снова зацокав подковками на каблуках вошел в своем изящном черном костюме сеньор Амендралехо, собственной персоной, сразу попав в центр всеобщего внимания, незатененного ничьей фигурой, для чего он собственно и притормозился на некоторое время, не доходя до дверей.
Молодецки галантно, со всей учтивостью далеко заводя назад от себя стрелой руку, он поклонился в отдельности каждой из находившихся в зале, не забыв при этом и Марселину, с которой пришел.
Мальвази вторично видевшая лицо Амендралехо волнительно замерла, разглядывая его в подробности и замечая слишком много дородности. То, что лицо его с чуждыми чертами и выражением взгляда уставилось вопросительно на нее, показалось Мальвази просто отвратительным, к тому же она уловила на себе взгляд Климентины и уязвленная этим, запаниковала. Ей сделалось неловко и обыкновенно стыдно, и перед ней, и перед собой самой, оттого что такая дурная мысль могла владеть ею. Стараясь выправить неловкость, Мальвази нашла выход чувствам в раздражении.
— Амендралехо, вы взяли с собой письменный прибор? Я не вижу.
— Позабыл.
— А вам бы слеловало помнить о своих обязанностях. Ни за чем больше вы понадобиться и не могли. Вы подумали иначе?.. Одна нога здесь — другая там, бегом!
Ударенный, ошеломленный вторично Амендралехо, с поблекшим видом сглотнув унижение, переводя дух, с небольшим поклоном, исчез за дверьми. Мальвази после этого бурного порыва чувств не успокоилась, она дала волю негодованию, придумывая что, а главное как с ним разделаться. Когда Амендралехо вернулся со шкатулкой в руках, козни были хорошо обдуманы, и ему оставалось только на них наткнуться как птенчику на вертел.
— Садитесь, пишите.
И Мальвази начала диктовать письмо герцогине Неброди, незаметно все ускоряла темп диктовки, как будто делая паузы, чтобы подождать и подумать и как будто не видя, что писец сидит с подавленным видом, уткнув дрожащее перо в лист бумаги.
Кончив диктовать и выждав необходимое время, она спросила:
— Написали?
— Да.
Предательское удивление выразилось на лице княгини вишневым румянцем. Не в силах сдерживаться, она протянула руку за прочтением, хотя тут же нашла как поправиться.
— Честно говоря — не ожидала. Я уже думала, что не удержалась: пропала моя диктовка, а вы успели… Это что за каракули? — отбросила она от себя почерканный лист в негодовании.
— Скоропись, — мягко ответил Амендралехо, — применяется как раз в таких случаях. Разрешите, я перепишу письмо набело.
— Каллиграфикой, — нехотя огрызнулась сеньора Мальвази, отводя лицо в другую сторону.
Против каллиграфического почерка тоже нельзя было ничего сказать: дочитав последние строки поданного листка вслух (в них говорилось об обещанных новых стихах), она вернула листок Амендралехо, и стараясь быть как можно более обыкновенной, произнесла.
— Теперь напишите стихи.
— Ва-а-у! — отреагировал тот уставившись.
— Что вы себе позволяете?! — с обоснованной грозностью произнесла Мальвази, — Что вы уставились, пишите!.. Вам что-нибудь неясно?
— Любые стихи?
— Нет, только мадригалы или сонет. И не вздумайте переляпать чьи-нибудь стихи, это пошло. Герцогиня большая любительница свежих стихов и если вы вздумаете сплутовать, мне это от нее сразу же станет известно. Тогда можете сразу же убираться восвояси, я подыщу себе другого поэта.
Сеньора Мальвази успокаивающе посмотрела на Марселину, очень премило подернувшуюся что-либо сказать в защиту Амендралехо, но вынужденная через силу успокоиться. Когда Мальвази перевела взгляд снова на Амендралехо, то тут уже не выдержала:
— Что вы на меня так смотрите? Я вас спрашиваю!
— Я вдохно… вляюсь…, — испуганно невнимательно прошептал он, почувствовав на середине последнего слова как засыпался.
— Что вы? — встала она в пущем гневе. — Что вы сказали, повторите?!
То, что вставшая тигрица не разорвала его на куски, Амендралехо можно было только удивляться, он не видел, что позади него Климентина сделала Мальвази очень выразительный знак, став подходить к нему сбоку, но он почувствовал это и сильно ужался головой в плечи, испуганно озираясь, словно бы его могли чем шарахнуть. Но ему всего лишь мягко прикрыли руками глаза.
Климентина еще раз указала на неприлично легкое для глаз мужчины постельное одеяние Мальвази, и та в мгновенье устыдилась с ойканьем отступила и осела в шезлонг. Ее женский ужас крайне усилило и то обстоятельство, что материя пеньюара просвечивала, а в зале было светло. Лишь когда Марселина подала ей одеяло, почувствовав себя за ним, стыд в ней стал заменяться бессильным негодованием.
Все было готово. Климентина отпустила его глаза, оказавшиеся закрытыми и некоторое время еще не открывшиеся. Затем наконец они резко открылись, как у человека неизвестно где очутившегося, и продолжая паясничать, он вспомнив, что ему нужно писать стихи, выкидом руки потянулся за пером. Затем он подумал, что устраивать клоунаду — опасный путь, замялся. Его взгляд встретился с холодным надменным взглядом сеньоры Мальвази.
— Подите вон.
— Писать стихи (там)?
Амендралехо встал и отступив на несколько шагов, откланялся. Почувствовав, что выпускает его что называется отделавшимся, она поспешила исправить ситуацию.
— Чтобы стихи были. Марселина, возьми у него ключ от библиотеки и закрой ее.
Скриворотившийся в сторону Амендралехо, не глядя, подал подошедшей Марселине связку ключей и вслед за ней вышел.
Когда Марселина вернулась, остававшиеся девушки уже как ни в чем не бывало разговаривали весело о своем. Климентина смешась говорила об Альбертике.
— …Ох, такой шалапут, прямо я не знаю… Какой только от него ребенок будет, я боюсь.
— Правда!?! — воскликнула звучно Мальвази, хлопнув ладонью по колену.
Марселина тоже с улыбкой глядела на белокурую подругу, которая показалась ей сейчас такой особенной.
Климентина обратила внимание на вошедшую.
— Ну как он, пригорюнил?
— Чернее тучи. Я видела его из окна, и мне его стало очень жаль. Он шел по саду такой подавленный.
Мальвази протянула руку за ключами.
— Я была очень невыдержанна? — примирительно спросила она.
— Очень! почему ты так?
— Сама не знаю.
* * *
Во двор виллы с дороги въехала карета Метроне, в некотором роде поверенного в делах между Монтанья-Гранде и Сан-Вито, то и дело возникающих периодически с началом месяца, а иногда произвольно по необходимости, как возможно сейчас. Хотя Метроне мог приезжать на виллу по собственному желанию, когда ему вздумается, ведь за особые заслуги он был награжден большим количеством почетных должностей: церемонимейстера, коменданта, дворецкого и даже мажордома, от которых ему было премного приятно и лестно: как никак он был здесь по идее вторым по значимости человеком, после чичисбея… Естественно если не принимать во внимание господ, положение которых выше всяких мерок и по отношению к которым эти мерки строятся. Он бы вообще считал себя здесь самым главным, если бы не чувствовал, что за неприметной собой по себе должностью стоит лицо особо назначенное Монсеньером. А так как служил Метроне в основном Монсеньеру и его очень сильно побаивался, что даже внутри себя с ним считался.
К владелице виллы сеньор Метроне питал особые чувства дружбы и обожания, каким обожают сеньорин, у которых пользуются постоянным успехом в деле выполнения их несложных поручений и вообще когда она очень благосклонно к тебе относиться, как например и сейчас, когда она приветливо встречала стоя у окна на втором этаже.
Мальвази облокотившись на подоконник, глядела вниз на то, как раскланивается-пляшет перед ней сеньор церемониймейстер, который зачем бы мог приехать? Наконец сухопарая фигура успокоилась от своих триколе. Она устало указала ему подняться к ней, посожалев о том, что ушла Климентина, которая не захотела остаться на ужин.
Сеньор Метроне, войдя, привнес с собой в тихую вечернюю обстановку залы шум и оживление, исходящие от новых его поклонов и приветствий. Мальвази, встречая его, проходя навстречу, тоже сделала один легкий присяд с реверансом руки.
— Как хорошо, что вы пожаловали и вовремя, проходите, садитесь. Вы мне составите прекрасную компанию за ужином. Я чувствую, что у меня уже сейчас рассеивается скука.
— Боюсь, что вам по поводу ушедшей скуки придется еще посожалеть. У меня есть вам ого что рассказать!.. Приехал Виттили.
— Снова! Чем от него откупиться на сей раз? И почему он приехал, мы же договаривались, что он до следующего года больше здесь не появиться? И только на рождественские праздники может приехать, — раздосадованным тоном неожиданно сильно обманутой, проговорила Мальвази, меняясь соответствующе в настроении.
— Произошло непредвиденное. Вернее не непредвиденное, а ужасное. Он вляпался в ужасную историю и его имя на виду у полиции.
Так как сказал он, последнее было много лучше, нежели сказать: ищет полиция, но Мальвази все равно недоверчиво протянула:
— Что он там натворил?
— Ох, и не спрашивайте, он мне рассказывал такие страхи: и убили они там кого-то, и деньги незаконно хотели получить, я даже его слушать не стал. Может вы попробуете его послушать сами, да мы решим, что с ним делать?
Жест Метроне красноречиво указал за окно.
— Так он здесь?! Тогда зовите его сюда! — оживившись проговорила Мальвази со скрытой радостью в голосе, отойдя к окну посмотреть, что вовсю выдавало в ней чувство удовлетворения от предстоящей встречи с молочным братцем.
Метроне оставалось только подать курьеру знак, а дальше все пошло как по наигранной сценке: кучер чинно пробил рукояткой плетки по крыше кареты три раза и через некоторое время из приоткрывшейся дверцы опасливо высунулась наружу широкополая шляпа с головою в ней. Из-под шляпы четко поочередно потаращились во все стороны, заглянули даже под низ кареты, не найдя ничего опасного, только после этого прошмыгнули наружу.
Там твердо установившись на ногах и снова поозиравшись вокруг, сей тип смог еще дальше залезть под шляпу, а также еще глубже укутаться за обшлага плаща и только после этого невидимым поспешил к подъезду.
Мальвази хохотала звонким не сдерживающимся смехом, но до того, как Виттили появился в дверях успела перемениться на недовольно-укоризненную, расстроено глядящую в другую сторону. Виттили бухнулся что называется «в ножки», несмотря на значительное расстояние, которое их разделяло, купил так словно бы к этим ногам прижался. Мальвази не выдержала, рассмешилась тем же порывисто звонким смехом, что далее ему можно бы было зря не тратиться, его ключевую фразу она слушала, сдавшись искусителю на милость:
— Спаси! Вопрос жизни и смерти!
Далее вообще пошло все как по маслу, заказали ужин, отправили посыльного скакать что есть духу за Климентиной и если она откажется, сказать по секрету кто приехал. Климентина примчалась так удивительно быстро, что ужин из-за нее ни насколько не задержался, но и некоторое время не мог начаться из-за сценки, устроенной Климентиной Виттили. Она руки в боки чуть не стонала и кричала ноющим голосом. А он ей всполохами выкидывая от себя руку в указе — гортанно-дразнительно выкрикивал: революция в Палермо! Невозможно там жить! Он второй или третий раз выкрикивал ей то же самое, уже только постоянно держа руку в сторону Палермо, как Климентина отошла и села за стол обреченно успокоившись. Виттили несмело подошел и косясь, сел рядом. Она, взорвавшись, взяла что попало со стола и сильно замахнулась ударить ему по голове, но реакция испуга у Виттили была прикрыться руками, а под ними он уже исчез под стол. Что там еще он может вытворял неизвестно, но продолжилось почти полюбовно, Виттили из под стола положил Климентине голову на колени и обнял ниже стана.
— Милая хорошенькая Климентина, давай заключим мир.
— Отцепись от меня, мозгляк, убери отсюда свои руки! — убрала она сзади себя его руки одну за другой.
— Милая хорошенькая Климентиночка, ты на меня постоянно сердита, потому что я не взял тебя в жены?
Удар запястьем руки звонко по уху не заставил себя ждать и был настолько силен и неожиданен, что Виттили отвалился навзничь настолько оглушенным, что даже не слышал как смеются расходящиеся по стульям. Хотя Виттрили очухался почти сразу от удара об пол, ему показалось что валялся он долго и выбираться стал не сразу, выбравшись только с противоположной стороны стола от места поражения. Струсившей Климентине и после этого успокоения не было: вид у Виттили был истинно перебитый и больной. Он бессмысленно уставился на тарелку с лежащим на ней желтым пластиком омлета. Обе девушки испугались, а Климентина панически проголосила:
— Мальвази не обращай ни в коем случае на этого психа внимания, не то он будет придуриваться до бесконечности, это же дурной, ему денег не давай, дай только попридуриваться.
— Альбертик, — клевнув носом слабо проговорил Виттили.
— Вот видишь чего он добивается, я уверена он задумал так днями дурачиться, только бы добраться к Альбертику, ему ничего не стоит! Даже не обращай на него внимания, пусть себе дуреет, — смирилась Климентина.
— Альбе-ертик.
Тяжело дыша, понервничав, Климентина отбросила вилку с куском ото рта на тарелку, не вынося больше этого издевательства. Назревал срыв хорошего вечера, Климентина хотела встать и уйти, а Метроне экстренно предпринял нужные меры.
— Виттили, расскажи что было в Палермо?
— Расскажу: Росперо и мы поймали главного казначея, он написал нам расписку. Десять тысяч. В первый день в связи с беспорядками казна была закрыта. Мы деньги получить не смогли. На второй день нам устроили засаду за казначея. Поймали всех в кучу. Тут наш Росперо им преспокойно показывает казначею перережут горло, если они нас не отпустят. Испанцы сказали, что отпустят, если мы отпустим казначея. И тут я вызвался пойти отпустить казначея, только чтобы за мной не шли и не следили. Испанцы согласились. Мне и Росперо и все кричали не верить испанцам, но я поверил и пошел, потом побежал. Меня поймали, побили, сказали, что им нужно скорее сменять казначея, я должен идти сказать об этом тем, кто удерживал казначея под охраной. Я пошел, потом опять побежал и добежал до района лачуг, где прятали казначея и быстро все им рассказал. Сразу же после этого началась облава. Наши люди разбегались так, что даже не успели вспомнить о казначее. Его забыли. Мне тоже удалось бежать, мы с каким-то пареньком пролезли под ограду. Я убежал из города в горы к Мачете. Мачете готовил нападение на карету князя Сан-Кальтадо. Я тоже хотел напасть. Князя в карете не оказалось. Я не знал, что Мачете испанцев не трогает, и избил своего старого недруга Каски кнутом, до потери сознания, кажется выбил глаз. И я сбежал и с гор, чтобы у тебя сестрица найти спасение, слезно закуралесил он исподлобья с густой челкой давно нестриженных волос, уставившись на Мальвази.
Та его нежно приголубила, прижав к себе руками. То, что она услышала от него однако не способствовало продолжению нежностей, а наоборот Мальвази подумав хорошо обо всем том, что он рассказал, очень взволновалась и отняла от себя его голову, поглядеть ему в глаза.
— Ты в самом деле? Дурной? Зачем ты пошел вместе со всеми на эту грязную авантюру? Ты что думал они и тебе тоже бы денег дали? Какой ты глупый. Мало я тебе денег даю?..
Так понять рассказанное могла только женщина, Виттили даже несмотря на идиотское состояние чуть не стошнило, он поспешил что-нибудь сказать:
— Я ничего не слышу этим ухом, говори в другое.
— Ой, что делать, прямо ничего не знаю?
— Да все он врет от начала до конца, чтобы его пригрели здесь, — возмутилась Климентина. — Кому он там нужен!?
— Альбертик! — снова клевнул носом Виттили.
— Наверно все-таки нужно будет написать письмо в полицию. Ты как думаешь? — стараясь привести Виттили в серьезное состояние спросила Мальвази его, — Ну ладно, хватит баловаться…
Сидевшая в элегантной позе откинутой на спинку стула Климентина, поймав ненормальный взгляд Виттили заулыбалась и многочувственно протянула ему свою тарелку с омлетом.
* * *
Следующее утро началось для Мальвази очень неожиданно не с омовения теплой водой, приносимой Марселиной, а с нее самой без воды, но как оказалось с холодным душем.
— Вы не знаете, что? — со сквозящей рассерженностью, готовой вырваться разом спросила она.
— Нет, еще не знаю, а что? — взяла Мальвази напыщенно-насмешливый тон и подстать ему заняла удобное положение в полуприсяде, на подушках.
— Вчера вы срочно нуждались в стихах!
— Так.
— И зачем-то взяли ключи от библиотеки.
— Это затем, чтобы помнилось о том, что библиотекой не надо пользоваться!
— А на ночь он должен был воспользоваться жильем как все, или что не пришелся ко двору и можно с ним поступать небрежно?
Мальвази с испугом спохватилась и была больно задета сказанным, и подумала об этом с легкостью прошедшего.
— Так он недоволен, что не попал в свой кабинет, или что спать пришлось где попало?
— Ему не пришлось спать этой ночью!
— А что так?
— А то, что вы его оставили без ничего, одного на ночь, наедине с вашим безумным заданием!
Голос девушки звонкий и отчаянно смелый осекся, а гримаска на лице приняла испуганное выражение, и Мальвази простила бестактность не ответив резко:
— А что выходит, он поняв что его забыли не попытался найти себе ночлег?
— Конечно, он даже не стал! Я представляю каково в его состоянии было столкнуться с закрытой дверью!
— Ах да, он гордый. Из принципа не смог.
— Вам легко и смешно! Вот на какой шаг вы своим пренебрежением толкнули его!
Марселина резко протянула ей свернутый листок, с которым оказывается пришла и держала все это время. Мальвази вальяжно взяла сложенный листок и к скрытому неудовольствию той развернула бумагу полностью, заметив на обратной стороне еще что-то написано.
— Не это, — поспешила перевести ее внимание Марселина, но только способствовала худшему.
— Что это стихи? Он все-таки пытался, — продолжила насмешку княгиня, увидя, что куплеты перечеркнуты крест на крест, зачитала вслух:
По совести скажи, кого ты любишь
Ты знаешь, любят многие тебя
Но так беспечно молодость ты губишь
Что ясно всем — живешь ты не любя.
Твой лютый враг не зная сожаленья
Ты разрушаешь тайно день за днем
Великолепный, ждущий обновленья
К тебе в наследство перешедший дом.
Переменись и я прощу обиду
В душе любовь, а не корысть пригрей
Будь также нежна как прекрасна с виду
И стань еще прекрасней и милей.
— Это кажется Лопе де Вега. Правильно, это его раскаты. А это что? А это уже проза.
Она углубилась в прочтение содержания записки:
Сеньора!
Я не терплю когда надо мной насмехаются, и более того издеваются. Этой ночью я в полной мере на себе почувствовал отношение ко мне здесь. С вашим приездом ваш дом стал мне чужим и даже враждебным. Ставлю вам в известность, что мне нужно забрать свои вещи, оставшиеся в кабинете.
Амендралехо
Мальвази не ожидала, что дело могло принять такой оборот. Нужно было немедленно что-то решать, от нее ждали выразительно глядя сверху вниз. Она сразу же нашла что сделать, может быть, подав это в не лучшей форме, только усложнившей ее положение потом при дальнейшем размышлении.
— Милочка, что вы так убиваетесь за него? Не стоит! Зовите его сюда, я покажу, что вы его не правильно понимаете. Да он у меня сейчас все свои принципы растеряет, стоит мне только пожелать.
— Вы!.. Такая ненависть к человеку, который ничто вам плохого не сделал. О-о, я наверно тоже долго не смогу…
Уходила Марселина крайне взволнованной и растревоженной, чуть не с плачем проговаривая последние слова, обращенные вовне, что в эмоциональном плане очень подействовало на сердце другой молодой девушки, к тому же находившейся в безмятежном состоянии духа после сна. Обвинения сразу двух людей, легшие на ее чистую юную душу, показались тяжкими и слишком напрасными, что произвели совершенно иной эффект, чем можно было бы ожидать; она обиделась. Но уходить в свои чувства было не время, не для того она выгадала паузу, чтобы не подготовиться. Она быстренько встала с диванчика, направившись к зеркалу. Взяв гребень, Мальвази убрав свой шикарный густой волос назад, стала медленно спокойно расчесывать еле заметные пряди. Мысли пришли сами собой. Марселина сердита на нее, боится, что Амендралехо уйдет, она любит его. Значит, его как-то нужно задержать. Как это сделать? Как нужно так сказать, чтобы на случай если он твердо решил уйти, не пришлось его упрашивать? — она не знала. Она лишь понимала, что нужно начать со стихов,… но началось все совсем с другого. Он вошел в дверь с хмурым взглядом и заметив ее лицо в зеркале, но стоящей к нему спиной, то есть всю, привлеченный ее видением, поднял заметно просветлевший взор. Мальвази замерла под ним, хотя затем скорее инерциально продолжила водить гребнем по волосам, безотрывно глядя на взгляд в зеркале. Незаметно в ней сначала в голове, затем во всем теле загорелось тлетворной теплотой разлившееся до самых босых ступней, переставших чувствовать холодный еаменный пол. Она уже бессознательно обернулась назад, чтобы видеть волнующее как есть.
Мальвази была одно слово из многих: обворожительна, она была великолепна как девушка соблазнительной наружности, восхитительным личиком, взглядом. Ее естество или то, что называют личностью, особой, может и то, что она взаимно ответила, тоже подалась навстречу, заставило содрогнуться Амендралехо так, что он готов был и опуститься на колени, и найти на нее, и просто что-либо сделать, только дать волю движению к ней.
Первой перестала, прекратила Мальвази, томно закрыв глаза и отведя взгляд. Она испугалась, что Марселина могла видеть что было, хотя Марселины почему-то не было? Она поспешила к столу, все еще также поглядывая в глаза Амендралехо.
Первой мыслью его был испуг за письмо. Глаза его взмолились не принимать во внимание, он замотал головой. Не уезжать ему хотелось, да ему и не хотелось, а только остаться. Эти шагающие ножки, на них так хотелось припасть лицом и губами облобызать от низа до самого верха. Губы ощущали горячую теплоту ее тела. Конечно бы он ничего резкого сделать сейчас не мог, но он чувствовал что может с ней.
Мальвази взяв листок, указала ему садиться. Говорить она не стала, когда почувствовала как налились, отяготели щеки, только после произнесла.
— Хорошие стихи, это вы их написали?
— Тебе, — дрогнувшим голосом ответил ей он, и еще хотел сказать что-нибудь интимное, шепотом наговорить много этого, чтобы преодолеть завесу возникающих посторонних интересов, уводящих от той взаимности, но сзади послышались шаги входившей Марселины со звяканьем ключей.
— Сеньор Амендралехо, — проговорила Мальвази чистым приятным голосом и положила свою холодную босую ножку на его, заставив содрогнуться. — Хоть вы и ужасно сердитесь на меня, все равно пожалуйста, давайте на вы. Будьте любезны правильно ответить на мой вопрос еще раз. Эти хорошие стихи, вы их мне написали?
— Вам, кому же еще?
— А еще их сеньор Амендралехо писал Лопе де Вега. Так как прикажите вас понимать?
Она убрала свою ножку к себе и хоть с трудом, но стала им понимаема. Он спохватился, поняв в какую трясину попал, но нашел удачный ход, перейдя в нападение.
— Вы ошибаетесь, это не Лопе де Вега, этот сонет принадлежит перу другого автора.
Несколько изумленная Мальвази все же удержалась от того, чтобы не заспорить хотя слово сонет чуть не толкнуло ее на это. Не нужно было упускать инициативы, а говорить по существу.
— Если так, то почему же вы говорили, что это вы написали мне эти стихи?
— Видите ли, дорогая сеньора, ваш вопрос очень личного плана несколько меня взволновал. К тому же идя на встречу с вами я пребывал во взволнованном состоянии и может быть поэтому не уточнил что написал — переписал, потому что мне оставалось только коротко отвечать на ваши вопросы. И еще подумайте как бы неуместно звучало мое уточнение: нет это не я — это Лопе де Вега написал. Поучилось бы как будто… В общем эти стихи не он вам, а я вам написал, и точка!
— Сеньор Амендралехо, вы большой мастер выкручиваться…
— Вы бы даже посоветовали мне, если я стану сиятельным вельможей взять в свой герб угря?
— В ситке.
— О, вы должны знать, что это такое, у вас разводят угрей, не могли вы бы мне показать…
— Могу прямо здесь. Сколько бы ты не выскальзывал как угорь, все равно настанет момент попасться и бесполезно извиваться вокруг руки.
— Берегитесь, ловя не попадитесь сами с теми же последствиями.
— Это что такое? Как вы смеете? Это вы мне?
— Это эзопов язык, на который мы перешли. Это как-будто и не вам — заговорил он ее, хотя это было и не трудно, Мальвази только и ждала когда он кончит, чтобы начать свое:
— Сеньор Амендралехо, я вам строго-настрого говорила чтобы вы мне не переляпывали чужое, почему вы это делали, да еще после этого говорили, что написали мне, не уточнив что переписали?
— Сеньора, когда я получил ваше задание, сразу я отчаялся, а потом вдруг после долгих мучений мне стали приходить на ум какие-то рифмы, сначала вразброс, но потом я их легко складывал в строки и куплеты. Сложив и написав, я подумал, что это не мои стихи, но они так сильно подходили к вам, я лишь только перечеркнул их.
— Угорь! — с премилым девичьим презрением бросила она ему. — Ни одному слову не верю. Я могла бы поверить, если бы не одно обстоятельство, то с чего вы начали — с вранья, ради маленькой пользы, откровенная ложь, вы потом проговорились, не заметив этого. Вы знали и держали это в уме используя, как станет нужно. И так во всем остальном, и cо всем остальным, но с одним-то вы проговорились:
— Я ошибся.
— Да вы ошиблись и перестаньте, не надо оправдываться, я все понимаю, что все это значит!
— Вы можете не слушать мои оправдания, могли бы не слушать, если бы насчет имени поэта не ошиблись в том же чем и я. Моя ошибка это и ваша ошибка.
— Я перестала понимать о чем вы говорите?
— Вы поймете, когда возьмете в руки источник, о котором мы спорим. Я вспомнил, что прочитал эти стихи в книге, которая лежала в этой зале на столе, когда вас еще не было.
Мальвази было ушедшая в себя в сознании своей неприступной правоты, вдруг оживилась и вспомнив, обратилась к Марселине, которая тихо стояла с ключами у дверей и давно уже ничего не понимала, о чем они говорят, хотя помнила, что весь сыр-бор разогрелся из-за сущего пустяка, но так не спросила: «Помнишь, он говорил», а попросила принести из соседней комнаты книгу с золотыми застежками.
Книга называлась Сонеты, а имя поэта Мальвази торжественно швырнула по столу прочитать Амендралехо. Тот, не глядя на книгу, но глядя на Мальвази вежливо пододвинул томик обратно ей.
— Прочитайте, пожалуйста, повнимательней.
Она, видевшая что он от большой уверенности даже не читал, с удовольствием повернулась к книге, чем темпераментней она ему докажет, тем полностней будет ее победа:
— Де ла Вега! — четко и твердо зачитал он, наклонившись лицом поближе к ее застеснявшемуся лицу, отведенному взглядом от его взгляда. Ей было стыдно и становилось с этим все более хуже по мере того, как она себя вспоминала. Мальвази поднялась уйти, но молниеносно подавшись вперед, Амендралехо ухватил ее за запястье руки и сдернул вниз, заставив одним рывком усесться на прежнее место, вовсе рядом с собой. Она отчего-то так испугалась столь неожиданной резкости, может от непривычности такого обращения, может от чувствования самой силы, что оробела и сникла, не могла ни хоть как-то постоять за себя, ни попытаться.
— Доразговаривалась?.. Так кто кому в руки попался? Ты я вижу девочка с норовом, необъезженным еще. Все что угодно себе позволяешь… Не со мной!
— Бедняцкая гордость, — вдруг набравшись смелости выпалила она снова, отвернувшись.
— Прикуси язычок и закрой свой… ротик, — чуть не добавил вот какого прилагательного, но Мальвази и без того до крайности расстроенная, разрыдалась и завырывалась, в чем ей стала помогать Марселина, сразу полностью перешедшая на ее сторону.
— Это не бедняцкая гордость тебе виной, а богатая распущенность. Беги, оденься как следует, красавица, да приди сюда, объяснимся, — чуть не хлопнул он молодецки покровительственно по фигурным округлостям вдогонку, да Марселина помешала. Мальвази тем временем со слезами на глазах резвой ланью убежала в комнаты.
Амендралехо выслушал Марселину.
— Что ты натворил, она тебя выгонит за это!.. Не самодовольствуй, она тебя если захочет, к ноге быстро приставит, а потом отопнет. Извинись перед ней.
— Отопнет значит? Ну ничего, она однажды ловила и поймала.
Под улыбчивым взглядом Марселины он самоудовлетворенно расселся на стуле, раскинув руки. Ему было свое, не столько даже бахвальского, сколько он понимал наоборот, почему бедняжка так смущенно сидела. Ей ко всему прочему еще и была охота посидеть насильно рядом с чужой силой. Он мысленно брался устраивать ей такие насилия и воображением рисовал сценки, как неожиданно он почувствовал, что Мальвази, вырвавшись из его представлений одной, совсем другой подошла сзади в костюме для верховой езды с плеткой в руках.
Амендралехо сначала искоса взглянул на нее, затем как бы продолжая попытку взглянуть, повернулся всем телом к ней, все еще выгадывая то время, в которое она не могла еще возмутиться тем, что он можно сказать обнаглел до крайности и дождался, когда сидеть стало можно, когда она вызывающе резко опустила перед его носом скрученную концом вниз плетку, поднимая глаза к верху проговорив:
— Сеньор Амендралехо, я прошу меня извинить за то, что забыла вчера отдать вам ключи, а сегодня подозревала вас в лицемерии. Больше я постараюсь чтобы этого не повторилось.
— Я ваш покорный слуга, — только и пробормотал Амендралехо ей в ответ.
От той прежней девочки в легком розоватом пеньюаре не осталось и толики, и все затаенные мысли родившиеся после блестящей победы теперь как пустые кошельки остались в нем. Хотя может быть девушка представляется, они на это большие любительницы…, но девушка тем временем пока он это так думал, выдала еще такое, что не оставило в дерзателе никаких сомнений в обороноспособности ее. Оставив Амендралехо без внимания со своим вернопоклонническим мямленьем, превратившем его в покорного слугу, Мальвази цокая обитыми каблуками на сапогах, отошла к Марселине.
— Поди, скажи повару, чтобы приготовил на обед угрей. Этому сеньору, что вон там сидит… не давать.
С этими словами она звучно прошагала к дверям на утреннюю верховую прогулку.
— Не бойся, она не опасная, — прошептали ему.
— Марселина, пошли угрей посмотрим! — вместо всего того, что он хотел бы ей сказать, предложил ей это и с пылом, не терпящим упирательств, подхватил и повел ее на пруд смотреть угрей.
* * *
Уже было то, что Мальвази за обеденным столом заметила что ест не змееподобных угрей и выразила свое удивление Марселине, а той пришлось перед ней умилительно и уморительно оправдываться за себя и Амендралехо, рассказав как они долго провозились с угрями, кормили их, что им так стало их жаль… короче, они выпустили змеерыбок в большую воду. В конце у нее просилось прощение.
Мальвази замедлив темп еды лишь усмехнулась, подумав о своем: он выставил ее как хищницу.
— Сегодня оставьте его без мяса, пусть знает что говорит.
Амендралехо больно не мучился, он даже не заметил, потому что был весь во власти поэтической тяги. Ему хотелось непременно сочинить свое, и посему закусив ужином: заев чем-то сдобным и запив чем-то сладким, он устремился на открытый воздух, чувствуя, что там ему будет легче. За виллой на дорожках меж зеленого кустарного пространства ходил он, помогая этим своему творчеству. Его, если бы за ним наблюдали, можно было застать в самых различных местах, также и на песчаном берегу моря, где он в холодных набегающих волнах вдохновенья не нашел и ушел на облюбованное прежде место у амуров и психей в окружении нависавшей зелени. На удобной поверхности низенькой белой колонны греческого стиля он иногда пописывал, когда в голову приходило. Также много черкал, холодный ветерок, сдунул его бумаги. Только сейчас Амендралехо заметил как повечерело. Стало холодновато и невозможно работать, понял он это, когда поежился от холода. Вдобавок ему сделалось стыдно, что занимался поэзией он все время на виду с виллы, словно бы хотел ей показать какой он покорный слуга. Затем он успокоился и возможно надолго бы, пока не услышал далекий знакомый голос. То несомненно был голос Марселины, а ответивший ей голос был похож на юношеский.
Через некоторое время он заметил уже что Марселина в сопровождении Виттили идет по центральной дорожке, или вернее спускается к берегу моря. Поведение их было непринужденное и это-то как ни что другое заинтересовало.
Со свернутым трубочкой листком и грифелем в пальцах другой руки, он якобы прогуливаясь и при этом сочиняя, вышел с побочной дорожки на центральную. Марселина сразу заметила чью-то фигуру, при этом испугавшись.
Сойдясь, Марселина не смогла не обратить на Амендралехо внимания:
— Она опять заставила тебя сочинять стихи?
— Нет, нет и нет. Она лишь разбудила во мне беса сочинителя. Чувствуется ее работа. Я с самим собой попал в такое затруднение. Вот силюсь, не могу выбраться. Заело, не могу сочинить и пары порядочных куплетиков, отчего зол на себя, что даже поклялся поколотить самого себя шпагой, не вынимая ножен, если только не напишу. В самом деле, мне в детстве медведь на ухо наступил, как говорил мой дед.
— Ты что себе голову морочишь, выбрось это из головы. Она же тебе ничего не заказывала.
— Да нет, Марселина, — тяжело вздохнул он, отвернувшись горечно в свою сторону. — ты не поняла меня. У меня это сильно. Лучше бы она мне задала сочинить стихи, как бы сейчас хорошо было, ты не представляешь. Сейчас бы встретив тебя я услышал: пишешь для нее стихи? — Да, и это чертовски трудно войти в ее я. Кому? Что писать? Ничего не пойму. Меня она выгонит.
— Успокойся, никуда она тебя не выгонит. Выкинь свой листок и прогуляйся.
— Да?! Я так и сделаю, с тобой! Может на ум мне будет приходить лучше, чем на бумагу. Я тебя провожу, куда ты идешь?
— Так, нужно по одному делу.
— На ночь глядя? Ладно, тайна, тайна. Виттили малыш, иди спать, уже поздно.
— Марселина, идти? — озорно спросил он.
Она ничего не отвечая, уходила вниз, уже заволакиваемый тенью, а за ней следом направлялся Амендралехо. Оставленный без ответа Виттилли не долго сомневался в том, куда ему идти, конечно же туда, где его ждали друзья.
Амендралехо и Марселина продолжали молча идти и по берегу темно-синего моря, шумевшего накатывавшими волнами. Они шли по сухому вязкому песку, держась воды подалее, хотя Амендралехо вода была не страшна, он был в сапогах и когда на его удовольствие вода накатила очень сильно, он подхватил и приподнял ее собравшуюся бежать или даже прыгать.
Записки или что она несла бумажное, у нее в руке не было. Конечно же это была записка, чему еще быть, они шли влево к соседствующей с Монтанья-Гранде вилле, пребывавшей в состоянии богатой гостиницы. Ее так и звали корчма д’Эрба, а самого владельца корчмарем, за что ему за постой приходилось платить деньги и немалые, хотя и жить на вилле с видом на море словно в своей. Последнему постояльцу М., так понял, нужны были не столько морские виды, сколько вилы на Монтанья-Гранде. Сердце его ревностно кольнуло: на приезжего обращали внимание. Нужно было непременно узнать, что там написано в записке? Но как это сделать?… Лучше было даже не думать, любой способ либо грозил ошибкой и потерей авторитета, либо вообще мог ее обидеть. В таких случаях нужно просто успокоиться и ловить, если только что подвернется.
Они, перекинувшись парой слов, дошли до дорожки, ведущей на виллу, и в саму виллу. У дверей появился привратник, когда они подошли и позвонили в колокольчик.
— Мне нужно передать письмо сеньору, что сегодня прибыл из Палермо.
— Это не возбраняется, милая сеньорита. А вам что молодой человек нужно?
— Проводить сеньориту.
— Дальше провожать могу только я. Идемте сеньорита.
Амендралехо потерял языка, у которого бы мог выспросить хотя бы имя. Ему осталось остаться одному и ждать. По прошествии пяти минут заволноваться, а еще по прошествии двух очень томительных минут крайне заволноваться. Что случилось с Марселиной??? Амендралехо бросился к двери и застучал, предварительно посмотрев, может дверь открывается. Пришлось стучать и даже кричать.
После произведенного шума тишина показалась еще более зловещей, а ощущение было такое, что он услышит крик Марселины о помощи. Но через некоторое время за дверью послышались шаги и ворчащий голос привратника.
— Ну что вы беснуетесь? Ничего с вашей сеньоритой не случилось…
— Где ты столько времени была?! — налетел Амендралехо на нее, чуть только увидел. — Я так перепугался за тебя.
— Ничего, письмо… нужно было передать.
— Кому? Дай мне письмо, я ему передам и еще от себя добавлю… Сеньор, — обратился Амендралехо к привратнику. Кто у вас квартируется?
— Это тайна. А наше заведение всегда держало тайны такого рода.
— Кругом одни тайны, — недоуменно воздевая руки пошел Амендралехо вслед за Марселиной.
— Что ты волнуешься? Ничего собственно не произошло, я никого не нашла, а письмецо всего в несколько строчек неважное, можно выбросить.
— Не выбрасывай, дай мне!
— Ты ревнуешь к ней? — воскликнула Марселина, обернувшись.
— Нет, я просто не могу когда меня водят вокруг пальца. Почему, например, ты не оставила письмо у привратника, если это письмо простое?
— Потому что потому — все кончается на «у».
Все остальное расстояние по берегу и до ступенчатой дорожки они прошли под знаком письма. Одному хотелось непременно узнать что в том письме написано, другой хотелось дать ему почитать, но никто не мог ничего поделать. Наконец, остановившись на одной из длинных террасочных ступеней возле фонаря Амендралехо повернулся к Марселине, заставив ее остановиться и глядеть на него.
— Марселина, мы с тобой хорошие друзья, давай обнимемся крепко и может поцелуемся.
Не дожидаясь ответа под ее улыбкой он прищурился на фонарный свет. Камешек был под ногами. Он был поднят, метким броском разбил фонарное стекло, а сам кидавший окутал фигуру девушки руками, губами приложившись под ушко. Но не столько пухлую мягкость шеи и нежности нужны были ему. Марселина, понимая это, заложила нужную ему руку за голову.
Амендралехо вытащил осторожно из ее рукава клочок бумаги и, о беда! Света не было и невозможно было прочитать. Было уже настолько темно (стало после разбитого фонаря), что пытаться что-либо разобрать даже с его зрением не представлялось возможным. Что делать? За считанные секунды нужно было решить, ведь долго обнимать Марселину тоже было нельзя и он поступил может быть несколько легкомысленно, но единственно правильно: он оставил пока письмо у себя с тем, чтобы потом по прочтении вернуть.
Марселина пассивно участвовала в содееваемом. Роль ее главным образом заключалась в том, что она не мешала происходящему вокруг нее и по нее. Когда нужно было она не задерживалась, отойдя вперед, и Амендралехо тем временем при свете следующего фонаря прочитал:
«Сеньор кавалер де Карак! Мы всегда знали Вас как человека высокого морального долга и, признаться, очень удивлены, видя Вас на тихой вилле сейчас, когда решаются судьбы королевства».
Княгиня де Монтанья-Гранде
Прочитав сие Амендралехо зафыркался и запершился так, что Марселина шаловливо громко и звонко засмеялась, однако не оборачиваясь. Такие милые девушки как она словно созданы для того, чтобы их обманывали всерьез или в шутку.
— Марселина постой! Ты что-то обронила.
Она, вовсе расхохотавшись, повернулась взять письмо, проделав это почти не глядя. Успокоившись, Марселина помахала на прощание ручкой.
— Иди спать, не шатайся по двору.
Значит, что-то должно произойти этой ночью? Амендралехо даже знал что и был близок к тому, чтобы последовать словам Марселины, но в нем возыграли эдакие гуляжно-донжуанские чувства.
Марселина прошла в корпус, поднявшись на второй этаж в залу, где ее ждала Мальвази.
— Как дела? Ты, конечно, отдала письмо по назначению?
— Сеньора де Карака не было дома. Ни слуг его, никого я не нашла, чтобы передать Ваше послание. Пришлось нести обратно.
— А еще что тебе пришлось?
— Целоваться!
— Зачем было бить фонари? Если сеньор Метроне узнает — взыщет с обоих, и правильно сделает.
— Ах, ты подглядывала!
— Я смотрела: не вздумала ли ты сдуру пойти отнести письмецо в лапы к этому Караку. Фу, какой фат, и пошляк, отвратительный мозгляк, не хочу даже вспоминать о нем, как прицепится…
— Не обращай на него внимания, ты же не на балу, а у себя за семью стенами.
— Я не хочу ни от кого прятаться, нужно отваживать таких раз и навсегда! Скоро услышишь.
Вскоре она не только услышала, но даже и увидела, когда подбежала к окну. А дело было так, раздалось треньканье гитары и пьяный забулдыжный рев возопел непонять что. Вдруг он осекся, гитара его со звуками шлепнулась наземь. Можно было видеть, что за оградой пятеро били одного и тот барахтался у них под ногами.
Марселина заметила и шестого, похожего на Амендралехо по росту и по одежде. Он подходил осторожно сзади, словно стараясь вникнуть в происходящее, и потом, яростно сорвавшись с места, подбежал к двум ближайшим, стоящим почти без дела. Один, самый крупный в рясе получил удар шпаги плашмя по лысине на голове, а другой, в широкой шляпе — заработал сильнейший пинок по заднице, который прямо или косвенно заставил Альбертика отбежать. За ним попятились остальные. Не успели Виттили и Метроне присмотреться кто на них напал, как в пьяном гневе поднялся де Карак и, размахивая пустыми ножнами на цепочке от пояса, может быть не имея возможности оторвать с бранной руганью пошел, пошатываясь на обидчиков. Те кучей, не мешкая, смылись за деревья.
Злой как собака де Карак, не зная на ком бы сорвать свое зло, остановил взгляд на Амендралехо. В том, что спаситель де Карака вызовет в том к себе хорошее отношение не можно, а нужно было сомневаться, зная дрянную злыдную натуру такого человека, как этот сеньор. Амендралехо не мог вызвать в нем ничего доброго уже от того, что видел его в униженном положении. Хорошо было уже и то, что де Карак отвлекся на зализывание побоев. Затем, заметив помятую гитару, нашел-таки на чем сорваться, растоптав инструмент всмятку. После этого наступил момент успокоения и протрезвления от хмеля.
— Тащи меня на виллу, открывай ворота, я иду! — снова захмелев отвратно залебезил де Карак, стоя на щепках и с шатанием держась за прут решетки. А далее вообще…
— Ну ты, мурло, сбегай за моим лакеем — он лучше тебя справиться. Ну что ты стоишь! Ты что не знаешь, с каким человеком разговариваешь! Да я винкулето! Ты — понял..? Это..? — так многозначительно молвил он, что будто бы и сам испугался того кто он есть.
Очень захотелось предположить не вид ли это высокогорного винторогого козла? Амендралехо стало и не по себе, и смешно. А все вместе уравновешивалось до оторопелого вида. Действительно, нужно было идти спать, а не влезать куда не надо, в подарок заимев эдакое мурло перед собой. И за окнами, и из-за дерева им были явно недовольны.
— Ладно, бейте его, да еще покрепче, — указал он рукой резкий небрежный знак компании из пяти человек, и уже когда он отошел достаточно далеко, оглянувшись, увидел, что де Карака за руки — за ноги уносят долой.
* * *
Разогнавшись по ровному месту, перед самой оградой хлестнув своего буланого коня по кругу, Амендралехо с силой натянул вожжи на себя, точно уловив тот миг, когда это нужно было сделать. Конское тело под ним и вместе с ним стрелой взмыло вверх над шпилями металлической ограды, оставляя их много ниже под собой. Нижние ноги коснулись земли, и почти тотчас завершили лет и задние ноги, твердо опустившись наземь. Но еще некоторое время по инерции они ни за что не могли остановиться, как не пытался наездник это сделать, стараясь услышать что слух его уловил несколько мгновений раньше. Он не ошибся, ему хлопали — сеньора Мальвази де Монтанья-Гранде, видевшая взятие препятствия. Она была в нескрываемом восторге от увиденного и видимого. Высокая железная ограда со взметенными ввысь остроконечными прутами на фундаменте казалась ей если не границей мира: по ту и по эту сторону, то, во всяком случае, чем-то непреодолимым, над чем перескакивать на коне!… Она бы никогда не подумала!…Что такое вообще возможно!
Мальвази продолжала нисколько не смущаясь восторженно глядеть на Амендралехо и то как он, гарцуя на коне, не сводя с нее глаз, подъезжал к ней все ближе и ближе.
В этой стороне виллы, удаленной от прифасадного двора, и несколько прикрытой от него крылом корпуса, было сейчас после обеда безлюдно и можно было особо не опасаться за любопытство чужих глаз. Хотя вернее даже не это, а обыкновенное отсутствие посторонних привело княжну к раскрепощенности и даже, как мы увидим, — к крайней.
— Какой сильный и славный конь, — проговорила она, не сводя глаз с наездника, — все бы отдала, чтобы побыть на таком.
— Я Вас понимаю как наездницу, но ничем помочь не могу, мой, — хлопнул он своего коня, — любых не берет. Его прежде обласкать, ублажить, а потом усаживаться.
— Не беспокойся, я прекрасно обучена объезжать любых ретивцев без всяких ласок и ублажек!
— Никогда. Он Вас просто опозорит. Он женщин понимает — что это такое.
— Да ну!… Что-о?? Ах, ты!… И она, наполовину выговорив бранное слово, в ее исполнении и в данной ситуации прозвучавшее просто восхитительно, просто трогательно, и далее, вдруг так эмоционально вспыхнула и продолжила беззвучно выговаривать то, что ему можно было только догадываться по тем убийственным красноречивым гримасскам, которые она ему презренчески строила при этом.
Амендралехо уже не в состоянии продолжать смеяться не слазил к ней, а падал, не удержавшись на земле на ослабленных ногах. Но, влекомый к ней, неуверенно поднялся и пошел навстречу, ведя за узду коня.
Его обезумевший вид, в который она его привела, Мальвази льстил, и к тому же она была больше во власти игры, чем реальных чувств, которые выказывала, но и это-то как раз мешало простить ей внешне, то есть она чувствовала, что когда он подойдет — она должна ему обязательно ответить на пошлость увольнением, не иначе. И тут уже, когда она приготовилась говорить, ему осталось сделать перед ней последний шаг, конская голова, длинная и ужасная высунулась из-за плеча Амендралехо и с ржанием, оглушившим ее лизнула в подол, а потом и ткнулась. Взбудораженная Мальвази как ужаленная отскочила в сторону за Амендралехо, а вернее, чуть ли не на него самого. Конская голова с блеющим ржанием и вытянутым языком медленно поворачивалась в ее сторону.
— Уберите это чудовище отсюда!
— Еще минуту назад Вы им почти непристойно любовались. Да и сеньора, где же Ваши навыки в умении объезжать, которыми Вы еще меньше минуты назад хвастали? Надеюсь, Вы хоть мне поверите, что с такими конями иметь дело — опасно для чести.
— Сейчас же замолчите! Это Вы, развратник, научили его этим охальным штучкам. У меня он будет смирным и покладистым. Отдайте его мне, я его у Вас покупаю.
— Увы, дорогая сеньора, я этого сделать не могу.
— Десять тысяч.
— Даже подарить. Это не просто конь, а друг. Он от смерти меня спас в лихом бою. Я друзей не продаю.
— Ах, вы друзья! Два сапога — пара! Я думаю, что Вы неспроста водите дружбу с эдакими чудовищами. Еще неизвестно что за вашим человеческим обликом сеньора Амендралехо скрывается. Не скрывается ли такой же конь?
— Ой-ей-ей. Как зловеще. А ведь все так естественно, только прелестнотелые всеми мерами, всеми усилиями стараются застеснять эти чувства. Эта ставимая преграда, правда, чудесным образом исчезает, когда на нее наваливаешься и валишь. Вот тогда животные чувства принимаются, когда от них некуда деваться. А я не хочу стесняться чужого стыда. Мои плотские чувства к тебе — это мое превосходство перед твоей женской особой.
— И что у коня, и у тебя — одни и те же животные чувства? — с игривой интонацией в голосе произнесла она, улыбаясь.
— Да!
— Могу я их посмотреть, но только в конском варианте?
— Насильно заставлю!
И Амендралехо, ухватив ее за руку, тонкую и слабую повел почти бегом к близкому отсюда песочному вольеру, видному из-за конюшен, и обращенному на море. Мальвази, вынужденная бежать, задирая одной рукой подол, другой старалась вырваться. Ни слова, ни угрозы ей в этом не помогали. Она взяла и укусила руку Амендралехо. Тот с ужасом, отняв больную руку с шипящими звуками боли, взглянул на уставившуюся на него Мальвази. Что в ней сейчас происходило, он не догадывался и потому был естественен, потирая укушенное место руки.
— Я знаю, когда кошку держишь долго за лапку и тоже насильно, она, в конце концов, начинает кусать… Ты не бешеная случаем? — спросил он ее совершенно серьезно, мимолетно глянув, вырвав невоздержанный короткий смех.
Меж тем Амендралехо заставил коня перепрыгнуть через жердь и что потом им устроил, подавая разные команды, на это было смотреть совестно. Она не знала что ей и делать, и смотрела косо на вытворяемые финты и по сторонам, не видит ли кто этого срама? Амендралехо заставил коня перепрыгнуть через жердь и проделать двойной трюк прямо перед ней: усесться наземь с вытянутым языком и блеющим насмешливым ржанием. Она на это так взглянула, игранув глазами, что Амендралехо поцеловал ее на расстоянии, что, впрочем, она может не видела. Но повела себя затем так, словно бы он ее поцеловал по-настоящему. Она хмыкнула (когда конь вовсе улегся наземь, глядя и высовывая язык на нее) и, подскочив к Амендралехо, вырвала у него из рук плетку. Ох и досталось же безобразнику коню от осерчавшей девушки, Амендралехо только посмеивался, как вдруг, ни с того ни с сего, не глядя с разворота Мальвази сильно стеганула его по спине. Удар был хлесток, ошеломляющ! Он невыдержанно завшикал, потирая за спиной.
Это давно уже были половые домогательства, а он это понял только сейчас и, видя каким рассерженным взглядом смотрит на него она, подумал, что зашел слишком далеко! Нужно было как можно скорее кончать, иначе наступала гроза, в которой ему не суждено было поздоровиться!
— Драгоценнейшая сеньора! Это ужасно что Вы сейчас сделали!
— Этого Вы заслужили с вашими конскими выходками!
— Ну, это уже слишком! Я заметил, Вы все последнее время намеренно путаете меня с конем. Отчего бы это у Вас?
— Отчего? — хлестнув, спросила она его, ожидая очередной колкости.
— А все оттого, что у Вас сумасбродный ум! То, я у Вас угорь, то конь. Нет ничего более между собой разного!
— А вот Вам и за угри, которые вы выпустили нарочно. — снова хлестнула она его. Перетерпев небольшую боль, главное для вида Амендралехо подумал: что бы сделать, чтобы это бичевание прекратилось? Он поглядел на коня, который, видя что его хозяина бьют, перепрыгнул через жердь в загон.
— А трусоват Ваш дружок. — насмешливо заметила бившая.
— Не в пример меня. Вот что, я предлагаю проверить Вашу смелость не на плетке, а на седле. Помнится мне вы порывались объездить этого скакуна. Тем более что вы имеете небольшие успехи. Фарлэп Вас уже боится.
— Его звать Фарлэп? Фарлэп — это слово из какого-нибудь языка, кажется из французского?
— И что оно значит? — быстро спросил он.
— … Молния.
— О да! Да, да! У него и имя самое подходящее, какое только может быть. Это не скакун, а молния, седло — самолет. Извольте только усесться и вы испытаете такое, чего Вы еще никогда не испытывали! Не бойтесь — подбодрил Амендралехо ее все тем же заинтересованно-насмешливым тоном, за которым чувствовалась какая-то дурнота, но против чего невозможно было ни возразить, ни сделать. Перепрыгнув по подзывной команде через жердь в который раз, Фарлэп был насилу подведен прямо к княжне для посадки. Она, опасливо озираясь, вынуждена была ступить ногой в стремя и запрыгнуть в седло несмело.
До чего же быстро могла она преображаться, меняться почти в обратную сторону. Амендралехо несколько раз видевший это мог только удивляться. И ему осталось лишь молча снести то, что ему досталось от нового ее выкрутаса. Якобы хлестнув коня, чтобы стронуть с места, она хлестком задела и стоявшего ниже ее Амендралехо. И это того так стронуло, что в нем не осталось ни тени сомнения: делать или не делать. И еще к этому нужно добавить что, несмотря на то, что конь был понукнут, он не стронулся с места, так как воспринял хлесток как очередное надругательство над собой, вместо ласок и сладостей как бывало за исполнения раньше. Обои стегнутые, обои обиженные Фарлэп и Амендралехо между собой быстро сговорились, так как понимали друг друга с полужеста, с полузнака. Стоило одному быстренько почесать полусогнутыми пальцами по шерсти и указать на воду, простиравшегося неподалеку моря, как другой, все отлично поняв после дружеского понукнутия, понес наездницу к синей глади. Амендралехо только после того как отправил — заметил куда отправил и очень сильно испугался: не сбросит ли он ее на камни еле заметного над водой бассейна, построенного прямо в воде. Мгновения переживаний были тяжелы и если он не закричал остановиться, то только из-за того, что его дух и волю сковало опасение. Но Фарлэп со своим заданием справился просто элегантно. Быстро донеся сидевшую не куда-нибудь, а прямо к бассейну, не дав ей спрыгнуть, он заскочил прямо в глубокую нутрь, полную голубой воды. Но и там, не удовлетворившись тем, что до грудей намочил Мальвази, не дав ей слезть самой, подкинул ее от себя. Она, совершив небольшой кувырок на спину, упала в холодную воду. Встав на ноги, она увидела, как жеребец в легком прыжке выскочил из воды, и как под струями стекавшей воды совершенно преобразился его вид.
Выучке Фарлэпа можно было только удивляться, он делал и лучше, и больше, и наделал: холодное время года, а он ее с головой искупал. Отправляя Амендралехо думал, что Фарлэп просто провезет ее в каскаде брызг, извергаемых из под своих ног, как это делал с ним, стоило его только поскрести.
Княжна Мальвази, промокшая и продрогшая, шла по песку у самой кромки воды в сторону корпуса. Ну и вид у нее был, конечно, что называется подмокший. Платье из легкой материи, смотревшееся пышно сухим, сейчас же комично облепляло ее тело. Не в силах было сдерживать смешок, смотря на то, как она, не глядя в его сторону, устыжено уходит прочь. Вместе с этим ему захотелось дать ей определение какое она вызывала… И его как озарило — мокрая кошка, до чего же смешное видение, и его она собой представляла! И все же эта кошечка могла потом коготочки свои выпустить, сказав своим сбирам…, которые может быть у нее и были. Что она предпримет в отместку?
Амендралехо даже почувствовал себя бессильно и жалко перед ней.
* * *
— Ты что как цуцик промокший!? — удивленно закричала Марселина, когда увидела Мальвази какой она вошла. Бледная, или даже синяя от холода, мокрая и злая. Услышанное от Марселины вконец вывело ее из себя.
— Ну все, с ним нужно кончать, — стукая зубами со сжатыми кулачками выговорила она.
— Это он тебя в воду плюхнул?! Как ты могла такое допустить, уже же так прохладно, а вода такая холодная. Ты же заболеешь. Иди скорей прими ванну.
— Марселина, ты знаешь где то письмо, которое я писала герцогине Неброди? — озабоченно спросила Мальвази, идя вслед за служанкой.
Очень скоро, на удивление Марселины, приехала Климентина, которая как будто уже знала что произошло, но все равно приезд которой напоминал прилет любопытной сороки, коя ни что не оставляет без внимания и все хочет знать! Они очень быстро сговорились между собой, порешив поступить так-то и так-то, и еще Мальвази прихорашивалась, как ее Марселину отправили за Амендралехо. Марселина никак не могла вмешаться в разговор и попытаться хоть сколько-нибудь заступиться за виновника, хоть ей очень это хотелось; но она не могла, потому что боялась, слишком сильным казалось ей то, что произошло и она не находила в себе силы воли возражать против этого. К тому же она была очень занята по привидению синьорины в порядок. Марселина единственное, что могла сделать — это, уходя незаметно приостановиться, подслушав крайне важное, как ей показалось. И она пошла, подумывая как выполнить некоторые свои намерения.
Амендралехо она нашла там же, где он и был — на конюшне. Только теперь уж он ей показался испуганным, подавленно чистящим своего коня щеткой. Он даже не обратил на нее внимание, и она понимала почему.
— Что ты наделал?
— А я!? Я почистил коня, после того как наша сеньора изволила на нем искупаться. И я еще могу сказать: не такая уж она недотрога как представлялась. Так уж она ко всем неравнодушна?
— Она ненавидит любого кто пытается домогаться ее чрезмерно. — проговорила Марселина, глядя ему в глаза.
— Это еще неизвестно.
— Это еще мы посмотрим — хотел ты сказать? Тщетно. Твое неравнодушие уже замечено и тебя собираются не просто наказать, а заменить Пакетти.
— Ах, ах, наказания, не выгоны, а замены. Да я сломаю ее, стоит мне только захотеть, можешь ей так и передать, и не такие были. А к ней я ничего не чувствую, ты мне во сто раз милей и дороже.
— И ты мне… Я больше всего не хочу, чтобы она тебя выгнала. Попроси у нее прощения, останься. Куда ты отсюда подашься?
Марселина хотела уговорить Амендралехо идти извиниться, так чтобы он пошел не зная что его звали и придя не выжидал зачем его позвали, а пришел с сознанием того, что он пришел просить прощения и первым начал. Но ничего-то у нее не получилось, это могло бы получиться, разве что между женщинами, но не с мужчиной, и тем более гордым. И ей пришлось сказать что его зовут, напутствовав словами к снисканию прощения. Сама же Марселина направилась в другую сторону и, держась садовой дорожкой берега моря, прошла в ту часть чудесных владений виллы, где сад, становясь преимущественно кустарным, просеченный террасочной дорожкой, плавно спускался от задней стороны корпуса к морю. Здесь она думала найти Пакетти.
С тех пор как Пакетти — крепкий, славный малый был удручен своей неудачной страстью к красавице Марселине, ветреной в отношении к нему, он насупился и приналег на свою садовничью работу и его наверняка можно было найти за работой. Но Марселина заметила его не в зелени, а возле берега у площадки бутафорских белогипсовых развалин под вид древнегреческих, хотя и там он сидел, занимался какой-то работой с садовым инструментом. Рядом же была яма с растительными отбросами. Он сидел с дремучей тоской и как увидел ее, Марселина заметила, сразу изменился, засмущался и оробел. Она это поняла, как то, что его чувства к ней не совсем еще прошли и захотела забить их еще более тем невидящим непонимающим видом, каким всегда расслабляющее воздействовала. Знала бы она что нужно-то ей было всего что недовольно топнуть ножкой и с бесслезным хныканьем потребовать перестать думать об этом, что ей сейчас не до этого…, как он бы тут же успокоился, потому что терзания его были и есть только самолюбивого плана с возможным уклоном на ревность к некоему другому. Но Марселина совсем не хотела о нем думать и разбираться в нем. Она лишь поступала с ним как посчитала правильным однажды.
— Сеньор Пакетти, можете ли Вы оказать мне большую услугу?
— Всегда готов.
— Можете ли вы запрятаться так, чтобы Вас не могли найти ни сегодня, ни завтра. И Вы если услышите, что Вас кличут, не отзывались бы на зов посыльных?
— Мне это нетрудно. Погода на море стоит хорошая. Я сяду в свою лодочку и отплыву подальше от берега, так что меня не станет видно. А на ночь вернусь и спрячусь в стоге сена. Там у меня укромное место. Следующий день я проведу весь в море: с самого утра и до позднего вечера. Вот только мне нужно позаботиться о еде.
— Я вам принесу и спрячу в стогу, — успокоила она Пакетти. — Вот только как бы с Вами в море не случилось что-нибудь. Вы можете заблудиться на обратной дороге к берегу.
— О нет, я буду сравнительно недалеко от него, а мою лодочку не будет видно, она цвета морской волны. Вечером же мне маяком будет служить свет в окнах, и я буду по нему возвращаться. Ну, так что, только сегодня и завтра?
— Да, и еще, если Вам будет это не трудно, послезавтра не попадайтесь особенно на глаза.
— Я найду заросший уголок для работы. Значит я прямо сейчас исполняю вашу просьбу?…
Марселина проводила его взглядом, затратив времени столько, сколько смогла выдержать для приличия, а после, торопясь пошла по дорожке в корпус, ведь она хотела еще успеть попасть на разговор Мальвази и Климентины с Амендралехо.
Марселина очень торопилась успеть пораньше попасть на разговор и потому, когда она вошла в залу, почувствовала, что запыхалась и попытавшись уняться, чтобы за ней этого не заметили, еще больше разбередила в себе эту немочь. Но ей можно было не волноваться, никто о ней ничего не мог подумать из тех, кто мог, обе девушки во фронт давили на слабо отвечавшего им Амендралехо. Правда, понять о чем именно они говорили было трудно, не зная начала разговора, что-то о нравственности. Значит, грозу он сумел отвести от себя и сейчас принимал капельки дождя, который неожиданно, но мог разразиться в ливень, и потому ему приходилось внимательно выслушивать каждую, потупляться робким взором.
Неожиданно разговор в том же тоне перешел на конкретные вещи. Стала говорить сеньора Мальвази:
— И, сеньор Амендралехо, это еще не все.
Она сделала томительную паузу за тем, чтобы отыскать взглядом то, на чем хотела остановить внимание. Взяв со стола цепочку серебряного цвета, она подала ее Амендралехо.
— Это было бриллиантовой брошкой. Благодаря Вам крепежка сорвалась, и все бусинки упали в воду. Соберите их все до одной и отдайте моему ювелиру на починку. И, сеньор Амендралехо, из-за вас это случилось, никто другой в этом не виноват, кроме Вас и никто другой, заместо Вас не должен искать эти бусинки. Я так хочу. У Вас вопросы будут?
— Дорогая сеньора, возможно, мои поиски завершатся неудачей. Может быть лучше будет, если Вы соблаговолите принять от меня в подарок новую бриллиантовую брошку, а старую забыть?
Получилось так, как будто он сказал: о старом забыть.
— Нет, я не хочу от вас принимать такие подарки, я хочу ходить в своих украшениях.
— Но что, если я их не смогу найти?
— Как Вы это умудритесь, когда они там, на дне бассейна…
Однако, предложение сие произвело небольшое впечатление на обоих девушек.
Значит, она его не пошлет с письмом, подумала Марселина, и также как незаметно появилась, также незаметно исчезла за дверьми — скорее успеть остановить Пакетти, потому что его потом два дня невозможно найти будет. И еще третий день будет прятаться.
Амендралехо, учтиво откланявшись, ушел минутой позднее, про себя усмехаясь всем тем глупостям, которые развела эта идиотка сеньора.
Не собираясь следовать ее наказам и чувствуя во всем этом большой подвох, он, проходя мимо столовой залы, возле дверей которой час назад встретился с сеньорой Мальвази, зашел за дверь вовнутрь. Выбор пал на малыша Детто, который ходил в пажах у Мальвази и слыл большим проказником. Малыш Детто сидел в столовой в полном и тихом сопящем одиночестве перед подносом торта, который планомерно по кускам поедал. Он сидел еще при сеньоре Мальвази и к данному моменту торт ему порядком опротивел.
— Ну и что напихиваешься сидишь? Пузо лопнет. Пойдем со мной — аппетит нагонишь.
— У-у. Я не хочу уходить от торта. Ты прикарманишь его себе.
— Идем, я тебе говорю, полазишь, придешь — дальше сможешь есть. Сейчас же уже не лезет, а ты давишься.
— Где лазить? — сдался Детто, вспомнив такое заманчивое предложение и через пару минут он стоял в одних штанах на бортике бассейна, дожидаясь пока Амендралехо скажет ему нырять. Его черные от загара плечики делали его похожим на мавритенка.
Амендралехо оставалось только сказать деточке походить босыми ногами по дну нащупать камешки, ответить может быть на вопрос зачем — дно чистить, но тут к вящему своему неудовольствию он краем глаза заметил, что по берегу идет она. Это было просто неприятно — попасться в самом начале, когда еще было свежо, и то что она опустилась до того, чтобы лично проследить, затушевалось именно этим.
— Не стыдно тебе, ребенка заставляешь лезть в холодную воду. Ему же будет с покрышкой! — устыдила его Марселина, которую он спутал с Мальвази.
— Ничего, я купался уже здесь! — задорно прыгнул в воду Детто и с содроганием вскрикнул.
— Ты что, дурачок, иди сюда ко мне, вылазь скорее, — заохала Марселина, а Амендралехо почувствовал себя в положении большого дурака, загнавшего малого. Мало ему одной, он и мальчишку сюда же — так и сказала Марселина, вытаскивая Детто.
— Ты что, в самом деле поверил что она тебе наплела про брошку?
— Ни черта я не поверил этой дуре!… Но хоть вид подать нужно же?
— Дождись отлива, вынь затычку, слей воду — и вот тебе все дела. А ребенка оставь в покое.
— Она в самом деле это придумала, мне можно даже не смотреть?
— Тебе и посмотреть лень. Ничего этого и в помине не было. Ей нужно было найти зацепку. Сначала она хотела использовать письмо, потом, значит, придумала лучше — брошку, которую ты должен будешь нырять, и собирать со дна. Ты не догадался.
— Это в отместку?!
— Ну, ладно, с этим можешь ты мне помочь?
— Наверное.
— Что, наверное?! Это я ради тебя все устроила, тебе и расхлебывать. Сегодня поздно вечером сходи на сеновал к Пакетти. Отнеси ему еды, я приготовлю. Да и, он будет там прятаться, скажи что больше не нужно прятаться. Амендралехо ничего у нее не спросил, но с интересом поглядел на нее. Всю вторую половину дня он провел у бассейна, а, вернее, у накатывавшейся морской воды под теплым, но негреющим солнцем, пока оно не зашло, а бассейн не иссох от последней влаги. Захватив ужин, который уже опять измененно им с Пакетти вместе для установления дружественных отношений приготовила Марселина, решил пойти поужинать вместе с ним. Минуту спустя она нашла бутылочку вкуснейшей наливки, которую до этого пробовала и, желая доставить приятное мужчинам, пошла отнести им. Когда она пришла — потасовка между ними у разваленного сарайчика со стогом была в самом разгаре. Это в общем-то начал первый Амендралехо своими грубыми дозывами, не щадя затаенное самочувствие прячущегося, и затем начав пинать утлую надстройку до того, что она покосилась, а затем съехала вниз, сняв верхушку покрываемого стога, которая по-видимому даже вместе с Пакетти и завалилась… Амендралехо и сам не понял зачем он пнул по жерди в последний раз, когда перед тем почувствовал, что она начинает заваливаться, и пнул от чего-то еще яростнее. Несмотря на полный разгром, чтобы не подавать виду Амендралехо вдобавок в том же тоне крикнул, применяя те же обидные слова: и вылазь, и не нужно больше прятаться, и жрать. Понятно, Пакетти обозлился на этакую бесцеремонность и даже грубость, хотя и ему, даже несмотря на то, что он подумал над ним жестоко надсмеялись, не могло быть никакого прощения: так внезапно выскочить и налететь на человека, принесшего ему еду с толстоватой жердиной, и не дав ему опомниться, начать бить — это не лезло ни в какие рамки представлений о Пакетти, почему Амендралехо и не успел ничего понять, благо еще первый удар пришелся ему в поднос, а против второго он успел сообразить закрыться подносом. Амендралехо ему явно представлялся теперь злым соперником, который отводил от него Марселину и сейчас издевался над ним.
Конечно, нужно было бить, не слушая никакие отговорки. И неизвестно сколько бы это продлилось и чем закончилось, если бы не пришла Марселина и своим криком не остановила бы Пакетти.
Тот, увидев ее, окончательно уверовал в то, о чем ни Амендралехо, ни Марселина даже не догадывались, приняв произошедшее за буйный нрав и то, что Пакетти разрушили этот сарай.
— Ух ты, какой злющий! — удивленно проговорил Амендралехо, как ни в чем не бывало.
— Ну, так тебе и надо, что домик твой развалился.
Он был бесподобен в своем роде и Марселина импонирующее улыбнулась ему.
* * *
День следующий выдался с самого утра пасмурным и преддождливым. Лежа в постели ему даже не хотелось вставать, хоть и очень неловко себя чувствовал на узкой постели под одеялом среди стеллажей книг. Они были высоки, темны и зажимали кабинет до вида узкого коридора, кончавшегося к счастью дверью. Потому что, если бы двери не было, дальше бы шла библиотечная зала, заглядывавшая бы сюда не стеллажом, а книжным хребтом до самого потолка, отчего бы ночевавшему внизу было бы абсолютно неуютно от этого и от единения с захожим местом.
…Но нужно было вставать и убираться отсюда, и из библиотеки вообще, неровен час — сюда могла прийти та самая, встречи с которой он так не желал хотя бы этот один день после вчерашнего. Ей, наверное, уже донесли уже про малыша еще вчера, но вчера он, прикрываясь тем, что его отправили к бассейну, весь день провел там, куда она не могла прийти. Сегодня тоже не нужно было попадаться на глаза.
Амендралехо встал, быстренько оделся и вышел из кабинета. Первое, что ему бросилось в глаза — это выбор между выходом в срединную часть здания, где могли быть люди и его могли окликнуть, и… окном. Окно потянуло его к себе еще и потому, что ему хотелось поглядеть что творится во дворе. Окно глядело на заднюю часть двора и посему Амендралехо, кроме того что небо затянуло матовой пеленой, моментально заметил, что у конюшен происходит работа по снаряжению или, наоборот, разнузданию кареты от коней. По идее, если утром, то карету княжны были должны снаряжать: она никуда вчера не уезжала и это была точно ее карета. Но и приглядевшись он ничего не понял: вроде распрягали, может на время дождя? Куда она собиралась ехать? Нужно было непременно узнать. Невзирая на высоту второго этажа, Амендралехо открыл огромную створку окна и занес ногу на карниз, как вдруг далеко за собой услышал:
— С каких это пор Вам надоело пользоваться дверями, сеньор Амендралехо?
Это была она! Она все видела и понимала. Она поджидала его, когда он встанет с постели прямо здесь в библиотеке. Амендралехо заторможено обернулся и глянул в ту часть залы, в которой за столом сидела княжна Мальвази, которую он не заметил.
— Я очень извиняюсь, что оставил вас без внимания. — с поклоном проговорил Амендралехо. — А что касается окна — я премного прошу Вас не брать это во внимание. Просто захотелось с утра эдак хорошо встряхнуться, ведь кто знает что день грядущий нам готовит?
— Да. Вы это правильно делаете — бодритесь. Я намерена вас отчитать, прежде всего, закройте за собой окно.
— Давайте, я приготовился. — повернулся он от закрытого окна.
— Прекратите немедленно поясничать. И ответьте мне: вы и дальше собираетесь вести себя тем же образом?… Сеньор Амендралехо, мой дом не место для Ваших шашней, вдобавок с дебошем.
— Ва-ау! Шашней каких — Любовных? — если я правильно понимаю это слово. Ва-ау! Как предусмотрительно, что Вы прежде, чем сказать мне такое, приказали мне закрыть за собой окно — я не разбил себе шею. Это же надо в чем меня подозревать! Я догадываюсь с Марселиной? Чистые дружеские отношения так опорочить! Она не удержалась от того, чтобы доставить мне приятное, и вот что вышло!
— Почему сенник оказался весь разваленным?
— Это буйствовал Пакетти так, что чуть меня не отдубасил. Вызовите его — спросите! Но не наказуйте. Я его простил, он просто не то хотел сказать!
— Аха! — тихо произнесла она, подумав за этим, что уезжать нужно ей и она правильно сделала что собралась.
— Сеньор Амендралехо, принесите, пожалуйста, письменный прибор. Мне нужно написать письмо герцогине Неброди.
— Новое? У меня сохранилось старое, если Вы желаете я его принесу и Вам его останется только продолжить…. правда, не будет стихов. Хотя, я за это время сочинил…
— Оставьте, не надо. Герцогине сейчас не до стихов. У нее умер близкий друг — князь Сан-Кальтадо. Я тоже за нее очень расстроена, поэтому попрошу Вас написать то, что я продиктую, пожалуйста, скорописью.
— Ох, сеньора! — вздохнул, уходя Амендралехо. — Хочу очень вас попросить не разглашать о моем умении писать чертиками. Не то может статься это дойдет до ушей епископа Трапанского и его Высокопреосвещенство как в старые средневековые времена сожжет меня на костре.
— Это последний раз, сеньор Амендралехо.
Оттенок прощальности послышался в ее голосе и Амендралехо зашел за дверь, направившись по кабинету в мрачном расположении духа. Он понял: она рвала с тем, что против ее воли зародилось и рвала, может быть, очень безжалостно. Но еще оставалась надежда, что все это не так: ему показалось. Этого не должно было быть!
Он наметил спросить ее об этом и поговорить, но когда он вышел к ней, то все его устремления ушли, соприкоснувшись с холодным видом княжны. Да и то сказать, что она княжна, великосветская княжна, с которой такой бы интим кончился плохо, и возможно даже жестоко, стоило бы ей только высказать свое недовольство окружению сверху.
Амендралехо безразлично писал почти все говоримое, успевая записывать обыкновенной прописью. Затем, когда он все переписал каллиграфическим почерком, подал ей на подпись. А она уже сама заложила листок в пакет и заклеила язычок клеем. По краям этого язычка аккуратно проставила тушевые клеммы знака «S».
С письмом было покончено и ему оказалось следовало то, что он и подозревал, нужно ехать отвезти его, да не куда-нибудь, а на тот конец Сицилии в Рагузу, Сиракузы или Кальтаджироне, в зависимости от того, где будут хоронить князя, и там найти герцогиню. Не было ничего хуже! И как же ему не захотелось отправляться по ее поручению, хотя и это уже давало надеяться: она отменила поездку и посылает его. Только это давало ему силы встать, после некоторого промедления, взять письмо и тронуться к выходу. Собираясь обернуться, чтобы попрощаться или высказать свое неудовольствие, попытаться перепоручить это кому другому, он не знал, но не успел он что-либо сказать и только взглянул на княгиню, как услышал от нее:
— Сеньор Амендралехо, Вы не держите на меня обиды за то что я била Вас плеткой и часто была с вами невежлива? Расстанемся друзьями…
О, это было уже верное расставание навсегда, обдуманное и твердо решенное; против него уже ничего нельзя сделать. Амендралехо уходил с нехорошими предчувствиями, пытаясь разогнать дурноту быстрой ходьбой по коридорам к выходу и к конюшням, скорее разузнать о том, что все же происходит?
Еще издали он видел уносимые чемоданы из багажа кареты. Марселину ему удалось найти внутри самой кареты, наводившей там чистоту и свежесть. Ее ответы на его горячие вопросы не дали прояснения, а еще более затуманили ситуацию. Сеньора княгиня собиралась сегодня куда-то уезжать, но отменила решение когда к ней примчалась Климентина, вся в слезах — сбежал Альбертик вместе со своими друзьями и сейчас неизвестно зачем будут использовать карету: для уезда, или погони. Больше она ничего не могла сказать, хотя и интересовалась конечно же куда Мальвази собралась уезжать?
Что было делать? Оставалось только то, что садиться на коня и поезжать, несмотря на все предчувствия совершаемой трагедии. Фарлэп стоял уже кормленый и поеный. В минуту взнуздав его, Амендралехо подъехал к берейтору справиться о карте дорог. Тот ушел и принес ему через некоторое время рисовку от собственной руки, вполне понятную и удобную для пользования. Держа и рассматривая эту карту сицилийских дорог Амендралехо так же и поезжал верхом. Но не смотрелось ему на карту, его взгляд тянуло к окнам, недалеко от которых он проезжал. Даже капельки дождя, поминутно падавшие на лицо нисколько не отвлекали его от желания увидеть хоть в одном из окон лицо ее, смотрящее на него… Но ничего он так и не заметил, сколько ни вглядывался, и сердце его наполнялось неистерпимой тоской по ней, трагической натуре женщины однолюбицы, опустошенной и закрывшейся от первой любви. Если бы только она хотя бы провожала его взглядом, он бы мог тогда броситься к ней и быть может все изменить, но видно все шло к тому, к чему шло, и ему не в силах было это изменить. Нужно ехать.
Дождик слабее слепого дождя продолжал накрапывать, грозя уничтожить чернильные подробности рисованной карты. Неожиданно на ум пришло прояснение и вместе с этим чувство морального облегчения, быть может он мог еще поймать герцогиню в пути, но самое главное даже заключалось в ином!
Тридцать пять раз по тысяче и будут Орлеанские ворота!
* * *
Вечером скрипнули открываемые ворота, послышался конский топот, медленно приблизился ко входу под балкон усталый изможденный Фарлэп, еле держащийся на ногах. Наездник привстал на ноги и ступив на седло подпрыгнул, уцепившись руками за основания балконных перил. Но видно не спроста конь под ним пошатывался. Ездок и сам устал не меньше, и как следствие этого оказалось неподрасчитал своих сил. С большими и последними усилиями ему удалось только закрепиться локтями, большее он не смог и сорвался.
Сеньора Мальвази, от начала до конца наблюдавшая за происходящим, когда руки карабкавшегося сорвались, сменила гнев на милость и даже немножко испугалась за неудачника. Отвернувшись от стеклянной двери на балкон к Климентине, которая смотрела в соседнее окно под балкон и не выказала никаких испуганных эмоций, Мальвази улыбчиво и в то же время строго произнесла:
— Вернулся. Посмотри, что он будет говорить в свое оправдание, если он конечно вообще намерен говорить.
Но как ни странно Амендралехо, появившись в дверях, сам нарывался на разговор. Большая усталость, выглядевшая правдоподобно, была неплохой завесой, но лучше бы ему было не появляться, потому что часто уж сеньора Мальвази терпела от него поражения, почему как раз и захотела использовать слабость противника, на его же пользу, как подумала она. Нужно было, чтобы начал он, а от этого уже строить нападение. Так она неосознанно думала, нисколько не смущаясь его развязным видом, он же был не пьян. И сеньор Амендралехо начал: как полагается — поклонившись, и, не удержавшись, чуть не завалился наперед, еле выровняв положение.
— О, если б вы знали, сеньора, как я устал.
— Да, я вижу, ваши обязанности и особенно, мои поручения вас доконали, поэтому я вас освобождаю от вашей обременительной должности.
— Но почему? — слабо запротестовал он.
— Потому, что вы не справляетесь! — твердо и громко произнесла она, — Кладите письмо на стол и ступайте — отоспитесь, где вы спали раньше. Пока еще ваше место никто не занял. За расчетом придете потом, а точнее уже завтра, сегодня я не хочу вас видеть! Бедной герцогине, может быть, так нужна моя поддержка, она написала мне, а я из-за вас потеряла целый день, самый важный! Когда вот теперь письмо дойдет до нее? Когда будет поздно!
— Сеньора, я не понимаю, о чем вы говорите? Никуда больше ничего отправлять не нужно, это уж пожалуйста. Вот письмо, которое герцогиня отправила вам обратно.
Говорил заплетающимся языком Амендралехо, конечно так, что его самого-то на том, что он говорит, понять было трудно, говорил намеренно нетвердо, а подавал все то же письмо в пакетике с синими клеммами, проставленного по язычку «S».
— Ты видишь, что он придумал?! Вознегодовала Мальвази, взглянув на Климентину, — Герцогиня вернула мне письмо обратно, не прочитав! Она же была в горе, он рассудил, и вдобавок к этому, чтобы съездить на другой конец Сицилии и вернуться обратно в тот же день — нужно очень устать. Убирайтесь отсюда немедленно, иначе я прикажу слугам, чтобы вам отвесили хороших колотушек, вам и вашему чудесному коню, на котором вы туда ездили.
Расстояние до того края острова казалось таким запредельным, как другой стороной света. Тут и Климентина с недоброй усмешкой взглянула на Амендралехо, но особенно стрельнула в него глазами Мальвази, так что тот, пораженный этим не столько от презрения, сколько от самих глазищ растроенно и обидчиво зарыдал, слабо протянув на нее руку.
— Сеньора, вы всегда так злобно на меня распаляетесь, и зря! Почему? — Я привез письмо от герцогини, все за один день, совершил невероятное, а вы, не разобравшись, легко и просто подвергли меня таким оскорблениям. Как мне тяжело принимать это от вас, если б вы знали!
Растроганная до самого сердца, Мальвази, устыдившись и раскаявшись, стала подходить к Амендралехо, растроганно произнеся просьбу о прощении.
— Нет, это уже было! Я не могу, не смогу уже простить при всем своем желании. Горечь обиды навсегда останется во мне. Если вам действительно нужно то, о чем вы просите, то вам нужно сделать что-то необыкновенно искреннее — поцеловать! Раз пять, я так это хочу от вас почувствовать.
Услышав последнее, что сказал Амендралехо, Мальвази сразу остановилась испуганно и, взглянув на него, но затем, отведя взгляд, несмело молвила:
— Давайте поцелуемся.
До чего же хорошо было с ее позволения взять ее тело выше пояса в руки и прижать к себе, а затем взять ее губы своими губами и, придавив еще сзади аккуратно убранную в прическу головку, страстно предаться пылкому поцелую, кончившемуся резким отнятием от немоготы. Он подержал ее еще некоторое время щека к щеке, прижатой к себе, с упоением придаваясь и этому удовольствию.
— Ты никуда не станешь уезжать, ведь так?
— Так. Сегодня приехал Чичисбей и решительно настоял на этом, — ворковала она ему под ухо томным голосом испытываемого наслаждения.
Потом, через некоторое время еще и более эмоционально, закончив негу и взглянув на нее умоляюще, попросил:
— Мальвази, милая, еще четыре раза.
— Хорошо, хорошо, завтра в пять-шесть часов за конюшнями. Иди отдыхать, уже закат, не то завтра опоздаешь.
Мальвази взяла у него пакет и отправила рукой, проводив взглядом.
Затем она раскрыла пакет, доселе прорезанный по верхнему краю, и достала листок с письмом от герцогини. То был несомненно и ее почерк, и ее слог, и Мальвази углубилась в прочтение небольшого письма.
Прочитав на два раза, она заложила листок обратно, стараясь развеяться от печальных мыслей, что пришли в ее голову.
— Климентина, дорогая, тебя никто дома не ждет. Переночуй у меня.
* * *
Раннее, туманное утро, когда еще только светло, но восхода как такового еще не видно. Холодная свежесть утра заставила вышедших на балкон девушек зябко поежиться всех троих. Кроме того, несмотря на то, что находились они на балконе задней стороны здания, глядящей на сад и частично на море, где никого не могло и не должно было быть, они все равно стали внимательно осматриваться: не смотрит ли на них кто, словно бы стеснялись того, что они придумали. Марселина принялась надежно завязывать конец шелковой веревочной лестницы, и затем спустила ее вниз.
— Не понимаю, куда в такую рань можно пойти, уж не купаться ли? — вспомнила она неумно, что выглядело почти вызывающе для Мальвази, одетой в костюм для верховой езды и шедшей на конюшни амурничать по обещанию, отчего ее естественное желание находилось за этим предлогом в скрытом и скрываемом положении, и потому ко всему, что хоть отдаленно напоминало намек, отношение было подозрительное. Она, уничтожающе взглянула на распускавшую язык Марселину:
— Нет, не купаться… Кататься!
Мальвази с недовольной живостью перекинула ногу за перила и стала легко и быстро слезать. За ней осторожно стала слезать Климентина в пышном, мешавшем ей платье. После нее Марселина забрала веревочную лестницу к себе на балкон, начав отвязывать, а Климентина с Мальвази пошли сначала по дорожке к морю.
На конюшенном дворе было тихо и пустынно, только шум от приливной волны. Ворота самой большой конюшни, где находился Фарлэп, были наглухо закрыты, и поэтому Мальвази, а за ней все более отстающая Климентина, пошли за угол на заднюю сторону длинного строения. Там сразу можно было заметить открытую дверь, куда и направилась Мальвази, не забыв при этом незаметно, но хорошо осмотреться вокруг, чтобы не получилось ей выйти обратно и при встрече с ним выглядеть ходившей за ним. Климентина за ней не пошла, оставшись караулить недалеко от дверей в выжидательной позе.
Мальвази не оказалась в неловком положении и в конюшне, когда она нашла того, кого искала. Более того, она застала Амендралехо в таком положении, что невольно усмехнулась, но про себя решила не насмешничать над ним, точнее над ними. И Амендралехо, и, что особенно дополняло смешную картину, Фарлэп, лежали один недалеко от другого, в одном загоне. Хотя ее покорный слуга выбрал себе укромное место в углу досочных бортов на сене, покрытом одеялом. Конь же, видно смертельно устав, до сих пор обессилено и разнузданно лежал, раскинув ноги по полу. Его тело передергивали судороги усталости.
От стука каблуков подходившей о досочный пол, спавшие одновременно пробудились, и если Фарлэп вяло встал на ноги, то Амендралехо не удосужился даже приподняться, так и продолжив растянуто лежать, только заложив одну руку за голову, другую протянув к морде коня.
— Так-то вы меня встречаете, как обещались? И — фи! Где вы уснули.
— Мне нечего стесняться ни того, ни другого. Сон при поддержке усталости сами взяли меня там, где взяли.
Амендралехо подтянулся рукой ближе к морде коня, но тот отнял ее в сторону.
— Обижается, сильно замучил я его скачками.
Мальвази сделала несколько шагов, чтобы пожалеть бедное животное, но не успела она сделать последний шаг, как была испугана резким говором Амендралехо:
— Осторожно, не трогай, укусит! Он тебя не любит!
Она, испуганно отскочив от коня к Амендралехо, очень недовольная последними словами, легонько пнула его в руку.
— Это ты его приучил!
— Ничего подобного, это просто такой умный конь. Он все понимает. Природа его наделила сверх и умом, и силой.
— Ну почти как тебя, — поддразнила она его, глядя на него вниз в лицо, почти рядом с которым находились остренькие носочки ее сапожек.
— Ты говорил, Фарлэп тебе жизнь спас?
— Он за нее дрался как зверь!… За мной гнались четверо. Я был ранен и упал. Первый же подъезжавший басурманин, слез и, вынул саблю, чтобы срубить мне голову, но посчитай, сам без нее остался. Фарлэп ему копытом буквально провалил башку. И дальше пуще, слезть им не дает, на дыбы встает и копытами всех подряд: и коней, и самих их бьет. Решили они не связываться, потом видно подъехать собирались, меня за мертвого посчитали. А я и был, считай уже при смерти — кровью истекал, жажда замучила. Не знаю, как поднялся и перевалился в седло, но только помню, потом свалился в воду. Не знаю, что это было, но освежился так, что надолго потом хватило. А потом все пески и пески, если бы не ночь и если бы конь такой, выносливый не был, верно бы погибнуть там же, где и Фарлэп бы слег. Но выжили и, как видишь, снова в христианском мире.
— Что вы в мусульманском мире делали такое, что оттуда пришлось бежать?
— А бежать мне оттуда нужно было. То что я умел, меня за это оттуда никогда не выпустили бы.
— Что вы умели?
— Я был мастер по женскому делу. Хотя по идее я себя считаю ученым.
— И то и другое объясните?
— Есть самые разные науки, почему бы не быть науке о женщине и мастерству по обращению с ней.
— Ну-ка покажи, на что способно твое мастерство?
Не успела она договорить, как Амендралехо, загнув ее ногу и поставив на колено, схватил ее руками. Один верный рывок, и она, обогнув его тело, ушла на лежку под него, еще на лету крепко схваченная на поцелуй. Но тут его мастерство дало сбой, точнее допустило переволнение и ошибку. Это был почти провал: так сильно цапнуть ее в мягкое над поясом, что она дернулась и сорвалась и от поцелуя, и от приводящей бессознательности. Поцелуй кончился теперь же, но можно было осторожно использовать ее испуг, и Амендралехо, полулежа на ней, аккуратно расстегнул застежку на жакетке.
— Ну что такое, тебе разрешали? Убери руки и слезь. Закончились и последствия второго поцелуя. Но все равно он добился больших успехов, уже на второй раз и чуть не взял!
Она вставала, что называется, вынимаясь из-под него, и, вскруженный от успехов, он несильно поддал ей ногой по заднице вослед, что, может быть, было немножко пошловато, но очень хотелось. Ну, конечно, ее ответная гримаска была на это как на пошлость и более того:
— Сеньор Амендралехо, почему вы меня пинаете? Это есть ваше мастерство, которым вы хвалитесь?
— Сеньора, вы намеренно путаете это с поддатием, будем опять ссориться?
— В том нет необходимости, я просто заранее предупреждаю вас, что, если вы продолжите вести себя со мной так вульгарно, я либо заменю оставшиеся поцелуи на воздушные, либо пройдет необходимость доказывать свое хорошее отношение к вам.
— Тогда и я предупреждаю, что, оставшись без поцелуев, я…
— Ну, вы?
— Я добьюсь их силой, я пущу для этого все свое мастерство.
— Все вы мастера, тошно от вас.
— Ну, тогда я применю свои знания как ученого.
— Что ты можешь знать? Только пользоваться. Потребитель.
— О нет. О нет, нет, нет! Тут ты неправа. Я как раз открыл тайну женского создания и овладел действием механизма, почему и смею себя считать ученым в звании мага.
— Ты умеешь завораживать? Тогда я пошла.
— Умею, но этим не пользуюсь, не истинное, а все ложное я отбрасываю. Поэтому только я смог добраться до истины и сделать открытие. Вспомним: женщину делали второй, для чего, я думаю тебе хорошо известно, и еще делали ее из ребра человека, это из единственно гнущейся кости во всем человеческом остове. По идее, делалась Ева как прекрасное, половое дополнение главному — телу. Но Боженька перестарался и вложил в женское тело человеческую душу. Это, так сказать, для полного дополнения и радостей жизни. Ага! Тут и получилась раздвоенность самого создания на духовное и телесное. Получилось, что телесное без души с прямой настроенностью на это самое, с душой и со всеми человеческими качествами, оставшись тем же самым, стало бесстыдным, что стала нести с собой женщина, всячески скрывая и завуалируя это так, что ты есть развратница, моя милая. Душевное не дает тебе быть явной ею, но и это же душевное сравни его с мужским — однородно, но совсем другое. Это под воздействием телесного. Значит, я заключил в телесном есть такие струны, отключающие помехи души, и более того! Я внимательно разобрал, что такое главное призвание женщины — любить, и предположил, что и это должно иметь свою струну. Итак, я начал искать. Мне был предоставлен целый гарем, я перещупал его весь и вдруг нашел это место. Это я видел по глазам, которые смотрели на меня с испугом, а затем налились глубочайшей любовью. Она меня так сильно любила, что я был вознагражден этим больше, чем самим открытием. Я открыл и постиг великую тайну!
— Только ты не в свое время и не в том месте родился. На свете сейчас нет ни одного государства, где бы правила женщина. Вам суждено прозябать.
— Но я своего дождусь! Пока же мне остается валяться на подстилке с сицилийской княжной, предвкушая, что должно быть, скоро какое-нибудь великое государство будет у меня днем, как государыня ночью. И я, черт возьми, смогу поторопить события. Главное только взять хорошее основание. Ты — самое подходящее, что только может быть. Тебя я давно заприметил и успех чуть не состоялся. Здесь и только что. Но он состоится!
— Что вам помешало сделать со мною так?
— Дело в том, что я боюсь этой любви, она пуста и неестественна. Я хочу настоящей, разумной, хоть от одной, которая будет меня окружать. И еще я хочу посмотреть, что если так сделать с сознательно полюбившей женщиной. Нет, я лучше дождусь, когда ты сама придешь ко мне.
— Сеньор Амендралехо, вы трепло. Чем трепаться, давайте-ка взнуздайте мне коня, я буду ждать за дверьми.
* * *
Амендралехо сидел за столом в столовой зале, ярко освещенной светоносностью солнечного дня через открытое потолковое окно и стенные окна и играл с Детто Киньетти шашками, точнее игрался, так как та игра, которую они вели, представляла настоящий бой по сбиванию шеренги шашек противника щелчком своими шашками. Так что шум от их стола, с которого постоянно падали шашки, стоял звонкий, но он только дополнял общий шум, стоявший в зале от детей. Кроме вышеупомянутого ребенка было несколько местных ребятишек служанок и две девочки, какие-то дальние родственницы княжны Мальвази, которым было три, и Розане Чочелопе пять лет. Кроме детей в зале с ними находились Мальвази и иногда заходила Марселина. В соседней кухне за пролетом суетилась с готовленьем полная старуха Фаншетта, бабка Детто и еще одного соколика помладше, который постоянно крутился там у нее.
По-видимому на обед в залу по лестнице спустился Чичисбей, приятно поздоровавшись с сеньорой Мальвази и раскланявшись с детьми нарочито игриво. Все бы было хорошо, и он бы ушел к себе, если бы спиной не почувствовал, что ему что-то не так, и верно — он заметил Амендралехо и очень недовольно отнесся к тому, что он и сеньора Мальвази находятся одни среди одних только детей. С вынужденной улыбкой он так же раскланялся и с Амендралехо… Он решил остаться, исправив непорядок с непринужденностью всякого надсмотрщика или чичисбея.
Спокойное времяпровождение прошло, уступив место беспокойному, когда невозможно стало даже переглянуться с Мальвази украдкой. Детто разлупил его шеренгу шашек, так что ему пришлось помогать их собирать.
Чичисбей неожиданно встал и ушел. Мальвази не обращала на его взгляды никакого внимания, оставляя вот уже полдня безуспешными все его попытки поймать ее. Между ними, так свободно чувствовавшими себя ранним утром, встала фигура дона Чичисбея.
Вдруг Детто резко отскочил от игрального столика, качнув его и заставив Амендралехо вздрогнуть. Он подбегал к группе ребят, находившихся перед сидевшей в кресле сеньорой Мальвази, и, оттесняя мальчика постарше, настырно говорил, хватаясь за руку Розаны:
— Не разговаривай с моей Розаной!
Амендралехо недоуменным, ошарашенным взглядом поглядел на это, встретившись наконец-то со взглядом Мальвази, которая так же посмотрела. И тут, как на грех, вошел опять Чичисбей со своим лютнистом и заметил перегляд.
Не любил Амендралехо такие неловкие ситуации и единственное, что мог против этого, это всем своим видом чинно показав недовольство отвести взгляд. К тому же его было куда отвести: из кухни вышла выведенная из себя Фаншетта с тряпкой, направившись к Детто, которого сеньора Мальвази успела спросить:
— Почему твоя?
— Я вот тебе дам — моя. Я тебе покажу — моя, дрянной мальчишка! — приближалась бабка, угрожающе размахивая тряпкой, и потому Детто без объяснений поспешил прошмыгнуть между Чичисбеем и появившимся лютнистом в открытые двери на дорожку. Вслед за тем, увидев, что бабка Фаншетта раскланивается с чичисбеем, стараясь незаметно и делая это по-своему, на цыпочках оббегал опасное место и снова подсел к Амендралехо.
— Сзади, — шепнул тот ему, и Детто, увидев, что за ним идут и опять с тряпкой, подпрыгнул со стула и тем же манером забежал Амендралехо за спину.
Не собираясь здесь за ним гоняться, Фаншетта ушла, и можно бы было об этом забыть и продолжить бой, если бы из кухни не послышались звуки чухвостенья тряпкой и приглушенный писк того, кто там оставался. Амендралехо усмехнулся, но заметил, что никто из детей не отреагировал так же, потому что наоборот восприняли это близко к сердцу, то есть, понимающе и сочувственно. Амендралехо усмехнулся второй раз.
Они с Детто стали расставлять ряды шашек, внимание его конечно же еще оставалось у того стола, и потому он слышал, что там творилось. Кажется, Розана спросила у дона Чичисбея, знает ли тот сказки? Тот, конечно, знал, приговаривая о своём что по роду службы о сколько их ему пришлось выслушать в ту свою деятельность!
— А знаете вы сказку про птицу-правду? — наставили его от прозаики на конкретный лад.
— Про какую такую птицу-правду? — почти как испугался сей почтенный дон, что заставило Амендралехо еще раз улыбнуться.
— Ну, которая говорила правду обо всем, о плохом короле…
— Как о плохом короле? Разве короли могут быть плохие? Нельзя так говорить! Ты в городе была, разве не знаешь, что делали те дяди, что говорят про короля плохое?
— Ой! Там так стреляли! — оживилась Розана. — Там огромные кучи наложили, и за ними прятались. А бродяги с гор пришли, тоже стали кучи себе накладывать.
— Ну насчет бродяг с гор почтенный дон кое-что знал и постарался перевести разговор. Конечно, нужно было занять детские головушки другим, и он предложил послушать музыку лютниста.
Окончательно понял, куда он попал, Амендралехо только, когда стали разносить кушанья. То были каши, сладкие чаи и булочки с повидлом. Он осведомился у бабки Фаншетты: есть ли что посерьезнее? Ничего другого не было. То был какой-то детский день, на которых он, как мальчишка, попался за игрой в выбивашки. Слава богу, он еще додумался отказаться от такой еды сразу, не то бы ему поставили.
Нужно было идти искать, где бы чего можно было перекусить? Проходя мимо стола, у которого сидели Мальвази и Марселина, не глядя на госпожу /хотя она на него взглянула/ глазами указал Марселине на тарелки и сморщился. Затем сразу же кивнул идти за ним, куда-то, куда пошел он. Сразу она не могла этого сделать, заметив, что находиться под взглядом Мальвази, или по крайней мере, в поле ее внимания. Она решила, что сначала поест, а потом, несмотря ни на что, отправится. Амендралехо, выйдя на воздух теплый, и даже как будто жаркий, как летом, пошел во флигель пугать служанок предстоящими кашками и булочками. Они его сначала не понимали, и так, может быть, и не поняли, но с радостью согласились с его предложением отведать свежезажаренных карпиков. Им было сказано принести с собой жаровню и дровишек к пруду. Сам Амендралехо пошел туда посмотреть на месте, как выловить карпов из пруда. Место это находилось у задней стороны здания почти напротив угла, того, от которого ближе всего можно было дойти до берега моря по террасочной дорожке. Море голубым разливом лежало дальше внизу, и не столько за зеленью, сколько за краем гребня небольшого поднятия в общей форме эдакой плиты, на которой возвышался изящный коричневатый корпус виллы. Угадывалась эта плита главным образом в том самом месте, где находился пруд. Все остальные края были либо плавным схождением сровнены, либо густо заросли зеленью и были окультурены. Пруд как раз также представлял из себя искусственное творенье, и это можно было сразу заметить, так как располагался он не под краем кручи, а именно упирался в него, из чего следовало ожидать: вся вода должна бы была по идее стечь вниз, но цементированное дно и края не давали.
Амендралехо глянул вглубь: и низ, и края выглядели естественно, а на самом дне среди крупных листочных водорослей виделись крупные рыбины. Место здесь, конечно, было самое наиприятнейшее, сюда же выходили окна покоев сеньоры Мальвази.
Скоро сюда должны были придти служанки. Амендралехо нужно было подготовиться к отлову рыб, и он пошел за огнестрельным оружием, не менее. Где-то в библиотеке он видел старинную аркебузу тысяча триста восемьдесят шестого или шестьдесят восьмого года, как подписано было с деревянным шомполом явно не с того времени. Кроме того, он взял из своего оружия буквально все, что причиталось для ловли рыб. Он пришел к пруду, и его испугались, что выразилось главным образом в том, что разговоры у жаровни поутихли, и с ними всякие радостные эмоции. Вместе с этим возрос интерес ко всем его действиям, связанным с аркебузой, пистолетом и копьем. Его весело спросили, что он собирается делать, на что он ответил: разжигать /это жаровню/ и зажимать уши.
Две или три девицы сразу же и последовали его совету и зажали уши, но как оказалось, рано. Амендралехо решил сначала попытаться ловить копьем. Хоть и длинно оно было, а все равно до самых дальних мест не доставало, там где естественно все рыбины и скопились жирной темной массой. Только зря намутил воду.
Тогда он стал заряжать аркебузу слабой толикой пороха и пулей. Присмотревшись, Амендралехо выбрал первого карпика, который держался в стороне от других. Спинные и жаберные плавники его мерно шевелились в воде. Осторожно прицелившись, он вспомнил, что в орудиях их предков устройство пальбы было таково, что сначала нужно было дать огня, ну а потом уж приходилось целиться. Вспомнив это, Амендралехо обернулся за прутиком с огоньком, чем расстроил весь нацел. Когда же фитиль возгорелся, нацелиться вновь уже не пришлось, так как разгорелся он словно шутиха, как будто был чем пропитан? Среди искр, сыпавшихся даже на лицо и с опасностью для глаз, можно было приглядеться только к стае и навести на нее дуло аркебузы, сразу же после этого выстрелившей оглушительно громко. Повалил едкий густой дым, из-за которого не было ничего видно, и пришлось отвернуться с закрытыми глазами. На водной поверхности плеск чувствительно обрызгал охотника на рыб.
Амендралехо лишь минуту спустя смог заметить покачивающуюся от водяной ряби добычу, продырявленную насквозь, но не успел он ее зацепить на наконечник копья, как со всех ног прибежал на звук выстрела Детто и любопытной мордочкой уставился смотреть.
— А ты порохом бабахни, они все повсплывают готовенькие! Все ему не были нужны, а только пять-шесть, и поэтому малыш под рукой показался ему нежелательным.
— Слушай, Детто, иди-ка ты отсюда, а то я чувствую, набабахаююсь тут с тобой, что весь пруд распружу или сам взорвусь.
Доставая первого подстреленного карпа, Амендралехо злорадно думал, что после такой охоты и особенно обеда сеньора Мальвази испугается за то, что она останется без мяса карпиков и будет кормить отменно.
Детто завороженно стоял и смотрел на то, какого большого карпа подстрелил Амендралехо. Охотничья страсть воспылала в нем как личность и Детто восторженно вырвал добычу из его рук.
— Ух ты, какая большая! Давайте из нее рыбий суп сварим!
Под общий смех служанок Амендралехо сочувственно пожалел Детто, понимая всем переворачивающимся нутром, как тому было тошно принимать в себя кашу, что захотелось здоровой пищи, хотя бы в виде супчика, рыбьего. Еще он с усмешкой подумал, как моментально сорвался Детто со стола, может быть, даже с ложкой, устремившись на звук выстрела. Хотя, может быть, он давно пожрал и гулял где-нибудь поблизости. Тогда нужно было скорее, а то и другие могли тоже освободиться от обеда, да придти сюда и, известное дело, помешать. Амендралехо чувствовал за собой, что проказничает, но ему нисколько не было знакомо чувство опаски за содеваемое, так как морально он был труднопробиваем, и нисколько не сомнителен. Заметив, что сюда идут со стороны столовой залы, скорее всего, по поводу пальбы, не всматриваясь, кто идет, кто бы ни был, начал заряжать аркебузу на новый выстрел. Детто услужливо сбегал принес ему прутик с огоньком.
Второй выстрел оказался удачнее: прибило сразу двух карпов. Они один за другим повсплывали над одним местом. На дне же происходило что-то невероятное из беснующихя с испугу темных жирных тел рыб, которые с невозможной быстротой проносились над галькой еще более поднимая муть. Это зрелище захватило не только одного Амендралехо, но и Детто, и девушек, которые чуть не с визгом замечали подстреленных карпов, указывая на них, как будто без их подсказок он бы ничего не заметил. Нужно было отправлять скорее этих зрительниц из-под руки, чтобы спокойней было, и доставая копьем карпа, Амендралехо непременно отправлял по одной зрительнице заниматься чисткой.
Неожиданно появилась Марселина:
— Кто разрешал? Она же не позволяет трогать!
— Она пусть доедает свою кашку и распоряжается впредь не кормить людей постом. А ты, если тебе тоже хочется отведать вкусной рыбки, присоединяйся к нам, давай.
На звуки выстрелов пришла не только Марселина, но и дуэнья княжны, а также старина Пираже, отчего стало казаться, что к пруду начинает стекаться вся дворня, и нужно бы увеличить количество рыбки.
Амендралехо кивнул старине Пираже, начиная шомполом проталкивать пулю, может быть, тоже четырнадцатого века, и хотел было что-то сказать из веселенького, как все на свете поперезабывал, в самый последний момент додумавшись откинуть аркебузу от себя, наступив затем на приклад и начав другой ногой наступать на Фитиль. Это Детто услужливо зажег ему фитиль, и не успел Амендралехо затушить подошвой искрящийся огонек, как одна, из искр, попав на запал, создала выстрел. Деревянного шомпола и пули за ним как не бывало, улетели в море и сейчас может быть плюхались в воду, когда Амендралехо, стоя в белом пороховом дыму оборачивался на малыша, который тут же получил оплеуху.
— Ты! Маленький критиненыш! Ты меня чуть… самого, как карпа не бабахнул!
Детто поспешно смылся с его глаз, аж за жаровню, за юбки женщин, сочувствовавших и одному, и другому.
Пираже успокоительно подбодрил потерпевшего, обещав сходить за своей заначкой и залить это цело. Амендралехо, переведя дух, взялся за пистолет, заметив вдруг, когда повернулся, что в окне покоев Мальвази, стоит она сама, смотря на него. Правда, после этого она сразу же отошла. Новые выстрелы отметились всплывами новых рыб, которых он настреливал, отчаянно много, стреляя, и часто безрезультатно, но что все равно вызывало восторженные возгласы зрительниц, которые снова собрались за ним, сзади послышалось, как кладут в сковородку с кипящим маслом очищенную рыбу. Решив, что набитой» рыбы, пожалуй, хватит, Амендралехо стал вылавливать лепешки вкуснейшего мяса.
Тут пришел и Пираже с корзинкой бутылок вина. Хотя пришел он со стороны кухни, бокалы он, конечно, забыл, и потому Детто пришлось за ними сбегать. Конечно же, за одним забыли другое, и Детто пришлось сбегать и за хлебом.
Когда первая партия поджаренных карпов легла на остыв, а вторая, только очищенная, с жарящимся шумом была уложена в сковородку, старина Пираже полез за первой бутылочкой…
— А ну-ка отгадаете, что это за вино? — вопросил он, вызвав у окружающих довольный смех.
— А вы шутник, сеньор Пираже, — с шутливой укоризной проговорил Амендралехо, — стекло в бутылке темное, не просмотришь. Чу, это одно, а другое: почему бы вам не разлить вина по стаканам и дать попробовать на язык? Или вы допросом нам нервы решили извести? А?!
— Амендралехо поддержали и смехом, и словами, прося сеньора Пираже скорее наливать — попробовать.
— Э, нет. Это такое вино, что, стоит мне его только открыть, вы сразу поймете.
— Неужто это то самое вино, которое при вскрытии может почти все струей вырваться из бутылки с шипящим звуком, нечто вроде: «пах»!? — воскликнул Амендралехо.
— Оно самое!
— Не может такое быть! — возразила Марселина, махнув рукой в сторону болтуна и отвернувшись от него.
— Не веришь?! — подскочил он к ней, — А ну давай покажу, если не веришь!
Амендралехо наклонился за бутылкой с плетеным железной проволокой горлышком и стал усиленно натрясать содержимое.
— Сейчас я тебе покажу: струя вырвется высоко вверх!
— Сеньор Амендралехо, пожалуйста, не надо, мы верим, — попытался образумить спорщиков сеньор Пираже, испугавшись перспективы выстрелившей шампанским бутылки впустую. Это поняла и этого испугалась и Марселина.
— Ладно, не надо, верю!
— Чего? Ты не хочешь посмотреть, как здорово будет? А вон Детто хочет. Да? Смотри, сейчас как бабахнет.
Амендралехо принялся снимать сетку с горлышка, а Марселина не очень-то уже опасаясь за глупости, хлопнула ему по руке.
— Не надо ничего показывать, давай лучше выпьем.
— Выпьем!? Ну что ж, давай мы с тобой выпьем. Врежем по полному, давай. Дайте нам бокалы!
Сзади к ним подошел Пираже со своей бутылкой.
— Сеньор Амендралехо, погодите, не спешите. Отдайте бутылку, возьмите другую.
— Это ж зачем обязательно так сделать нужно?! — осведомился тот.
— А все затем, что вы можете остаться без шампанского, сами того не желая. Вы же натрясли бутылку и собираетесь ее открывать после этого. Могу вам сообщить: мы по вашей милости останемся без одной бутылки шампанского, это в любом случае.
— Что значит «в любом случае»? Вы намекаете на то, что если я даже умею обращаться с шампанским, я не смогу разлить взбешенное шампанское? Нет, уж я что могу, то могу до конца.
— Значит, вы умеете открывать шампанское, и на вас можно понадеяться?
— Больше чем на самого себя, потому что я вижу: вы испытываете страх перед газами, а их бояться нечего — это пустая пена. Одним словом, давайте я вам верну доверие к бутылке, на которой вы, видно, в течение этого часа поставили крест.
Амендралехо подал Марселине бокал, показав жестом держать крепко и опустив горлышко, уже освобожденное от сеточки туда, умелым манером ударил ладонью по горлышку. Газы выбили пробку в бокал и залили ее белой пеной. Тут же ему протянули другой бокал, и он аккуратно перекинул еще сильную струю. В третий бокал Амендралехо налил вообще в обычную и после следующего, остатки стал сливать куда-то, очень уж низко вниз. Он под конец только заметил, когда стал поднимать бутылку вверх горлышком, что наливал в стакан, протянутый Детто.
— Кого?! А ну отойди от стакана… Дай сюда, дурной мальчишка…
Но Детто, настырно рванувшись назад, скорее, пока не отобрали, поднес стакан к губам и хлебнул два раза, на последний поперхнувшись. После того, как Детто по-детски прокашлялся, Амендралехо подумал, что, побаловавшись, он себя сам этим наказал, продрав шампанским внутренности, но ошибся: Детто надул его во второй раз также, как и в первый, поспешно выдув по-второй перед самой его рукой. Амендралехо осталось только взять полупустой стакан, поглядеть в него и убрать подальше.
— Во выпивоха, я чувствую, будет!
Выпивоха меж тем уже, можно сказать, был или стал им, когда вино крепко ударило Детто в голову. Он сначала невразумительно что-то скуралесил заплетающимся языком, может быть, просто крякнул. И далее малыша понесло и повело в сторону так, что он через несколько шагов упал и, потешно встав, пошел и далее выделывать ногами загогулины, показывая, насколько сильно воздействовало на него хмельное зелье.
Марселина, не видя в том ничего смешного как некоторые, жалеючи, пошла за Детто, который ушатался довольно далеко от них, пока не свалился с ног и от этого немного даже завыл. Там на месте присяда Марселина его и настигла, заняв рот от воя куском мяса карпа. Запихав кусок весь в рот, Детто почувствовал непроворот. Тогда он начал с ним бороться, и от этого даже встал на ноги, бессильно загнув ручки в кулачки, и все не в силах прожевать. Марселина еще сунула в руку Детто кусок хлеба, который так же предусмотрительно взяла с собой, и стала возвращаться обратно ко всем.
— Нет ничего смешного, споили и еще смеетесь, — проговорила она недовольственно, глядя только на Амендралехо.
Сеньор Пираже, видя, чем давится малыш, почувствовал, что у него потекли слюнки по тому же, а посему предложил:
— Давайте скорее пить, а то все шампанское выдохнется.
Из второй бутылки, которую держал и до этого уже откупорил, смотритель стал разливать, кому не досталось.
— А тост будет такой, — говорил Амендралехо, — чтобы наш Дет-о не стал…/говорить некрасивые слова не хотелось/ заядлым поклонником Бахуса.
Было смешно даже то, против чего приходилось пить, и после выпива, снявшего последние остатки некоторой скованности от окон сеньоры поблизости, веселье превратилось почти в настоящий хаос, в коем попала на высмеяние и сама сеньора, которой припомнили, что она смотрела /тихонько сказали: выглядывала/ из окна сюда.
Всю новую и новую поджаривающуюся рыбу непременно разламывали на кусочки и раскладывали на хлеба, на что всегда находились охотники после вина, да на голодный желудок. Почувствовав некоторое насыщение, Пираже подумал о том, чтобы пропустить по второму бокальчику. Во хмелю оно было всегда как-то лучше, и его понесло попутно показать всем что-нибудь на удивление. На глаза попалась пустая бутылка из темно-зеленого стекла.
— Можете мне поверить: это стекло такой прочности, что им гвозди можно забивать?
И в доказательство Пираже, взяв бутылку, на которую указывал, кинул на каменный край пруда, да попал и разбил, шутливо по-стариковски сконфузившись в ужимке, под смех.
— Вам нужно по-другому было показывать.
Амендралехо взял ту бутылку, что осталась наполовину полной после прошлого разлива и… вызвал множество испуганных стонов, так как был известен как покушитель на шампанское, и его поняли неправильно.
— Что не надо? Думали: я оставлю вас без вина? Нет же, пейте, если очень хотите.
Он разлил все, что было в бутылке по бокалам застеснявшихся просительниц, и затем показал, как нужно было, швырнув бутылку на тот край, да не докинув, несмотря на все проявленные при этом старания и несмотря на небольшую в общем-то поверхность пруда.
Посмеиваясь, Пираже тем временем раскупорил последнюю бутылку из корзинки и разлил остальным.
— Давайте просто так выпьем.
— И чокнемся, давайте!
Пираже зашвырнул бутылку в пруд и заметил Детто со своим пустым стаканом с просительным видом.
Ха-а! Вот кому мы забыли налить. А ну-ка, еще опрокинь.
Себя конечно Пираже не обидел с наливом и ради пущего можно было плеснуть маленько, тем более что ему так и так не дали бы это сделать. Больше всех вступилась опять Марселина, отведя осторожно полный бокал, подступила к Детто. Взяв с противня поджаренный ломоть хлеба с мясом, она положила его на поверхность стакана.
Детто недовольно сбросил ненужное прочь от себя. Общий смех подтолкнул его на дебош. За ненадобностью и стакана, Детто развязно размахнувшись откинул его далеко в сторону. Не дают — не надо! Затем он что-то заметив для себя интересное, направился к тому, выпадая из внимания как нечто такое, за чем нужен глаз да глаз, да приходилось опускать глаза в золотистое шампанское, которое ждало. Амендралехо именно с таким чувством упускал из внимания маленького дебошира, ощущая неладное, но пока горячительная жидкость забирала все его чувство.
Допив же, он позабыл то, что пока не давало о себе знать, и так и не вспомнилось, уступив место более занимательному. Амендралехо смотрел на то, с какими усилиями допивала свой бокал Марселина, дуясь в него от несилия совладать с крепчайшим вином.
— Ну же, ну! Тужься, но не бросай! И последнее осталось — рожай!… Вот молодец какая. (Тише) Старый дуралей бидонами такую хорошую поит — не споит.
Марселина и без того захваченная смехом после подзуживания, расслышав все то, что он проворчал на Пираже, вовсе прыснула и пошатнулась так, что бокал не удержался в упадавшей руке, а сама, смеясь, глядя ему в глаза, наклонилась так низко, что чуть не осела на колени.
— О чем это там хихикает та парочка? — щекотливо протянул со своей стороны сеньор Пираже, не услышавший, так понявший то, о чем они могли смеяться.
— Сеньор Пираже, пожалуйста, не обижайтесь, но мы недовольны тем, что столько много вина было, а хватило только на два раза, вместо четырех-пяти. Это уж как хотите, а называется: поить ведрами.
— О-о! Вспомнили, что было! А где вы раньше были, почему молчали? О, да вы же потому что сами и разливали!
Марселина снова залилась своим тоненьким смешочком, ударив ладонью Амендралехо по плечу, который не только сам наливал, но и налил ей, и потому все что он сказал на Пираже, относилось к нему самому, что показалось ей очень смешным. К тому же и столько разлили мимо!
Амендралехо задето молча смотрел на нее, не зная, что сказать, и вдруг очень громко, так как будто к нему приложили накаленный кусок железа:
— Хии-и-и-и!
— Что сеньор Амендралехо?! Вы увидели Марселину совсем другой, чем прежде, — не унимался старина Пираже.
— Нет, это я заметил, что меня сегодня все-таки застрелят!
И с этими словами он кинулся…, попутно взглянув как Марселине показалось на нее, но на самом деле на большие окна покоев Мальвазии… стремительным броском пронеслось расстояние до Детто, который занялся с оставленным оружием. Вышло все самым странным образом. Детто стоял к нему спиной, когда руки Амендралехо, обвив его вокруг, схватились за пистолет, вывернули дуло в безопасную от мальчика сторону, и тут раздался выстрел. Полетело разбитое стекло, упал, запнувшись о руки с пистолетом, сбитый на мягкую траву Детто, и за ним упал, растянувшись во весь рост, Амендралехо, так и замерший, лежа ничком. Со стороны могло показаться, что с ним что-то случилось, но что могло, когда выстрел пришелся даже мимо рук, в окно покоев? — Именно поэтому он и лежал, не желая даже глядеть на то, что натворил.
Главный виновник произшедшего, Детто, который без спросу разрядил пистолет, был мал и к тому же пьян. О полной безответственности его свидетельствовало и то, как Детто повел себя после того, как неуклюже поднялся на ноги и после того, как выглянувшая в разбитое окно полная служанка-негритянка спустила на несчастную голову Амендралехо злобный крик. Детто, видя такое дело и тоже будучи на него недоволен сдури еще подошел и пнул ногой в завивистую шевелюру лежачего Амендралехо с характерным детскому недовольству звуку: у-у! И пошатался в свою сторону.
Сеньора Мальвази, тоже глядевшая в окно из-за плеча негритянки, ничего не сказав, удалилась.
Пирушка на открытом воздухе у пруда кончилась фарсом разбитого окна в покоях и потревоженной…, и еще как потревоженной госпожой. Но получилась пирушка на славу: и напились, и наелись, и насмеялись, и напугались, отчего все служанки снова стали ими и с виноватой поспешностью заметывали следы гуляний, даже собрали осколки разбитой бутылки. Так же, как жаровня была принесена, так же она была подхвачена и унесена.
А Амендралехо остался лежать один или почти один, на том же месте, но уже подавая признаки оживления в пользу находившегося еще поблизости Пираже, сказавшего ему перед тем, как уйти напоследок:
— Ну ты иди, отбрехайся, пока она не удумала там себе что?
Что он мог пойти ей сказать? Потом же все равно бы выяснилось, что по халатности оставил орудие лежать рядом с ребенком. И даже заряды… Амендралехо еще больше не хотелось ничего знать, а только лежать и даже закрыться от всего руками.
Но в гущу отчаяния капнула одна приятная мыслишка, и вот уж он весь поднимался идти к ней оправдываться и… воспользоваться представившимся случаем идти целовать.
Пройдя по коридору из залы в те самые покои на другой стороне здания, в которых он разбил окно и, пройдя мимо толстой негритянки, не взглянув даже в ее насупленное лицо, Амендралехо вошел, указав ей удалиться и закрыл за собой и перед ней дверь. Услыхав, что она уходит, почувствовал себя увереннее.
Мальвази сидела у зеркала, приставленного к стене напротив него и поэтому, несмотря на то, что находилась она к Амендралехо спиной, он всю ее полностью обозревал в зеркале и нашел ее вид сильно вялым и даже подавленным. Видно, эта девушка напугалась очень сильно и сейчас сидела сама не своя, рассредоточено занимаясь макияжем. Конечно, он понимал, почему она не может даже взглянуть на него и готовил объяснения. Амендралехо первые секунды стоявший за ней безмолвно, найдя какими словами развеять ее печаль, поднял на нее взгляд.
— Извини, я напугал тебя, но мне ничего другого не оставалось делать, только так я смог подступиться к тебе, дорогая моя.
— Даже дорогая? — с обидой в голосе молвила она, и указала на простреленное место над собой в стене. — Это пролетело надо мной!
Внезапно представившиеся весь ужас утраты жизни любимой, которую ему уже никогда не вернуть, и жить прошедшим, только из-за одного невоздержанного несчастного раза, за который постоянно горько себя укорять, но самое страшное — остаться без нее — это все отразилось на душе и лице Амендралехо. Небольшой стон вырвался у него из груди, ему захотелось скорее уйти. Найти место, чтобы отлежаться, пересилив боль, страдания… Мальвази же, все видевшая в нем и понимавшая, счастливо себе улыбнулась и отвернулась в зеркало.
— О нет! Нет! Нет! Этого же не могло быть! — вскричал облегченно Амендралехо, сделав несколько шагов в сторону окна, мерить глазом самый низкодопустимый выстрел, который бы в любом случае пришелся бы выше, о чем он тогда и подумал перед тем как направлять стрельбу.
Счастливое облегчение действовало на Амендралехо не столько в успокоительном, сколько в радостном плане, отметая все прочее, как пустое, и он стал оживленно возвращаться в самого себя.
— Ну, а ты меня напугала!
Тонкая, уязвленная, презрительная гримаска с поджатыми губами и заострившимися глазками не заставила себя долго ждать, моментально отразившись на ее лице, но не успела она одарить его ею, как была подхвачена вместе со стулом сильными руками и захвачена на долгий самозабвенный поцелуй.
Он кончился, когда ему и следовало кончиться. Продолжая находиться в амурном состоянии, Амендралехо поднял ее еще выше и приложился лицом. Мальвази же, утершая губы, проговорила еще томным голосом:
— Чуть не убил и целуешься. Отстань.
Он опустил ее на то же место к бутылочкам и коробочкам и резко ушел.
Пройдя через залу и выйдя в лестничный коридор, Амендралехо думал, что не все ей сказал. Конечно же, еще ей нужно было сказать, что придумал стрелять по ходу случившегося, только из-за того, что Детто полез баловаться. Он хотел вернуться и успокоить, но дверь не поддавалась на открытие. Видно, вставили новый самозакрывающийся замок, пришлось остаться подождать какую-нибудь служанку или дождаться, когда выйдет она сама.
* * *
Она нарвалась на следующий поцелуй неожиданно, встретившись с ним в коридоре и попав в развязные объятия, из которых с неудовольствием вырвалась, отнявшись от охальных домогательств. Ей он вдруг так не понравился — именно своими нахальными замашками, что она не преминула ему жестоко ответить: от него дурно пахнет; и, рассерженная, все только как госпожа, удалилась.
Оставшийся один, Амендралехо получил большую душевную травму и с помятым видом поплелся в свой кабинет, чтобы затем принять ванну. Может, она не выпивку имела в виду, он ведь не мылся с прошлого приезда.
Марселина зашла к нему в библиотеку, когда он был уже почти готов и, сочувственно посожалев о случившемся, как она то знала, сказала, что княгиня зовет его вместе с письменным прибором.
Извиняться каким-либо образом, загладив произошедшую неприятность или наоборот, еще более усугублять ее, давая волю своему настроению? — этими вопросами задался Амендралехо, идя на встречу с ней, но несмотря на возможно обидный исход встречи, он шел с удовольствием от рассеивавшейся неясности.
Придя, все оказалось совсем не так, как он предполагал. В зале находился чичисбей, ведя беспредметную беседу с сеньорой княгиней. Его попросили обождать в зале, а сами направились по коридору в покои с разбитым окном. Затем вызвали его, и когда Амендралехо вошел, то первое, что ему бросилось в глаза, это прибранность пола от осколков стекла, само открытое окно, в которое поддувал ветерок и самое яркое, захватывающее зрелище — высунувшиеся из раскрытых задвижек секретеров раскрытые пасти львиных голов, сделанные наподобие шлемов, внутри которых очень удобно хранились груды разнообразных драгоценностей, начиная от пустяшных бирюзовых, александритовых на фоне тех же сапфировых или изумрудных, и кончая прозрачно-белыми бриллиантовыми. Это была настоящая коллекция драгоценных камней на золоте — дополнение приданного ли, или лично накопленное состояние.
…Амендралехо почувствовал, что забылся, но это было вполне естественно. Неестественно — не обратить на сокровища взгляд, и он садился под взглядом чичисбея без всякого сомнения. Взгляд живенького старикана был многозначителен и проницателен, создавая у Амендралехо впечатление, что это он его вызвал и затевает какое-то дело.
— Вы видите сами, зачем вы понадобились. Все то, что находится в секретерах, нам необходимо описать.
Кому это стало нужно, ей или чичисбею? Если ему, то что бы это могло значить? У Амендралехо было особое чутье на затаиваемое-затеваемое, и непонятное одурение забередило его сознание. Во всех диктовках ему чувствовалась обобщенность и то, что есть поскорее сделать. Хотя Мальвази, со знанием дела перебиравшая свои вещицы, относилась к происходимому с полной заинтересованностью. Но чичисбей же выдавал непозволительные обобщенности, ему нужен был подсчет, а не опись. Но все же и он был обыкновенный смертный, чем скрасил впечатление о себе, когда полез за бархатной коробочкой и достал крупный граненый алмаз. «Адамас», — восхищенно прошептал он, разглядывая знаменитый камень. У Амендралехо его стоимость в голове не умещалась, и все драгоценное вместе, сколько могло стоить? А хранилось в спальне с разбитым окном.
Мальвази же нравились аккуратные камушки, и она показала верх изящества огранку двойной розой, вынув оное из шкатулочки, которую дон Чичисбей до этого назвал шкатулкой с бриллиантами.
Показывая округлый филигранный камушек, сеньора Мальвази хотела взглянуть на Амендралехо, но вовремя, как это показалось, отказалась от этого побуждения, так как чичисбей смотрел на нее. «До чего все-таки глупа природа женского сознания», — почти с негодованием подумал Амендралехо, а ведь пишут о силе женского естества, что пишут?
Дон Чичисбей был на то и чичисбеем, чтобы заметить, и следующий его взгляд был на Амендралехо. Тот, не сплоховав, ответил взглядом на взгляд, и, отводя взгляд от камня, легко взглянул и на Мальвази, хоть развеяв у старикана могущее возникнуть впечатление: что они оба друг на друга смотреть боятся при нём.
Кончилась перепись таким образом очень быстро, и Чичисбей, подсмеиваясь отпустил Амендралехо, пошутив в спину на счет того, куда он чуть не попал. Затем, пойдя за ним провожаючи и закрыв дверь, вернулся к княгине, закрывавшей секретеры одним только ей, известным способом.
— Он ваши тайны через стену возьмет. Он стрелял быть может — проверял их крепость. Для любого алмазного бурава цемент такой, что деревяшка. А он может оказаться таким человеком, себе на уме знаете ли, в лихое-то наше время — этот сеньор Амендралехо… на все мастер, на все способен. Я знаю такой тип людей, они промаха не дают, а если дают, то забирают. Подумаете о нем хорошенько, ведь вы молодая женщина, и не видите в нем ничего кроме хороших или плохих качеств молодого человека. А я не только рассмотрел его, но и знаю о нем кое-что, а о чем не знаю, о том догадываюсь. Если бы вы видели, с каким: взглядом он смотрел…
— Ой, перестаньте, пожалуйста! — с нежеланием слушать очевидную ерунду с горячностью задвинула она последнюю голову льва и успокоившись о том, о чем было испугалась.
Амендралехо вышел из апартаментов княгини очень и очень встревоженный, особенно после последних слов в спину. Пришел он в библиотеку в крайне растерянном настроении, отчего Марселина первой испугалась чуть не вскрикнув:
— Рассчитали?
— Я не за деньги служу нашей дорогой княжне. Послушай, Марселиночка, можешь ты мне помочь? Я уйду сейчас надолго расслабиться отдохнуть. Меня могут снова вызвать. Ты тогда открой форточку в окне и перекинь веревочку наружу, чтобы я знал.
Амендралехо пошел занимать давно облюбованное им наблюдательное место на дереве, которое ни за что бы не возможно было использовать как таковое без зрительного прибора.
* * *
Сегодня, это был какой-то кошмар со всеми ими! Каждый во что горазд. То от одного отбою нет, то другой прицепился: думай ему именно так, и не иначе!
Мальвази, закрывшись в своей полутемной спальне, устало подходила к широкой свежей постели, на ходу начиная распускать корсаж, и уже стала с себя стягивать через низ все платье, как усталость нарушила естественную последовательность, и она, не выдержав, скорее упала, на приятную шелковую поверхность ватного одеяла, растянув но нему руки… Почувствовала что-то твердое под гладью и даже как-будто шевельнувшееся. Она приподнялась и затем, встав, сдернула одеяло. Змеи! О! Ужас, было увидеть разрубленную кроваво-зеленую оскалившуюся змею, пошевелившуюся хвостом! Она со сдавленным звонким стоном задернула ужасное и обернулась, чтобы покинуть эту жуть, и еще обомлела! Не испугалась, но так обомлела, как ни от какой другой бы змеи… Перед ней во весь рост встал голым телом статуя Голого Мужчины… Апполона, нет… Амендралехо. Глаза ее изумленно расширились, она, казалось, видела его всего и со змеей, с выстрелом, наговорами на него, присутствием здесь, а главное — с мужественным лицом, в темноте показавшимся ей страшным. Но было в нем еще такое, что заменяло испуг обомлением от предстоящего. Она была всем настолько шокирована, что чувствовала: никак не сможет воспротивиться насилию.
Он ее схватил и поцеловал коротко, не так, как в предыдущие разы долго, за последним, пятым поцелуем шло нечто посерьезнее.
Он задрал подол платья, одновременно приспустив плечики.
— Я спас это тело от тлена. Оно теперь мое, — произнес он ей.
Мальвази второй раз как по-новому или по-другому поняла, что с ней сейчас будет, ничего совершенно не могла сделать, кроме того, что лишь внутренне воспротивиться и не пожелать! Вместе с этим и вздохом телесного волнения она была подхвачена за низ и в прижиме свалена головой на подушки. Его же голова, лишь умявшись меж грудей, поднялась вверх. Он стянул с нее подвязку и взял с колен в обе руки ее оголенный округлый низ. У него к ней было столько сил и такие насильные чувства, что ему непременно хотелось держать ее высоко и чтобы она видела его в глаза.
Мальвази, почувствовав приложение, подернулась, сжавшись ногами у него на поясе. Это началось, ей стало стыдно и вместе с тем успокоительное равнодушие, охватившее ее, давало забыться от чувствуемого. Она лишь стыдилась любого эмоционального проявления, как признак слабости и благожелательного проявления. Однако, он делал руками по телу так, что она стала вся пылать от сладостной истомы, но и эта же истома помогала ей в безмолвии. Она смотрела в его лицо с изумленным выражением. Мальвази как потеряла сознание от удовольственного удара, от которого она перестала чувствовать саму себя, а к своему обладателю у нее поднялось такое чувство благожелательности, что она прошептала ему: «Франсуа». Она почувствовала себя именно так, что значило для нее это имя.
Когда это прошло, ей снова стало стыдно, она снова напрягла свои ноги у его бедер, кои до этого развратно перед ним разошлись в разные стороны. Теперь они стали вовсе висеть за ним, когда он взял ее еще выше. Ее низ лежал у него на ладони и давал ему сладкое возбуждение от тугого действия в нее и постыдного ей, как ей начало казаться от нового. Ей самой в себе казались постыдными и возникающие от этого там расслабления. Ощущение чужого снова пришло ей в отношении к нему, и торжество его тела в себе самой показалось оставленным позором.
Она снова и снова парила телом и ногами над постелью уже перевернутой и уткнувшейся лицом в подушку, ставилась в унизительную податную позу перед ним на колени на отдых перед надруганием. Он стал снимать с нее одежды, и оставшись совсем нагой, Мальвази почувствовала себя еще более неуверенно.
Амендралехо свалил ее из унизительного положения, в котором до этого заставлял стоять, и сам прилег рядом с ней. Мальвази чувствовала под бедром обрубки тела змеи и чувствовала себя от этого ужасно, а светлое тело Амендралехо, растянувшегося подле нее, заставляло чувствовать ее себя изнасилованно.
Мальвази думала, что все кончено, он засыпает, но это оказалось не так, он еще насильно надругался над ней через её нежелание такому быть выше, чему она нисколько не смогла воспротивиться, и после принудительного свершения почувствовала себя просто отвратительно. Ей некуда было от него деваться даже когда он стал отходить ко сну. Он затащил ее под бок и опутал ногами и руками так, что она ни пошевелиться не могла, не стронув его, ни даже голову положить, чтобы не лежать лицом на его руке.
Мальвази приятно проснулась от ласковых лучей яркого света, идущего от окна. Она лежала на самом краю в прижатом и заваленном его телом положении. И если с руками его можно было смириться, то с ногой, перекинутой через ее бедро и загнутой между ее ног, чувствовать себя спокойно было просто невозможно! Она протянула туда свою руку, пытаясь убрать его ногу, да и будить его нужно было, каждую минуту мог кто-нибудь войти.
Он проснулся почти сразу, положил конец всем ее усилиям, сильно сжав ее собой всем телом, что было у него в наличности. Отпустив ее, он тем не менее не дал ей встать, а встал сам, сонно потянувшись всем телом. При нем Мальвази встать уже ни в кое случае не могла, ей оставалось только как можно незаметней оставаться лежать и закрыть глаза. Одеваясь, Амендралехо конечно же не мог оставить ее без своего внимания, потому что ее тело — это была прелесть… уминать когтистые пальцы в набедренной мякоти, заставив ее дернуться, протянув на защиту руку и оголив спелую налитую грудь, с которой хотелось делать еще непонятно что, кроме сжатия в ладони. Сама природа, казалось, была куафером всем ее волосам, сделанным где очень выразительно густо и длинно, а там, где их вообще бы не нужно, чтобы они были, они были на загляденье приглядным разреженным мазком на смуглом теле само эротически добавлявшим продолжение сходившихся резно греховным губкам, приходившим невидимо откуда.
Мальвази отбила это место, закрыв вдоль рукой и налегши. Она оказалась с тем, беззащитно лежащей ниже, на грудях и вверх своей смугленькой резной задницей, вызвавшей восторженное желание восторжествовать над ней.
Мальвази вызвала в нем самые большие восхищения тем как покорно далась и как приятно приняла все от него идущее.
Он встал с нее и завязав тесемку прикоснулся рукой к ее личику, которое заставил повернуться взглянуть на него.
— Меня сегодня весь день не будет. И что бы черной и чичисбея то же не было! Распорядись порубить змею на части поджарить в масле и подать им этот деликатес прямо в постели, или там где их можно будет застать. Меня будешь ждать вечером на греческой площадке. Ты все запомнила?
Мальвази согласно кивнула головой, и от этого зарделась в стыдливом смущении. Что касается того что бы говорить с ним она вообще казалось не могла, но у нее уже появилось к нему то трепетное чувство, которое чуть не заставило ее при виде удаляющейся спины броситься за ней и прижаться.
Амендралехо перед тем как выйти за дверь у окна уже почувствовал что сюда уже заходили и открыв дверь точно увидел что в будуарчике находиться Марселина с тазами ожидавшая княгиню для купания. Марселина встретившись с ним взглядом, бесшумно прыснула отведя лицо прикрытое рукой в сторону и затем снова с восхищенностью девочки-подростка восторженно взглянула на всего него.
Амендралехо улыбчиво потеребил ей пальцами как кошечке под подбородком.
Марселина смешливо заскочила в спальню, сразу бросившись к Мальвази, которая не стыдилась того что она нагая, но почти всхлипнула от того что та о ней знала. Марселина подбежав облокотилась в присяде на край постели и игриво чмокнула Мальвази в щечку.
— Наконец-то он до тебя дорвался! Я так всегда хотела что бы между вами случилась любовя. Ну, рассказывай?!
— Пошла отсюда! — отвернулась Мальвази на спину.
— Да ладно, чего уж там стесняться, все я это знаю. Я была в этом сама.
— У французов?
— О, это были настоящие франки. Это были варвары, варвары, варвары! Представляешь меж трех сразу попасть, что это такое? А ты от одного стесняешься. Или этот один троих стоил?… Ой дура! У тебя же время-то какое? Как ты могла забыть?!
— Какое там было помнить! — испугавшись запричитала она — Это ужасный насильник, ты сама ему в тазу не попадись!…Что нужно сделать?
— Вызвать своего доктора!
— Он в Палермо лечит раненных!
— А ты не раненная?!
— Давай скорее неси горячую воду!
— Ты что не вздумай сама, а то сделаешь себя калекой!
* * *
Амендралехо медленно сходил вниз к морю при лучах закатного солнца. Тишина и сумеречные тени на белесо-сероватых плитах только способствовали его безмятежному успокоившемуся состоянию духа, склоняя к еще большему угасанию всяких мыслей и эмоций. Усталь овладела им абсолютно, но и эта же усталь питала его тлетворным здоровым чувством, которое приятно было ощущать в себе. Белогипсовая или мраморная площадка, оформленная под вид древнегреческий, находилась еще далеко ниже и правее. На нее вышла и в ожидании остановилась она; в синем платье глядя на него, а он на нее, хотя и не различая в ясности черты лица друг друга. Что думал он тогда? — он ничего не думал, его просто наполняло еще большее спокойствие и удовлетворение от того, что она была там и ожидала его такой, какой он надолго ее запомнит — потому что случилось в следующие мгновения такое что заставило его ошеломленно остановиться: откуда-то выскочивший черный рослый бербер схватил Мальвази как пушинку за пояс и перекинув на плечо опрометью бросился влево. За ним показалось еще несколько пестро-черных фигур… Марселина с испуганным криком, кинувшаяся в сторону и затем схватившаяся за камень что спугнуло похитителей бросившихся за ней…
Амендралехо только после этого пришел в себя, когда реально понял что происходит! И прокляв раздраженно все на свете и самого себя за промедление бросился вниз, да не свернул на левую отходящую дорожку, пробежав прямо, отчего стал давать напрасный крюк, когда как похитители уже скрывались из виду. Выбежав на ровное песчаное пространство у берега, он из-за инерции затруднительно завернувшись бросился со всех ног догонять, но так же стремительно остановился начав подыскивать глазами что бы ухватить под руки потому что у него с собой решительно ничего не было и он рисковал угодить под безжалостный ятаган африканского корсара.
Остановившись он бессильно махнул руками, он ничего не мог, он ничего не мог поделать с пустыми руками и без времени, совершенно без времени. Он было подумал побежать на конюшню что бы найти что-либо подходящее, взять коня, может собрать людей и нагнать!… Но одного взгляда на береговую полосу было достаточно, что бы понять корсары на лодках быстро отплывали.
Он еще убедился в том, взглянув в свою небольшую подзорную трубку, и отчаянно вознервничав, упал в страдании на песок.
Сзади подошла Марселина, но присев рядом она даже не могла найти слов которыми можно было утешить его горесть.
— Как ужасно мне сейчас Марселина, ты даже не представляешь. Марселина что делать? Куда, мне сейчас?
…
— Сейчас успокойся. Ты может не скоро, но обязательно найдешь ее!
Слова девушки сказанные со всей сердечностью подействовали на него как капли холодной воды, и успокоившись от них Амендралехо проясненно поднял голову, глядя в сторону откуда отплывали корсары. Все бы отдал, чтобы только Мальвази сейчас оказалась рядом с ним! Амендралехо так же подумал нагнать их и отдаться им в плен, чтобы только быть рядом с ней и знать куда она попадет?
Он даже встал, и сделал шаг, остановившись от испуганного вопроса Марселины, успокоившись и решив что это опрометчивый шаг. Он отступил назад и обернувшись к сидевшей на ногах девушке горячно спросил
— Где у Пакетти лодка?
— Нет у него никакой лодочки! Ты что не вздумай к ним плыть!
— Не к ним, а к ней! Что мне еще остается делать?
— Нет шальной! Потеряешь голову!
— Оставим ненужное, подружка моя. Беги поднимай крик — сеньору украли! … Прощай. Может быть больше не свидимся, — проговорил он и повернулся идти.
— Амендралехо! — нойно простонала она.
Он обернулся, обнял ее и поцеловал в щеку.
— Его лодочка в гротовой бухточке?
— Нет, нету у него никакой лодочки!
Оставив Марселину Амендралехо поспешно направился в сторону конюшен по берегу. Он еще увидел другую фелуку, отходившую из бухточки и заметную тем, что над ней в некотором подобии паруса возвышалось тело коня. Простого взгляда в трубку было достаточно, что бы узнать Фарлэпа. Увозили все дорогое его сердцу. Это был грабительский налет с моря наверное на высмотренную на берегу добычу, в которую попался и Фарлэп завязанный после поездки у конюшни.
Отплывал в море Амендралехо с колотящимся от волнения сердцем, усталый и голодный на ночь глядя, неизвестно куда, но с горячим желанием, с каким он загонял лодочку подальше в воду и запрыгивал — настичь!
Часть III. В Дебрях Магриба
* море по колено *
Оранжевый закат под завесой мглы все еще продолжал оставаться на поверхности гладкой равнины, по которой легкая лодочка гребца с весьма удобными веселками скользила от каждого взмаха. Ему очень нужно было торопиться и он налегал на весельные палки, очень удобно приноровленные к единственно возможной седелке в самом широком месте легкого быстроплавучего средства.
Черточка плывущего корабля была еще заметна над остатками голубого фона, но уже явственно очертилась оранжевая дорога заката, которая в очень скором времени должна была угаснуть, оставив в ночной мгле силуэт корабля, коего уже будет не найти. Поэтому сейчас нужно было сильнее налегать, что бы потом не пенять на себя в тщетных исканиях в бескрайних просторах мглы и воды.
Хотя нахождение посреди ярко освещенного места, как русла реки могло на первый взгляд показаться опасным, и даже показалось, но при последующем осмыслении оказалось, что уходящее судно находиться как раз на точно такой же дороге, на которую не нужно было становиться что бы не оказаться увиденным, ради того что бы держать цель на ярком свету, чего он старался достичь поначалу. Сейчас сидя лицом обращенным на темную сторону, откуда он плыл не будучи видным, после очередного просмотра назад: куда он греб, заметил, что обыкновенно ошибается, и эта вторичная ошибка была вдвойне непонятной, ведь ему казалось, что все продумано и что на пустом месте может быть?
Море не пустое место и не везде на нем едино. Ошибка его состояла в том, что если за ним не было полосы заката отбрасываемого от заходящего за воду светила, то и за судном точно также этого не было, и ему как раз нужно, в данной сложившейся ситуации, было выплыть так что бы держать цель как можно дольше на свету. Хоть на минуту дольше, хоть на последнем отблеске, которого могло хватить что бы не потерять. Кроме того нужно было определить курс уходящего судна, а это можно было сделать только на ярком свету, и свериться по звездам. На случай неудачи это могло бы еще долго потом помогать. А неудача могла произойти, если ночь будет темная, какой она обещает быть, и если ход судна самый полный. Но этого не могло быть, если только не течение.
Слабый оранжевый шар на глазах опускался за воду, но обещал еще несколько минут продержаться и за это время нужно было совершить из последних сил невозможное. Амендралехо нажимал, он даже отказался от того что бы дать крюк ради определения курса, потому что очертания корабля уже начали помаленьку увеличиваться — а это верный признак приближения. Не нужно было ни ради чего не терять ни секунды. В целях нахождения удобного положения спина его стала слепо искать новые положения для размятия заендевелостей и нашла, когда он полностью на нее улегся, облокотившись шеей с головой на маленькую перекладину. Так стало гребсти во много раз лучше и легкая лодочка казалось еще быстрее понеслась по воде. Веселки, оканчивающиеся ковшиками с крутой сливной сторонкой, только цепко ухватывались за поверхность воды и почти незаметно отцеплялись. Все в этом утлом на первый взгляд челноке, было ради скорости и только скорости, отчего можно было подумать не гонял ли куда частенько на ней Пакетти в Марсалу или еще куда?
Лежа он мог ориентироваться на закат. Когда же он почувствовал что закат начинает угасать, продолжая гребсти, приподнялся, что бы удобнее оглянуться. Как же приятно для души было вознаградиться вполне близким видом корабля в последних закатных лучах, считай догнанного предпоследним рывком, проведенном на едином духу.
Последний рывок оставалось сделать осторожно, не спеша, когда стемнеет, в смысле совсем даже от тех проблесков. Предстоящее отрывалось ему заманчивой неизвестностью.
Во тьме уже, он, стараясь потише гребсти веслами приближался к задней части корабля, очень рискуя попасться на глаза вахтенному с юта. С этим обошлось, или может быть его невозможно было заметить, да всю темную картину нарушали заметные белые паруса.
Амендралехо осторожно загребал под борт уже одним только левым веслом, да и то крайне заглубляя и работая им как рулевым. Другой рукой он насколько мог помогал, отталкиваясь, но больше наоборот стараясь задержаться, потому что корабль хоть медленно но плыл, а его одного весла было не совсем достаточно.
Амендралехо неясно себе представлял что ему делать под бортом дальше и как вообще быть с тем что бы удержаться надолго! Его стремление достигнуть киля приняло упорядоченность и осмысленность когда он нашел на носу лодочки подвязанную веревку с острым захватистым крючком. Утыкая крючок в борт и теперь уже помогая веслом он сноровисто стал продвигаться все далее вперед, и достигнув килевого бруса, уцепил его крючком. Все, можно было немножко передохнуть. Амендралехо улегся головой на перекладину, посмотрев на накрывавший его в лодочке брусчатый свод борта, под которым почувствовалось даже уютно. Нужно было немножко переждать пока там, на палубе, ночь окончательно всех утихомирит. Слышались голоса, по-видимому команды, подаваемые матросам, на коих не нужно было обращать внимания потому что им предстояло нести вахту всю ночь. Необходимо было только как можно ближе подходить к их виду, если они только там вообще не все черные. Что там могли быть за люди, и что это за корабль? Не монсеньорский ли Ариман? — Потом узнается, пока же Амендралехо заметил выше за головой якорную цепь, по которой очень легко можно было залезть наверх и так же легко слезть, и прямо в лодочку.
Как хорошо, что была лодка, удачно сокрытая под навесной носовой частью борта, словно по заказу подошедшая ему для невозможного дела, кое он делал возможным. Корабль не связывал по рукам и ногам все его помыслы и деяния.
Буксируемую лодочку плотно прижавшуюся к мягкой от водорослей заводненной части борта иногда подкидывало свободным краем, и одновременно с этим, как от этого, в голову думавшему Амендралехо приходили мысли одна лучше другой. Наконец он не выдержав этой муки томительного ожидания с роем раздумий резко приподнялся в сидячее положение. Он снял рубашку, конечно же несмотря на то, что было холодно, в том намерении что нужно было как можно больше соответствовать по виду, исключая прочие несоответствия. Белая рубашка как раз и делала его белым среди черных.
Но сняв ее он становился еще более белым, истинно белым по коже, а не по виду, несмотря даже на загар. На это Амендралехо сделал так — надел на грудь снятый во время гребли свой темный короткий камзол закрыв воротником на пуговицу все тело до самой шеи. Засучил рукава, что-то наподобие халата. А на голову напялил последней белизны ту самую рубашку, став накручивать ее в тюрбан. Несмотря на некоторые навыки в этом, из рубашки у него получилось накрутить только на простенькую чалму, а оставшиеся висеть части сунул за шею под воротник, что-то наподобие арабского платка, если конечно он, будучи белым –не преступление, черт его знает, но бело-крахмального оттенка видеть ему не доводилось, а это могло оказаться важным.
Ну, а что касается лица, то оно и так должно быть черным, от пережитой беды, да и где такое у негров могло быть возможно что бы без белых, хотя бы арабов.
Он был готов и стал присматриваться как бы ему поудобнее добраться до цели, которая лишь на первый взгляд была совсем рядом, но нужно было за ней сильно наклоняться, чтобы дотянуться, не имея ничего за что бы можно удержаться рукой. Но подтянув лодку за веревку ближе к килевому, брусу вяло разрезавшему воду, он встал и взялся за звено цепи. Якорная цепь держалась основательно. С трудом, а не легко, как он предполагал, подтянувшись до цепного вырезка в борту он взглянул в него, может быть выдавая себя белой чалмой которая наверное выглядывала поверх борта. Никого не было видно и Амендралехо принялся залазить на кормовую палубу, которая благо не была открытой и на ней черт ногу мог сломить от множества канатов. Залезая, он подумал что ему первым делом нужно залезть к коку и подкормиться, что бы и силы вернулись и голова поумнела, и из кухни уже начать свой вояж, предварительно запасаясь кормом в обратный путь… вообще что называется обнаглев от шустрой смелости первых успехов. Эх, если бы он состоялся, как бы это было прекрасно вернуть ее почти сразу же! Но кто знает чем кончится его вылазка и найдет ли он здесь хотя бы кухню?
Потихоньку пробираясь около борта, Амендралехо внимательно вглядывался во все окружающее. Ничего особенного он пока не замечал и даже не видел никого из матросов, словно на корабле все вымерли и это ему попалось судно-призрак. Нужно было идти в трюмы. Все спали и даже команда может быть за исключением единиц рулевого и вахтенного. Возникшую мысль воспользоваться этим обстоятельством и привести корабль обратно, да не куда-нибудь, а прямо в порт, он тут же с недовольством откинул и еще раз твердо решил насытиться чтобы впредь в голову не приходило столь дурных мыслей.
Нужно было идти в трюмы и каюты, она должна была быть где-то там. Амендралехо так потянуло к ней, что твердое решение если не забылось, то осталось только ввиду. Осталось ввиду и заглянуть в люк, который был открыт, темен, и обещал быть тем чем нужно, хотя… мог быть и пороховым складом.
Он чувствовал что начинает съезжать, то есть действовать не по стержню, оставляя неосмотренными тылы, отдаваясь необузданному желанию «скорей»…
На той стороне корабля было кажется как раз то что Амендралехо предполагал. Он спрятался за перегородкой и стал наблюдать. Самая задняя часть корабля была высоко приподнята так, что ютовая палуба оказалась крышей богатых кают, украшенных и охраняемых двумя черными стражниками у дверей. Там она и должна была быть, там она только и могла быть и нигде иначе. Конечно он мог проникнуть вовнутрь, например дождавшись когда один из стражников сходит помочиться, но нужно было прежде чем что-либо делать всегда осмотреться. Это истина давно замеченная подошла и к данному положению вещей. Восходила луна и своим светом возможно давала возможность заглянуть в окна. А в окна он заглядывать собрался сверху вниз с ближайшей реи.
Через несколько минут это произошло. Стоя ногами на веревочной лестнице и держась руками за рею, нижнюю — толстую как порядочное бревно он осторожно выглядывал из-за паруса. Белый свет через окна давал в левом из них видение некоего подобия железного ящика и сидящего прислоненным спиной и головой к дверце какого-то человека. Что это было сначала, он не мог себе даже и представить. Потом лишь ему в голову пришла идея, конечно же если хочешь провезти на пиратском корабле женщину в сохранности, то ее нужно держать в ящике с охраной. И ящик был следовательно надежно закрыт и сам надежен. Сбить замок возможно не имело места быть. Но если там был замок который можно было сбить, то это было вполне перспективно: подплыть и прицепить лодку сзади, далее совершить налет, достаточно небольшого увесистого предмета. До этого конечно пробить днище фелукам. Если не получиться с замком взять железный ящик целиком с ней — эту мысль он отверг с ужасным разъедающим чувством опасности перед пожирающей все тяжелое пучиной. Но опустить этот ящик в приспущенную фелуку уже было неопасно. Нужно было обязательно осмотреть фелуки и решить вопрос с ними.
А для этого обязательно поесть и набрать провианта в обратный путь, потому что его покидали силы после такого сильного нервного потрясения.
Множество мыслей и мелких идей приходило ему в голову, вплоть до того что бы взорвать пороховницу, если она была или устроить пожар, воспользовавшись всеобщей суматохой, главное он решил себе ни с чем не торопиться, время так все существенно меняет и может днем ее уже выпустят погулять, да и вообще освободят.
Кроме того, не нужно было бездействовать ни мыслью, ни действием, ведь вполне могло оказаться так что он ошибается с ящиком. А она тогда находиться… во глубине кают?
Амендралехо слез на палубный пол и, пройдясь по правому борту, набрел на обе лодки больших размеров и под парусами. Хоть одной из них нужно было прямо сейчас же продырявить днище, за не имением чем прибег к простейшему средству поражения обезвеслил большую в пользу висевшей поменьше, очень удобной для спуска. Очень не скоро, но хоть с этим он покончил.
Что бы хоть как-то по делу затратить последующее время он пошел бродить по кораблю и через оставленный неосмотренным люк попал в самые трюмы. В том хаосе навряд ли нужно было что-то искать и можно было что-то искать без всякого света.
За все то время что он ходил, он утвердился в одном намерении, которое было более всего приближено к реалиям сложившейся ситуации и его возможностям. Что засунуть в рукав так чтобы это выглядело незаметно он нашел на мотке каната. После Амендралехо пошел прямо на стражников, которые чуть завидев его приняли в оборонительное положение свои секиры на длинных древках, закрыв таким образом проход в двери и доступ к себе. Не помогло и успокаивающее опускание руки. Единственное какую пользу принес его подход: это более менее освобожденное место, от себя стражником стоявшим рядом с окном, а теперь вставшие у дверей. Воспользовавшись этим Амендралехо заглянул в окно, вовнутрь маленькой комнатки, где прислонившись спиной к дверце ящика с неизвестно каким замком спал прикованный цепью к руке молодой худощавый бербер. Чтобы как-то оправдать свое внимание он постучал по деревянной перекладине, разбудив спящего и указав ему подняться. Тот виновато встал на вытяжку, подхватив с собой свою саблю.
Замка не было видно, но были видны прорези для воздуха, что указывало на то, что там не добро, а пленница… Однако ему шкурой почувствовалось, что нужно бы поскорее уходить отсюда. Двое стражников совсем рядом, не хотели его принимать за того, кого он из себя строил. Естественно из ранее задуманного по возможности напасть на них не осталось ни малейшего желания: с этим не соглашалось все его нутро. Наоборот нужно еще было так достойно уйти чтобы на самого него не напали или не задержали.
Амендралехо показалось, что он как раз ушел именно так достойно, не вызвав лишних подозрений, но, минуту спустя, услышал далеко позади себя перебежки и голоса. Он наклонился, сорвав с головы белую рубашку, и побежал к носу. Там он, не теряя на лишнее время, сиганул за борт и повиснув держась за цепь стал нащупывать ногами веревку… Он с ужасом глянул вниз хоть и было это ему трудно — не сорвалась ли его лодочка?! Она держалась на том же месте.
Скрывшись в ней, ему осталось только прислушиваться, что происходит наверху? Вроде его потеряли в трюмах, куда подумали что он скрылся. Сейчас бы, кстати, можно было попытаться проникнуть на ют и в каюту пока его ищут в трюме, но ему ничего кроме спать больше не хотелось. Если будут скидывать якорь его не убьют. Он преспокойно улегся на боку, притулив голову к жердочке, хоть немножко вздремнуть.
Пробуждение на ярком свету произошло с ощущением что над душой его кто-то стоит, и не стоит даже, а стоят. Он поднял голову переведя взгляд от борта, отбрасывавшего все же какую-никакую тень.
На верху сильно перевесившись через край борта свешивались головы зрящих.
Амендралехо, спохватившись собрался отчаливать от сего пристанища, но сзади увидел на длинной фелуке к нему уже подплывали. Можно было попенять на себя за проявленную ночью слабость, если бы было по большому счету за что пенять, кроме эфемерного удачного вызволения и отплытия с Мальвази с тем, что бы затеряться в темных просторах.
Оставалось только все то, что оставалось: попасть на корабль в качестве пленника и там уже смотреть что делать дальше, может даже смотреть из прорезей другого такого же ящика.
Арабы, наполовину с чернокожими берберами, подплывающие ближе, недоуменно глядя на него, стали указывать переходить со своей лодки к ним. Сейчас им нужно преподать от себя нечто такое, чтобы уверенней поставить себя перед ними, не то замордуют, только дай волю. И Амендралехо поставил… свою ногу на борт, так что она заметно покачнулась, приведя в неустойчивое положение людей в фелуке. Перекидывая вторую ногу уже вовнутрь, он второй раз настолько сильно качнул фелуку, что в ней не то что чуть не попадали, но и чуть из нее не повыпадывали, отчего его сразу как только это стало возможно ухватили за рукав. Это злобно сделал по-видимому даже один из тех стражников что с секирами защищали от него этой ночью проход в двери.
Амендралехо недовольно взглянув на вцепившуюся руку, сбил ее от себя легким с виду, но сделавшим свое сбивом, затем пренебрежительно отряхнул, то место. Не успела подтюрбанная морда предпринять что-либо еще, как Амендралехо, опережая события, энергично зажестикулировал руками стоявши с веслами — Давай ему греби! Те как придя в себя и еще заметив что сверху на них смотрит суровое лицо… спохватившись, стали отгребать, но и тут же прекратили, так как открыли бортовую калитку. Из нее стали подавать трап с веревочными перилами, за которые Амендралехо ухватился первым, оттолкнув стражников и первым взбежал, не преминув за собой так незаметно, словно закрывал калитку перевернуть на бок трап, с которого попадали прямо в воду.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.