
Бесплатный фрагмент - Фимаитина
История жизни двух евреев — Фимы и Тины
Повесть в двух частях
Автор выражает свою благодарность
Лёне Кацнельсону, чьи рисунки использованы в оформлении книги
Авторские права принадлежат Марку Львовскому
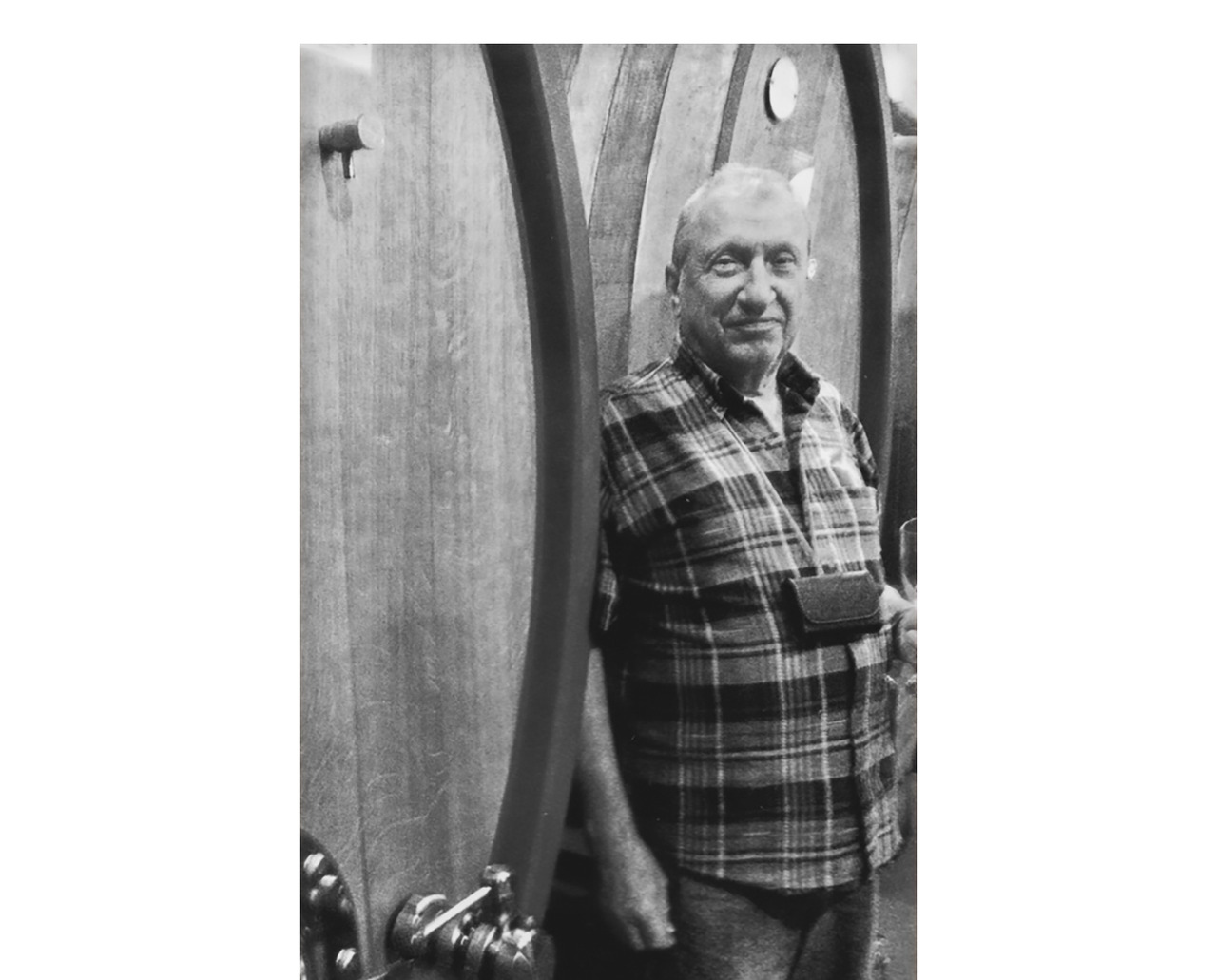
Немного о себе, авторе
Родился в Москве, в августе 1939 года. Отец погиб на фронте в 1941 году. Мы с мамой всё время войны провели в эвакуации. Вернулись в Москву в начале 1945 года, но из нашей квартиры были изгнаны безногим инвалидом, героем Советского Союза. Четверть века мотались по квартирам родных, пока мамой не была куплена в 1970 году кооперативная квартира.
По образованию я — химик. Окончил Московский Институт тонкой химической технологии. После института работал в «почтовом ящике» — так в СССР назывались предприятия, связанные с оборонной промышленностью.
В 1971 года мы с мамой подали документы на выезд в Израиль и после более чем шестнадцатилетнего «отказа» прибыли в Израиль в 1988 году.
В том же году, благодаря стараниям друзей, устроился работать по специальности во Всеизраильский Институт Стандартов, в коем и проработал до самой пенсии.
Женат. Две дочери и шесть штук внуков.
Первая моя книжка, вышедшая в Израиле, называлась «Из отказника в оле». В ней я со всем доступным мне чувством юмора пытался описать мои приключения в «отказе».
После этого написал ещё семь книг, в частности двухтомник интервью со знаменитыми «отказниками», все издал их за свой счёт и сам же занимался их продажей. Труд тяжкий, неблагодарный и убыточный.
Книга под названием «Фимаитина», которую я имею честь предложить вам для прочтения, первый опыт написания большого произведения, нечто вроде романа, и как получилось это — судить вам, читателям…
Вступительное слово
Нет, нет, господа, это не автобиографическая повесть, это — повесть с элементами моей биографии. Я пытался убежать от себя — ничего не получилось. Но у меня совсем другая, чем в повести, жена и другие дети. Однако, многие из друзей моего героя — умеренного выпивохи Фимы — это мои друзья, живые люди (увы, иных уж нет), и я написал о них, не изменив у многих имён и фамилий.
В своё время я мечтал написать роман об «отказе», об «отказниках». Но быстро понял, что пока живы «отказники», писать о них нельзя. Взять интервью — можно и даже нужно. А писать роман, да ещё исторический, — нельзя. Ибо, пока жив человек, приходится основываться на рассказах его о самом себе или на сплетнях недоброжелателей, или на восторженных отзывах почитателей, что, порой, далеко от правды, и потому приходится додумывать, выдумывать, сочинять. Невозможно познать имярека, но можно выдумать его после его кончины, взяв за основу прототип. Что и происходит в исторических романах.
Л. Н. Толстой начал писать роман «Война и мир» в 1865 году. Описываемая им война завершилась в 1812 году. Через пятьдесят три года появились очаровательные герои романа, из которых почти каждый имел свой прототип. Так появились вечные, но всё-таки выдуманные образы, и войну 1812 года знают не по историческим книгам, а по роману Толстого.
Поэтому роман об «отказе», может, и не такой художественной силы, как «Война и мир», обязательно появится, но только тогда, когда мы, «отказники», сможем прочесть его, медленно качаясь в гамаках райских кущей, восторженными возгласами отмечая появление так хорошо знакомых нам прототипов.
Руководствуясь вышеизложенным, в моей повести «отказники» и многие другие друзья Фимы, названы своими именами, и описаны, хотя и с любовью, но кратко, поверхностно, без каких-либо претензий на глубокое раскрытие характеров.
Что касается описываемых событий из жизни Фимы, то многие из них выдуманы; поверьте, ничего подобного со мной и членами моей семьи не приключалось.
Каюсь, в повести использовано много ранее написанных мною рассказов. Часто — слово в слово. И в этих рассказах присутствую действительно я, автор, но под именем Фима. Надеюсь, мой герой хуже от этого не стал…
С другой стороны, использование старых текстов имело, возможно, тщеславную подоплёку — а вдруг кто-то ещё не видел моих прежних книг, не успел купить, или отдал непрочитанными приятелю, а тот не вернул их…
В книге много стихов — Семён Липкин, Инна Лиснянская, Юрий Карабчиевский, Илья Рубин, Наум Басовский и… Фима, то бишь, — я, автор. Не взыщи, дорогой читатель — знаю, что нескромно помещать в книгу собственные стихи, но тебе предоставляется редкая возможность сравнить истинную поэзию с любительской. И надо оценить мужество автора, рискнувшего на такой эксперимент.
И ещё. Я не умею связно рассказывать. В самом разгаре повествования я вдруг хватаюсь за голову с криком: «Но я же главного не рассказал!» Или: «Начисто забыл рассказать о…» Или: «Но вот, что произошло до этого…» Складывать же все вспомнившиеся мне эпизоды Фиминой жизни в последовательную временную сетку показалось мне делом невыразимо скучным, и я оставил всё так, как сочинялось. Вот почему такими временными скачками изобилует эта повесть. Очень надеюсь, что прыжки в прошлое и в будущее не будут раздражать вас настолько, что вы закроете книгу и отправите её навечно на самую высокую и, несомненно, пыльную полку книжного шкафа… А уж в компьютере совсем просто: кнопка Delete и всё…
Часть первая
— 1 —
Началась наша история в мае 1986-го года. В Москве. В чудесном, прохладном мае, свежий ветерок которого с удвоенной энергией весело обдувал подданных гниющей советской империи, безмерно удивлённых нарастающими переменами их быта…
Фима не понял, кто открыл входную дверь. Сама вдруг распахнулась.
— Кто там?
— Милиция!
И в передней материализовался молодой, голубоглазый, розовощёкий, улыбающийся лейтенант милиции в новенькой форме, с сильно потёртой, полевой, видимо, ещё времён войны кожаной сумкой, державшейся на его левом боку посредством перетянутого через плечо чёрного, потрескавшегося от времени ремешка. Хорошо был виден и короткий кожаный ремешок клапана сумки, заправленный за массивную медную скобу.
Страх при виде этого воплощения здоровья и жизнерадостности вдруг отступил, ибо Фима решил, что с такой внешностью плохих вестей не приносят.
— Как себя чувствуете? — неожиданно спросил лейтенант.
Он по-хозяйски пересёк крошечную переднюю, вошёл в комнату, подошёл к столу, вытащил из-под него стул, уселся, положил сумку, не снимая с плеча ремешка, на стол и открыл её.
— Хорошо себя чувствую… А почему вы интересуетесь? Вы наш новый участковый?
— С иголочки новый! Да вы тоже садитесь! Как не интересоваться? Вы же только вчера вышли из, можно сказать, тюрьмы… Представляю, каково вам там было…
— Спасибо за участие.
— Я сам восемь суток никогда не сидел, но, думаю, для интеллигентного человека, никогда раньше законов нашей страны не нарушавшего, это было потрясением. Не так ли?
— Да, было не очень приятно… Правда, я уже во второй раз сажусь…
…Какое счастье, что Тина уехала на рынок…
— Интересно! Не знал, не знал… Рецидивист, значит? Шучу, шучу. А жену на рынок услали? И не стыдно? Женщину — и на рынок!
Фима опешил.
— Да она за мелочью… А откуда вы знаете, куда отправилась моя жена?
— Ефим Романович, что за глупые вы задаете вопросы? Ну, ей-богу…
Фима отчаянно покраснел.
— А дело вот у меня какое, — продолжал лейтенант бодрым голосом… — Кстати, с работы не выгнали?
— Не выгнали, товарищ лейтенант.
— Славное у вас начальство. А хотелось бы по специальности потрудиться, только честно, а?
— Кто ж меня, «отказника», возьмет по специальности? Я уж поплотничаю…
— Плотничать — это хорошо, — певуче произнёс лейтенант, внимательно вглядываясь в текст вытащенной из полевой сумки бумаги. — Плотничать — это замечательно… Да… Ефим Романович, можно я буду звать вас просто Фима?
Лейтенант широко улыбнулся, обнажив неожиданно жёлтые, неприятные зубы.
— Зовите, — сказал Фима. — А вас как звать?
— Владимир Семёнович.
— Как Высоцкого?
— Совершенно верно! Но я постоянно забываю об этом! И когда мне напоминают — воспаряю!
— Но ведь идеологически…
— Оставьте, Фима! Если бы вы знали, как необходима стране и народу талантливая, умная, тонкая, с юмором, беззлобная, никуда никого не призывающая критика партии и правительства! А теперь, Фима, ответьте мне на прямой вопрос: ну что вас, маленького, — я имею в виду рост, — не слишком, прямо скажем, отчаянного человека, объединяет с этой бесшабашной компанией матёрых «отказников»? Что?! Не их вы человек, Фима! Оставьте вы их! Другой у вас путь! Такой с ними беды на себя накличете, что век себе не простите…
От отчаянно горькой правды этих слов, у Фимы перехватило дыхание. Он молчал, ожидая, что ещё скажет этот странный лейтенант.
— Не видя бурного протеста с вашей стороны, Фима, позволю себе продолжить. Сообщаю, что если случится ещё один ваш выход с этой компанией на демонстрацию, то он окончится для вас, Фима, тюрьмой. Настоящей тюрьмой! Понятно, Фима? А для них, возможно, разрешением уехать в их Израиль. Для них! Понятно, Фима? Не для вас. Потому что у вас, Фима, режим. Секретность! Да ещё какая! У вас такая, Фима, секретность, что у меня при воспоминании о ней холодеет кожный покров на голове! А у них — всего лишь нецелесообразность или плохонькая, пустяковая секретность. Тоже существенно, но с вашим случаем несравнимо. Фима, вы не только из другой породы людей, вы из другой категории советских граждан. Если позволите, мне пришло на ум замечательное сравнение — вы, как бесценная, редкой породы домашняя собачка, прибившаяся к стае обычных, хотя и разномастных, дворняжек. Фима, я нарочито бестактен, даже груб, но я хочу воздействовать на вас. И, по моему опыту, интеллигентные уговоры-разговоры в этих случаях не только продолжительны, но и пусты.
Оглушённый этим потоком слов, Фима, красный, окаменевший, всё-таки нашёл в себе силы хрипло произнести сухими губами:
— Вы замечательный психолог, товарищ лейтенант.
Лейтенант вдруг резко перегнулся через стол, неимоверно вытянул тело, приблизил своё лицо к Фиминому и, дыхнув на Фиму чем-то ещё не переваренным, жадно спросил:
— Фима, вы действительно так уж хотите уехать?
— Очень хочу.
— И за ценой не постоите?
— У меня нет таких денег…
— Фима, не лепите из себя дурочку! Какие деньги? Комитет госбезопасности нуждается в деньгах?!
— Так вы из КГБ?!
— Да, Фима, я из КГБ…
И он отпрянул от Фимы. Глаза лейтенанта вдруг позеленели. Это было так неожиданно, что Фима чуть не потерял сознание. Он чувствовал, что происходит что-то ненастоящее, бред… А щёки лейтенанта тем временем стали желтеть…
— Фима, не обращайте внимания на изменения в моей внешности. Это от волнения перед предстоящим. Я забыл, как называется моя болезнь, но она совершенно не влияет на мои умственные способности. Итак, вы страстно хотите уехать и не постоите за ценой, выражаемой, однако, не в рублях или, не дай бог, долларах, а в поступке. В прекрасном поступке, оправдывающим всё то скверное, что было в вашей жизни. Другими словами — в светлом поступке!
— В каком поступке? — в тихой панике, как обычно, покраснев, спросил Фима, уже догадываясь о гнусности, которую предложит ему мнимый лейтенант.
— Ну, до чего же вы открытый человек, Фима! Бесхитростный, будто ребёнок, поддерживаемый моей дружеской ладонью. Вы подумали, что я предложу вам следить за другими? Докладывать нам о предстоящих акциях? Нет, Фима! У нас уже есть такой человек! И не один… Вы, Фима, избраны для куда более высокой миссии!
— Какой миссии? — Фима съёжился.
Лейтенант молчал. Поставил локти на стол, сжал ладонями щёки и уставился взглядом в стол. Наконец, когда молчание стало невыносимым, он отряхнулся, освободил свои щёки, посмотрел на Фиму — это был уже совсем другой человек, немолодой, грустный, усталый — и произнёс:
— На Родину, нашу с вами Родину, поработать надо, товарищ Фима.
— Что это значит? — тихо спросил Фима.
— Это значит, что вы получаете разрешение на выезд в Израиль не только с целью проживания там, но и для работы во имя, как я уже говорил, нашей с вами Родины.
— Шпионить?!
— Немножко.
— Я не хочу. И не умею. Вы же сами сказали, что я трусоват.
— Фима, именно поэтому вы будете использованы по мелочам. Кроме того, я не употреблял слова «трусоват», я сказал, что вы, Фима, не слишком отчаянный человек, не более того.
— Что это значит — «по мелочам»?
Фима почувствовал, что задав этот вопрос, он начал сдаваться. Он хотел снова заявить, что не хочет, что ему противна даже мысль об этом, но ожививший лейтенант не дал ему вымолвить ни слова. Мало того, он вдруг приподнялся над стулом и на некоторое время, не изменяя сидячего положения тела, повис в воздухе.
— Что это с вами? — чуть не задохнувшись от изумления, прошептал Фима.
— А, ерунда. Генетика… Мой дядя был воздушным акробатом.
И грохнулся на стул.
— Итак, отвечаю. Что значит «по мелочам»? Мгновенно отвечаю. Например, сообщать нам, что пишут главные местные газеты о том или ином событии…
— Сами не можете почитать?
— Фима, вы не понимаете специфики нашей деятельности. Нам нужна мгновенная информация, о чём пишут израильские газеты. А тут — купи, переправь в Москву, переведи, а переводчики с иврита на русский не только мало квалифицированы, но и чрезвычайно заняты, и надо просить начальство, и так далее, и так далее, в общем — суета. А с вами — благодать: мы вам по телефончику, что нужно, а вы нам, опять же по телефончику, что вычитали.
— И меня мгновенно засечёт израильская контрразведка. Я такое о ней слышал!
— Фима, вы думаете, что будете звонить из Израиля в КГБ? Нет, Фима, вы будете звонить «отказнику», замечательному «отказнику»! Это будет домашняя, дружеская беседа, не вызывающая никаких подозрений! С последующим отключением у этого «отказника» телефона. Обычная, привычная схема.
— А где ж я возьму столько денег на покупку всех газет?
— Опять вы о деньгах, Фима! Какая у вас крепкая национальная жилка! Да оставьте эту тему! Будут у вас деньги. Ещё и на мороженое останется.
— Каждый день переводить несколько газет?! Где ж я возьму такой иврит?!
— Мы вам дадим несколько спокойных лет на его изучение. С вашими-то способностями! По нашим сведениям, вы уже преподаёте иврит! И почему вы решили, что каждый день? Только по необходимости. Например, выступил товарищ Горбачев по той или иной теме — вам задание: реакция центральных израильских газет.
— Он каждый день выступает…
— Вот видите, мы уже ведём профессиональный спор. И это замечательно!
— Что ещё от меня потребуется? Кого-то убить? Что-то взорвать?
Фима начал обретать себя.
— Вы — и убить?! Вы — и взорвать?! Ах, Фима, если бы вы могли…
— Товарищ лейтенант, вот, я вспомнил, что однажды в детстве местная шпана подговорила нас, малолетних мальчишек, залезть в брошенную церковь, уже огороженную для предстоящего ремонта, и стащить иконы, которые, по сведениям этой шпаны, случайно остались в церкви. И мы, несмышлёныши, полезли и, конечно, быстро были перехвачены сторожем, который вызвал милицию. И знаете, товарищ лейтенант, в отделении милиции я мгновенно сдал всех, кто подговаривал нас. Всех. Я знал их по именам. Что я этим хочу сказать? Я не гожусь быть шпионом. Всех вас сдам мгновенно. Я не только физической боли боюсь, я боюсь самих вопросов!
Лейтенант задумался. Лицо его опять изменилось. Он вдруг заплакал. Потом зарыдал.
— Какой ужас! — вскричал он сквозь рыдания. — Как мы могли не знать этого эпизода из вашей биографии? Боже мой, что с нами стало?!
Он неожиданно успокоился, ловко поймал откуда–то из воздуха возникший, огромный, украшенный серпом и молотом, носовой платок и отчаянно высморкался. Успокоился.
— Но вот, что интересно: ведь полезли вы в церковь! И не поймай вас сторож, задание было бы выполнено! Значит, главное для вас, Фима, — не попасться! Вот на этом и будем строить нашу работу!
Лейтенант аккуратно вытащил из расстёгнутой сумки зелёную папку, завязанную бантиком чёрными тесёмками, нежно развязал, раскрыл папку и мурлыча «Речка движется и не движется», вытащил лежащий в ней единственный лист бумаги с отпечатанным на нём текстом. Развернул его в сторону Фимы.
— Читайте и подписывайте!
Фима внимательнейшим образом прочёл следующее: «Настоящей подписью удостоверяю, что, находясь в государстве Израиль, обязуюсь выполнять несложные поручения российской контрразведки, связанные с улучшением двусторонних отношений между Россией и Израилем. Нанимателем меня особо отмечено, что мои задания никоим образом не будут связаны с применением холодного или огнестрельного оружия, а также с удушением или избиением какого-либо живого объекта. Речь идёт исключительно об интеллектуальной работе. Подписываю этот документ, находясь в здравом уме и памяти…
Подпись (только чёрными чернилами)…»
— Прочли? Да я с таким документом и к папуасам бы поехал!
Лейтенант блаженствовал.
— Я бы тоже, — сказал Фима и подписал. Трудно сказать, кто в это мгновенье владел его рукой. И откуда вдруг авторучка?..
Все мы порой оказывались в состоянии настолько подавленной воли, настолько помутнённого разума, что совершали поступки, никак не совместимые с собственным характером, наконец, просто с элементарной логикой. Что движет нами в подобных случаях? Чаще всего — страх. Часто — усталость, бессилие, безнадежность. Или ошеломительная атака какой-то, более чем ты, сильной личности. Или захватывает тебя дух приключений, эдакий приятный холодок внизу живота: «А что, если попробовать, чёрт возьми!» Но хуже всего, когда за принятием дикого для тебя решения стоит обычное: «А, ерунда, обойдётся…»
Но эти рассуждения хороши только для психически здорового человека. Фима же чувствовал, что с ним происходит нечто, независимое от него, неподвластное разуму.
«Что со мной? Это же не лейтенант! Это — фантом… Никого нет в комнате… Никого! Почему я боюсь заорать? Тина… Господи, хоть бы она скорей возвратилась…»
Лейтенант аккуратно вложил лист в папку, завязал её прежним бантиком, сунул в полевую свою сумку, встал, энергично расправил на себе форму, открыл нагрудный карман кителя, вытащил оттуда приятно пухлый конверт, протянул его Фиме и проворковал:
— Через месяц получите визу, а пока купите себе и жене чего-нибудь стоящего. Наши люди не отправляются за рубеж с голым задом. Да, что касается жены, то я вам советую не врать ей, Фима. Ибо, если вы не доверяете жене, то зачем женились-то на ней? Муж и жена — одна сатана!
Фима вдруг захотелось заорать, он открыл рот, и из него посыпалось:
— Товарищ лейтенант, какая у вас раритетная сумка!
— Заметил… Вот, говорим о преемственности, традициях и прочем. Говорим?! Болтаем просто! А я пуще всего берегу дедову полевую сумку. Дед с ней всю войну прошёл. А потом отец берёг, — он в райкоме партии трудился, — без неё на работе не появлялся. А теперь я… Настоящая эстафета поколений! Вот как надо жить, Фима.
— А мне подумалось, что вы ко мне прямо с поля сраженья…
— Что я люблю в вашей нации, так это остроумие. Всегда и везде. При любых обстоятельствах.
— Особенно, в концлагерях.
— Фима, у меня нет времени на серьёзные дискуссии.
— Но какая кожа — столько всего вынести!
— Глубоко копаешь, Фима. Да, делали когда-то вещи. И люди были соответственно этим вещам. Прощай!
И исчез.
«И что я скажу Тине? Господи, что я скажу Тине?! А ничего не скажу. Если ей сказать, то всю оставшуюся мою жалкую жизнь она будет заговорщицки спрашивать „Ну как?“ и оглядываться. Не говорить — это же не значит лгать. И потом — всего лишь газеты. Какая, на самом деле, ерунда. Мудак ты, мудак! Не уговаривай себя! Будешь пакостить Израилю, как кусачая блоха… А вдруг это действительно во имя улучшения двусторонних отношений? Я буду поставлять этим гадам именно нацеленную на это информацию. Вот выход из положения! Давай, давай, Фима, уговори себя! Уговори! А станет сурово — пойду в ШАБАК и всё выложу. Это будет поступок! И меня тут же сделают двойным агентом… И это — конец. Всё, завтра пойду в КГБ отказываться. А к кому идти? К Владимиру Семёновичу… Идиот, даже фамилии не узнал! Господи, да что со мной творится?! А не подпиши, навеки остался бы здесь. Один, без друзей, ненавидимый титульной нацией. Нет, нет, может быть, я поступил не так уж глупо… Выкручусь… Подумать только, не узнать фамилии! Фима, у них фамилий больше, чем у всего населения СССР… Но весь ужас в том, что пришли ко мне, именно ко мне! Вот чего я стою… Но как эти гады узнали, что я трус? Я же всё делал, как все. Страх — это же внутреннее состояние. Или у труса есть что-то в лице, в повадке? А, вспомнил! Когда милиция тащила нас в автобус, я не сопротивлялся, шёл себе под ручку с гебешником, и всё. А остальные вырывались, кричали, им заламывали руки, их пинали, били… А в камере? Нет, в камере я вёл себя прилично. Если не считать ту постыдную истерику, когда остался один… Господи, а вдруг среди нас уже много таких, как я, подписавших? Фу, легче стало… Подпись… Да хрен с ней, с подписью! Заявлю в Израиле, что заставили! Шантажировали!»
И в это время вошла жена. И очень довольная, так как ей удалось купить такой кусочек мяса, такие малосольные огурчики, такую сметану!.. И не дорого! Правда, пришлось походить по рынку!..
— Ох, Фимка, я тебя сегодня побалую! А с чего ты такой розовый?
Поразительная женщина! Ответ ей был совершенно не нужен. Но уже через считанные минуты, на сковороде, полной поджаренного, золотистого лука, шипели одинаковой толщины куски мяса, а на соседней конфорке тихонько подпрыгивала крышка кастрюли, в которой варилась картошка, должная через несколько мгновений превратиться в белые, дымящиеся развалины, обильно сдобренные маслом, чесноком и укропом. Это была обоими любимая еда, вкус которой зависел исключительно от качества мяса. Но год шёл 1986-ой, начало «перестройки», трудности были не только с мясом, но и со всем съедобным, медленно переходившим в несъедобное, по примеру «докторской» колбасы, по виду напоминавшей вынутый из процеженного бульона и затем спрессованный, несвежий, желтоватый творог, вдавленный в рулон полиэтиленовой плёнки. Знатоки поговаривали, что в эту «колбасу» добавляли и нехилое количество крахмала.
Но никто не умирал с голоду. Мясо — или расхватывали на пути к прилавку, или в подсобках, конечно же, с хорошей переплатой, или покупали ранним утром на рынках, или ездили в какие-то подмосковные дали. Вечный советский дефицит рождал гениев поиска и спекулянтов, без которых жизнь в перестроечные годы была бы просто невозможной. И ничего удивительного, что из страны бежали не только по идейным соображениям, но и ради жратвы, которая на Западе и в Израиле, по знанию многих советских евреев, была красиво упакована, доступна и вкусна. В этом прилюдно, к его чести, признался в 1992 году временно эмигрировавший в Израиль, актёр Михаил Казаков. И никто его не осудил. Максимум, что могли сделать идейные сионисты, это не ходить на его спектакли. Так жёны их ходили…
— Давай выпьем! — Не ожидая ответа, Фима направился к холодильнику. — В честь тебя, сотворившей этот выдающийся обед!
Фима налил две рюмки водки; одну из них, наполненную лишь наполовину, протянул жене, потом потянулся к ней за поцелуем, успел увидеть удивлённые глаза, коснулся её тёплых губ, и они выпили. Впрочем, Тина сделала лишь крошечный глоток.
— Стала трезвенницей?
— Нет, просто не хочется… Фима, что с тобой? Слёзы?
— Не обращай внимания. Накатывает иногда…
Нет, никогда в жизни не расскажу ей. Никогда, ни за что… Неужели я сошёл с ума?..
— Я тут без тебя… Гебешник приходил…
— Господи… Что это вдруг? Угрожал? Страшно было, да? — Тина перестала есть.
— Давай поедим, потом расскажу.
— Нет, говори сейчас.
— Потрясающее мясо! Давай ещё выпьем. По капельке…
— И ты немедленно всё мне расскажешь.
Фима выпил. Дожевал последний кусочек мяса, нацепил вилкой последний кусок картофелины. Отправил в рот. Откинулся на спинку стула.
— Ах, Тинка, какая ты потрясающая стряпуха! Да, так о гебешнике… На самом деле, ничего особенного. Приходил лейтенант. Спрашивал, когда устроюсь на работу, уговаривал больше не выходить ни на какие демонстрации, в противном случае, сказал, могу сесть, и сесть надолго… В общем, обычная тоска.
— Интересно, что сам пришёл, не вызвал по повестке. А если б тебя не было дома?
— Да они всё о нас знают. Он, например, знал, что ты ушла на рынок.
— Странно… Ты какой-то опущенный. Ты всё мне рассказал?
— Почти…
Я не могу не рассказать ей… Как я буду жить с такой ложью? И всё равно, она рано или поздно всё узнает, и мне конец — почему скрывал? А вдруг, если сейчас расскажу, она врежет мне и уйдёт? Я однажды солгал ей, по мелочи, и она три дня со мной не разговаривала… Как котёнок бегал за ней и просил прощения… С другой стороны — я же, наверное, сошёл с ума… И об этом я просто обязан сказать ей.
Он стал собирать со стола грязную посуду.
— Фима! — голос жены стал угрожающим.
— Этот гад, представляешь, предложил мне работать на них.
Повисла кошмарная тишина.
— Фима, и ты не сказал ему «нет»?
— Конечно, сказал! Как ты могла подумать иное?.. Но, знаешь, он предложил работать на них не здесь… а в Израиле… И я подумал, что как скажу здесь «да», так и скажу в Израиле «нет», немедленно обращусь в ШАБАК или куда там ещё, и окажусь под их защитой. А главное, что мы через месяц получим разрешение, представляешь?
Тина, любовь моя, только не взорвись, только не презирай, только не уйди, только пойми меня… Надо было делать ребёнка, не ждать годами разрешения… Всё было бы иначе… А если уехать в Америку… Неужели будут и там искать нас. Нас… Господи, не разлучи! Но зачем ей нужен сумасшедший муж?
— Ты немедленно пойдёшь в КГБ и откажешься. Немедленно! Мы вместе пойдём. Я скажу им, что не разрешаю! Что у тебя была минута слабости. Что ты страшно устал жить в «отказе». Одевайся!!
— Тиночка, родная, только без истерики. Давай сначала всё обдумаем. Понимаешь, он не назвал своей фамилии. Как мы найдём его, а? Знаешь, я иногда думаю, что это был какой-то фантом, а не лейтенант. Он вроде был и вроде его не было…
Но Тина не слушала его.
— Опишешь его — с твоим-то талантом! Фима, что ты наделал?! Я — жена шпиона?! И сколько я выдержу такой жизни? А наши дети будут детьми шпиона?! Фима, я беременна! От шпиона! Одевайся!!
— Беременна?! И не сказала? Тина, родная…
Он протянул к ней руки, но жена скользнула в спальню и оттуда прокричала:
— Из тебя шпион, как из меня Майя Плисецкая!
Тина в юности занималась в танцевальном кружке и обожала балет и танцы.
Фима лихорадочно одевался.
Брюки, его обиходные брюки, подшиты были безобразно. При одевании правой штанины, большой палец ноги упирался в уже надорванный шов конца штанины, застревал в нём, штанину приходилось приспускать, со всей силы подгибать палец, снова натягивать, что далеко не всегда достигало цели. Выматывала эта процедура страшно. А бегать за другими штанами при уже надетой левой штанине почему-то было унизительно.
Я столько раз просил её починить этот проклятый шов. Столько раз! Она из меня делает котлету. Точно, как это сделал гебешник. Она беременна. От меня. Но мы же предохранялись! А, помню, помню — вернулись поддатые с проводов… Как я люблю её!
Его вдруг бросило в жар.
Куда идти? На Лубянку? Меня же отправят в сумасшедший дом! Как я скажу им: «Я отказываюсь от прежде принятого обязательства шпионить в пользу СССР. Мы с женой…»
…Стоял прохладный май 1986-го года. Два часа пополудни. Их узкая улица на севере Москвы радостно высыхала после ночной стирки в проливном майском дожде. Было так покойно, так красиво, что редкие машины, стеснительно шурша шинами, старались как можно быстрее скрыться за поворотом, чтобы не нарушать идиллии.
— Куда же мы пойдём? — спросил Фима.
— Сначала в отделение милиции, чтобы узнать, где располагается наш местный КГБ.
— Почему ты не сказала мне, что беременна? Как-никак я имею к этому непосредственное отношение. Или я ошибаюсь? Ну, зачем я ёрничаю? Сейчас получу…
— Фима, давай решим проблему шпионажа, а потом и проблему беременности.
— Тина, пойми, что-то со мной случилось. Я бы никогда не подписал такое. Моя рука подчинилась кому-то другому. Это не я. Клянусь. Мне вообще всё произошедшее кажется сном. Или представлением. Может, я ничего и не подписывал… Может, никакого лейтенанта и не было…
— Вот и выясним. Ты хоть внешность его запомнил?
— Ты знаешь, по мере нашей беседы она менялась…
Тина резко остановилась.
— Фима, а, может, ты меня просто разыгрываешь? Да так убедительно…
— Кто же так жестоко разыгрывает? Когда он появился… Господи, я же никому не открывал дверь!! Он сам вдруг появился!.. Он был молодым лейтенантом со старой полевой сумкой через плечо… Потом позеленели его глаза, потом пожелтели щёки, и вообще он вдруг постарел… И он висел над стулом! Да, да — висел над стулом! Деньги!! Он дал мне деньги! Но я не помню, куда сунул их… Я даже не посчитал, сколько он дал. Пакет… Он сказал, чтобы мы купили себе что-нибудь стоящее…
— Немедленно возвращайся домой и принеси эти проклятые деньги! Я подожду здесь. Фима, беги!
И Фима побежал. Задыхаясь, он влетел на третий этаж, с трудом, не сразу попав ключом в замочную скважину, отпер входную дверь, скинул туфли, нацепил домашние тапочки, — привычка к этому важному переодеванию, установленному женой с первого дня прибытия её в квартиру, была превыше всего, — бросился к письменному столу, резко стал открывать ящик за ящиком — никаких денег не было… Он взмок — весь, от пальцев ног до коротко постриженной головы. На всякий случай, он ещё раз перерыл все ящики — денег не было. А ведь пакет был увесистый, но он не помнил, куда после ухода лейтенанта сунул его… Куда? Куда, господи?! Потом появился звон в ушах. Приятный, мелодичный звон. Он не знал, что делать — ещё поискать, но где? — или помчаться к Тине. Нет, конечно, надо бежать к Тине. Да, да, это главное — к Тине…
Проклятье ненавидимых им туфель заключалась в том, что они без всякого труда сбрасывались с ног при завязанных шнурках, но надеть их без развязывания шнурков было невозможно. И начиналось — лихорадочное развязывание, вроде бы простым бантиком завязанных шнурков, переходящее в битву с немедленно образовавшимся узлом. На этот раз в ход пошли даже зубы. И Фима тихо заплакал. В конце концов, он справился и выскочил на улицу.
Запыхавшись, подбежал к Тине.
— Почему так долго?
— Искал деньги.
— И много их?
— Я не нашёл денег.
Тина, приготовившись взять мужа под руку, остановилась.
— Это как?
— У меня нет ответа.
— Ты хорошо помнишь, куда положил их?
— Я ничего не помню… Тина, мне очень плохо. Мне никогда не было так плохо. Я даже не могу утверждать, что ко мне приходил этот странный лейтенант. Тина, со мной что-то происходит…
— 2 —
Фиме к этому времени было только 40 лет, а Тине — уже тридцать… Фима 12 лет сидел в безнадёжном, как ему казалось, «отказе». Четыре года тому назад они познакомились на шумных, печальных для провожающих и тоскливо-радостных для уезжающих, проводах в Израиль двоюродного брата Тины, человека-легенды, такого бесстрашного, что Фима не знал, как с ним держаться и о чём разговаривать. Этот брат отсидел бесконечное число пятнадцатисуточных арестов, после каждого из них выходил весёлым, хотя и помятым, и немедленно отправлялся на следующую демонстрацию. На допросы он являлся с будильником и бутербродами и в нужное ему время объявлял следователям, что у него обеденный перерыв. Гебешники грозили ему скорой и уже настоящей посадкой, но вместо этого неожиданно выпустили в Израиль. Это был 1983-й год, начало эпохи генсеков-мертвяков, один за другим уходивших в Лету, это было — никто ещё, правда, того не знал — начало развала империи. И гебешники не знали, но воистину собачий нюх на малейшие колебания почвы, заставлял их принимать, на первый взгляд, странные решения…
Фима на этих проводах прилично выпил. Тину он заметил не сразу, но, заметив, уже не мог отвести глаз. Для придания своему поведению не только значительности, но и естественности, орал со всеми «отказные» песни, прочёл, сочинённый по случаю, рыдающий стишок, кончавшийся простыми словами: «Безумцам нашим вослед мы плачем».
Красавицей назвать Тину было нельзя. Но сочетание её черт и всё ещё юная округлость форм создавали облик, который уже не отпускал. Она была неуловимо похожа на Галу, жену Сальвадора Дали. Помните — ничего, вроде бы, особенного, но, поди, оторвись от лика её на многочисленных портретах. И, несмотря на это, Тина была не замужем. Ухажёры были, были даже связанные с ней близостью, но то они исчезали, то она гнала их от себя и скоро уверовала, что останется старой девой…
И однажды вечером, когда семья молча чаёвничала, Григорий Аркадьевич сказал:
— Дочь, поехали в Израиль, а? Еврейских ребят почти уже нет, а если и есть, то обязательно комсомольцы…
— Поехали… — безучастно проговорила Тина.
От этого слова до проводов, описываемых нами, прошёл ровно год…
Тина с удивлением взирала на незнакомого мужчину, в восторге сверлившего её глазами. «Поди ж ты, я ещё нравлюсь, — думала Тина, — а этот, кажется, сейчас просто свалится к моим ногам. А, может, пьяный? Несколько невзрачный… Умный хотя бы?»
…Фима, в тогдашние 40, был холостяком по причине вечных своих любовных неудач. Он трижды был влюблён и четырежды отвергнут. Как это может быть? Дело в том, что в четвёртый раз он совершенно не был влюблён, а упорно, в основном, чтобы доказать себе свою состоятельность, ухаживал за женщиной, добиваясь близости, в том числе, и духовной. И был отвергнут. Не то чтобы от неудач на любовном фронте Фиму охватило отчаяние, но все его друзья-«отказники» были уже давно женаты, и Фима чувствовал себя неуютно — иди, рассказывай им, что тебя постоянно отвергают. Главной и весьма правдоподобной, оправдательной версией была необходимость женитьбы только на «подавантке» или «отказнице», но лучших уже порасхватали, а остальные…
Он был по-настоящему одинок — все, подчёркиваем, все известные ему родственники из СССР укатили. Даже мама, Елена Яковлевна, несмотря на её отчаянное сопротивление. Дело в том, что маму ждал её единственный родной брат, покинувший Россию ещё в двадцатых годах и прибывший в Израиль в 1948 году после чудесного выживания сначала в немецком концлагере, потом в послевоенных погромах в Польше.
Отца же Фима почти не помнил. В 1950 году, когда Фиме было всего четыре года, на подмосковном химическом заводе, в цехе, начальником которого был Фимин отец, случился взрыв. Отца и ещё двух евреев заподозрили во вредительстве, арестовали, но суд приговорил их «всего» к трём годам принудительных работ на Пермском химкомбинате, так как вредительство с них сняли, — очень уж ценные были специалисты, — оставив «преступную халатность», — и никто Фиминого отца больше не видел. В 1951 году мама получила извещение, что её муж скоропостижно скончался от двустороннего воспаления лёгких. Она тотчас поехала в какое-то место около Перми, где и «повидалась» с ним… В 1954 году мама получила извещение, что мёртвого отца реабилитировали.
— Максимум через год я приеду! — шептал Фима зарёванной маме, провожая её в аэропорту Шереметьево. — Каждый год присылай мне вызовы и требуй воссоединения семьи через самые высокие инстанции! Дядя Давид поможет! С его-то связями! Перестань плакать, мамочка! Ты — мой въездной билет в Израиль!
И на пороге своего шестидесятипятилетия, в 1982 году, она уехала в Израиль.
…Фима не мог оторвать глаз от Тины. Она весело выразила на лице своём некоторое смущение, но даже малейшего отвращения в этом смущении Фима не заметил, что придало ему немало мужества. И прожевав корочку чёрного хлеба, дабы не свалить Тину парами водки, он стал продвигаться в её сторону. Продвигался долго и вдруг очутился прямо перед Тиной, причём, невзирая на его сопротивление, до неприличия прижатый к ней броуновским движением пьющих, жующих и говорящих тел.
— Вы — Тина! — почти в ухо ей прокричал Фима. — Мне ваш брат рассказывал о вас.
— И что же он рассказывал?
— Что-то очень хорошее. Правда, я не очень помню.
— А вы вспомните!
— Вспомнил! Что вы умная, добрая, начитанная и на сей день одинокая. Он рассказывал, что, как это ни печально, вы всё ещё не собрались ехать в Израиль.
— Для кого печально?
— Естественно, для Израиля!
И получил в награду первую её улыбку. И сразу стал терять заготовленную на случай знакомства оригинальность своей натуры.
— А вы, конечно, «отказник»?
— Увы, да.
— Ужасно. И что же вы делаете?
— Борюсь за отъезд.
— А в перерывах?
— Работаю в Театральном училище им Щукина.
— Кем?!
— Плотником. Но к ударам моего молотка прислушиваются лучшие преподаватели училища! Мало того, самые выдающиеся студенты постоянно обращаются ко мне с просьбами!
— С какими?! — её весёлые карие глаза округлились.
— Одолжить им рубль на водку!
Она рассмеялась, приложив руки к груди, и от этого простого жеста у Фимы так заколотилось сердце, что он еле удержался, чтобы не поцеловать её.
— Можно я провожу вас?
— Но я с родителями и братом.
— А я всех вас провожу.
И в ответ вновь ободряющая улыбка.
— Подождите минутку…
Она юркнула сквозь тела евреев, и Фима, заворожено следивший за ней, увидел, что она остановилась около приятных видом мужчины и женщины, что-то сказала им, те стрельнули глазами в толпу, естественно, Фиму не обнаружили, но кивок отцовской головы и что-то, несомненно, назидательное, произнесённое мамой, дали понять Фиме, что проводить Тину домой ему высочайше разрешено.
Немного пьяная толпа остающихся в СССР евреев ещё долго пихала и расталкивала Фиму с Тиной, даже пыталась отделить их друг о друга, но это было уже не в её силах…
Перед самым расставанием, у подъезда её дома Фима пытался поцеловать Тину, но получил указательным её пальчиком по носу. Следующее свидание было назначено на завтра…
Боже мой, люди, вы знаете какое это счастье, когда с девушкой не надо говорить об «эдаком», а можно говорить о своей жизни (правда, чуть привирая), слушать о её жизни, острить и смеяться, потому что душа того просит, и с окончанием свидания сначала просить о следующем, а потом и просто назначать и готовиться к самому главному в жизни — предложению руки, сердца и… радостей «отказной» жизни… Фима снова влюбился, в четвёртый раз, но отвергнут не был.
Через полгода после знакомства, в первый день нового 1983 года, сыграв скромную, но украшенную присутствием многих великих «отказников» свадьбу, новоиспечённое семейное сообщество в лице Фимы, Тины, родителей Тины — Елизаветы Иосифовны и Григория Аркадьевича — и её младшего, длинного и нескладного, но талантливого брата Феликса, решило обмануть КГБ и подало документы на выезд всей семьёй. В итоге, через пять месяцев все, кроме Фимы, получили разрешение, и Фима со своей женой остались одни в скромной, двухкомнатной кооперативной Фиминой квартире…
Расставание с Тининым семейством, признаемся, не было столь уж тяжким испытанием для Фимы. Григорий Аркадьевич, человек многих сложившихся и не меняемых убеждений, любивший Л. Н. Толстого и называвший роман Булгакова «Мастер и Маргарита» «длинным фельетоном с претензиями», чем доводил Фиму до беззвучного исступления, принял замужество дочери спокойно, и если и мечтал о большем (и в смысле роста — тоже) для своей любимицы, то ни Фиме, ни дочери никоим образом это не выказывал и лишь иногда глубокомысленно вздыхал, слушая восторженные Фимины рассказы о студентах (в основном, — студентках) своего училища. Иначе, как «своим» «щукинку» Фима не называл.
Елизавета Иосифовна всеми силами старалась полюбить Фиму, заменить ему уехавшую мать, но Фима постоянно выныривал из её готовых распахнуться ему навстречу объятий, так как более всего боялся её вмешательства в их жизнь, твёрдо уверовав из книжек и кинофильмов, что тёща — почти всегда зло. Вот Тине он доверился сразу и, казалось, на всю жизнь.
Интересно складывались отношения Фимы с младшим Тининым братом, вундеркиндом Феликсом, ростом в метр восемьдесят пять и продолжающим расти, что было причиной многих острот по поводу его происхождения, ибо рост и папы и мамы был самым что ни есть нормальным. Вундеркиндность Феликса проявилась уже в десятилетнем возрасте, когда он заявил родителям, что будет учиться только в математической школе. И его семь лет возили в эту школу, которую он закончил с золотой медалью. Дальновидный Григорий Аркадьевич, понимавший, что в университет Феликса не примут при наличии даже нескольких золотых медалей, настоял на поступлении в «керосинку», — так назывался в то время Московский институт нефти и газа, — куда евреев брали, видимо, в надежде на скорую от них отдачу: картина счастливо улыбающегося, носатого, белозубого еврея-нефтяника в каске, с головы до ног испачканного нефтью, радовала сердце антисемита любого ранга. Но самым главным было то, что в «керосинке» по явному недомыслию властей открылся в это время математический факультет, куда Феликса приняли с распростёртыми объятиями. Окончив и его с золотой медалью и проработав год в какой-то незаметной «шарашке», будущее математическое светило отправилось в Израиль.
Так вот, Феликс встретил Фиму весьма насторожённо. После первого знакомства, состоявшегося в доме Григория Аркадьевича, Феликс стал называть Фиму «дядей», и обращался к нему со следующими вопросами: «Дядя Фима, правда, что почти все актёры малообразованны и глуповаты?» Или: «Дядя Фима, а как вы думаете, сионизм сочетается с сытой жизнью или он изначально противопоставлен ей?» Или: «Дядя Фима, а вы готовы работать в Израиле плотником?» Однажды подошёл к Фиме и сказал:
— Дядя Фима, ну зачем нам говорить на «вы»? Не такая уж большая разница в годах между мною и Тиной. А уж она точно вас называет на «ты», сам слышал! Феля и Фима! Договорились?
— Решил напомнить мне о разнице в годах между мною и Тиной?
— И в голову не приходило! Ну почему все так превратно толкуют мои слова?
— Потому что ты, Феля, — ехидна.
— Так что, мы никогда не подружимся?
— Подружимся, когда ты перестанешь считать меня великовозрастным похитителем своей любимой сестры.
— Я действительно люблю её, и мне её не хватает…
— Ты получил её даром, а я искал всю жизнь.
Феликс шагнул к Фиме и неловко, порывисто обнял его.
— Я больше не буду, честное слово… Фима, я давно хотел спросить… Вот, я смотрю на великих «отказников» и удивляюсь — как им удаётся быть такими жизнерадостными?
— К твоему счастью, ты не видел их в тюрьмах и лагерях, на допросах и при обысках. А в промежутках они жизнерадостны, потому что, прости за банальность, абсолютно уверены в правоте своего дела.
— А почему ты говоришь «они», а не «мы»?
— Я не принадлежу к числу «великих»…
— Так тяжело быть ими?
— Безумно тяжело.
— И этих безумцев много?
— Много… И я, увы, не чета им…
— Я не понимаю… Ты 12 лет в «отказе», дважды был арестован, ходил на всякие демонстрации, нам всё про тебя Тина рассказывала, а занимаешься самоуничижением! Из кокетства?
— Ни в коем случае… Как бы тебе вкратце объяснить?.. Скажем, так: «великие» ведут за собой, а такие, как я только идут за ними. Мы — за их спинами. За это тоже порой достаётся, но не так страшно… Когда-нибудь, при раздаче наград «отказникам» я не посмею подняться в тот же ряд, где будут стоять Толя Щаранский, Иосиф Бегун, «самолётчики», Володя Престин, Володя Слепак, Паша Абрамович, Ида Нудель и многие, многие другие. Нет, Феля, это не самоуничижение, а простая констатация печального факта. И я нисколько не стыжусь. Более того, сами «великие» неплохо ко мне относятся, оценив моё посильное соучастие, моё восхищение ими, мои иногда удачные, посвящённые им стишки, моё гарантированное непредательство. Ну, и как тебе твой новый родственник?
Глаза Феликса сияли…
— Знаешь, Фима, кажется, Тинка чертовски удачно вышла замуж!
— 3 —
…Тина была детским врачом. И, видимо, хорошим врачом, ибо начальство после выдачи ей характеристики, требуемой ОВИРом, не уволило её, а лишь пристыдило и попросило не делиться с больными детьми своими планами на будущее.
…Жили хорошо. Нет, правда, хорошо. Лишённые родителей, они прижались друг к другу и предметами их постоянных, но, полных взаимной заботы, споров были: заводить ребёнка или подождать, идти на демонстрацию, с немалым риском загреметь на пятнадцать суток, или не идти. Надо признать, что, как правило, тяжесть Тининых аргументов была чуть весомее Фиминых. И на этот раз Фиме, мягко говоря, не очень хотелось идти на демонстрацию с плакатами «Отпусти народ наш!», «Свободу Юлию Эдельштейну!», «Свободу Александру Холмянскому»! и авторским плакатом Иды Нудель «КГБ, отдай наши визы в Израиль!» Но Тина настояла. Она утверждала, что приходят времена вегетарианские, и надо как следует засветиться, чтобы скорей уехать.
И Фима на демонстрацию пошёл, и действительно «засветился», получив восемь суток так называемого административного ареста за двухминутное стояние в дождливый апрельский день 1986 года у издательства газеты «Известия». Сиделось не тяжело, но в последний день произошло вот что. Утром их, шесть человек, вместе отсидевших восемь суток, долго вели длинными коридорами «Матросской тишины» и, наконец, разместили в большой, пустой камере. Ближе к обеду стали по одному вызывать для последней перед освобождением беседы, другими словами, неприкрытых, хамских угроз. Каждые полчаса раздавался грохот огромного засова, визгливо открывалась тяжёлая металлическая дверь, одного за другим сокамерников вызывал зычный голос «вертухая», и они исчезали. И очень скоро Фима к своему ужасу остался один. Он пересел на ближайшую к двери «шконку» в томительном ожидании скорого вызова. Сердце, будто предчувствуя беду, застучало так, что каждый его удар отдавался в голове. Мало того, тело начал сковывать холод. Время шло, никто его не вызывал. Фима в отчаянии сжимал и разжимал кулаки, растирал щёки и нос, но холод яростно отнимал у тела остатки тепла. Скоро он не выдержал и, бросившись к двери, замолотил по ней почти бесчувственными кулаками. Никто не отозвался. И у Фимы на самом деле началась истерика. Он орал, стучал кулаками по двери, прыгал, проклинал, умолял. Обессиленный, упал на «шконку» и заплакал. И, кажется, потерял сознание, ибо с великим трудом, будто сквозь глубокий сон, услышал скрип открывшегося в двери окошка и затем голос «вертухая»: «Чего орёшь? Обедать пошли. Ещё раз грохнешь в дверь…» И Фиму захлестнула такая волна счастья, что он запел, но, конечно, вполголоса, чтобы не быть услышанным этим замечательным «вертухаем».
Скоро Фиму вызвали, пригрозили, выдали бывшую у него до ареста мелочь, часы и ключи, и он, стыдясь своего немытого тела, головы, полной перхоти, грязных ногтей, наверняка скверного запаха изо рта, попал в объятия счастливой Тины и ждавших его друзей.
И с этого дня у Фимы начались видения. Короткие, но почти осязаемые. Так, перед ним мог появиться «вертухай», сказать ему какую-нибудь несуразицу, подмигнуть и исчезнуть. Или следователь, год тому назад допрашивавший его и пригрозивший большими неприятностями. Он тоже подмигивал, грозил ему пальцем и исчезал. И так далее. Тине Фима об этом не рассказывал, будучи уверенным, что скоро всё пройдёт. Не проходило. И стали сниться скверные сны — бессодержательные, но злые, всегда в них что-то горело, кто-то он убегал в страшной тревоге, а однажды его «переехал» поезд, причем, ночью, и он, «перееханный», с ужасом наблюдал за исчезающим в ночи красным огоньком последнего вагона. Проснулся в поту, захотелось разбудить Тину, но она так сладко посапывала, что он сдержался, бесшумно слез с кровати, выпил воды, пописал, снова залез в кровать, с великой осторожностью прижался по счастью вечером выбритой щекой к плечу жены и, почти счастливый, заснул.
Часто снились ему шахматисты, супруги Боря и Аня Гулько, демонстрацию которых с последующим избиением их, он через несколько дней после отсидки наблюдал с близкого расстояния. От жалости к тоненькой Ане Гулько он чуть не заплакал и едва не потерял сознание от вспыхнувшей в нём ненависти к этой стране.
А несколько дней назад… Он спешил в магазин, и вдруг на узком тротуаре, по правую от него сторону «пристроился» тот самый тип в штатском, который руководил разгоном демонстрации и посадкой демонстрантов в автобус.
— Фима, не спешите, мне надо поговорить с вами! — проговорил, чуть задыхаясь, чекист.
— Вы должны вызвать меня повесткой… — начал Фима заученную фразу.
— Это разговор неофициальный, дружеский…
Фима ускорил шаг. Тот не отставал. Фима припустился лёгкой трусцой — гебешник не отставал. Тогда Фима ещё более ускорил темп бега и взял чуть правее, в расчёте на то, что этот тип, коль скоро он не отстаёт, непременно треснется о толстенный тополь, стоявший на краю тротуара. Ещё быстрее! Баххх! Фиме даже показалось, что старый тополь качнулся от мощного удара. Правда, треска разбитого лба Фима не услышал, что очень огорчило его. Но Фима остался один! Он перешёл на шаг, и никого рядом не было! Он подпрыгнул от радости, возгордился своей сообразительностью и понял, что отныне сможет бороться самостоятельно с этими проклятыми привидениями. Гордости его не было предела. Он шёл и пел.
А через несколько дней после этой «победы» случилось вот что… В субботу, как обычно, Фима к двенадцати часам (на этот раз без Тины) пошёл к синагоге. Потрепавшись со знакомыми, Фима заметил, что один из «великих» отказников, Юлий Кошаровский, ничуть не стесняясь стоящих на противоположной стороне улицы Архипова гебешников, обходит старых «отказников» с письмом. Каждому потенциальному подписанту он давал прочесть письмо и, получив согласие на подпись, удобно располагал перед ним свой портфель. Письмо, по-видимому, было коротким, так как ни у одного подписанта он не задерживался дольше минуты. Когда он оказался в непосредственной близости от Фимы, тот вплотную подошёл к нему и сказал, что тоже хочет прочесть и подписать письмо. Ответ был ошеломляющим:
— Фима, я не думаю, что тебе это нужно. Это только для крутых «отказников»…
Фима потерял дар речи. И надолго. Чтобы прийти в себя, он стал обходить кипучие группки евреев, но не слышал ничего, кроме звенящего в голове «Это только для крутых «отказников». Покрутившись, предполагая помутневшей головой, что все с насмешкой взирают на него, Фима вдруг обнаружил, что находится перед входом в синагогу. Он поднялся по нескольким каменным ступеням, ведущим в молельный зал, откуда раздавался негромкий, монотонный гул молящихся. Взяв со столика, расположенного у входа, кипу, нашёл самое неприметное, с краю, место на тяжёлой, отполированной скамье, опустился на неё и задумался.
«…Я — везде, но везде ничего не значу… За 12 лет «отказа» я не родил ни одной идеи, не высказал ни одного дельного предложения. 12 лет меня знают только по стишкам «по случаю»… Ко всему я — трус. Я имею полное право сказать такое о себе. Да, я участвовал в демонстрациях. Но только в толпе. В толпе мне не страшно. В толпе меня охватывает торжество победы над самим собой. Я растворяюсь в толпе. В веществе толпы я исполняю роль молекулы. Я никогда не выходил на демонстрации в одиночестве, вдвоём, втроём, даже впятером. Только в толпе. Я подписал множество писем, где стояла толпа подписей. Почему же я обиделся? За какие такие подвиги моё имя должно прозвучать на «Голосе Америки», Би-Би-Си, «Немецкой волне»? Кошаровский неимоверно жесток, но прав! Не дают орденов за длинную жизнь, дают — за подвижническую. Но, с другой стороны, какое имеет значение ещё одна подпись? Наверное, это элитарное письмо… Письмо героев, в котором мне нечего делать… Что происходит со мной? Да мало ли писем ушло без моей подписи? Меня когда-нибудь искали для подписи? И я обижался? С другой стороны, сказали бы мне такие слова Володя Престин или Паша Абрамович? Нет, никогда, хотя кому, как не им, знать моё место в «отказе»… Пойти бы сейчас к ним, поплакаться, пожаловаться.
И Фима тотчас увидел измождённое, доброе, понимающее лицо Володи Престина, любимого «отказника» евреев. И Фима, даже не приподнявшись со своей скамьи, а только закрыв глаза, позвал Володю и, задыхаясь, рассказал ему о письме. Володя выслушал, стал нежно гладить Фиму по правой щеке. И, когда у обоих на глазах выступили слёзы, Володя исчез.
Окрылённый, Фима, опять же, не приподнявшись со своей скамьи, позвал Пашу.
И немедленно оказался около него. И, задыхаясь, рассказал ему о письме. И Паша спросил:
— Хочешь выпить? — и грубовато провёл по Фиминой щеке ладонью…
Выпить они не успели, потому что Паша исчез. Но Фиме определенно полегчало. На несколько секунд. А потом стало страшно. Как это получилось, что так явственны были Володя и Паша? Он замечал мельчайшие морщинки на лице Володи, тепло его руки, ощущал на щеках Пашины ладони. Но почему их искреннее сочувствие выразилось не в словах, а в прикосновениях к его щекам?
Фиму охватила паника. А тот тип, которого Фима укротил тополем? Он же слышал стук тела о дерево!
Как мне плохо! Как мне плохо! Господи, помоги мне! Дай мне уехать! Дай мне начать новую жизнь! Я не могу, не хочу быть среди героев! Я хочу быть среди инженеров, на худой конец — плотников…
По Фиминому лицу текли слёзы. Закончилась молитва. Старики, с трудом поднявшись со своих мест, бродили по залу, перебирая в ладонях кисточки своих талесов, подходили друг к другу и тихо разговаривали, вздыхали, вытирали платками слезящиеся глаза. Фима почувствовал себя лишним, боялся, что его спросят о чём-то. Он медленно отправился к выходу, положил на место кипу и пошёл домой.
Это была ещё одна ужасная ночь. На него топали ногами «отказники» и орали, что он лишний в «отказе», что незаслуженно пользуется подарками от иностранцев, что они вспомнят в Израиле всё…
Ему мучительно хотелось обо всём рассказать Тине. Но ещё мучительней было увидеть страх на её лице.
А через неделю к нему пришёл этот странный лейтенант с потёртой, времён войны, сумкой…
— 4 —
— Идём домой.
Тина нежно взяла его под руку, и они тихо направились обратно.
— Если нет денег, значит, и не было никакого лейтенанта. Ведь ты не собирался таким образом разыграть меня?
— Конечно, нет.
— И это в первый раз такое?
— Нет…
— Почему ты не рассказывал мне?
— Я думал, пройдёт.
— И много было такого?
— Не очень… Но я справлялся…
— Значит, пойдём к Эдику.
— Конечно, конечно…
Не произнеся больше ни единого слова, они добрались до дома. Фима уселся в кресло у письменного стола, сжал в холодных ладонях щёки и застыл. А Тина позвонила Эдику, врачу-психиатру, другу многих «отказников». И уже на следующее утро им был назначен приём.
— Тина, — вдруг, с истерикой в голосе, спросил Фима, — почему ты не рассказала мне, что беременна?
— Я ждала соответствующей обстановки.
— В роскошном ресторане, при свечах?
— Примерно.
И вдруг добавила:
— Фима, мы скоро уедем.
— Откуда ты знаешь?
— Все генсеки поумирали. Не боясь, вслух говорят о «пятилетке пышных похорон». Что-то происходит. Горбачёв молод и не из их среды. Надо немного потерпеть. Совсем немного. Фима, я чувствую…
— У них никогда ничего не изменится.
— Неправда. Они меняются сразу, пластами — Сталин, потом эти мертвяки…
— Я счастлив, что ты беременна, но представляешь, каково это — растить ребёнка, на которого все русские дети будут показывать пальцем — сионист…
— А ты представляешь себе, как можно жить без ребёнка? Фима, мы будем растить ребёнка в Израиле! И не смей мне перечить!
Он не ответил, но с ужасом поднял на Тину глаза.
— А если я болен, то ребёнок родится от сумасшедшего отца?
— Ты никакой не сумасшедший, ты устал от «отказа», ты сломался, но это восстановимо, и Эдик нам поможет.
— А вдруг в момент зачатия я был уже болен?
— Зачатие, скорей всего, случилось перед самым вашим выходом на демонстрацию… Ты был мрачен, не очень хотел идти, но был совершенно нормален и приставал ко мне, как одержимый…
— Секс и сумасшествие всегда бродят рядом.
Тина подошла к Фиме, уселась ему на колени, обняла за шею, и они застыли…
…Один из известнейших врачей «отказа» Эдик, — интересно, что многие, получившие от него помощь, не знали ни фамилии его, ни отчества, ни возраста, — великолепный психиатр, редкий умница с лукавым взглядом, проникновенным голосом, широким, кажущимся добродушным, круглым лицом, мягкими движениями, да и сам весь небольшой, округлый и мягкий, внимательно выслушал Фимин рассказ о посадке в тюрьму и том ужасе, и истерике, охватившими его, когда он остался один в камере; потом он рассказал о истерзавшей его душевной боли при виде издевательств милиции над Аней Гулько, боли, не отпускавшей несколько дней; потом об уличной «схватке» и «победе» над «гебешником», потом, немного стесняясь, об отказе одного из великих «отказников» дать ему на подпись письмо, и, наконец, о приходе лейтенанта…
— Надеюсь, ты ничего не выдумываешь?
— Эдик, зачем мне выдумывать?
— Не оправдывайся. Я говорю «выдумываешь» не в смысле сознательного вранья мне, а в смысле обрастания произошедших событий, в силу их необычности, деталями, рождёнными больше твоей фантазией, чем реальностью. Ты, например, зациклен на своём временном одиночестве в камере, на старой полевой сумке лейтенанта, на изменениях в его внешности. Но меня больше интересует, стучался он в дверь или звонил?
— Ни то, ни другое…
— Другими словами, ты вдруг увидел его в квартире.
— Именно так.
— Бывало с тобой такое раньше?
— Нет… Нет, точно не бывало!
— Тина, и ты ничего такого за ним не замечала?
— Мой муж часто бывает задумчив, его трудно вывести из этого состояния, ему свойственны спонтанность и непродуманность в некоторых решениях… Фима, только, пожалуйста, не остри, что одним из таких решений была женитьба на мне. Эдик, он был нормальным мужиком!
— Почему был?! Ну, посетили нашего Фиму бредовые галлюцинации. По-научному — реактивно обусловленные, бредоподобные фантазии у личности с особой типологией.
— А что это такое? — опасливо спросил Фима
— Это термин из науки, называемой характерологией.
— И кто же исследовал мой характер?
— А его и не надо исследовать! Стихи пишешь? Пишешь! Я об этом осведомлён.
— Но, замечу, плохие.
— Да разве дело в качестве стихов? Дело в самом процессе сочинительства, когда ты удалён от реального мира, отрешён, когда перед тобой возникают призванные тобою образы, когда ты вскакиваешь как сумасшедший от неожиданно пришедшей строки, рифмы, ритма, мысли, если вообще она присутствует в стихах, короче говоря — творчество есть не вполне нормальное состояние человека. Кроме того, ты сломался от резкого изменения условий существования, тяжёлых физических испытаний и отсутствия присутствия в течение восьми дней тюремного заключения такой очаровательной, умной и верной жены.
Тина приятно покраснела.
— Вообще-то, ребята, — продолжал Эдик, — такого рода галлюцинации являются основным симптомом, уж простите меня, шизофрении, при которой в особо тяжёлых случаях происходит полный отрыв от действительности и переход в ирреальный мир, сопровождаемый галлюцинациями, иллюзиями и бредом. А критерием выхода из этого шизофренического состояния можно считать решительное отрицание больным действительности психотического мира, в котором он вдруг оказался, особенно, если это происходит в самокритичной и остроумной форме — меня, например, привёл в восторг твой, Фима, рассказ о том, как ты вырубил при помощи дерева бегущего рядом с тобой гебешника. И что я посоветовал бы на это время — умеренности в потреблении водки и неучастия в опасных коллективных акциях. И никаких ссор с женой — хотя, видит Бог, я не знаю, как можно ссориться с такой женщиной.
Тина ещё раз приятно покраснела.
— И ещё. Фима, не надо никому рассказывать о твоём лейтенанте. Ладно? Ибо всеобщее еврейское сочувствие, сопровождаемое вопросом «Ну, как ты?», есть прямой путь в дурдом. Ах, дорогие мои, разве вы не чувствуете ветра перемен? И не надо выводить из себя товарища Горбачёва. Не надо… Фима, я повторюсь — опьянение или резкое, отрицательное изменение в настроении, или, хуже того, депрессия, и не тебе рассказывать, как липнет она к многолетним «отказникам», может привести к срыву, и тогда уже надо будет лечиться по-настоящему, чего никому из моих друзей не желаю. Ну, а я, со своей стороны, выпишу тебе щадящую дозу аминазина, попринимай его месячишко…
Эдик достал тонкий блокнот рецептов и начал сосредоточенно писать.
— Эдик, это принимают все чокнутые?
— Я рекомендовал бы аминазин половине человечества. И себе в том числе. Он обладает замечательным седативным эффектом…
— Каким?
— Господи, какой же ты серый! Седативным — значит, успокаивающе действующим на центральную нервную систему. Аминазин может полностью купировать бред и галлюцинации. Он даже успокаивает икоту! Будешь принимать внутрь в виде драже. Это самый удобный и распространённый способ. Колоть внутримышечно — оно эффективней, но нам этого не надо. Начнём с 25 миллиграмм три раза в сутки и постепенно доведём до суточной дозы в 100 миллиграмм. В течение месяца. Вот тебе рецепт, и каждые три дня звони! Да, вот ещё о чём хочу спросить… Фима, этот мифический лейтенант, как я понимаю, ужасался значимости твоей секретности. Есть в твоей секретности что-то особенное?
Фима несколько мгновений смотрел на Эдика.
— Эдик, моя секретность — не в знакомстве, причём шапочном, с производствами боевых ядов, а в знании — я пять лет мотался по химическим комбинатам — бардака, который там царил, уверен, царит и сейчас; в знании о том, в какие реки сбрасывают сточные воды, наполненные жуткой гадостью. Я знаю, где рабочие травятся из-за плохой вентиляции и вечных протечек жидкостей и газа, где воруют всё, что можно поднять и нести… Я знаю, как рабочие добывают спирт, причём, не питьевой, а сырец — из дырок, просверлённых в трубопроводах и залепляемых после пития пластилином. А знаешь, из чего пьют эту отраву? Из вывинченных из потолка электролампочек, у которых они отбивают цоколь… И оттого губы их никогда не заживают. Секретность моя — навсегда…
— Не говори ерунды, Фима! В таком случае, всё работающее население СССР обладает чрезвычайной секретностью.
— Правильно, Эдик! Оттого и граница на замке!..
Распрощались и пошли гулять. Ибо день был — суббота. Прошли Проспект Мира, где жил Эдик, до Сретенки, сели на троллейбус и добрались до улицы Горького. Пошли по ней вниз, а, может, вверх — как определить? — и оказались у «Космоса», популярного и действительно хорошего кафе-мороженого. Отстояли очередь, зато им достался столик на двоих.
— Тина, Эдик ведь говорил только о водке, верно? И ни слова о коньяке!
— Но водка звучала очень обобщающе. И мне нельзя пить.
— Ах, по каким же разным причинам нам нельзя пить! Как ты думаешь, кто у нас будет — мальчик или девочка?
— Как только рожу, немедленно сообщу тебе.
Они с великим удовольствием поглощали размещённые в никелированных чашах на увесистых ножках огромные шары мороженого «крем-брюле», красиво облитого жидким шоколадом и названного «Планетой».
— Фима, — робко начала Тина, — только ты не обижайся, этот проклятый лейтенант был ненастоящий, фантом, да? — а ты был настоящим Фимой, и, значит, ты по-настоящему согласился шпионить?
— Я думал об этом. Я знаю, что если бы мне по-настоящему предложили такое настоящие гебешники, я наверняка отказался бы. И не только потому, что во мне есть некоторое чувство порядочности, но и потому, что, с моей точки зрения, жизнь шпиона — сплошной кошмар. Это настолько не моё, что нет ни единого варианта, при котором я мог бы согласиться на это безумие. Значит, в ситуации разговора с этим гадом я был уже не самим собой. Я был в ином мире. В мире галлюцинаций. Если хочешь, моя встреча с лейтенантом была встречей двух призраков. А ты настолько сомневаешься во мне?
— Знаешь, я как будто копаюсь в самой себе. Ты — это часть меня. Я всё время вижу себя с этим лейтенантом. Я даже вижу, как он пристаёт ко мне. Я его ненавижу так, что не дай ему Бог встретиться со мной! Разорву его морду!
И Фима уткнулся чуть ли не до носа в своё мороженое. Он так был счастлив, что боялся поднять на жену своё залитое слезами лицо. И лишь услышал:
— Как же ты стал сентиментален!
Удивительная женщина! Приласкает, приголубит, до слёз доведёт и тут же ущипнёт, и пребольно…
— 5 —
Поразительно, но после отсутствия Фимы в течение восьми суток на работе в Театральном училище им. Щукина, «щукинке», его с должности плотника не выгнали! Когда на следующий день после отсидки он вяло постучался, в им же обитую роскошным дерматином дверь проректора училища по хозяйственной части и, услышав зычное приглашение хозяина, вошёл в кабинет, то увидел не свирепое лицо молодого, партийного, быстро растущего хозяйственника, а приветливую и даже задорную физиономию, обычно унылую от постоянного безделья.
Виктор Васильевич должность имел замечательную. Ему не нужно было вникать в хозяйственные проблемы руководимого им училища, ибо на всё имелись работники, непосредственно отвечающие за каждую мелочь. И эти работники — все без исключения! — всем сердцем любили училище и работу свою выполняли превосходно. Фима отвечал за выбитые стёкла в окнах, замки, поломанную мебель в классах и вырванные, как правило, с мясом, дверные ручки. За оборудование сцены и сценический реквизит отвечал пьяница Гена, проклинавший Сталина и писавший странные рассказы. Пил он зверски, но сцена была всегда в полном порядке. Фима ему иногда помогал. За электричество, водопровод и канализацию отвечал Сергей Сергеевич, тоже пьяница, но масштаба много меньшего, чем Гена. Если сравнивать человеческие руки с драгоценными металлами, то руки Сергея Сергеевича были платиновыми. Никогда до встречи с ним и никогда после Фима не видел таких ловких, быстрых, умных рук. Был ещё Борис Исаевич, ответственный за закупку мебели и прочего, но он Фиму, Гену и Сергея Сергеевича заметно презирал, с ними не пил, да и появлялся в училище лишь в случае необходимости. Так что, должность Виктора Васильевича была совершенной синекурой, а также трамплином к высотам, от которых у него захватывало дыхание — например, должности заведующего хозяйственной частью самого театра им. Вахтангова, альма-матер училища.
— Ну, и как сиделось?
— Да не очень, Виктор Васильевич…
— Кормежка, небось, жуть?
— Жуть, Виктор Васильевич.
— Сидел со своими?
— С кем же ещё…
— Пришёл расчёт брать?
— Не хотелось бы…
— Ну, так завтра и выходи на работу! У меня тут стёкол поразбивали…
— Выходить на работу?! — Фима чуть не задохнулся от счастья.
— Но учти, шесть дней пойдут в счёт твоего отпуска. Ну и что, намекнули, когда отпустят тебя в Израиль?
— Какое там!..
И проректор, и Гена, и Сергей Сергеевич о Фиме знали всё. А Гена и Сергей Сергеевич, в особенности, обожали потолковать с Фимой о сионизме, о судьбах евреев СССР и не без Фиминого влияния к Израилю стали относиться снисходительно, с пониманием, а над арабами откровенно издевались.
Надо сказать, что Фиме вообще везло на «отказные» работы. Благодаря потрясающему дяде Коле, двоюродному брату его мамы, недавно вышедшему из тюрьмы, где он отсидел два года за хозяйственные грехи вверенной ему артели по производству спортивных номеров, пришиваемых к майкам легкоатлетов. Это дядей Колей сразу же после ухода из родного «ящика», Фима был внедрён на стадион «Локомотив» плотником, где и получил характеристику после собрания хозяйственного актива стадиона, для ведения которого Фима вынужден купил ящик водки.
А знаете, за что сел дядя Коля? Расскажем. Выпускаемые его артелью квадратики ткани, на которые затем наносились чёрной краской номера, были размером 20х20 сантиметров. А номера (трёхзначных не было) занимали площадь едва 12х12 сантиметров. И дядя Коля решил, что квадратики ткани вполне могут быть не 20х20, а 15х15 сантиметров. Сэкономленную же ткань дядя Коля продавал в определённый магазин, и вся артель кормилась за счёт дядиколиной инициативы. Просто и гениально, правда? Дядя Коля опередил советскую власть на двадцать с лишним лет! Результат — два года тюрьмы.
Следующим этапом плотнической деятельности Фимы стала фирма по обивке дверей «Заря», куда Фима устроился сам, по объявлению. Когда Фима представился начальнику цеха обивщиков, тот, не глядя на Фиму, спросил: «Шуруп от гвоздя отличишь?» Фима ответил, что даже знает, что гвоздь завинчивают отвёрткой, а шуруп забивают молотком. Оценив шутку, начальник громко крикнул: «Толя, поди сюда!», и от группы обивщиков, ждавших выдачи материалов для обивки, то есть дерматина, ваты и обивочных гвоздей, отделился коренастый, белобрысый, симпатичный мужичок, нехотя подошёл к столу и, не взглянув даже на Фиму, спросил: «Опять наставником?»
— Возьмёшь с собой, и чтоб через два дня он начал обивать самостоятельно. Понял?
— Семёныч, — заныл Толя, — почему всегда я? Смотри, сколько ребят…
— Толя, — не обращая внимания на его нытьё, сказал Семёныч, — пойдёшь сегодня на улицу Горького, две двери. Вот тебе заказы.
— Во! Это дело! Тебя как звать? — наконец, обратился он к Фиме.
Семёныча любили все. За хорошие заказы, то есть, заказы в богатые районы Москвы, давали ему «на лапу»; все жалобы на обивщиков он умело не доводил до высокого начальства, заставляя свою команду быстро и бесплатно исправлять халтуру и, порой, даже возвращать клиентам неправедным трудом заработанные деньги.
Толя был потрясающим обивщиком. Фима впитывал каждое его движение, и искреннее его восхищение Толиным мастерством привело к тесной дружбе. Жизненную цель Фимы Толя одобрял, живо интересовался Израилем и однажды произнёс: «И что будет с Россией, когда вы все уедете?»
При окладе обивщика в 80 рублей в месяц, Фима приносил домой ежедневно 20—30 рублей за счёт чаевых, левых дверей и, особенно, левых замков, которые Фима, обученный отныне неизменным напарником Толей, вставлял артистично.
Но это были не шальные деньги. Работа была тяжёлой, заканчивалась обычно только к пяти-шести часам вечера. Набрав утром ваты, дерматина и обивочных гвоздей на две двери и имея запас ещё на одну, левую дверь, обивщик с огромным рюкзаком начинал объезд квартир. Машины, естественны, не было, и посадка с набитым рюкзаком в общественный транспорт вызывала справедливый гнев граждан. Часто приходилось рюкзак с плеч сбрасывать и с большим усилием протаскивать его сквозь тела к выходу. Сама обивка двери казалась легче, чем доставка рюкзака на квартиру. И надо помнить, что в правой руке обивщика была тяжеленная сумка с инструментами.
Хорошо, когда надо было обить дверь в новой квартире — лёгкая, она слетала с крошечных петель одним движением обхвативших её рук. Но двери в старых домах, огромные, десятилетиями не снимаемые с огромных ржавых петель, могли свести с ума даже опытного обивщика. Поэтому приходилось таскать в сумке с инструментами и увесистую «фомку» — изогнутый ломик, без которого снять старую дверь с петель было невозможно… Домой Фима приходил измочаленным. Но были и лёгкие дни — когда на две-три недели Семёныч посылал обивщика на обивку дверей в большом, только что построенном доме. Туда завозился материал, там хранились инструменты и там было полно халтуры — в основном, врезка замков, наряды на которые не выписывались. Это была милая сердцу обивщика сцена: приходил к Семёнычу заказчик и заказывал обить дверь и врезать замок. И Семёныч, выписывая наряд на обивку двери всегда говорил: «А насчёт замка договоритесь на месте с обивщиком — кто его знает, что у вас за дверь и какой сложности замок». Ни один заказчик не возражал. Даже если он был старым коммунистом. Только с такими начальниками, как Семёныч, и можно было построить коммунизм…
Фима любил вечернее возвращение с работы домой. Тревожные, сочувственные мамины глаза («Слава Богу, вернулся! Сыночек, почему так поздно?») А Фима небрежно доставал из заднего кармана рабочих брюк не облагаемые налогом наличные деньги и вручал маме. Потом мама помогала стягивать с плеч сильно осевший рюкзак, в котором всегда оставалась сэкономленная на одну дверь вата, протягивала Фиме свежее нижнее бельё, и он медленно, расправляя уставшие члены, отправлялся в ванную, откуда выходил свежим, спокойным, готовым к принятию заслуженного, всегда вкусного ужина, во время которого мама с любовью смотрела на своего хорошо зарабатывавшего сына, с удовольствием выслушивая его рассказы, частенько выдуманные, о приключениях прошедшего дня
…Работа обивщиком не мешала «отказной» жизни — Фима успевал и на семинары, и на встречи с иностранцами, и даже участвовал в нескольких протестных акциях у Библиотеки им. Ленина и в приёмной Верховного Совета РСФСР. Проработал Фима обивщиком непрерывно целых четыре года — с 1977 по 1980 — и уволился сам, так как Семёныча выгнали, пришёл новый начальник, старый большевик, который поднял план до трёх дверей в день, тем самым не оставив обивщикам ни времени, ни сил на левую работу.
Следующим рабочим поприщем Фимы стал ресторан «Баку», в который он устроился по протекции опять же дяди Коли. 80 рублей в месяц плюс бесплатный и очень вкусный обед, сварганенный поварами-умельцами из хороших, почти нетронутых кусков мяса, оставленных на тарелках состоятельными клиентами. Из этого же мяса, с добавкой курдючного сала, семян кориандра, зиры и нескольких веточек кинзы, производилось немалое количество люля-кебаб, продаваемых утром по великому блату бомонду с улицы Горького. Работа была не пыльная — починка столов, стульев, дверей. Никакого дополнительного заработка не было. Зато спокойно пережил Московскую олимпиаду.
И вот что случилось за два дня до открытия Олимпиады. Чинил себе Фима стул, и вдруг прибежал инженер ресторана и нервно закричал ему:
— Быстро в жёлтый зал! Мгновенно! С инструментами!
Фима помчался вслед за инженером.
Влетел в зал и видит, что за одним из столов расположились двое упитанных, восточного типа людей, молодой переводчик в помятом костюме, почему-то похожий на чекиста, и директор. И никакой еды на столе. Просто сидели и ждали Фиму.
— Здравствуйте! — сказал Фима.
— Здравствуй, дорогой, — начал директор, — вот, товарищи пришли с просьбой повесить на этой стене портрет.
Только сейчас Фима увидел плоский прямоугольник, прислонённый к стене, завёрнутый в красивую узорную ткань.
— Эти товарищи, — директор показал широким жестом на обоих восточного типа людей, невольно охватив им и переводчика, — члены олимпийской делегации Палестины, принимающей участие в Олимпийских играх, и они будут столоваться у нас. Так что, — продолжал директор, — аккуратно повесь этот портрет, но в присутствии товарищей.
Директор поднялся. Сердечно попрощался со всеми и ушёл. А Фима остался в компании двух палестинцев, наверное, легкоатлетов, одного переводчика и инженера.
Один из палестинцев встал, молча и осторожно снял ткань с прямоугольника, потом достал из кармана белую, пушистую тряпицу и медленно, со вкусом протёр стекло и раму. И, приподняв, повернул к Фиме портрет Арафата.
Это был живописный портрет, а не фотография. Портрет в стиле социалистического реализма — моложавый Арафат выглядел розовым и счастливым. В глазах его сверкали весёлые огоньки, а куфия была явно свежевыстиранной. Великолепно была выписана цвета хаки рубашка. А небритость выглядела естественной и обычного омерзения не вызывала. Хороший был портрет. Яркий, сочный портрет человека, устремлённого в будущее. Размером, примерно, полтора метра на восемьдесят сантиметров. Фима даже грешным делом подумал, не Глазунов ли, очень бывший тогда в моде художник, его писал.
Он подошёл к портрету, посмотрел на задник — всё в порядке, на заднике точно посередине торчала массивная медная петля, устроенная так, что наклон портрета осуществлялся автоматически. Фима решил, что восьмимиллиметрового дюбеля для этой сволочи хватит.
Работал он самозабвенно. Лестницу поддерживали оба террориста (или легкоатлета — Фима так и не выяснил). Электродрель пела от восторга. Дюбель, густо смазанный белым, густым клеем, вошёл в просверлённую Фимой дыру, как входит влюблённый в лоно своей возлюбленной, а мощный, новый шуруп, ввинченный в дюбель, довершил дело.
Он повесил портрет и долго любовался проделанной работой.
Инженер пожал ему руку.
Чекист куда-то позвонил.
Палестинцы угостили рахат-лукумом, очень свежим и вкусным.
Фима был горд и одновременно печален…
На следующий день спросил инженера, почему именно в ресторане «Баку» будет столоваться палестинская делегация?
— Ты хоть раз видел в нашем ресторане свинину?
А через два дня Фиму вызвал инженер и велел портрет снять, отнести его в кабинет директора, — «только аккуратно!» — а на освободившийся шуруп повесить нежный «Натюрморт» выдающегося азербайджанского художника Фаика Агаева.
Что случилось с палестинцами? Почему они не бегали и не прыгали в Лужниках? Никто не знал. Иногда Фима думал, что как-то не так повесил товарища Арафата…
Но в 1982 году Фима был из ресторана изгнан, так как приехавший из Баку ревизор уведомил директора ресторана, что по законам Азербайджанской ССР, человек с высшим образованием не имеет права занимать должность рабочего. Видимо, поэтому на Центральном рынке Москвы, оккупированном азербайджанцами, не было ни одного продавца с высшим образованием. В общем, Фиму, к его великой печали, из ресторана изгнали. На прощание директор, симпатичный, усатый Ратмакуил Алабетисович, вручил Фиме увесистый кусок баранины и заявил о своей уверенности, что в Израиле Фима сможет, несмотря на высшее образование, работать плотником. Эта фраза несколько удивила Фиму, так как при заявлении о приёме на работу он об Израиле, естественно, не упоминал и уж точно ни с кем из работников ресторана на эту тему не разговаривал.
И вот тогда кто-то сказал ему, что видел объявление о том, что Театральному училищу им. Щукина требуется плотник…
…Потрясённый красотой и живостью несущихся по коридорам училища будущих корифеев сцены, Фима стоял перед дверью проректора по хозяйственной части и молился, чтобы тот взял его на работу. Фиме казалось, что он попал в храм искусства. Он уже видел себя постановщиком спектаклей, мудрым советчиком для студентов, любимцем училища, совершенно забыв о должности, которую он должен выпросить у проректора. Фима любил мечтать, и недаром друг Сенька часто называл его «Ефимом Маниловичем». Наконец, исцарапанная, неприглядная дверь кабинета открылась, и на пороге его возник Виктор Васильевич, проректор по хозяйственной части — молодой, высокий мужчина, с крепким, но ещё не выдающимся животом, со скучающим выражением маловыразительного лица.
— Прошу вас!
Он долго листал трудовую книжку Фимы и, наконец, строго заговорил:
— Вот, читаю: «младший научный сотрудник». Потом — «старший инженер». Потом — «исполняющий обязанности руководителя группы». И вдруг — плотник на стадионе, обивщик дверей фирмы «Заря», плотник в ресторане Баку… Как это понимать?
Ответ у Фимы был заранее подготовлен.
— Жизненные обстоятельства.
— Какие же?
— Надоела скучная, безденежная и бесперспективная работа в проектной организации.
— Хорошо зарабатывали обивщиком?
— Неплохо.
— Но у меня-то — гроши. Максимум семьдесят в месяц.
— Я всегда найду халтуру.
— А почему ушёл из обивки? — проректор неожиданно перешёл на «ты».
— Устал.
— А из ресторана?
— Бараниной пропах.
Проректор рассмеялся и неожиданно произнёс:
— А в Израиль, значит, не пускают… Так… Знаешь, что, поболтайся где-нибудь часок. Перекуси. А я обмозгую. Трудовая книжка пока останется у меня. Лады?
И через час Фима услышал незабываемое, наполнившее его гордостью и радостью: «Мне сказали, что плотником тебя взять можно».
И на следующее утро перед Фимой открылись врата училища…
Как уже упоминалось, работая обивщиком, Фима зарабатывал раз в десять больше простого советского инженера или младшего научного сотрудника. Перейдя на работу в ресторан, а затем в училище на чистую зарплату, Фима своего материального благополучия не растерял, ибо к этому времени стал «матёрым отказником», приобрёл некоторую популярность среди сочувствующих «отказному» движению иностранцев и оттого стал получать от них разнообразные подарки — от роскошных (по Фиминым понятиям) виски, крошечных магнитофонов и радиоприёмников, а однажды ему вручили японский фотоаппарат, стоимость которого по оценке комиссионного магазина, составила 1000 рублей, что равнялась годовой Фиминой зарплате. Мало того, тоскующие родители Фимы и Тины раз в полгода высылали посылку с обязательной в ней курткой из синтетической кожи, которые шли нарасхват. И не надо было стыдиться всего этого, ибо мечта чекистов, что голодные и оборванные «отказники» приползут к ним с протянутой рукой и ртами, отверстыми для просьб и извинений, с треском провалилась.
— 6 —
Одним из близких «отказных» друзей Фимы был Семён Блитман, Сенька, обладатель самоотверженной, боготворившей его мамы Доры Абрамовны, сына Кеши, избалованного пятилетнего «хулигана», красивой, пышнотелой, очень пышнотелой, зеленоглазой, всегда немного печальной жены Оли и уморительной болонки по имени Тяпа. Сенька, как и Фима, был «отказником», но всего лишь с пятилетним стажем, и одной из причин его «отказа» было то, что в бытность Сенька работал корреспондентом «Комсомольской правды», мотался по стране, ходил однажды в плавание на подводной лодке, посещал какие-то военные базы на Дальнем Востоке и так далее. В общем, был переполнен знаниями о чём-то. По словам Сеньки, та подводная лодка давно утонула, военные базы проданы Китаю, а его знаменитый фельетон «И я шагаю по Москве», написанный 10 лет тому назад о грязи на московских улицах, не найдёт сейчас даже самый квалифицированный шпион США. Но, как однажды заявил ему некий чин из его бывшей газеты, «работа корреспондента в „Комсомолке“ — это первый окоп; его можно покинуть только мёртвым».
— Из этого следует, — мрачно пошутил Сенька, — что перелёт из Москвы в Израиль в свинцовом гробу «Комсомолка» мне оплатит…
Но не только и не столько бывшая работа Сеньки держала семью в «отказе» — родители Оли категорически не давали своей дочери согласие на выезд из СССР, без чего власти автоматически штамповали «отказ». Отец, профессор, ненавидевший всё, что мешало его научной карьере, сначала умолял дочь уйти от никчемного, с его точки зрения, мужа, а потом и вовсе запретил пересекать порог его квартиры. «Я должен дать разрешение на уничтожение своей карьеры, будущего моей несчастной семьи и жизни собственной дочери? Никогда! И ни людской, ни Божий суд меня не осудит!» Мама Оли, профессорская жена, посвятившая талантливому мужу всю себя, была ещё категоричнее: «Ты не существуешь больше в моём сердце, у меня нет дочери, — сказала она Оле. — А разрешение на выезд в твой проклятый Израиль получишь после моей смерти!» Их пытались уговорить. Однажды, прослышав об этой чудовищной, с их точки зрения, истории, к ним пришли двое американских туристов, муж и жена, милые, пожилые люди, и когда мама Оли открыла дверь в прихожую, они увидели портрет Оли в траурной рамке. Ясно, что говорить было не о чем…
И это было пострашнее подводной лодки… В то время существовала немалая группа людей, не получивших родительского или супружеского согласия на отъезд. Им даже присвоили особое название — «бедные родственники». Разрешения на выезд «бедным родственникам» давали редко. Они завидовали «отказникам по режиму», предполагая, что секретность рано или поздно может быть с человека снята, но родительское или супружеское разрешение можно получить только после смерти родителей или (и) супруга.
А вот Сенька мрачным был редко. Прирождённый шутник, не жалея никого и самого себя в том числе, он сыпал шутками, неожиданными, остроумными, порой скабрезными, порой неуместными, но, уловив, что перегнул палку, не стеснялся обзывать себя бранными словами и смачно целовал ручку жены, более всего боясь её гнева. А гнев её был, по-видимому, страшен, ибо едва она поднимала на разошедшегося мужа свои зелёные глаза, как он мгновенно умолкал, бормотал что-то нечленораздельное, получал прощение, но хватало его ненадолго, и через несколько минут всё возобновлялось. Фиму поражала вездесущая власть Оли над Сенькой. Она могла увлечённо болтать с кем-нибудь, стоя спиной к мужу, и вдруг спокойно произнести: «Сеня, поставь рюмку подальше от своей руки!» И Сенька немедленно отвечал: «Рыбонька, не волнуйся, я уже это сделал». Или, находясь на кухне, отделённой от салона стеной, Оля вдруг отчётливо произносила: «Ещё одна рюмка, и ты поедешь домой один!» И немедленно раздавалось в ответ: «Птичка моя, я уверяю тебя, что не собирался больше пить!»
А выпить Сенька, как и Фима, любил очень. Причём, у него это сопровождалось раз и навсегда установленным обрядом. Быстро выпивая первую рюмку (а рюмки, что у Сени, что у Фимы, вмещали в себя не менее 50 грамм водки), он зажмуривал глаза и произносил обязательное: «Хорошо пошла!». Вторую рюмку пил уже медленно и выпив, произносил: «Вот, и набрал форму». Третья рюмка, при благосклонном отношении к ней жены, сопровождалась неизменным: «Всем бы друзьям моим как мне сейчас!» До четвёртой рюмки дело доходило в ситуациях только чрезвычайных.
Как ни странно, особенно активным «отказником» Сенька не был. В самом начале «карьеры отказника» участвовал в голодовке вместе со знаменитым Феликсом Канделем, одним из авторов классического мультсериала «Ну, заяц, погоди!». Но потом остыл. Ни разу не ходил на демонстрации, письма подписывал, но, в основном, рядовые. Но везде крутился, все его знали. От постоянного его мелькания и говорливости создавалось впечатление активности, но никто в «отказе» глубиной и статистикой активности не занимался, оценок не выставлял, принимались все.
Фима однажды в подпитии всё же рискнул спросить Сеньку: «Не обижайся, но почему я не видел тебя ни на одной демонстрации?» Ответ потряс его: «Понимаешь, если со мной что-то случится, они обе умрут. И мама, и Оля. Сразу умрут. Я пленник такой любви и страха за меня, что являюсь самым несчастным из всех счастливых людей…» Фима, вспомнив, как иногда подталкивала его Тина к участию в демонстрации, в который раз восхитился бездонностью и загадочностью женской любви.
— Но ведь дали они тебе участвовать в голодовке?
— И с тех пор как ножом срезало. Я во время той голодовки похудел на 4 килограмма, а не голодавшая Оля — на десять, правда, потом быстро набрала, а мама просто летала по квартире. И я, в дополнение к голоду, умирал от страха за них. Мы — ненормальные…
И Сеня выпил незапланированную рюмку, несмотря на угрожающий взгляд жены.
— Дома поговорим, — сказала Оля.
— Кисуля, хоть иногда ты можешь быть снисходительной?
Зная несколько сотен простых слов на иврите, Сенька так умел манипулировать ими, что производил впечатление знатока. Вообще, слова были его главным достоянием, богатством, оружием. Говорить он мог без умолку, подкрепляя слова энергичной жестикуляцией и заглядыванием в глаза собеседнику. Он был всегда прав, ибо ко времени, когда он только начинал расходиться, соперник уже был полностью истощён. Впрочем, с таким же напором он мог признаваться и в своей неправоте. Он много знал, был начитан, семьёй Фиминой любим, и Фима иногда с ужасом думал, что Сеньку отпустят раньше него.
— 7 —
Жизнь, после визита к Эдику и добросовестного приёма лекарства, наладилась. Тина полнела. Фима умильно разглядывал её живот и мысленно расставлял детскую мебель.
Не остановилась, но сильно преобразилась «отказная» жизнь. Демонстрации почти прекратились, зато пышным цветом расцвели «отказные» семинары. Разнообразие тем, представленных на них, было необыкновенно широким: наука, юриспруденция, история Израиля, иврит или просто интеллектуальный семинар, на котором можно было говорить о чём угодно. Интересно было всё, ибо выброшенные со своей инженерной и научной деятельности, «отказники», многим из которых было не под силу заниматься самообразованием, да что там самообразованием, просто следить за всем новым, что происходило в науке, жадно впитывали знания других, обогащаясь и обогащая. Одним из таких семинаров, обожаемых Фимой, был семинар под руководством генетика, профессора Валерия Николаевича Сойфера, многолетнего «отказника».
Валерий Николаевич был человек непростой. К еврейству имел отношение далеко не галахическое. У него было славное, почти курносое русское лицо, подвижное, способное с быстротой необыкновенной менять выражение крайнего и совершенно искреннего гнева на выражение полной дурашливости; высокий лоб с упрямо падающими на него прядями волос; светлые, всегда смеющиеся над собеседником глаза, что создавало в общении с ним немалые трудности. Мужчина он был рослый, стройный, с едва наметившимся, но не увеличивающимся животом, ибо за ним зорко следила молчаливая жена Нина, в прошлом, несомненно, красавица, сохранившая горячие глаза и стройную фигуру. Обоим ещё не было и пятидесяти.
Валерий Николаевич обладал феноменальной памятью, цитировал на память огромные куски прозы, обожал поэзию. Был дьявольски умен, напорист, насмешлив, победить его в споре было делом совершенно безнадёжным. Великолепен был в гневе. Когда он клеймил советскую власть за убийство любимого им Николая Ивановича Вавилова, великого русского генетика, голос его, высокий, пронзительный, дрожал от гнева и ненависти, заставляя даже равнодушных к той давней трагедии искренне сопереживать.
Генетика была пожизненной любовью, «сладостной казнью», как высокопарно любил выражаться Валерий Николаевич о своей профессии. Он окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева и физический факультет МГУ; до «отказа» работал в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова, в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, в Институте общей генетики. В 1970—1979 годах был заведующим лабораторией и заместителем директора Всесоюзного НИИ прикладной молекулярной биологии и генетики, мало того, был одним из создателей этого института. Смущало реалиста Фиму то, что, при всех регалиях Валерия Николаевича, жил он в обычной трёхкомнатной кооперативной квартире, далеко не в престижном районе Москвы. Для Фимы понятие «профессор» обязательно сопровождалось хоромами, плывущей в них пышнотелой профессорской женой и остеклённым сервантом, заставленным богемским хрусталём. «Хоромы» же Валерия Николаевича были весьма скромны, жена не пышнотела, а хрусталь — из ближайшего посудного магазина.
У них бы сын Гена — рослый, не избалованный, пятнадцатилетний парень, целиком взявший у мамы её глаза.
Что мешало профессору Сойферу процветать в СССР? Конкретно — его горчайшее разочарование в руководстве отечественной наукой, удушающая науку бюрократия, коррупция, антисемитизмом, бесчеловечность. Но более всего ему мешала клеть, в которой он жил. Клеть, душившая человека его масштаба. Он хотел ездить тогда, когда ему хотелось, туда, куда ему хотелось, мотаться по миру, удивлять и удивляться, работать только с теми учёными, работать с которыми он желал. Он рвался к свободе, и когда познакомился с еврейским движением, понял, что только оно может вытащить его из клети. Диссидентство было ему мило, понятно, роднило его с такими людьми, как академик Сахаров, но Валерий Николаевич уже не ждал перемен в СССР, ему стало наплевать на СССР, хотя он искренне переживал за страну, измордованную большевиками; ему хотелось одного — вырваться на свободу. И еврейское движение, к которому он «пристроился», казалось ему единственным шансом обрести эту свободу.
Еврейское движение очень отличалось от диссидентского, которое, окрашенное кровью своих мучеников, то замирало, чуть ли не до исчезновения, то вспыхивало пламенем, освещавшим весь СССР. Запад с великой осторожностью относился к советским диссидентам, так как, в его наивном понимании, диссиденты хотели свергнуть советскую власть, а такие вещи, по мнению Запада, можно делать лишь путём честного, открытого голосования. Запад не понимал, что диссиденты не падения советской власти хотели (хотя и не отказались бы от такого поворота событий), а выполнения этой властью ею же установленных законов, ею же установленной Конституции. За это они боролись и умирали. А еврейское движение, у которого тоже были свои мученики, требовало только одного — выпустить евреев, причём, только тех, кто хотел этого, только тех, у кого были на руках вызовы родных, в Израиль. Только и всего! И такое движение Западу было доступно, ибо нормальный человек Запада не мог понять, как можно не выпускать из страны людей, особенно евреев, особенно в Израиль?! Евреев, переживших Катастрофу, не выпускать в Израиль?! Запад с ума сходил от такой несправедливости! И боролся за евреев всеми силами — от рядовых граждан до президентов. И поэтому еврейское движение не затихало в течение более тридцати лет, лишь иногда съёживаясь, но всегда распрямлялась, и, наконец, смело на своём пути всё, в том числе, и советскую власть.

К чести Валерия Николаевича, он не рядился сионистом, не скрывал ни от кого, что собирается в Америку, на демонстрации не ходил, но письма особо жёсткого, общечеловеческого содержания с удовольствием подписывал. Его оружием в борьбе за выезд были постоянные и многочисленные встречи с иностранцами, как правило, учёными высокого калибра (отсюда — растущая его популярность на Западе), и, конечно, организованные им потрясающие семинары, ненавидимые гебешниками, дежурившими у его подъезда, а то и у дверей квартиры. На памяти Фимы они дважды срывали семинар, не пропустив к Валерию Николаевичу ни одного человека, о чём по «Голосу Америки» и было сообщено на следующий день.
Самые неистовые сионисты из еврейского движения справедливо считали Сойфера чужаком и куда больше диссидентом, чем еврейским «отказником». Но, конечно, не чурались его, сознавая общественную значимость Валерия Николаевича.
И очень любил Валерий Николаевич прихвастнуть. И собственной значимостью в области генетики, и знакомством и душевными разговорами почти со всеми великими советскими учёными-биологами; с самим академиком Лысенко имел честь беседовать и даже разубеждать того. Нет, нет, ни в коем случае он не был хвастуном; хвастун — это Хлестаков, всего лишь ловкое ничтожество; хвастовство Валерия Николаевича органично дополняло его натуру, оно не могло не быть, ибо таковым было его окружение, мало знакомое с его научными интересами, мало знающее историю генетики, окружение, обучаемое им, восторгавшееся им, прощающее ему маленькие слабости. Он хвастал оттого, что его бушующей натуре было тесно в «отказе»…
Отчего у Фимы сложились дружеские отношения с Валерием Николаевичем, Фима не понимал. Может, постоянно испытываемый Фимой восторг перед его интеллектом? Может, явное предпочтение диссидентских семинаров Сойфера всем остальным? Может, некая таинственная тяга одного человека к другому? Как бы то ни было, Сойферы с удовольствием посещали уютную Фимину квартирку, в которой часто собирались «отказники», вкусно евшие и немало пившие, благо, за руль почти никому из них садиться было не надо. Тина хозяйкой была потрясающей. Её готовка вызывала восторженное мычанье Сеньки, изысканные комплименты Валерия Николаевича и завистливые шутки многих других. Надо добавить, что Валерий Николаевич с особой ласковостью относился к Тине; будучи много старше, он позволял себе на правах отечески любящего друга легко обнять ничуть не смущавшуюся Тину за плечики или чмокнуть в щёчку. Нина, глядя на вольности мужа, лишь чуть сужала свои прекрасные глаза и, наверное, шептала про себя: «Шалунишка ты мой любимый! Дома поговорим…»
Вообще, в «отказном» движении резко выросли взаимные душевные порывы, выражавшиеся в объятиях и поцелуях. Целоваться при встречах стало правилом хорошего тона. А так как «отказные» еврейки, за немногим грустным исключением, были весьма симпатичны и в те годы ещё молоды, то тихий звон поцелуев невинным ангелом витал над евреями, благословляя их дружбу и единство в борьбе… Чемпионом поцелуев и объятий был, конечно, великий «отказник» Володя Слепак, в чьей бороде то и дело мелькали миловидные личики «отказниц».
Валерий Николаевич был (и не скрывал этого) верующим христианином, и страстным увлечением его в описываемое нами время была история Христовой плащаницы. С замиранием сердца участники семинара выслушали четыре его восторженные, блистательные лекции-рассказы о таинственной плащанице, вобравшей в себя контуры тела Христа. Гениальная подделка? Рисунок таинственными красками, сохранившими две тысячи лет чётко обозначенные линии? Или воистину чудо? Чудо — таков был вердикт Валерия Николаевича. Чудо, обусловленное бессилием науки доказать иное. Эти четыре семинара, посвящённые плащанице, произвели на Фиму такое впечатление, что он разразился большим стихотворением, названным «Плащаница» и посвящённым В. Н. Сойферу. С замиранием сердца он показал его Валерию Николаевичу. Тот был явно растроган, сказал, что до сих пор стихов, кроме шуточных, ему не посвящали, но о качестве стихотворения не вымолвил ни слова.
Однажды, ранней весной 1986 года, открывая очередной семинар, Валерий Николаевич во вступительном слове сказал: «Как ни странно, меня пригласили вчера на просмотр фильма о великом учёном Николае Ивановиче Вавилове, уничтоженном Советской властью. Трусливый фильм трусливых киношников, хотя многие, не побывавшие в нашей «отказной» шкуре, сочтут его необыкновенно смелым. После фильма состоялось обсуждение. Я не выступал, хотя, ох, как хотелось, но дал слово профессору, пригласившему меня, не выступать. И пошла говорильня известных учёных о перегибах, о непонимании, хер знает, о чём ещё. Я уже собирался тихонько выскользнуть из зала, как вдруг объявили, что слово предоставляется Владимиру Павловичу Эфроимсону, выдающемуся генетику, автору потрясающих книг: «Генетика гениальности», «Генетика этики и эстетики», дважды узнику ГУЛАГа — в 30-х и 50-х годах. Я хорошо его знаю. Я провёл много счастливых минут в беседах с ним.
И вышел на сцену чуть согнувшийся старик с огромным лбом, казалось, захватившим всю голову, с растрёпанными остатками волос… Нет, господа, он не говорил, а гвоздил советскую власть, пощёчина за пощёчиной, проклятие за проклятием. Сколько жив, я не слышал такой пылающей речи, такой страшной правды. И я запомнил, слово в слово: «Авторы фильма скромно сказали — „погиб в Саратовской тюрьме“… Он не погиб. Он — сдох! Сдох как собака. Сдох от пеллагры — болезни, которая вызывается абсолютным, запредельным истощением. Именно от этой болезни издыхают бездомные собаки. Наверное, многие из вас видели таких собак зимой на канализационных люках. Так вот: великий ученый, гений мирового ранга, гордость отечественной науки, академик Николай Иванович Вавилов сдох, как собака в саратовской тюрьме. И надо, чтобы все, кто собрался здесь, знали и помнили это…» И ещё он сказал: «Палачи, которые правили нашей страной, не наказаны. За собачью смерть Вавилова, за собачью смерть миллионов узников, за собачью смерть миллионов, умерших от голода крестьян и сотен тысяч военнопленных, за все эти смерти ещё не упал ни один волос с головы ни одного из палачей, и поэтому никто из нас не застрахован от повторения пройденного. Пока на смену партократии у руководства государства не встанут люди, отвечающие за каждый свой поступок, за каждое свое слово, наша страна будет страной рабов, страной, представляющей чудовищный урок всему миру. Я призываю вас — помните о том, что я сказал вам сегодня. Помните! Помните!»
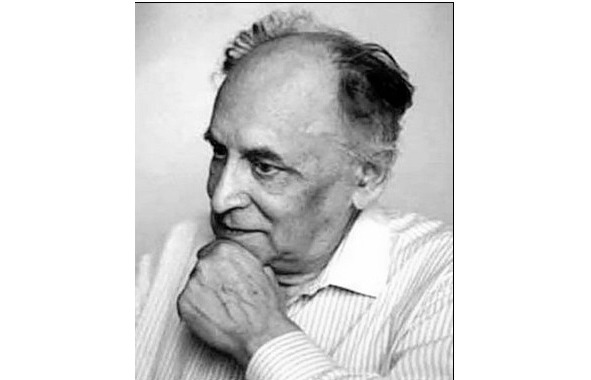
Глаза Валерия Николаевича были полны слёз. Он извинился за задержку семинара, объявил тему, фамилию докладчика и ушёл на кухню. Скоро вернулся, но весь вечер был грустным. Он в это время писал книгу под названием «Власть и наука. Разгром коммунистами генетики в СССР».
А назавтра весь рабочий день Фима ходил, поводя бессмысленным взором по стенам училища, бормотал себе под нос, что-то записывал в маленький блокнот, залепил молотком по пальцу, привинтил к стулу разные ножки и чуть не выпал из окна, вставляя новое стекло в оконную раму, но вернувшись, домой, бросился к столу и лихорадочно, почти без помарок записал стихотворение, высоко названное им «Баллада о гене». Тине стихотворение понравилось очень.
На ближайшем семинаре, Валерий Николаевич, прочтя «Балладу о гене», обнял Фиму и сказал:
— Я счастлив, что у меня есть такой благодарный слушатель!
Но в глазах его сверкала смешинка.
Книгу Валерия Николаевича «Арифметика наследственности», изданную в далёком 1970 году, подаренную Фиме автором и сопровожденную дарственной: «Другу, верному и талантливому», Фима хранил в книжном шкафу на видном месте и часто, с трудом сохраняя на своём лице выражение равнодушное, показывал своим гостям.
— 8 —
Одним из самых дорогих, но, увы, редких гостей сойферовских семинаров был поэт Семён Израилевич Липкин, всегда сопровождаемой женой — поэтом Инной Львовной Лиснянской. Ему всегда выделялось глубокое кресло, которое притаскивал из кабинета отца Гена. Кресло ставилось рядом со стулом очередного докладчика, всегда слева от него, Семён Израилевич, тяжело кряхтя, уютно устраивался в нём, и, таким образом, все могли смотреть на Липкина, а он внимательно смотрел на всех. Рядом с ним пристраивалась Инна Львовна. На обыкновенном стуле. Это отнюдь не было семейной иерархией — в это время Семён Липкин чувствовал себя скверно — через год его прооперировал блестящий хирург, профессор В. Б. Александров, вернувший поэта к жизни.
Липкин был чрезвычайно малого роста, толстенький, с усиками на худощавом лице, с невыразительными, тусклыми глазами. Но это до того, как он улыбался, ибо улыбка его, к сожалению, редкая, была такой детской, такой нежной и одновременно озорной, что он становился неузнаваем, как прежде тусклый в оправе драгоценный камень, на который неожиданно падал яркий свет.
Говорил он тихим, высоким голосом, но когда говорил, вокруг воцарялась такая тишина, что каждое его слово было слышно отчётливо.
Более всего в часы пребывания Липкина и Лиснянской на семинаре доставалось докладчику. Какого бы ранга докладчик не был, при виде двух легендарных мэтров поэзии, он тушевался, считал своим долгом промямлить приветствие и продемонстрировать своё перед ними преклонение. Однажды Семён Израилевич, видя особо сильное смущение докладчика — а это был профессор-астроном, доктор всяческих наук, — взмолился, обращаясь к Валерию Николаевичу: «Отнесите меня куда-нибудь! Я оттуда послушаю». На что галантный профессор-астроном возразил: «Лучше отнести меня, и я буду спокойно рассказывать оттуда». Разрядил обстановку дружный, добродушный смех всей аудитории.
Поэты, если и появлялись на семинаре, то, как правило, на докладах характера гуманитарного. Выслушивали доклады молча. Когда докладчик пил воду или вытирал пот, о чём-то перешёптывались друг с другом. По правилам семинара, установленным Валерием Николаевичем, доклад мог длиться не более полутора часов, но обсуждение доклада — сколько угодно. Поэты на обсуждения не оставались. Нина вызывала такси, кто-нибудь обязательно спускался с ними на лифте, сажал в машину и удостоверившись, что машина тронулась с места, возвращался в квартиру, и «освобожденные» семинаристы начинали вить из докладчика верёвки.
— Семён Израилевич, задайте хоть однажды вопрос докладчику! — съязвил как-то Валерий Николаевич.
— Я бы с удовольствием, — тихо ответствовал Липкин. — Но уважаемый докладчик так всё хорошо объяснил, что у меня нет ни единого вопроса.
— И вы поверили ему, что наша вселенная сотворена Высшим разумом? — настаивал Валерий Николаевич
— Честно говоря, я не сомневался в этом и раньше. И более всего убеждают в этом поэты.
И продекламировал тихо, с хрипотцой, без выражения:
Присутствие непостижимой силы
Таинственно скрывается во всём:
Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном,
И в блеске дня, и в тишине могилы,
В движении бесчисленных миров,
В торжественном покое океана,
И в сумраке задумчивых лесов,
И в ужасе степного урагана,
В дыхании прохладном ветерка,
И в шелесте листов перед зарёю,
И в красоте пустынного цветка,
И в ручейке, текущем под горою.
— Это ваше? — спросил кто-то.
— Нет, — Липкин улыбнулся. — Таких стихов я писать не умею. Это написал хороший русский поэт Иван Саввич Никитин, лет, я думаю, 150 тому назад.
Спросивший густо покраснел, ибо в одном вопросе показал не только незнание творчества Липкина, но и незнание русской поэзии в целом. Дома Фима признался жене, что его просто опередили с этим вопросом.
Однажды Валерий Николаевич потребовал и от Фимы прочесть доклад о чем-нибудь интересном («Нехрена только слушать! Пора и выступить!»), и Фима решил поведать «высокому собранию» о хорошо известных ему проблемах загрязнения рек отходами химических предприятий. Две недели он готовился к докладу, как к защите докторской диссертации. И день настал. Фима пришёл за полчаса до лекции. С рулоном ватмана, на котором была начерчена принципиальная схема очистки сточных вод химических предприятий. С шестью исписанными листами. Тина села в первый ряд, чтобы он мог смотреть только на неё. По договорённости, она должна была приветливо кивать ему и иногда широко раскрывать глаза в радостном изумлении. Наконец, все расселись. Замолчали. Фима прокашлялся. И… вошли Липкин и Лиснянская. На сугубо технический семинар! За что это Фиме? Рассказывать блистательным поэтам о сточных водах? Да ещё прозой! Наконец, поэтов посадили на их законные места, и Фима начал доклад. И очень скоро обрёл себя. Он громко и уверенно говорил, и тыкал указкой в схему. Он чуть не плакал, рассказывая о судьбе Волги, Оки и озера Байкал, на берегу которого дымит огромный целлюлозно-бумажный комбинат. А рассказывая о массовом отравлении осетровых, случившимся на Волге в семидесятых годах в результате сброса в реку неочищенных фосфорсодержащих сточных вод, Фима вдруг оторвал глаза от восторженного личика жены и обратился, совершенно против своей воли, непосредственно к Семёну Липкину:
— Вы представляете себе тысячи и тысячи полумёртвых, с выпученными глазами осетров, безвольно носимых течением?..
На что Липкин, ни секунды не задумываясь, ответил:
— Скажу честно — с большим трудом.
И виновато улыбнулся.
Легкомысленная аудитория немедленно захохотала. Включая и Фимину жену. Тем не менее, закончил свой доклад Фима под дружные аплодисменты. Поэты тихо встали и двинулись к выходу.
— Семён Израилевич, — вдруг вырвалось у Фимы, — вам было интересно?
— Мне было чрезвычайно интересно.
— И у вас нет вопросов?
— Дорогой мой, если б мои вопросы могли спасти хоть какую-нибудь реку, речушку, на которой стоят эти химические чудовища, я бы задавал их день и ночь. И большое вам спасибо за рассказ.
А Инна Львовна подошла к Фиме и сказала:
— Как славно, что вы так искренне, порой даже возвышенно, выражали свою тревогу за судьбу русских рек.
Поэты ушли, и Фиму немедленно стали «рвать на части». Тина перестала улыбаться, с сочувствием глядя на отчаянно сражавшегося мужа, но все разошлись, весьма довольные.
— 9 —
И наступил день выступления поэтов…
От соседей приволокли ещё три стула и четыре кухонные табуретки. За первый ряд боролись интеллигентно, но ожесточённо. Когда Липкин и Лиснянская сели лицом к импровизированному залу, мгновенно наступила тишина.
— Мы сделаем так, — сказал Семён Израилевич, — мы не будем рассказывать о нашем творчестве. Это скучно. Но мы готовы отвечать на ваши вопросы. Если можно, характера не общего, как, например, творчество Пушкина или отношение к Советской власти, а конкретные, событийные. Мы готовы, да, Инна?
Он вытащил из потёртого портфельчика розового цвета папку, аккуратно развязал её тесёмки.
— У меня скверная память, а я хочу рассказать вам кое-что и в прозе, да и не все свои стихи, которые собираюсь прочитать вам, я помню наизусть. Так что, не взыщите, буду часто заглядывать в эту папку. Не скрою, я готовился к выступлению.
— Господа, — громко провозгласил Валерий Николаевич. — Прошу задавать вопросы в чёткой и краткой форме, не выпендриваться, не встревать в ответы, не дискутировать или спорить с докладчиками — они умнее всех нас, вместе взятых. Порядок вопросов буду устанавливать я. Вперёд, господа. Насладимся этим часом. Но, прежде всего, Семён Израилевич, расскажите, пожалуйста, о себе.
— В двух словах… Родился в 1911 году в Одессе, однако покинул этот город еще в юности. Мне было 8 лет, когда я поступил в пятую Одесскую гимназию, в старший приготовительный класс. В нашем околотке я был единственным не православным мальчиком, поступавшим, а потом и ставшим учеником казенной гимназии. Чтобы быть принятым в гимназию, мне надо было сдать все предметы только на пятерки. На мою долю соискателя выпала пушкинская «Песнь о Вещем Олеге». Я знал ее всю наизусть и знал даже название столицы Хазарского царства, потому что много читал и был достаточно смышлёным. Историк, принимавший экзамен, задал мне вопрос «на засыпку»: «На каком языке говорили хазары?» «Не знаю», — честно ответил я, и дорога в гимназию, по сути, была отрезана. Но как это бывало, в особенности, в Одессе, за меня заступился «батюшка», православный священник Василий Кириллович, и мне поставили «пятерку». Я на всю жизнь сохранил чувство признательности к нему. Посещал его и подолгу беседовал с ним до самой ссылки его на Колыму. Кстати, а кто из вас знает, на каком языке говорили хазары?
Ответом было гробовое молчание.
— До сих пор никто точно не знает, и я не знаю, какого ответа ждал от меня экзаменовавший меня историк.
Начал писать стихи. Они попались на глаза Багрицкому. Едва ли не в первом стихотворении он заподозрил плагиат: «Последние две строки вы спёрли у Гумилева». Я сказал, что вообще не знаю такого поэта. А на вопрос: «Кого знаете из современных поэтов?» ответил: «Эдуарда Багрицкого и Демьяна Бедного». На провокационный вопрос, кто из них мне больше нравится, не раздумывая, ответил: «Багрицкий… Он о море хорошо пишет и очень звучно…» И сразу услышал в ответ: «Так слушайте, Багрицкий буду я». По его совету я в 1929 году уехал в Москву. До 1931 года меня немного печатали. С 1931 года — перестали. Чем-то я советской власти не нравился. Тогда-то и занялся переводами. В 1937 году окончил Московский инженерно-экономический институт. Воевал. О войне писал много. В частности, главная моя поэма — «Техник-интендант». Название это придумал Гроссман…
Самое важное в моей жизни — встречи. Я беседовал действительно со многими великими людьми. И почти никого уже нет. Пустыня… Если хотите, два слова о Михоэлсе… С Михоэлсом меня познакомил поэт Галкин. Мы дружили с Галкиным, я его переводил и считал из современных еврейских поэтов самым крупным. И сейчас так считаю. И мы с Галкиным были два или три раза в гостях у Соломона Михайловича. Он жил недалеко от еврейского театра. По-русски Михоэлс говорил замечательно, без какого-либо акцента. Немного даже, знаете, в этакой русской театральной манере. У него была только одна комната, большая. А может быть, я ошибаюсь. Мы говорили о том, о сём, и я его спросил: «У вас в театре нет пьесы о евреях, которые уже не знают еврейского языка. Они оказались вне еврейской культуры. Они хотят прийти в ваш театр, а у вас нет ничего из их жизни». Михоэлс ответил мне на идише так: «Я их не замечаю, я их не вижу». Признаться, я меньше всего ожидал такого ответа… Вспомнил ещё… У Василия Гроссмана был рассказ «Учитель» — о человеке, который перенес войну. Он сделал пьесу по своему рассказу еще в 1947-м году, то есть, до начала антисемитской кампании, и сдал ее в театр Вахтангова. Речь в ней шла о массовом, поголовном истреблении евреев на Украине в годы войны. Театр Вахтангова в панике вернул пьесу Гроссману, не востребовав даже выплаченного аванса. И тогда Михоэлс, очарованный этой вещью, предложил Гроссману перевести пьесу «Учитель» на идиш. И получив пьесу, сказал: «Короля Лира я сыграл, а теперь сыграю учителя. Это будет моя последняя роль». Гроссман был влюблен в Михоэлса.
Липкин задумчиво улыбнулся и сказал:
— С Гроссманом мы часто бывали у моей мамы. Она угощала нас еврейскими кушаньями, которые Гроссман очень любил. Михоэлс называл любовь Гроссмана к еврейским кушаньям «гастрономическим патриотизмом».
Однажды Гроссман сказал мне: «Михоэлс уезжает в Минск. Поедем вместе провожать его на Белорусский вокзал». Мы приехали на вокзал. Михоэлса провожали дочь, Зускин и еще кто-то. Его жены на вокзале не было.
Михоэлс с Гроссманом медленно прохаживались по перрону, все время говорили об «Учителе». Я краем уха слышал. Гроссман спросил Михоэлса: «А так ли нужно вам ехать?» Михоэлс сказал: «Нужно. Речь идет о присуждении Сталинской премии, меня обязали посмотреть ряд спектаклей». Больше живым его не видели…
Поразительно, но Михоэлс погиб, как и учитель в пьесе Гроссмана — от рук убийц. То, что великий актёр не сыграл в своей жизни, он сыграл в своей смерти.
Липкин замолчал, проглотил подступившие рыданья, высморкался — беззастенчиво, шумно; успокоился, вытер с глаз подступившие слёзы и продолжал:
— Гроссман был — да простится мне столь затасканное выражение — кристальной чистоты человеком. Ничто мелкое, тем более гадкое, не приставало к нему. Однажды, со слов Багрицкого, я рассказал ему, что Бабель произнёс: «Я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей». Гроссман любил Бабеля, и сказал мне на это: «Как мне жаль его, жаль не только потому, что он так рано погиб, что они убили его, но и потому, что он — умница, талант необычайный, высокая душа — произнёс эти безумные слова. Что стало с его душой? Зачем он встречал Новый год в семье Ежова? Почему таких необыкновенных людей, как он, Маяковский, Багрицкий, так влекло к себе ГПУ? Что это — обаяние силы, власти? Стоит над этим задуматься, явление нешуточное, страшное». Через три года после смерти Гроссмана я написал стихотворение «Живой»:
Кто мы? Кочевники. Стойбище —
Эти надгробья вокруг.
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг.
Над ним, на зеленом просторе,
Как за городом — корпуса,
Возводятся радость и горе,
Которые, с нелюдью в споре,
Творил он из тысяч историй,
И снять не успел он леса.
Словно греховность от святости
Смертью своей отделив,
Спит он в земле русской кротости,
Сам, как земля, терпелив.
И слово, творенья основа,
Опять поднялось над листвой,
Грядущее жаждет былого,
Чтоб снова им стать, ибо снова
Живое живет для живого,
Для смерти живет неживой.
Был я знаком и с Булгаковым, знакомство произошло в редакции «Недра», где мне сообщили, что по цензурным соображением мои стихи редакцией не приняты. Вышел я расстроенный из кабинета редактора и увидел в приёмной человека с лицом каким-то не советским, красивым, значительным, что ли. Он был в мятом, кургузом пиджаке, накрахмаленной белоснежной манишке, галстук бабочкой, из-под рукавов с потёртыми краями виднелись старорежимные твёрдые манжеты. Взглянув на меня, он с улыбкой произнёс: «Выше голову, мой юный пиит! Вы начинаете в лучших русских традициях!» Затем Булгаков великодушно предложил мне пообедать с ним в Доме актёра. Надо было сесть на трамвай. И мы прождали не менее получаса, пока он, грохоча по рельсам, не прибыл на нашу остановку. И именно в этот миг, при мне, родилась у Михаила Афанасьевича, ставшая затем знаменитой, фраза: «Меня не то удивляет, что трамваи не ходют, меня то удивляет, что трамваи ходют». Гроссман, воспринимавший Булгакова, как чудо русской литературы, обожал эту фразу и любил её повторять, благо поводов к этому было сколько угодно.
Чудо русской литературы… Воистину — Булгаков, Бабель, Зощенко, Платонов, Гроссман, «Дети Арбата» и «Тяжелый песок» Рыбакова возникли в самую жестокую, в самую несвободную, в самую античеловеческую пору истории России. Сила человечности и честность истинного таланта оказались сильнее дьявольской мощи большевизма.
Да… Ну, вернусь к себе любимому… Надо было на что-то жить, и я занялся переводами. И неожиданно это стало огромной частью моей творческой жизни. Я действительно много перевёл. Киргизов, кабардинцев, бурят, индусов, поэмы Алишера Навои, Фирдоуси и другие. Я надеюсь, что хотя бы немного мне удалось передать очарование восточной поэзии, вообще Востока…
О, как балдеет чужестранец
В ночном саду среди пустыни,
Когда впервые видит танец
Заискивающей рабыни.
О, как звенят ее движенья,
То вихревидны, то округлы,
Как блещут жизнью украшенья
И глаз стопламенные угли.
А там, за этим садом звездным,
Ползут пески, ползут кругами,
И слышно в их дыханье грозном:
— Вы тоже станете песками.
Переводил с идиша Галкина и Маркиша.
В 1967 году чёрт меня попутал прочесть сборник эпических поэм Южного Китая. И среди создателей этого эпоса был народ, чьё название меня просто поразило: «И». Вот так просто, одной буквой был обозначен целый народ. И я написал стихотворение «Союз», с не слишком оригинальной мыслью, что даже маленькое племя вносит свой вклад в человеческую культуру, что истребление или просто исчезновение даже крошечного человеческого племени — невосполнимая рана всего человечества. И всего-то! Послушайте:
Как дыханье тепла в январе
Иль отчаянье воли у вьючных,
Так загадочней нет в словаре
Однобуквенных слов, однозвучных.
Есть одно — и ему лишь дано
Обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетает оно,
Мир с войной и с паденьем величье.
В нем тревоги твои и мои,
В этом «и» — наш союз и подспорье…
Я узнал: в азиатском заморье
Есть народ по названию И.
Ты подумай: и смерть, и зачатье,
Будни детства, надела, двора,
Неприятие лжи и понятье
Состраданья, бесстрашья, добра,
И простор, и восторг, и унылость
Человеческой нашей семьи, —
Все вместилось и мощно сроднилось
В этом маленьком племени И.
И когда в отчужденной кумирне
Приближается мать к алтарю,
Это я, — тем сильней и всемирней, —
Вместе с ней о себе говорю.
Без союзов словарь онемеет,
И я знаю: сойдет с колеи.
Человечество быть не сумеет
Без народа по имени И.
И меня немедленно обвинили… в сионизме. За что? Любой синолог знает об этом народе! Кому пришло в голову, что это стихотворение посвящено иудеям? Евреи молятся в кумирне? Ничего не помогло. С того дня я — сионист.
Меня по сей день старательно выпихивают из страны, однако вне этой земли я немедленно умру.
Ты Господом мне завещана,
Как трон и венец — королю,
На русском, родном, — ты женщина,
На русском тебя восхвалю.
Не знаю, что с нами станется.
Но будем всегда вдвоем,
Я избран тобой, избранница,
Провозглашен королем.
Светлеет жилье оседлое
Кочевника-короля.
Ты — небо мое пресветлое,
Возлюбленная Земля.
Но до чего же хочется повидать мир!.. И особенно — Израиль.
— Семён Израилевич, почему не вы отнесли Войновичу копию романа Гроссмана «Судьба и жизнь», а Инна Львовна?
— Это была вторая попытка передать роман на Запад. Первая кончилась неудачей — роман не напечатали. Видимо, был выбран неудачный адресат, кроме того, Войновичу передал роман я, что, по-видимому, явилось второй причиной неудачи — я очень невезучий человек. Вообще, я чрезвычайно не гожусь для таких дел — мог бы взять вместо рукописи какую-либо книгу, взяв рукопись — оставить её в такси, забрав из такси — забыть передать её Войновичу и так далее. Кроме того, за мной могла быть слежка. Они были осведомлены о моей дружбе с Гроссманом. А Инна Львовна — прирождённая подпольщица.
— Семён Израилевич, а можно ли составить градацию поэтов по их общественной значимости?
— Я не очень понимаю, что такое «общественная значимость» поэта. Это вроде того, как «декабристы разбудили Ленина»? И ещё меньше понимаю, как она может быть связана с талантом поэта. По моему опыту, к общественной значимости рвутся поэты наименее даровитые или променявшие свой дар на эту самую общественную значимость, всегда у нас связанную с общественными благами. Так, творчество Евгения Евтушенко, кроме дивных ранних стихов, сейчас, поставленное на службу обществу, превратилось в огромную фабрику по воспроизводству самого себя.
Осип Мандельштам — гениальный поэт. При жизни его общественная значимость равнялась нулю. Едва видя знакомого, он бросался к нему, чтобы прочесть стихи. Половина знакомых не понимала их. Другая половина испуганно шарахалась от него, включая Бориса Пастернака. Потом Мандельштама сгноили в лагере. И если случится, что в неясном будущем его «реабилитируют», люди узнают его судьбу и прочтут его стихи, станет это общественно значимым событием? Сомневаюсь… Вот вам и общественная значимость гения. Сам он говорил о своей поэзии так: «утеха для друзей и для врагов — смола». Истинные поэты часто являются предвестниками общественных бурь и не влияя на их развитие, как правило, гибнут в них — Блок, Маяковский, Мандельштам, Цветаева… Другое дело, когда творчество поэта может, независимо от его стремления, стать общественно значимым. Но это происходит чрезвычайно редко.
— Например?
— Пушкин. Поэт, сотворивший новый русский язык. До него, кроме редких всплесков талантов, — болото. После него такой взлёт искусства, — музыка, поэзия проза, живопись, — что и сейчас не дано полностью осмыслить.
— А Маяковский?
— И что — Маяковский? Сталин подобрел от его стихов? Или от его призывов в стране стало меньше или больше убийц и стукачей? Или кроме немногих его друзей, матери, сестёр и трёх любимых им женщин, народ пролил слезу о нём? И даже пролившие слёзу старались как можно быстрее вытереть её, так как не знали, как отнесётся к гибели поэта «великий вождь и учитель». Друзья мои, поэт живёт в своём, никому, кроме него, неведомом мире. Он может, порой, должен откликаться на то или иное событие, но только из своего мира. Об этом очень просто сказал Мандельштам:
Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.
И раздался сильный голос писателя и поэта Юрия Карабчиевского:
— И в этом отличие поэзии от прозы.
— Совершенно верно, Юра, — отозвался Липкин. — Ибо поэзия — крик души, проза — итог раздумий. Но, пожалуйста, не принимайте эти определения за истину в высшей инстанции.
— Какие у вас были отношения с Мандельштамом?
— Не могу сказать, что сердечные. Он был снисходителен ко мне. Не более того.
— Он был хоть немного евреем?
— Думаю, да. Он считал себя человеком христианской цивилизации. Но не был христианином, хотя и принял лютеранство. Как это некогда сделал любимый им исконно русский человек Чаадаев. Надежда Яковлевна Мандельштам всё время подчёркивала, что он перешёл в христианство идейно, но в действительности этого не было. Он принял христианство, чтобы поступить в университет, но, в отличие от Пастернака, ощущал себя евреем. Интересно, что после того, как он прочёл Пастернаку знаменитое, судьбоносное «Мы живём, под собою не чуя страны», тот, в ужасе воздев к небу руки, сказал Надежде Яковлевне Мандельштам: «Как он мог написать эти стихи — ведь он еврей!».
Отчуждения от еврейства у него не было. Если, конечно, не понимать еврейство только как быт. Мандельштаму не нравилось, что его семья была отгорожена от русской культуры. Но он имел полное право написать про себя: «Среди священников левитом молодым…»
И заканчивая наше маленькое исследование еврейских корней Мандельштама, вспомним, что он сам говорил об этом в «Шуме времени»: «Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах!»
— А каковы были ваши отношения с Ахматовой?
— С Ахматовой было по-иному. В 1961 году я написал главную свою стихотворную работу — поэму «Техник-интендант». Я читал ее в доме поэтессы Нины Манухиной, вдовы Георгия Шенгели, читал ей и жившей в то время у нее Ахматовой. Я заметил слезы на глазах у Анны Андреевны. Пришло лето, Анна Андреевна подарила мне свою маленькую книжицу в черном переплете с надписью: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала». У меня несколько книг с добрыми надписями Ахматовой. Но эта — самая драгоценная. Она стала не только моей гордостью — она для меня право на существование, особенно в те годы, когда на родине я не существовал.
— Вам приходилось в своём творчестве кривить душой?
— Да, и не раз. Я много переводил не только для души, но и для заработка. По заказу. И там были вирши, которые переводить было довольно противно. Но иного заработка у меня не было. По этому поводу у меня однажды вышел такой разговор с Василием Гроссманом. Он писал главу о Сталине. Я заметил, что мне было бы противно писать о нём. Гроссман вспылил: «А сколько ты сам напереводил стихов о нём»? В ответ я привёл поговорку моего отца: «Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу с бардаком». На самом деле, главу о Сталине, дабы улучшить имидж книги, «заставил» его написать Твардовский. Но, к чести Гроссмана, он в ней не лижет сапоги Сталина.
Должен вам сказать, что нигде, как в писательской среде тех времён, трудно было оставаться человеком. В день 27 декабря 1958 года, когда исключали из Союза писателей Бориса Леонидовича Пастернака, в Москву, запыхавшись, примчалась хорошая писательница Вера Панова, дом которой был увешан фотографиями её любимого поэта Бориса Пастернака. Ей, как члену правления, крайне важно было проголосовать за исключение. Среди писателей активно осуждался поступок Корнея Чуковского, который поздравил Пастернака с получением Нобелевской премии. А писатели, сохранившие хоть немного порядочности, сидели дома, врали, что больны. Другое дело, что Бориса Слуцкого, секретаря парторганизации поэтической секции, буквально заставили выступить, его специально вызывали в ЦК, в случае отказа от выступления могли лишить партбилета, и он сдался… А потом жестоко корил себя и писал:
Уменья нет сослаться на болезнь,
Таланту нет не оказаться дома,
Приходится, перекрестившись, лезть
В такую грязь, где не бывать другому.
Но самое, на мой взгляд, страшное предательство совершил Илья Сельвинский, который за каких-то полгода до этого судилища публично благодарил: «…всех учителей моих от Пушкина до Пастернака». Далее расскажу своими словами из рассказанного мне Ольгой Всеволодовной Ивнинской. В критический момент жизни своего учителя, Сельвинский прислал ему из Ялты, где тогда отдыхал, письмо:
«Дорогой Борис Леонидович! Сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении Вам Нобелевской премии. Я тут же послал Вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, удостоенный премии: до Вас были Мечников, Павлов, Семенов и Бунин — так что Вы в неплохой, как видите, компании.
Однако ситуация с Вашей книгой «Доктор Живаго» сейчас такова, что с Вашей стороны было бы просто вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для Вас — ничто, и вообще Вы никогда не прощали мне того, что я на 10 лет моложе Вас, но всё же беру на себя смелость сказать Вам, что игнорировать мнение партии, даже если Вы считаете его неправильным, в международных условиях настоящего момента равносильно удару по стране, в которой Вы живете. Прошу Вас верить в мое, пусть не очень точное, но хотя бы «точноватое» политическое чутье».
Но на этом Сельвинский не успокоился: вдруг его письмо останется неизвестным? Тридцатого октября он совместно с Виктором Шкловским отправился в редакцию местной «Курортной газеты» — как вам нравится этот орган печати? — и оставил там следующее заявление:
«Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад, был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство».
Не хуже выступил и сам Виктор Шкловский: «Книга Пастернака не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, о том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился».
Сельвинский «Курортной газетой» не ограничился — в «Огоньке» №11 за 1959 год он опубликовал такое стихотворение:
А вы, поэт, заласканный врагом,
Чтоб только всласть насвоеволить,
Вы допустили, чтоб любая сволочь,
Пошла плясать и прыгать кувырком.
К чему ж была и щедрая растрата
Душевного огня, который был так чист,
Когда теперь для славы Герострата
Вы Родину поставили под свист?
Резолюция об исключении великого писателя и поэта из Союза писателей была принята под торжествующий рев зала. Писатели орали: «Предатель!», «Надо выслать!» Помню, как реагируя на этот кошмар, Гроссман воскликнул «Господи! Отчего так велик твой зверинец?!»
Отмечу, что на это позорное судилище не пришли Паустовский и Каверин, а Эренбург и Евтушенко во время голосования ушли из зала… Ольга Берггольц долгие годы хранила «тайные» строки:
На собраньи целый день сидела —
то голосовала, то лгала…
Как я от тоски не поседела?
Как я от стыда не померла?
Увы, как сказал Генрих Гейне, «Везде, где великий дух высказывает свои мысли, есть Голгофа». Я вам больше скажу — все эти писатели были искренны! Они ненавидели Пастернака, потому что завидовали ему! Нобелевский лауреат! Известен на весь мир! А их книги безнадежно пылятся в складских помещениях книжных магазинов. Ах, господа, грустно об этом, тема неисчерпаема…
— Семён Израилевич, вы ощущаете себя евреем?
— Меня заставляют ощущать себя евреем. Ладно… Я поддаюсь этому давлению. Мне легче, чем другим, потому что я человек верующий. И ещё потому, что была Катастрофа… Я много писал о ней, может, кто-нибудь и читал… Никто не читал…
Глаза его стали грустными.
— Ничего страшного. Я прочту вам стихотворение «Моисей»:
Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,
По всем немецким и советским,
И польским, и иным путям,
По всем плечам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям
Я шел. И грозен, и духовен
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газовен
В неопалимой купине.
Кстати, среди всякой глупости партийных критиков есть и такой: богоискательство. Видимо, этот ярлык был предназначен прежде всего Инне Лиснянской. Хорошо бы знать этим ярлыковедам, что поэт — я имею в виду истинного поэта — испокон веков занят такого рода исканием, испокон веков тяготеет к трансцендентности, даже в том случае, если считает себя атеистом. По пути таких исканий направили русскую поэзию Ломоносов и Державин, мы видим на этом пути и Бунина, и Блока, и Есенина, и Мандельштама, и Пастернака. Сама просодия русского стиха, как и просодия стиха латинского или древнееврейского, молитвенная. Изменить или разрушить её невозможно, как ни старайся.
Возвращаясь к моему еврейству. Тора была для меня не только книгой, но и самой жизнью. Понятия «Бог» и «нация» меня волновали с тех пор, как я себя помню. Советская власть пришла в Одессу, когда мне было десять лет. До этого были разные власти, но эта власть религию подавляла, убивала и ссылала священников всех конфессий. Я не был ни пионером, ни комсомольцем — терпеть всего этого не мог. Я был просто верующим мальчиком. И я, прожив жизнь, думаю, что, на самом деле, пора слиться в одно всем, для кого важна главная основа веры — понимание, что все мы — люди, и потому люди, что созданы Богом по образу и подобию Его. Только это понимание может спасти мир.
Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами.
Путники в самом начале дороги.
Будем в мечети молчать с бодхисатвами
И о Христе вспоминать в синагоге.
Но я знаю и то, что такого понимания люди могут достичь лишь после прихода Мессии. С другой стороны, мне труднее быть больше евреем, чем, простите за высокопарность, интернационалистом, оттого, что я — русский поэт, иудей по вероисповеданию, переводчик восточного эпоса, человек нескольких культурных традиций… Кроме того, я вырос в многонациональном городе. И так получилось, что несколько мальчиков и девочек разных конфессий подружились на том основании, что они веровали в Бога. Мы не спорили, какая религия лучше. Наоборот, мы были очень сплочены. Среди нас был мальчик армянин, девочка армянка, девочка католичка, два мальчика православных, девочка православная и два еврея. Вот такая компания. Сейчас это трудно себе представить, но в Одессе такое было возможно… Во всех религиях главное то, что мы произошли не от обезьяны, и то, что Бог существует. Есть близкие религии, есть далёкие. Но основа-то всюду одна. И всё-таки…
Я хочу умереть в июле,
На заре московского дня.
Посреди Рахилей и Шмулей
Пусть положат в землю меня.
Я скажу им тихо: «Смотрите,
Вот я жил, и вот я погас.
Не на идише, не на иврите
Я писал, но писал и о вас.
И когда возле мамы лягу,
Вы сойдите с плит гробовых
И не рвите мою бумагу, —
Есть на ней два-три слова живых.
Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия — Ветхий и Новый заветы, «Илиада» и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней. Собственно говоря, в них заключена моя жизнь, в них я нашел то, что люди называют Красотой, а что есть Красота, как не Истина?
О Вере мы постоянно спорили с Василием Гроссманом. Однажды он обмолвился о роли комиссаров в победе над фашизмом. И я ответил ему: «Не вижу никакой роли партии в победе, победил Бог, вселившийся в народ». Я верил в это тогда и верю сейчас. Как и в то, что Бог вселился в народ Израиля, уже трижды победившего чудовище, тысячекратно превосходящее его по размерам.
— Пожалуйста, почитайте ещё…
— Вот, пожалуй:
К Яру Бабьему этого вывели,
Тот задушен таежною мглой.
Понимаю, вы стали золой,
Но скажите: вы живы ли, живы ли?
Вы ответьте, — прошу я немногого:
Там, в юдоли своей неземной,
Вы звереете вместе со мной,
Низвергаясь в звериное логово?
Или гибелью вас осчастливили,
И, оставив меня одного,
Не хотите вы знать ничего?
Как мне трудно! Вы живы ли, живы ли?
— Ещё, ещё, пожалуйста!
Липкин улыбнулся:
— Ну, вот и слава пришла…
Мы заплатили дорогой ценой
За острое неверие Вольтера;
Раскатом карманьолы площадной
Заглушены гармония и мера;
Концлагерями, голодом, войной
Вдруг обернулась Марксова химера;
Все гаснет на поверхности земной, —
Не гаснет лишь один светильник: Вера.
В светильнике нет масла. Мрак ночной —
Без берегов. И всё же купиной
Неопалимой светим и пылаем.
И блещет молния над сатаной,
И Моисея жжет пустынный зной,
И Иисус зовет в Ерушалаим.
— Ещё, пожалуйста…
— Господа, я немного устал, да пора и честь знать. Поэтому я прочту последнее, совсем недавнее:
Ужели красок нужен табор,
Словесный карнавал затей?
Эпитетов или метафор
Искать ли горстку поновей?
О, если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они,
Чтоб их священник в нищем храме
Сказал седым и молодым,
А те устами и сердцами
Их повторяли вслед за ним…
Семинар долго и нежно аплодировал.
Липкин, уже в позе отдыхающего человека, возвёл руки к потолку:
— Великое вам спасибо — самым искренним и терпеливым слушателям!
— 10 —
Инна Львовна наклонилась к Липкину, что-то шепнула ему на ухо и, грозно глянув на притихших слушателей, громко приказала:
— Оставьте в покое Липкина! Можете взяться за меня!
— Инна Львовна, а как вы познакомились с Липкиным?
— Как обычно знакомятся литераторы — в Доме творчества в Малеевке. Случилось это в 1967 году. Там же познакомилась и с Василием Гроссманом. Что я знала о Липкине? Переводчик. Хороший, но бедный. Но однажды, в одной из дальних комнат Дома творчества собрались поэты почитать друг другу стихи. Вещь, вообще-то, для поэта не безопасная, ибо какой же поэт любит стихи другого? Настала очередь Липкина. И я пропала. С этого дня мы не расстаёмся. А ведь у каждого из нас была семья. Но всё, что мог подарить мне муж — скуку. А Семён Израилевич — бесконечную радость и непреходящее вдохновение. Когда он заболел, я кричала:
Возьми меня, Господи, вместо него,
А его на земле оставь!
Я — легкомысленное существо,
И Ты меня в ад отправь.
Пускай он еще поживет на земле,
Пускай попытает судьбу!
Мне легче купаться в кипящей смоле,
Чем выть на его гробу.
Молю Тебя, Господи, слезно молю!
Останови мою кровь
Хотя бы за то, что его люблю
Сильней, чем Твою любовь.
Кстати, в сем высокоморальном обществе, в котором я сейчас нахожусь, могу, не стесняясь, объявить — мы до сих пор не расписаны.
— О чём говорят в быту два выдающихся поэта?
— О стихах, милочка.
— Трудно жить рядом с выдающимся поэтом?
И тотчас ответил Семён Израилевич:
— Нет!
Все дружно рассмеялись.
— Ну, кому ещё доступно такое рыцарство? Но и я отвечу. Действительно, с Семёном Израилевичем жить легко. Он в быту на редкость неприхотлив, совершенно не капризен в еде, я никогда не слышала от него, что что-либо невкусно. Единственное, в чем Семен Израилевич неуступчив, — это в точном соблюдении распорядка дня. С девяти утра до часу он работает ежедневно. Тут он крайне педантичен. И ждёт того же от меня. Это единственная моя трудность, ибо я разболтана, недисциплинированна и вечно жду вдохновения.
— Простите, но бывает, что вы ссоритесь?
— Конечно, милочка. Я, например, не так высоко ставлю Заболоцкого, как Семён Израилевич. (Смех) Друзья мои, а не хотите ли вы знать, какие цветы любит Липкин? Каких художников? От какой еды у него случается несварение желудка? Друзья мои, я не только жена Липкина, я тоже, в некотором смысле, пишу стихи.
— Простите эту толпу, — вмешался Валерий Николаевич. — И раздавите её своими стихами!
— Инна Львовна, расскажите о себе!
— Родилась я страшно давно — в 1927 году, в Баку. Стихи начала писать, кажется, с шестимесячного возраста. Будучи в пятом классе, помогала медсёстрам ухаживать за ранеными в госпитале. Пела раненым песни.
Сердце на 118 долек
Здесь разрывалось, — девочка пела
В зале на 118 коек.
Это был госпиталь лицевых ранений, один из самых страшных, ибо раненый никогда не знал, что останется из его лица, каким оно будет:
От дальних бомб дрожали рамы.
И, красные до черноты,
Из всех бинтов сочились раны,
И я меняла те бинты…

— После школы друзья отправили мои стихи в Литинститут. Они легко прошли творческий конкурс. Но от сдачи вступительных экзаменов я отказалась.
— Почему?!
— Сдавать математику и английский, чтобы учиться по-русски писать стихи?! Но всё-таки год поучилась в Бакинском университете — заставили. Первый сборник вышел в Баку в 1957 году. В 1961 году переехала в Москву. И здесь по-настоящему ощутила на своей шее сучьи лапы цензуры. Над книгой стихов «Из первых уст» — она вышла в свет в 1961 году — надругались так, что мне и сейчас стыдно за неё. А следующая книга «Виноградный свет» вышла только в 1978 году. И не единого отклика в печати. Потом семь моих стихотворений появились в неподцензурном «Метрополе», и, конечно, разразился скандал…
И тут вмешался Семён Израилевич Липкин.
— А знаете, что сказал о стихах Инны Лиснянской Бродский? Что стихи Лиснянской — это «поэзия чрезвычайной интенсивности». Я бы добавил — и поэзия чрезвычайной виноватости. Но продолжу Бродского: «Лиснянская, может быть, точнее, чем кто иной, пишет о смерти… А это ведь одна из самых главных тем в литературе». Это точная его цитата и, на мой взгляд, верная…
— Инна Львовна, почитайте, пожалуйста…
— Конечно, почитаю…
Она вскинула глаза к потолку, что-то молитвенно прошептала, кашлянула и неожиданно сильным голосом, чуть с хрипотцой, начала читать:
Забвенья нету сладкого,
Лишь горькое в груди, —
Защиты жди от слабого,
От сильного не жди.
Такое время адово
На нынешней Руси —
Проси не у богатого,
У нищего проси.
Наглядны все прозрения,
Все истины просты, —
Не у святых прощения,
У грешников проси.
У затаивших дыхание слушателей было ощущение, что этот стих не услышан, а обрушен на них. Мгновенно почувствовав аудиторию, Инна Львовна улыбнулась и сказала:
— А вот одно из моих любимых, из книги «Виноградный свет»:
Стоит зима-тихоня,
Бесшумно снег идёт,
Но чудится погоня
Все ночи напролёт.
Берёт мой след овчарка
На длинном поводке,
И у кого-то ярко
Фонарь горит в руке.
Горит от страха темя:
Возьмут меня вот-вот!
Но на прыжок всё время
Овчарка отстаёт.
Потру глаза ладонью,
Глотну сухой снежок,
Но снова меж погоней
И мной всего прыжок.
К чему, на самом деле,
Затеяна возня?
Иль на бегу велели
Всю жизнь держать меня? —
Чтоб свет от батарейки,
Чтоб слушала в тоске
Дыхание ищейки
На длинном поводке.
— Меня заставили дать этому стихотворению название: «В ночь войны»…
Все рассмеялись.
— У меня есть теперь работа — в каждой книжке, что я дарю друзьям, зачёркивать, и как можно гуще, это политически корректное название.
— Инна Львовна, ещё, пожалуйста!
— Пожалуйста. «Переделкинское кладбище»:
День истлел. Переселилось
Слово в жёлтую звезду.
Нет, ни с кем я не простилась
У погоста на мосту.
На погосте я гостила,
Здесь — деревья и кусты,
Разномерные могилы,
Разносортные кресты —
Деревянные, простые,
С червоточинным нутром,
И железные, витые,
Крашенные серебром.
А поодаль, за оградой,
Спят, разжавши кулаки,
Ряд за рядом, ряд за рядом,
Старые большевики.
И над ними — ни осины,
Ни берёзы, ни ольхи,
Ни травиночки единой —
Лишь посмертные кручины
Да бессмертные грехи,
Да казённые надгробья,
Как сплочённые ряды.
Господи, твои ль подобья
Дождались такой беды?
— Ещё!
— Пожалуйста:
Предвидено, предсказано,
Цветком не прорасту,
Я к времени привязана,
Как к конскому хвосту.
О плоские булыжники
Крутым затылком бьюсь.
Молчат твои подвижники,
Истоптанная Русь!
Молчат твои утешники,
Лежат в сырой земле,
Кровавые подснежники
Им чудятся во мгле.
Да снится, как расплющило
Их младшую сестру, —
Лишь волосы распущены
И тлеют на ветру.
Семён Израилевич Липкин сиял.
— А вот об отце:
Мой отец — военный врач,
Грудь изранена.
Но играй ему, скрипач,
Плач Израиля!
Он, как видишь, не ловкач —
Орден к ордену,
Но играй ему, скрипач,
Не про родину.
Бредит он вторую ночь
Печью газовой,
— Не пишись еврейкой, дочь, —
Мне наказывал.
Ах, играй, скрипач, играй!
За победою
Пусть ему приснится край
Заповеданный!
За него ль он отдал жизнь
Злую, милую?
Доиграй и помолись
Над могилою.
— Инна Львовна, а вы бы уехали в Израиль?
— Липкин не пустит. У нас интересная динамика отношений с советской властью: были невыездными, стали — выталкиваемыми. Но не дождутся. Если только в кандалах.

И снова стихи:
Но там, где возродилась быль,
Где жизнь творится наново,
Ты обо мне не плачь, Рахиль,
В жилище ханаановом!
Вросла я в почву, словно ель,
А почва многослойная.
Меня не вызволит отсель
Звезда шестиугольная.
Я в русский снег и в русский слог
Вросла — и нету выхода, —
Сама я отдалась в залог
От вдоха и до выдоха!
— А вот дочь моя, к моему ужасу, об отъезде подумывает.
— Инна Львовна, почитайте ещё!
— Напоследок. Короткое…
Пусть не на что опереться,
Но разве не чудно, скажи,
Смеяться от чистого сердца
И плакать от всей души?
Задумано всё безупречно,
И тем эта жизнь хороша,
Что счастье, как сердце, не вечно
И горем бессмертна душа.
— И в честь всех вас, я хочу завершить этот чудный вечер гениальным стихотворением Марины Цветаевой, посвящённым вам, дорогие мои:
Кто не топтал тебя — и кто не плавил,
О, купина неопалимых роз!
Единое, что на земле оставил
Незыблемого по себе Христос:
Израиль!
Приближается второе
Владычество твоё. За все гроши
Вы кровью заплатили нам: Герои! —
Предатели! — Пророки! — Торгаши!
В любом из вас, — хоть в том, что при огарке
Считает золотые в узелке —
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матфее, Иоанне и Луке.
По всей земле — от края и до края —
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребём Христа!
…Это был уникальный семинар, длившийся около трёх часов. И не было обсуждения. Кому могло прийти в голову обсуждать эти стихи…
Фима вызвался проводить чету поэтов. Они медленно высвободились из своих кресел и провожаемые тихими аплодисментами, которые, казалось, не прекращались с самого начала их выступления, тихо прошествовали вдоль стены к выходу. Проходя мимо вставших им навстречу Фимы и стеснительно улыбающейся Тины, Семён Израилевич неожиданно остановился, взял Тинину руку и почтительно поцеловал. Онемевшая, раскрасневшаяся Тина беспомощно взглянула на Инну Львовну.
— Не беспокойтесь, милочка, — величественно произнесла Инна Львовна. — Он не может равнодушно пройти мимо экзальтированной, хорошенькой слушательницы. Ловелас с полувековым опытом.
— Такова участь поэта, — добродушно пробормотал Липкин.
Сопровождаемые Фимой, Липкин и Лиснянская спустились вниз, и неожиданно Инна Львовна обратилась к Фиме:
— Дорогой Ефим! Валерий Николаевич рассказал мне, что вы прекрасно обиваете двери. Я была бы чрезвычайно признательна вам, если бы вы нашли время обить входную дверь на нашей даче — уж осень близится, и по опыту прошлого, сколько бы мы не жарили нашу печурку, всё тепло вылетает через дверь. Я заплачу вам, сколько полагается, и угощу отменным обедом с водкой. Обивщик должен любить водку, не так ли?
Противостоять этому напору было бессмысленно, и Фима обещал уже в ближайшее воскресенье прибыть на поэтическую дачу. Расстались совершенными друзьями.
Фима вернулся, когда все уже одевались, оживлённо обмениваясь впечатлениями, и немедленно был схвачен Валерием Николаевичем.
— В это воскресенье, у входа в здание Курского вокзала, в восемь утра. Электричка отходит в восемь двадцать. И не таскайте с собой ничего съестного. Вы, Фима, будете работать, причём, как догадываетесь, бесплатно. Это и будет вашим весомым вкладом в воскресный обед. Вот, и договорились. И возьмите с собой «Плащаницу» и «Балладу о гене». Покажете им. Не стесняйтесь. Истина важнее сомнений.
…Фима с Тиной тихо брели к дому от автобусной остановки. Стояла спокойная, звёздная ночь начала августа. И Фима вдруг в отчаянье проговорил:
— Наверное, мне надо перестать писать стихи… Сколько можно исписать страниц о Катастрофе! Сколько сочинить стихов! И вдруг:
Бредит он вторую ночь
Печью газовой.
Не пишись еврейкой, дочь, —
— Мне наказывал.
И голова кружится…
— Как это, перестанешь писать стихи?! Ты с ума сошёл! Ни в коем случае! Что делать, если каждому Бог дал своё? Даже Липкин жалуется. Помнишь?
О, если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они…
Я больше тебе скажу — покажи стихи Лиснянской. В это воскресенье.
— И Валерий Николаевич о том же… Страшно… Хотя много думал об этом. А почему не Липкину?
— Инна Львовна — женщина. А он, мне кажется, так рубануть может! Она добрее.
— Мне не доброта их нужна, а мнение. А получу несколько неискренних комплиментов в знак благодарности за обитую дверь. Ах, чёрт, но как мне неловко! Уже сейчас неловко!
— Скажи, тебя не поразило, что Инна Львовна закончила вечер потрясающим стихотворением Цветаевой?
— Нет, не поразило… Это было её обращение к богу поэзии. Но обращение не простого смертного, а приближённого к этому богу…
— Фимка, ты обратил внимание, какая это великая штука — «отказ»? Где и когда мы могли бы общаться с такими людьми? Великими людьми! За одно это надо низко кланяться чекистам. Сам Липкин поцеловал мне руку!
— 11 —
Фима выглядел великолепно: в потёртых джинсах, в выстиранной и отглаженной рабочей рубахе; на плечах — рюкзак, набитый двумя килограммами ваты, двумя метрами тёмно-вишнёвого дерматина, укатанного в согнутый пополам рулон, и количеством обивочных гвоздей, достаточных на обивку двух дверей. В правой руке Фима держал увесистую сумку с инструментами — электродрель, разнообразные свёрла, молоток, отвёртки, кусачки, пассатижи, «фомка» для особо упрямых дверей, дверной глазок и ещё много чего на всякий случай, а также новый врезной замок, годный для двери, открывающейся как вовнутрь, так и наружу. В заднем брючном кармане лежали два его стихотворения…
Валерий Николаевич, увидев упакованного Фиму, уважительно произнёс:
— Люблю профессионалов.
Колёса с точностью метронома отсчитывали каждый рельсовый стык, за окнами электрички, покачиваясь, проплывало ровное, зелёное, безмолвное Подмосковье, иногда нарушаемое видами то маленького городка, то деревеньки, то крошечного заводика. Нина и Тина, усевшись друг против друга около окна, весело щебетали, изредка поглядывая на мужей, а те были, как и полагается мужам, погружены в думы: Валерий Николаевич — о предстоящем ему визите в милицию, другими словами, для беседы с гебешником, казалось, никаким, из ряда вон выходящим поступком не спровоцированным; Фима — о порученном ему новоиспечённым симпозиумом под пышным названием «Отказ в выезде из страны по режимным соображениям» фельетоне о чём-нибудь эдаком. Очень скоро выяснилось, что думы обоих ни во что цельное и законченное не складывались, и Фима, угадав перемену в настроении Валерия Николаевича, спросил:
— Валерий Николаевич, а существуют ли гены, характерные только для одной национальности?
Женщины тотчас умолкли и красиво уставились на Валерия Николаевича. Поняв, что аудитория готова, он, по привычке запустив ладонь с растопыренными пальцами в лёгкие, непокорные свои волосы, заговорил.
— Я так понимаю, что уважаемого обивщика дверей интересует конкретный вопрос — существует ли еврейский ген? Не знаю. Мне трудно следить из-за «железного занавеса» за всем, что происходит в современной генетике. Но вот, что мне известно доподлинно. Во-первых, что, безотносительно генетических исследований, на основе только анализа исторических, лингвистических и иных факторов независимо мыслящие учёные пришли к выводу о принадлежности еврейского племени времен Авраама к народу, сформировавшемуся в результате исторического развития слившихся племен аккадцев и шумеров. Интересно, что после ассирийского пленения насильно угнанных евреев расселили в местах обитания их древних сородичей: в окрестностях родного города отца Авраама — Харана, а также в районе города Нипур, не случайно называвшегося Хабур, от слова «хибру».
Недавно я узнал, что учеными Тель-Авивского университета было доказано, что и генетика восточных евреев, живущих в Израиле, идентична генетике коренного населения шумерско-аккадского симбиоза, расположенного на территории древней Месопотамии. Генетическая близость этих евреев с коренным населением шумеров и аккадов, подтверждает, что еврейский этнос является наследником шумерско-аккадской или, как её иногда называют, шумеро-хурритской общности. Шумеро-хурритов иногда называют народом «черноголовых». Так что, белобрысые мои Фима и Тиночка, ваше еврейство ещё надо долго и нудно доказывать. А моё уж и не доказать вовсе.
Поехали дальше. Американцами, израильтянами, канадцами и англичанами, которые, исследовали генетику многих сотен людей, носящих фамилии Кан, Кон, Коэн, Каган, Коган и так далее, установили, что у всех у них существует специфический набор генов, так называемый, гаплотип, указывающий на наличие у них общего предка, существовавшего примерно 3,5 тысяч лет назад. Этим самым, учитывая, что исход евреев из Египта относится именно к этому периоду, фактически подтвержден библейский рассказ, согласно которому род священников — Коэнов, принадлежащих колену Левия, действительно ведет свое происхождение от брата Моисея Аарона. При этом немаловажно, что подобное сохранение генетики, то есть, «чистоты крови» в течение столь длительного периода, было возможным лишь благодаря тому, что именно для потомков Аарона, предназначенных быть священнослужителями, были установлены строгие ограничения на браки, и, тем самым, исключалась метисизация. Чёрт возьми — безумно интересное дело! Я ещё дорвусь до него.
— Валерий Николаевич, но ведь левиты — потомки Якова, а у того было 12 сыновей, и, значит, у всех двенадцати колен должен быть этот самый гаплотип, пусть даже в малом количестве?
— Должен быть, но, увы, убедительно это не доказано. Виноваты в этом мутации, да и трахались — пардон, дамы, — ваши предки, кроме, видимо, коэнов, с таким количеством малых и больших народов, что их потомки почти растеряли свой гаплотип. А сколько было прозелитов! Но есть учёные, в основном, еврейского происхождения, утверждающие, что гаплотип Коэнов в несколько урезанном виде присущ основной массе евреев, и в таком виде его даже называют «гаплотипом исраэлитов». Подтверждением этому генетическому доказательству, — хотя я бы не назвал это доказательством из-за невысокого уровня статистики исследований и неясной научной аргументации, — является этнокультурная идентичность, то есть, сохранение языка и традиций, чего не скажешь о подавляющем большинстве современных народов.
Остаётся неясным, есть ли общие корни у семитов и арабов? По этому поводу можно сказать, что многие авторы попадают под влияние ошибочного толкования библейского рассказа о внебрачном сыне Авраама от служанки Агари Исмаиле, как о родоначальнике арабов. Исмаил — сын еврея и египтянки, женившийся на египтянке, никак не мог быть родоначальником арабов, которые — и это хорошо доказано — являются потомками южных семитов, обитавших в Аравии за несколько тысячелетий до появления на свет Исмаила. Так что, нехрена вас и арабов называть двоюродными братьями. Интересно, что египтяне, согласно библейской традиции, считаются потомками сына Ноя — Хама, то есть, хамитами. А в «арабов» коренные египтяне (как и многие другие народы) начали превращаться лишь после захвата их территории последователями Мухаммеда и насильственной исламизации. Завершился этот процесс, когда коренное население вместо родного коптского языка полностью перешло на арабский. Вот так-то, дорогие мои…
И в это время раздалось энергичное: «Следующая остановка — станция Ильинская».
Станция как станция. Прошли небольшой базар, несколько непонятного назначения уродливых зданий и вышли на дорогу, вонзившуюся в березняк. От свежего воздуха приятно покачивало, от резкого летнего запаха трав выступали слёзы. Уверенно шагавший впереди Валерий Николаевич, полководческим жестом показал рукой влево, ещё несколько сот метров по лесной тропинке, и путешественники вышли к аккуратному дачному посёлку, сплошь застроенному одноэтажными домиками, с прилегающими к ним, крошечными участками земли, окружёнными разноцветными, невысокими заборами. В самой середине очаровательного посёлка находилась дача Липкина и Лиснянской. Калитка оказалась отворённой, дорожка от калитки к домику была выложена продавленным во многих местах, кирпичом, садик около дома зарос симпатичным бурьяном, со всех сторон окружившим четыре молодые берёзки и раскидистую яблоню, под которой было отвоёвано место для крошечного столика и двух окружавших его скамеек.
Слегка надавленная Валерием Николаевичем, кнопка дверного звонка сначала ничего не изменила в окружающей тишине, но, надавленная сильнее, вызвала такой звон, что с берёз в воздух массово взмыли прежде не замеченные, погружённые в дремоту ленивые птицы.
Едва Инна Львовна, хорошо повозившись с замком, открыла дверь, и едва гости ступили в неожиданно просторные сени, как началась суета.
— Чаю? Кофе? Что-нибудь перекусить? Но рабочему человеку надо перекусить! Не надо? Впрочем, на голодный желудок даже стихи пишутся легче.
— Прошу вас, — взмолился Фима, — оставьте меня одного! Погуляйте! Всего один час! А вас, Семён Израилевич, я прошу подойти к двери — мне нужно установить, на какой высоте врезать глазок.
— А зачем нам глазок? — искренне удивился Липкин.
— Чтобы знать, кто хочет войти к вам. Или у вас здесь все сплошные друзья? А, не дай бог, вор?
— Хотел бы я знать, что у нас можно своровать. Но если нужен глазок, я не против.
Семён Израилевич подошёл к двери, встал на цыпочки.
— Отмечайте!
— А зачем вы встали на цыпочки? — спросил Фима.
— Я всегда думал, что если подглядывать, то надо становится на цыпочки. Инстинкт, знаете ли. Да и некоторая коррекция моего роста…
Фима подошёл к двери, отметил карандашом точку врезки глазка, потом, озабоченно поцокав языком, подёргал дверь, потом изучил щели между дверью и дверной коробкой, потом очертил карандашом границы обивки, потом раскрыл дверь настежь — она открывалась наружу — и одним ловким и сильным движением попытался приподнять её. Проблем не было — дверь приподнялась, затем снова, словно игрушка в Фиминых руках, села на место. Все остальные, потрясённые, умолкли.
— Я посадил её на место, ибо, прежде всего, я сменю вам замок.
— Какое счастье! — воскликнула Инна Львовна. — Я один за другим ломаю себе пальцы, пытаясь открыть этот кошмарный механизм.
— Дверь, естественно, буду обивать изнутри…
— А почему и для нас это должно быть естественно? — спросила Инна Львовна.
— Потому что обивка внутренней стороны двери, открывающейся наружу, и более эффективна, чем наружная обивка, и, кроме того, обитая дверь не будет сверкать бардовым дерматином на всё Ильинское.
— Вот этого точно не нужно, — сказал Липкин. — Но, с другой стороны, дерматин наружу может стать замечательной рекламой для вас. И вы быстро разбогатеете.
— Семён Израилевич, если здесь запахнет обивкой, сюда примчатся сотни обивщиков и растопчут меня, как таракашку.
— Всё, — провозгласил Валерий Николаевич, — дайте человеку работать! Мы идём гулять!
— Чуть не забыла, — сказала Инна Львовна. — «Боржоми», водка, солёные огурцы и колбаса находятся в холодильнике, на кухне. Но помните — вас ждёт роскошный обед! Счастливого вам, Фима, творчества!
Тина на мгновенье задержалась.
— Фима, — прошептала Тина, — сделай эту дверь так, чтобы она стала поэмой!
Чмокнула мужа и бросилась догонять весёлую компанию.
Едва они скрылись из глаз, Фима осторожно проник из сеней сначала в небольшую кухню и увидел немало удививший его, идеальный в ней порядок. Поэты представлялись ему людьми, у которых всё всегда разбросано. Из кухни дверь вела в ничем не примечательный салон, откуда Фима с трепетом ступил в кабинет. Чёрт возьми, и здесь был порядок! Всю левую стену занимал книжный шкаф, за стеклянными дверцами которого стояли книги и во множестве папки. На письменном столе — настольная лампа, новая пишущая машинка, аккуратная стопка писчей бумаги и несколько рукописных листов. А на правой стене — увеличенная, без рамы, копия известной фотографии Мандельштама, сделанная в тридцатые годы.
Из кабинета приоткрытая дверь вела в спальню, была видна спинка кровати. И Фиме вдруг стало стыдно, — как будто подглядывал чужую жизнь, — и он выскочил из кабинета. Не давала покоя только мысль — а где же творит Инна Львовна? Или по очереди? И, не найдя ответа, начал вставлять замок.
С замком Фиме просто повезло — принесённый им был почти копией старого, и через полчаса ключ, с чмоканьем грудного ребёнка, легко и радостно открывал и закрывал благодарную дверь…
И Фима приступил к обивке.
Закончив работу, распрямил спину, чтобы полюбоваться содеянным, и услышал знакомый, чуть картавый, шамкающий голос:
— Ловко, ловко. Простите, самоучка?
Фима повернулся на голос и увидел стоящего на веранде высокого, улыбающегося Григория Горина.
— Нет, профессионал.
— Давайте знакомиться: меня зовут… Чему вы улыбаетесь — знаете без меня, как меня зовут? А вас?
— Ефим.
— А где, позвольте узнать, хозяева?
— Гуляют.
— Белые люди гуляют, остальные — работают…
— Ошибаетесь, я тоже белый. И это вовсе не работа, а дружеская, от всего сердца услуга выдающимся поэтам. А вам не нужно обить дверь?
— Нет, я уже обит. Передайте привет Семёну Израилевичу и его драгоценной супруге и скажите, что я загляну попозже. Прощайте!
И не дожидаясь ответа Фимы, повернулся и быстро пошёл восвояси.
И скоро, послушный Фиминым рукам, плотный, но тягучий, скованный по краям блестящим гвоздями с широкой, затейливой шляпкой, дерматин навечно накрыл собою дверь, превратив когда-то тощую, обшарпанную доску в пышнотелую красавицу тёмно-вишнёвого цвета.
Чуть отдохнув, Фима повесил яркую дверь, отошёл от неё на три шага и в небольшом внутреннем монологе похвалил себя.
Аккуратно собрал инструменты, сунул сумку в опустевший рюкзак, нашёл метлу, савок, подмёл, вынес мусор и высыпал его в стоящий около веранды мусорный бак. Сел на крыльцо и стал сочинять заказанный ему фельетон для симпозиума.
Идея симпозиума возникла в умах старых «отказников» совсем недавно. Этому способствовало неуёмное желание громко и отчётливо выказаться о главной проблеме «отказа», высказаться не лозунгами, не слёзной просьбой «отпусти народ наш», но точно, документально, профессионально.
— Почему мне поручили писать фельетон, а не серьёзную заметку? Почему никто не думает обо мне, как о мыслителе? Сам виноват, ибо двенадцать лет отказа только и делал, что сочинял шутливые стишки в честь дней рождения великих «отказников» и их великих жён, возвращения их из тюрем и ссылок, их семейных юбилеев, свадеб их отпрысков, проводов их в Израиль, а также в честь сионистских сборищ на квартирах, на природе и так далее, и так далее…
И о чём же будет фельетон? Ага, например, так. Рабинович, младший научный сотрудник «Почтового ящика», изобретает автомат, могущий стрелять вбок, допустим, в правый. Правда, автомат не очень совершенный, требующий немалой доработки. А потом этот Рабинович подаёт документы на выезд в Израиль. И несколько лет не дёргается, вполне согласный с полученным «отказом». А через пять лет узнаёт, что и американцы придумали автомат, тоже стреляющий вбок, но в левый. Заметка в газете «Правда» гласила, что это «античеловеческое оружие создано в стране загнивающего империализма для борьбы со свободолюбивыми народами». И сопровождалась рисунком, где злобный, крючконосый «дядя Сэм», спрятавшийся за стену, стреляет в проходящего слева от него, измождённого негритянского мальчика. Рабинович мчится в ОВиР.
— Вот, — кричит, — никакой это не секрет, все теперь будут стрелять из такого автомата!
А ему отвечают:
— Дурак ты, Рабинович! Если раньше тебя нельзя было отпускать, чтобы ты не разболтал секрета о своём кривом автомате, то теперь тебя нельзя отпускать, чтобы ты не разболтал, что и у нас есть кривой автомат, но — хреновый. Твой автомат больше убил целившихся из него, чем тех, в кого целились. И что же, ты приедешь в Израиль и с радостью расскажешь всем империалистам, каким мы говном пользуемся? Марш обратно в «отказ»!
Прошло ещё десять лет, и Рабинович узнаёт из газеты «Правда», что в «нашей стране изобретён автомат, стреляющий вбок — и в левый, и в правый — для борьбы с посягающим на наш мирный труд империализмом». Заметка заканчивалась словами: «Все на борьбу за мир!». И Рабиновича, уже старого, седого и нездорового, вызывают в ОВиР и говорят: «Езжай, Рабинович. Ты теперь и на хрен никому не нужен. И чтоб через десять дней духу твоего здесь не было!» Ох, и врежут мне чекисты за такой фельетон…
И вдруг Фиму охватило давно не посещавшее его чувство радости, такой отчаянной радости, что петь захотелось. Ему стало совершенно ясно, что и появление Горбачёва, и освобождение из тюрьмы Толи Щаранского, и ещё, пока тихо произносимое слово «перестройка», и беременность жены, и намечавшийся «Симпозиум по «отказу», и счастливое знакомство с поэтами — это начало новой жизни, жирная черта под «отказом». Выпустят… Ну, конечно, выпустят… И явным подтверждением этой мысли стало появление медленно двигающихся, оживлённо жестикулирующих хозяев и гостей маленькой усадьбы в дачном посёлке подмосковной станции Ильинская.
И вместе с хлынувшей, до слёз разобравшей его радостью, там, в глубине живота, словно ножом полоснуло: навсегда расстаться с этим зелёным раем, с поэтами, с Валерием Николаевичем и Ниной, с семинарами…
— 12 —
Восторг по поводу обитой двери не унимался несколько минут. Наконец, устав от единодушного лицемерия, женщины принялись за разогрев уже приготовленной Инной Львовной еды и сервировку стола, а мужчины, как и полагается мужчинам, отправились в садик, чтобы побеседовать о чём-нибудь умном. Но не успели.
— Обедать!! — раздался звонкий Тинин голос, и мужчины, нарочито неторопливо поднявшись с мест своих, с большим достоинством двинулись на волнующие запахи еды…
Стол был великолепен — дымящаяся, лоснящаяся от желтоватого масла, обильно посыпанная пахучим укропом, картошка; селёдка, укрытая кольцами сверкающего лука; чугунок с потрясающе пахнущим жарким; кислые капуста и огурцы, и белый, свежеиспечённый, нарезанный небрежными кусками, хлеб, пахнущий… хлебом.
— Хлеб, — предваряя неизбежный вопрос о его происхождении, сказала Инна Львовна, — привозится из соседней деревни пекарем с восхитительным именем Амвросий. Глядя на него, я всегда с грустью думаю, что это, наверное, последний частный пекарь Подмосковья.
Обед проходил в необыкновенно весёлой, дружеской обстановке, чему весьма способствовала привезённая Валерием Николаевичем бутылка виски — подарок зарубежного коллеги. Первую рюмку все деловито посмаковали.
— Ну и как? — поинтересовался Валерий Николаевич.
— Я вам отвечу словами Фолкнера, — отозвался Семён Израилевич. — «Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других». А поскольку у нас в наличии только один сорт…
Всем было вкусно и весело.
Валерий Николаевич рассказывал уморительные истории о своих беседах с идиотами администраторами от науки; решился на анекдот Фима:
— В связи с назначением Голды Меир израильским послом в Москве, нужно было показать ей, что евреям в СССР очень хорошо и уезжать в Израиль они не желают. Взяли Рабиновича, заставили наизусть выучить фразу: «Голда, мы никуда не едем», которую он должен был выкрикнуть ей прямо в лицо при встрече в аэропорту. Рабиновича предупредили, что если он хоть слово изменит в этой фразе, то об этом пожалеют все евреи СССР, но начнут с него. И вот настал момент встречи в аэропорту. Голда спускается с трапа, ее приветствуют и подводят к толпе советских граждан. Гебешник дает отмашку и Рабинович кричит: «Голда, мы никуда не едем?!»
Утолив голод, присоединился к веселью и Семён Израилевич.
— Однажды мы в небольшой компании обсуждали вечный вопрос об «особом пути» русского народа. И наш сосед Гриша Горин сказал, что «Русские долго запрягают, но потом никуда не едут. Просто запрягают и распрягают, запрягают и распрягают. Это и есть их особый путь».
— Кстати, он заходил во время вашего отсутствия, — вспомнил Фима. — Сказал, что снова зайдёт. Грустный какой-то.
— Станешь грустным, — сказала Инна Львовна, — когда 90 процентов своих работ приходится прятать в стол. А ведь у него огромный потенциал.
И в это время раздался тихий стук в дверь.
— А вот и сам Горин. Открыто!
В сенях действительно оказался Григорий Горин. Войдя, он несколько мгновений рассматривал обитую дверь и, пройдя кухню, вступил в салон. Учтиво поздоровался.
— И как можно сосуществовать с такой красотой? — спросил он, кивая на дверь, которая отлично просматривалась через кухоньку.
— Гриша, — ответил Семён Израилевич, — с красотой не надо сосуществовать, ею надо просто наслаждаться. И у нас в наличии потрясающий виски и неплохой, как теперь говорят, закусон. Присоединяйтесь!
— Большое спасибо, но к нам приехали двое юмористов, и меня ждут с обедом. Правда, они привезли не виски, а водку. Потому что они — не вы, они — патриоты. А я, собственно, пришёл за чёрным перцем. Мне для салата очень нужен перец. Лишь перец для салата нужен мне. И я стоял дилеммой сложной перед — идти за перцем к Липкиным иль не.
Все рассмеялись.
— В который раз убеждаюсь, — весело проворчала Инна Львовна, направляясь за перцем, — что евреи, в конце концов, погубят великий и могучий…
— Именно поэтому их очень скоро скопом отправят в Израиль, — сказал Горин.
— Вы не могли бы уточнить, когда? — спросил Валерий Николаевич.
— Скоро. Помяните моё слово — скоро.
И добавил:
— У меня двусторонняя телепатическая связь с ЦК КПСС.
Получил перец, галантно поцеловал руку Инны Львовны и, раскланявшись, вышел. Пир продолжался.
— Фима, — вдруг обратилась к нему Инна Львовна, — мне сказали, что вы хотели почитать нам свои стихи.
Щёки Фимы стали ярче обитой им двери, и он с гневом, смешанным с восхищением, взглянул на безмятежно наливающего себе виски Валерия Николаевича.
— Если я вас не утомлю… Дело в том, что это очень длинное стихотворение…
— Не такое уж длинное, — встрял Валерий Николаевич, — вытерпеть можно.
Фима вздохнул, привстав, вытащил из заднего кармана брюк аккуратно сложенные листки, расправил их, и чувствуя, что в горле образовался ком, долго откашливался, сделал глоток виски, и, наконец, начал читать «Плащаницу».
Ее история проста —
Под крики, стоны и рыданья,
Христа со смертного креста
Сняв, обернули этой тканью.
Она легла без суеты,
Торжественно, как покрывало,
И навсегда его черты
В свое плетение вобрало.
— — — —
Скончался он в канун Субботы,
И не могильная плита
Укрыла мёртвого Христа,
А каменное чрево грота.
Ко входу в грот скатили камень,
Установили строгий пост,
Чтоб не был выкраден Христос
Печальными учениками.
Кричали сонные возницы,
С Голгофы плыл последний воз…
Лежал в объятьи плащаницы
Непохороненный Христос.
И тихо было в мире этом,
И, возведённый в важный сан,
Светился грот печальным светом,
Себя являя небесам.
И вдруг раздался грома грохот,
Сверкнула молния с небес,
Копьём своим коснулась грота —
Христос очнулся и… исчез.
Как странно — вдруг его не стало,
И ткань, беспомощна, пуста,
Лицом Христа легко упала
На плечи стертые Христа.
Ушла Суббота, не печалясь,
Ушла, сурова и проста.
Три мироносицы примчались,
Но в гроте не было Христа —
Лежала в нем печалью вдовьей,
Уж обращенная к векам,
Небрежно сложенная вдвое,
Христом покинутая ткань.
— — — —
Ее хранили от пиратов,
Пожаров, войн, разливов рек,
От критиков, воров, фанатов
И чуда жаждущих калек
Ее вмуровывали в камень,
Ее хранили, как трофей,
За чередой мечей и ставень
Дворцов, соборов, крепостей.
Хранили зорко, ежечасно,
Как будто был кусок холста
Суть продолжение несчастной
Незащищенности Христа.
Но слух о ней ломал границы,
Взвивался птицей в небеса…
— Коль ты Христова плащаница,
Яви Христовы чудеса!
Тогда сошлись для встречи краткой
Все величайшие умы:
— Сей холст святыня или тряпка,
Решим сегодня только мы!
— — — —
Собора чистая палата,
У всех дверей военный пост.
На многих петлях, как распятый,
Подвешен сумеречный холст.
Глядит Христос в чужие лица,
Глядит, беспомощен и нем,
На зло сверкающие блицы
И яркий никель ЭВМ.
— Настало время, плащаница,
Без словоблудья и затей,
Нам разобраться в каждой нити
И в каждой черточке твоей.
Твой день настал. Часы пробили.
Мы взяли Ариадны нить.
Ты станешь просто тряпкой или
Тебе великим чудом быть.
— — — — —
Экраны, как софиты в цирке,
Вдруг разорвали темноту,
И схемы, графики и цифры
Толпой помчались по Христу.
Любой идее выдан пропуск,
Любая реплика — на стан!
…Катился в мусорную пропасть
Гипотез длинный караван.
— Нет, не подделка ткань! Незримо
Жива в плетении холста
Пыльца цветов Иерусалима
Времен распятия Христа
И следа красок нет! Истлела,
Коснувшись тела, ткань! Она
Окрашена Христовым телом,
Христовым телом сожжена!
Уже вытягивались лица,
Уж холодок закрался в грудь…
И прошептала плащаница:
— Молю вас, дайте отдохнуть…
— — — — —
И ткань, державно и устало
Плывя в привычную купель,
Склонившим головы, шептала:
— Вы мне поверили теперь?
Сойдите с троп привычных, торных,
Исторгните из сердца крик:
Христова ткань — НЕРУКОТВОРНА,
И в ней Христа печальный лик.
И мир, услышав, станет лучше,
Добрее станут дом и храм…
Я — плащаница, тонкий лучик,
Из тьмы веков пришедший к вам.
— — — — —
Еще одною тайной больше,
Еще один бесценный сказ;
Благословен Великий Боже,
Что так заботится о нас,
Что хоть немногим отвлекает
От лицемерия и бомб,
Что рвет, накопленный веками,
С нас всемогущества апломб,
Что стали нам ясны не боле
На ткани контуры Христа,
Чем муравей, былинка в поле,
Цветок с колючего куста.
И значит все, что мы любили,
Что любим и полюбим впредь,
Его безмерные глубины,
Его владетельная клеть,
Непостижимая, как прежде…
И это сладостно томит,
Вселяет тайные надежды
И от безумия хранит.
Фима замолк и растерянно взглянул на Липкина. Вид у того был совершенно равнодушный. Неожиданно он процитировал самого себя:
Смятений в мире было много,
Ужасней всех, страшней всего —
Две ночи между смертью Бога
И воскресением Его…
И ужас в том, что в эти ночи
Никто, никто не замечал,
Как становился мир жесточе
И как, ожесточась, мельчал
— Знаете что, Фима, дайте мне самому почитать. Я глазами умнее, чем ушами. И это займёт совсем немного времени.
Он взял протянутые Фимой листы, вышел из-за стола, погрузился в недалеко отстоящее от стола кресло, водрузил на нос очки и начал читать, чуть шевеля губами.
— Инна Львовна, а вам понравилось? — неожиданно спросила Тина.
Последовал немедленный ответ:
— Только после маэстро. Он, правда, несколько выпимши, и поэтому его критика будет несколько длиннее и дружелюбнее, чем обычно. Но что вы так волнуетесь, Фима? — продолжала она, — Семён Израилевич не Державин, а вы, извините, не Пушкин. Однако у вас такой вид, будто решается ваша судьба. Вы что, в Израиле собираетесь зарабатывать на жизнь стихами? Да у вас руки — поэма.
— Фима, так и будут писать ваши биографы: «поэт-обивщик» — торжественно и не без иронии сказал Валерий Николаевич.
— Валера, оставь виски в покое! — сказала Нина.
И в это время вернулся к столу Семён Израилевич.
— Знаете, Фима, вообще-то говоря, я не люблю давать оценки чужим стихам. Кажется, через год после смерти Сталина, я был приглашён почитать стихи в клуб медиков, увлекающихся поэзией. Было славно, ново… Читать стихи в неподнадзорной аудитории… Но не об этом речь. В конце вечера ко мне подошёл молодой человек и необыкновенно волнуясь, попросил прочесть несколько его стихотворений и дать им оценку. Он протянул мне несколько листков с четырьмя или пятью небольшими стихотворениями, я отошёл в сторону, прочёл, вернул ему листки и сказал, примерно, следующее: «Это трудно назвать стихами. Это более или менее грамотно зарифмованные банальности». И, конечно, извинился за прямоту. Но вы бы видели его лицо! Оно стало таким отчаянно грустным, что я готов был провалиться сквозь землю. И, можете себе представить, что год назад, когда я лежал в Боткинской больнице, ко мне подошёл незнакомый врач, седой, важный, и, склонившись ко мне, спросил: «Семён Израилевич, вы не помните меня?» — «Простите, не помню». — «Я тот самый, тогда ещё молодой человек, который в клубе медиков показал вам свои стихи…» Я тотчас вспомнил и с ужасом подумал, что он меня немедленно отправит на тот свет. А он продолжал: «Знаете, Семен Израилевич, я после того вечера не написал ни одной стихотворной строчки… Да… Меня попросили взглянуть на вашу кардиограмму. Ничего особенного я в ней не заметил. Скорого выздоровления». И ушёл… Надо же, что может вытворить жизнь… Так что, Фима, обязательно пишите стихи. Пишите, сколько вам угодно. Нет ничего радостнее творчества. И только Всевышний решит, останутся ли плоды вашего творчества или безвозвратно исчезнут. Что же касается непосредственно этого стихотворения, то, по моему мнению, повторяю — только по моему мнению — в нём отсутствует то главное, что должно быть присуще поэзии — вашего отношения к происходящему. Вы, безусловно, взволнованы рассказом Валерия Николаевича о плащанице, это чувствуется, но вы не внесли в эту историю себя, не внесли никакой новизны в рассказанное им, не внесли ни тени сомнения. Вы будто зачислили себя на должность апологета. Но так ли однозначно доказана нерукотворность плащаницы? Да и кто был в неё завёрнут? Кто-то видел Христа живым? Описал его внешность? А вы, не ведая сомнений, сотворили образ, в данном случае, плащаницы. Но поэт не должен создавать образов, он создаёт проблемы. Всё, что есть в вашем стихотворении можно вполне рассказать прозой. Но проза произошла от древа познания, а поэзия — от древа жизни. Поэтому поэзия — другая и живёт дольше прозы. Она ближе к жизни, к истине. Как замечательно сказал Иннокентий Анненский — я постараюсь не наврать — «ни одно великое произведение поэзии не остается досказанным при жизни поэта, но зато в его символах надолго остаются вопросы, влекущие к себе человеческую мысль. Не только поэт, критик или артист, но даже зритель и читатель вечно творят Гамлета». И ещё. Ваше стихотворение назидательно. Люди, поверьте в Богоданность плащаницы, и мир станет лучше, чище, возвышенней. Увы, Фима, не станет. И вы знаете это не хуже меня. Так зачем эта риторика? И ещё… Поэзия — искусство недосказанного, подразумеваемого. Стихотворение, которое можно полностью понять или пересказать другими словами — не настоящее стихотворение, а просто складно, в рифму рассказанная, как правило, эмоциональная проза. Я вижу, сколько труда вложено в это стихотворение. Я бы даже добавил — поэтического труда. И есть осязаемые удачи: «…незримо жива в плетении холста пыльца цветов Иерусалима времен распятия Христа». Или вот: «…и ткань, беспомощна, пуста, лицом Христа легко упала на плечи стертые Христа». И последнее. Знаете, Фима, русский язык устроен так, что не писать на нём стихи невозможно. Я не думаю, что в России человек, не чуждый прекрасному, не писал бы стихов. И у каждого есть своя аудитория — семья, клуб, газета, стадионы и, наконец, Бог…
Семён Израилевич передал Фиме через стол стихи и неожиданно с некоей торжественностью произнёс:
— И огромное вам спасибо, Фима, и за дверь, и за замок, и за стихи, которые вы с такой доверительностью вверили мне. И я очень надеюсь, что непрерывно брюзжащий старик никому не испортил этот прекрасный, солнечный день. Выпьем!
А Тина, с тревогой поглядывавшая на мужа во время монолога поэта, с удовлетворением отметила, что он нисколько не расстроен, а даже наоборот, возбуждён и радостен.
— Семён Израилевич, вы действительно думаете, что народ, заполнявший стадионы, чтобы послушать Евтушенко, Ахмадулину, Вознесенского, Рождественского, жаждал приобщения к поэзии? — спросил Валерий Николаевич.
— У вас есть иная версия?
— Несколько циничная. Советские люди шли на их выступления и покупали их книги не ради стихов, а ради трех вещей: сопричастности к недозволенной или не одобряемой властями акции; приобщения к дефициту, которым престижно обладать; наконец, ради собственно зрелища при полном отсутствии выбора зрелищ.
— В этом много правды, но у меня ощущение, что вы, Валерий Николаевич, на стадионы не ходили и оттого зрелища воочию не видели. А мне пришлось. Так вот, порою казалось, что ошеломлённые, до крайности возбуждённые зрители готовы пойти на штурм Кремля. Мне казалось, что дни Софьи Власьевны (советской власти) сочтены. Никогда, даже лучшая в мире проза, не смогла бы сотворить с людьми того, что творили не самые лучшие в мире стихи. И это много выше приобщения к дефициту. Другое дело, что всё начиналось со входа на стадион и кончалось с выходом из него.
— Оргазм, — добавила Инна Львовна.
— Интересно, — заключил Валерий Николаевич, как по-разному относятся к одному и тому же событию учёный и поэт. Фима, а что же с «Балладой о гене»?
— Хватит, хватит! — заголосил Фима.
— Как это «хватит»? — возмутился Валерий Николаевич. — Я требую прочтения и второго стихотворения, тоже посвящённого мне!
— Валера, — взмолилась Нина, — оставь Фиму в покое!
— Фима, — мягко сказала Инна Львовна, — читайте. Пожалуйста.
Фима несколько дрожавшими руками вынул листок со стихотворением, развернул его.
— Пожалуйста, господа мазохисты. «Баллада о гене».
Забрали гена ночью, сворой
И двое в коже, тихо, зло
Ему сказали:
— Время, сволочь,
Твое, наверное, пришло.
И повезли, давя плечами,
Воняя луком и хамсой,
Сверля безумными очами
Осатаневший город свой.
И в дом ввели, облезлый, старый,
Оглохший от бессчетных бед,
И перед юным комиссаром
Ввинтили в сальный табурет.
И тот сказал: — А я-то думал,
Что сам — с версту, в плечах — что дом,
А на тебя нельзя и дунуть —
Ищи по щёлочкам потом.
И закричал, уже не в силах
Унять властительную дрожь:
— Не веришь в новую Россию?
Большевиков не признаешь?
Остаться хочешь прежним геном,
Гнилое прошлое манит,
Не видишь, падло, перемены,
Не реагируешь на них!
Пока мы кровью здесь потеем,
Сажаем будущего сад,
Ты большевистскою постелью
Нахально брезговаешь, гад.
И всем нашёптываешь, сука,
Что революционный класс,
Рожать, как прежде, будет в муках
И в год не более, чем раз.
Но ты не радуйся особо —
И без тебя мы, вражий пёс,
И этой сучки хромосомы
Решим наследственный вопрос.
Мы сбросим старые привычки,
Мы десять раз получим в год
От каждой крепкой большевички
Коммунистический приплод.
Но наше мощное терпенье
Законно выродилось в злость.
И поведу тебя теперь я
Под пули, вражеская кость.
И вскинулось двенадцать дул…
— Огонь! — вскричал кровавый гений.
Двенадцать бурь, двенадцать пуль
Ударили по сердцу гена.
Он покачнулся. Бел, как мел,
Крылами всех стрелявших обнял,
Благословил и полетел,
Роняя кровь над местом лобным.
— Господи, — вскричала Инна Львовна. — Совсем другие стихи! Фима, это хорошо, мне понравилось!
— Вот видите, Фима, — тихо сказал Семён Израилевич. — Вы сами ответили на вопрос, чем слаба ваша «Плащаница». В этом, гораздо меньшем по размеру стихотворении, вы рассказали страшную историю, показали своё отношение к ней и, главное, нарисовали картину произошедшего. Нарисовали объёмно, хорошо… Это комиссарское «брезговаешь» и двенадцать дул, двенадцать бурь, двенадцать пуль — просто здорово! Прямо-таки реминисценция «Двенадцати» Блока… Здесь вы не прячетесь за многие и многие слова, здесь явная и небезуспешная попытка обнажить глубинную суть вещей… Например, ген, ввинченный в табурет, а не просто, скажем, посаженный, точно характеризует его строение. Я не ошибаюсь, Валерий Николаевич, ген — он напоминает по строению винт?
— В некоторой степени.
— И очень здорово, что табурет засиженный, сальный, — продолжал Семён Израилевич. И это: «Сверля безумными очами /Осатаневший город свой». Но, пожалуй, «воняя луком и хамсой» вызывает у меня возражение: во-первых, слово «воняя» — очень грубое, а уж тем более, в стихотворении; во-вторых, где это чекисты того времени раздобыли хамсу? Ведь это, по сути — анчоусы, рыбка для людей богатых. Впрочем, могли изъять…
Тина нежно поглаживала Фимину руку. А сам Фима отныне, во всех подробностях знал, как выглядит рай, и что он будет в нём делать.
Инна Львовна встала, ушла, но очень скоро вернулась с небольшой книжкой в мягком переплёте.
— Это вам, Фима, — сказала она, протянув ему книжку.
Фима прочёл название — «Виноградный свет». На обратной стороне обложки корявым почерком было написано — Фиме показалось, что начертано: «Фиме с благодарностью за дверь, которую вижу и стихи, которые слышала — вдруг искра Божья! Будьте счастливы на святой земле!»
Фима никогда ещё с таким чувством не произносил «спасибо»…
И после весёлого чаепития, и после того, как усилиями Нины и Тины стол засиял первозданной, белой скатертью, а посуда была вымыта, вытерта и поставлена на свои места, вся компания весело выкатилась на улицу. Провожали Липкин и Лиснянская гостей почти до самой станции.
— Скажи, — вдруг тихо спросила Тина, обращаясь к мужу. — Почему ты так счастливо улыбался, когда Семён Израилевич громил твою «Плащаницу»?
— А ты могла себе представить ситуацию — выдающийся поэт серьёзно и обстоятельно разбирает стихотворение некоего Ефима, который является таким же поэтом, как Липкин — обивщиком.
А на прощанье было договорено, что через воскресенье Валерий Николаевич с Ниной и Фима с Тиной приедут в Переделкино, куда собирались на несколько дней Липкин и Лиснянская по приглашению друзей.
— Мы погуляем по Переделкину, — сказала Инна Львовна. — Навестим могилу Пастернака. Это, знаете, как очищение души… Договорились, да? Но обеда не будет! –решительно добавила Инна Львовна. — Мы там и сами нахлебники.
Так закончился этот удивительный день…
— 13 —
Переделкино… В Советском союзе, кажется, не было сколько-нибудь значащего писателя или поэта, не связанного с этим легендарным подмосковным посёлком. Здесь они набирались кислорода. Здесь они обретали творческую тишину. Здесь самые обласканные советской властью получали дачи. Здесь творились великие произведения и строились писательские заговоры. Отсюда их увозили в тюрьмы. И здесь они умирали. И не зарастали тропы к их могилам…
Едва отойдя от платформы, наши путешественники в числе многих других оказались в тихо шелестящем лесу дубов и елей и, ведомые Валерием Николаевичем, как выяснилось, частым гостем Переделкина, пошли, вернее — поплыли, по широкой утоптанной тропе, от которой через каждые сто-двести метров шаловливыми ручейками вытекали по обе её стороны, извилистые, быстро исчезающие тропинки. На этих тропинках постепенно исчезали другие гости Переделкина, и скоро они остались одни. Молчали. Их охватило невыразимое блаженство. Разговаривать было грешно. Как-то само собой сошлись и будто склеились пальцами левая рука Валерия Николаевича и правая Нины, левая рука Фимы и правая Тины.
— Уедем, и в Израиле уже не найдём такого леса, — тихо, чтобы не услышал Валерий Николаевич, прошептал Фима.
И в это время тропа незаметно превратилась в самую настоящую улицу, ибо по обе стороны её появились одноэтажные и двухэтажные деревянные срубы, некоторые из которых были покрашены, некоторые, что посолиднее, — окружены забором.
И очень скоро, на небольших расстояниях друг от друга, показались срубы –небольшие, уютные, одноэтажные, с крошечным участком, с небольшой верандой перед входной дверью, окружённые, где малым забором, где — вообще без забора, в основном неокрашенные. В одном из этих домов и гостили наши поэты. Вместо забора домик выборочно окружали кусты жимолости, земельный участок украшала огромная серая ольха, увешанная пушистыми серёжками, почти впритык к ней располагались две небольшие со спинками скамейки, между которыми стоял чуть скошенный набок, одноногий круглый столик, с водружённым на нём линялым зонтом. На одной из скамеек полулежал на продавленной подушечке Семён Израилевич Липкин.
— Инна Львовна освободится через полчаса, которые вы будете вынуждены провести со мной. А я, к сожалению, с вами гулять не пойду — ноги совершенно ватные сегодня. Располагайтесь. Потрепимся. Хотите — перекусите тем, что сами и принесли.
Гости достали воду, фрукты.
— Семён Израилевич, а как появился этот райский уголок? — спросил Фима, когда они удобно расположились на скамейках.
— Одни говорят, что идею писательского посёлка высказал сам товарищ Сталин. Это в его вкусе. Другие — что Горький его надоумил. Это было необходимо для прикорма писателей, что хорошо вписывается в литературную политику середины тридцатых, заключавшуюся в осыпании милостями верных и послушных. Даже отщепенцы временно были прощены. Шел тщательно организованный советский ренессанс. Писатели приравнивались к ударникам труда, и точно так же, как ударники, объединялись в бригады. Выезды «на объекты» — в Среднюю Азию, Белоруссию, на стройки пятилетки — приняли массовый характер. Много ездили, хорошо пили и ели. Деятели культуры становились особой кастой. В Москве появились дома художников, актеров, писателей — последние получили роскошный дом в Лаврушинском переулке. Пастернак получил там отдельную квартиру. Но апофеозом прикорма стало строительство «Городка писателей» в Переделкино. Какое символическое название места! Говорят, что в 1933 году, подписывая постановление о строительстве «Городка писателей», Сталин пошутил: «Лучше бы было не Переделкино, а Перепискино».
Кем были получены первые дачи? Главным попутчикам: Федину, Малышкину, Пильняку, Леонову, Иванову, Эренбургу, Кассилю, Пастернаку и другим. Недолго пожили здесь Ильф и Петров… За несколько лет по немецким проектам построили 50 двухэтажных деревянных дач. Когда писателей стало много, — в одной Москве тысяч пять, — выстроили в Переделкино Дом творчества, нечто вроде санатория, куда можно было приезжать на месяц или два и работать в тиши, среди дружественных белок и настороженно-враждебных коллег. Кажется, с 1936 года Пастернак проводил на переделкинской даче почти все время, бывая в Москве лишь по необходимости. Сначала ему дали на участке, где, правда, ничего не росло, огромный шестикомнатный дом с холлом и верандой. Рядом жил Пильняк, чуть ли не единственный московский друг Пастернака, напротив — Тренёв. В тридцать восьмом Пильняка забрали, и Пастернак захотел переехать в другое место — он не мог жить рядом с домом, постоянно напоминавшем ему о судьбе друга. После смерти Малышкина (умер сам, большое по тем временам везение) Пастернаку и его жене достался его дом, в котором теперь музей — «дача №3» — небольшая, уютная, на просторном и светлом участке. Он писал об этом доме, что «это именно то, о чем можно было мечтать на склоне лет всю жизнь». На склоне лет… Он любил прощаться с жизнью, прощался тихо, умиротворённо, не зная, что ему предстояло прожить еще двадцать лет — лучших и главных. Вот, кратко об истории Переделкино. Забыл упомянуть, что здесь застрелился Фадеев. Солженицына забрали с дачи Чуковского. Скольких писателей забирали за решетку или на тот свет прямо из знаменитого поселка! В Переделкине было много шокирующих смертей, но еще больше — рождений «на века». Здесь рождались и гибли люди, рождалась и гибла литература… Потом засвистели пули… Об этом гениально писал Хармс: «А человек — ну что человек? Съел антрекот, икнул и умер. А официанты вынесли его в коридор и положили на пол вдоль стены, прикрыв грязной скатертью».
Во времена расстрельных процессов над командирами Красной армии, Хармс написал такую байку:
«На набережной нашей реки собралось много народу. В реке тонул командир полка.
— Утонет, — сказал Кузьма.
— Ясно, что утонет, — подтвердил человек в картузе.
И действительно, командир полка утонул. Народ начал расходиться».
Ну, вот, хотел повеселить, а вогнал в тоску… А через много лет после войны, здесь стали жить, а, скорее, наведываться, Боков, Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Булат Окуджава, Ахмадулина, Межиров, Казакова… Я начал писать балладу о Переделкино, но оставил… Не идёт… Но вот крошечный из неё кусок:
Среди живых стволов мощь мнимая столбов,
Где взвизги суеты советской
Смешались с думою боярскою дубов
И сосен смутою стрелецкой…
— Гулять! Гулять! — раздался голос одетой в светлое праздничное платье Инны Ильиничны. В руках её был трогательный букет белых ромашек. Она и возглавила шествие.
Скоро вошли на Переделкинское кладбище. Народу было много; все тихо, переговаривались; шли по широкой алее, одну из сторон которой украшали берёзы, почтенно изогнутые серединами стволов в сторону аллеи, а другую занимали спокойные стройные сосны, гордые и независимые. Дошли до небольшой развилки и пошли по правой тропинке, огороженной невысоким забором, приведшей к могиле Арсения Тарковского. Инна Львовна остановилась, скорбно глядя на могилу, потом низко поклонилась, и все двинулись дальше вдоль забора, чуть вниз. И вдруг, слева от тропинки, за деревьями показался высокий белый камень — могила Бориса Леонидовича Пастернака. Несмотря на немалое количество людей, мемориальный камень они не окружили, а расположились позади него полукругом, предоставляя подошедшим полностью обозреть картину. И затем произошло вот что. Инна Львовна, первая подошедшая к камню, неожиданно, очень неловко, чуть не упав, опустилась перед ним на колени, положила к подножью свой букетик ромашек и низко склонилась, чуть ли не касаясь носом земли.
Всё произошло так быстро, так театрально, что никто в первое мгновенье не бросился к Инне Львовне, чтобы хоть как-то помочь ей в свершении этого драматического акта. Первым опомнился Валерий Николаевич. Он сделал всего один шаг, нагнулся, обхватил Инну Ильиничну, и вместе с подскочившим Фимой они стали медленно поднимать её. И Валерий Николаевич неожиданно, тихо, но отчётливо произнёс:
— Не ёрничайте, Инна Львовна!
Скорей всего, кроме Фимы, никто не услышал этих слов. Инна Львовна не произнесла ни единого слова в ответ, кое-как отряхнулась и совершенно безмятежно заявила:
— Дом-музей Бориса Леонидовича сегодня по каким-то причинам закрыт, и я устала. Пойдёмте обратно в дом…
Дом этот оказался полон народа.
— Ребята, мы уже никому не нужны! — сказал Валерий Николаевич.
— В Москву, в Москву, в Москву! — одновременно вскрикнули Нина и Тина, и обе тотчас расхохотались от так неожиданно и одновременно вырвавшегося крика. Обе пары направились к железнодорожной станции. Поезд в Москву долго себя ждать не заставил.
…Нина спала, прислонившись головой к окну, и на её плече сладко посапывал Валерий Николаевич. Тина сидела напротив, но её половина не только не посапывал на её плече, но, прижавшись к ней, горячо говорил, правда, тишайшим шёпотом:
— Я бы язык себе откусил, прежде чем заявить Лиснянской, что она ёрничает. А ведь она действительно ёрничала. При всех. Зачем это ей? А Валерий Николаевич — личность! Ему стало противно, и он высказался! А у меня с лица наверняка не сходило умильное выражение…
— Фима, но ведь есть ещё и такт, понимание момента, интеллигентность, наконец. В конце концов, он мог ей высказать своё «фэ» и не при людях… В итоге, согласись, он испортил нам прогулку. Инна Львовна так расстроилась, что немедленно вернулась в дом.
— Ну, не выдержал! В том-то и дело! Реакция личности! Потрясающий мужик!..
— Фима, она простит его?
— Не сомневаюсь. То есть, не простит, а начисто всё забудет. Валерий Николаевич для них — кратчайшая дорога их поэзии на Запад…
— 14 —
И пришёл на семинаре день Юрия Карабчиевского, Юрия Аркадьевича Карабчиевского, писателя, поэта, эссеиста, удивительного почти по всем меркам человека, удивительного своей внешностью, своим огромным талантом, своим резким голосом; удивительного тем, что его страшно было перебивать, что его хотелось бесконечно слушать, ибо ни разу никто из участников семинара не слышал от него никчемностей, пустоговорения. Он, в основном, молчал. Его чёрные под огромным лбом глаза никогда не лгали, в них не было светской вежливости и обязательного при общении внимания и понимания. Тина говорила, что в его глаза страшно заглянуть. Но когда ему что-то нравилось, когда ему вдруг становилось весело, из чёрных, бездонных дыр глаза его превращались в два тёплых солнца, и не было большего комплимента для заслужившего этой чести.
Но порой он был суров и очень. Однажды Фима исподтишка наблюдал такую сцену. Кто-то принёс ему свои стихи. Он прочитал про себя, шевеля своими полными, чувственными губами.
— Не обижайтесь, друг мой, но я вдруг подумал: а если бы случилось, что ваши стихи были бы первым опытом стихосложения на Руси и оттого стали бы эталоном поэзии — вы представляете, что было бы?
Глаза его округлились от воображаемого ужаса…
Любимым его поэтом был Борис Пастернак.
Юра (любопытно, что при всём уважении к нему и даже страхе перед ним, все называли его Юрой и никогда — по отчеству) был дипломированным инженером, выпускником Московского энергетического института, но предпочитал работать мастером, что оставляло ему больше времени на литературное творчество и, по его словам, «…избавляло меня от нелепой, а, порой, и оскорбительной позы «избранника», позы «учителя». При этом, на постоянные расспросы о своей рабочей деятельности, он не раз заявлял, что его работа в электронике увлекательна, и его неоднократно привлекали к участию в научных разработках.
Но главным в его жизни, конечно, была литература. Тридцать лет его творчества, как он говорил, «прошли в подполье». Печатался только в эмигрантских изданиях, а на родине были опубликованы четыре (!) его стихотворения. И лишь участие в 1979 году в знаменитом неподцензурном журнале «Метрополь», явилось для него легализацией: никому не известный поэт вдруг присоединился к известной группе литераторов.

За неделю до выступления Юры он получил потрясающий подарок — в Мюнхене вышла его книга «Воскресение Маяковского», написанная семь лет тому назад, и несколько книг добрались до автора. Собственно, это событие и явилось причиной выступления Юры на семинаре. Юра, счастливый, держа в левой руке книгу с многочисленными закладками, так начал своё выступление:
— Никто из вас, кроме Семёна Израилевича Липкина и Валерия Николаевича Сойфера, книгу эту не читал, поэтому я позволю себе просто зачитывать из неё необходимые мне куски. Одним из мотивов обращения к творчеству Маяковского, совсем уж побочных, но который и тогда, и сейчас казался и кажется достаточно важным, — хотелось вставить большое перо советской власти, душившей меня. Надоело быть затравленным и беспомощным.
Бесполезно копить обиды.
Ни на ком не найти вины.
Все мы сечены, все мы биты,
бриты наголо, клеймены.
Как во сне: только рожа хамья,
только ужас тупых угроз.
Заорал бы — да нет дыханья
Побежал бы — да в землю врос.
Стал бы требовать — а на деле
только жалобно попросил.
Никаких, ни в душе, ни в теле,
никаких не осталось сил.
Я начал писать книгу о Маяковском в 1980 году, когда злости накопилось вполне достаточно. Прямые проклятия меня не привлекали, а вот увидеть губительность этой системы опосредованно было очень заманчиво. Может быть, в этом я кое-где даже перехлестнул, но это неизбежные издержки производства… Итак, читаю:
«Маяковского сегодня лучше не трогать. Потому что все про него понятно, потому что ничего про него не понятно. Что ни скажешь о Маяковском, как ни оценишь: возвеличишь, низвергнешь, поместишь в середину — ощущение, что ломишься в открытую дверь, а вломившись, хватаешь руками воздух. Бесконечно размноженный, он всюду с нами, тот или иной — у всех на слуху. Но любая попытка сказать и назвать кончается крахом, потому что всегда остается чувство, что упущено главное. Маяковского лучше не трогать, так спокойней, так безопасней. Но уж если решиться говорить о Маяковском, то только будучи абсолютно уверенным в своей в данный момент беспристрастности… Не искать подтверждений — вот что главное. Не иметь никаких предварительных мнений, никакого счета не предъявлять, а открыть и читать стих за стихом, как читают неизвестного ранее поэта, выстраивая тот мир и тот образ автора, какие выстроятся сами собой.
Мы изучали его стихи по воспитательнице в детском саду, по учительнице в классе, по вожатой в лагере. Мы изучали их по голосу актера и диктора, по заголовку газетной статьи, по транспаранту в цехе родного завода и по плакату в паспортном отделе милиции. И, заметим, что никогда, ни в какие годы наше отношение к этим источникам не вступало в противоречие со смыслом стихов. Не было необходимости умолчания, не требовалось круто оборвать цитату, чтоб ограничить ее содержание тем, что полезно вожатой или милиции.
В газетах цитируют ведь и Блока: «О доблестях, о подвигах и славе». И, однако, именно это не Блок, потому что это часть иного целого, и уже следующая строка, необходимо и естественно её продолжающая — «Я забывал на горестной земле» — губительна для газетного заголовка.
Мы вечно помним Пушкину те два или три стиха да еще три-четыре странички интимной прозы, где он, как нам кажется, поддался не вполне благородным мотивам. Мы с легкостью проклинаем и с трудом защищаем Некрасова за единственный его подобострастный стишок, сочиненный в минуту страха и слабости. Мы даже для Мандельштама держим за пазухой (мало ли, авось пригодится) тот пяток неумело нацарапанных отрывков, которых под пыткой вырвала у него эпоха. И вот мы начинаем разговор о поэте, у которого десяток томов слабости, трусости и страха, неблагородных мотивов и подобострастия».
Юра оторвался от чтения и взглянув на затаивших дыхание слушателей, проговорил: «Слишком сильно, не так ли? Но я, увы, не нашёл других слов»
Он продолжил читать.
«Сформулируем самую беспристрастную версию, наиболее популярный портрет героя. Молодой блестящий поэт, человек большого таланта, новатор и реформатор стиха, бунтарь и романтик, увидел в Революции сначала также романтику, затем — объективную необходимость и самоотверженно бросился к ней в услужение. Постепенно он втягивается в ее круговерть, становится глашатаем насилия и демагогии и служит уже не Революции, а власти. Вот что он заявил ещё в 1927 году: « Я не поэт, а, прежде всего, поставивший своё перо в услужение, — заметьте, в услужение, — сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику её — Советскому правительству и партии».
И он растрачивает всю свою энергию и весь свой талант, попадает в тиски цензуры и бюрократии, видит несостоятельность тех идеалов, которым служил, мучается совестью, мучается раскаянием, обо всем сожалеет и в полном отчаянии кончает жизнь самоубийством. Еще одна жертва, скажем, сталинских лет…
У этой картинки странное свойство. В общем, она как будто бесспорна, однако, в отдельности, каждый пункт, каждая ее деталь под вопросом. Вопрос не обязательно выражает сомнение, он может лишь требовать разъяснений, но так или иначе все утверждения колеблются и слегка расплываются, и каждый отдельный вопрос еще разветвляется и порождает другие, побочные, любой из которых может, как знать, обернуться главным. Нет смысла пытаться ответить на них по порядку. Почитаем, подумаем, поговорим — авось что-то и прояснится…»
Чувствовалось, что Юра и сам был увлечён своим чтением. Он впервые вслух читал свою заветную книгу. Он был раскован и, видя, как жадно слушают его, как ждут сенсаций, — все присутствующие знали, что это разоблачительная книга, что это низвержение с пьедестала «лучшего и талантливейшего», — говорил мягким, спокойным, чуть вкрадчивым голосом, будто готовя аудиторию к взрыву.
Закончив читать вступление, Юра сказал:
— У меня ощущение, что вы готовы выслушать всю книгу. Мне это чрезвычайно льстит, но, как говаривал незабвенный Веничка Ерофеев, эдак «я растяну до самых Петушков». Я не знаю, когда вы прочтете мою книгу, да и прочтете ли её вообще, поэтому в двух словах расскажу, о чём она. Она — о поэте, в юности проклявшего мир, потому что мир этот не взорвался восторгом и благодарностью, не признал в нём новоявленного гения. Отсюда не только проклятия (продолжая рассказывать, Юра то и дело открывал книгу на нужной странице и зачитывал), как, например:
Пусть горят над королевством
бунтов зарева!
Пусть столицы ваши будут выжжены дотла!
Пусть из наследников,
из наследниц варево
варится в коронах-котлах!
но и постоянно звучащие мука и жалоба:
Святая месть моя!
Опять
Над уличной пылью
Ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!
Маяковский физиологически ощущал не отдающийся ему мир:
Теперь —
клянусь моей языческою силою! —
дайте любую, красивую, юную —
души не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!
И как венец этого кошмара: «Я люблю смотреть, как умирают дети». И это декларирует человек, который не мог смотреть, как умирают мухи на липкой бумаге — ему делалось дурно. Кровь, грязь, пот, слюна в изобилии текут по ступенькам его строк, только вслушайтесь:
Пули, погуще!
По оробелым!
В гущу бегущим
грянь, парабеллум!
Самое это!
С донышка душ!
Жаром, жженьем, железом, светом
жарь, жги, режь, рушь!
Самое это! И всё это прекрасно уживается с его знаменитым гуттаперчевым тазиком, питьём кофе через соломинку и мытьём рук после каждого рукопожатия.
Поэт Леонид Ревич, ученик его и поклонник, рассказывает: «Маяковский остановился, залюбовался детьми. Он стоял и смотрел на них, а я, как будто меня кто-то дёрнул за язык, тихо проговорил: «Я люблю смотреть, как умирают дети…» Мы пошли дальше. Он молчал, потом вдруг сказал: «Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано. Неужели вы думаете, что это правда?»
Так он мог сказать о любой своей строчке, о каждом стихе. Трёп. Гениально оформленный трёп. Читаю дальше.
«Он вытаскивает из груди собственную душу, чтоб её, окровавленную, дать людям как знамя (вариант горьковского Данко), а чуть позже, через пару страниц, предлагает сходные украшения, но уже совсем из другой материи:
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.
У него — окровавленная душа, у лабазника — окровавленная туша, всего-то и разницы. Но в первом случае это боль и жертвенность, во втором — веселье и праздник.
Поэт не человек поступка, он человек слова. Слово и есть поступок поэта…»
Юра оторвался от книги.
— Помните, как у Мандельштама:
О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем!
И улетел… Слово один к одному сошлось с поступком. Таков истинный поэт. Я возвращаюсь к тексту. Итак:
«Слово и есть поступок поэта… И не только слово-глагол, слово-действие, но любое слово, его фактура, его полный внутренний смысл и весь объём связанных с ним ощущений. Те слова, что звучат из уст Маяковского на самых высоких эмоциональных подъемах его стиха, что бы ни пытался он ими выразить: гнев, жалобу, месть, сострадание — живут своей независимой жизнью и вызывают то, что и должны вызывать: простое физиологическое отталкивание. Впрочем, очень скоро по мере чтения пропадает и это чувство. Нагнетание анатомических ужасов не усиливает, а ослабляет стих, вплоть до его полной нейтрализации.
Теперь ясно, каким революция явилась для Маяковского благом, прежде всего, в том оздоровительном смысле, что дала его ненависти направление и тем спасла от вечной истерики. А ещё революция дала ему в руки оружие. Раньше это были только нож и кастет, теперь же — от «пальцев пролетариата у мира на горле» до маузера и пулемета. Он и пользовался ими по мере надобности, но всем другим предпочитал штык. Но представлял ли он в момент произнесения этого слова, как работает его любимый инструмент, как он туго разрывает ткань живота, как пропарывает кишки, дробит позвоночник? А мы знаем, что в жизни Маяковский не резал глоток, не глушил кастетом, не колол штыком. Он и на войне-то ни разу не был и даже в партию, как сам признаётся, не вступил, чтобы не попасть на фронт. Так, может, все эти штыки просто символы?
Теперь не промахнёмся мимо.
Мы знаем кого — мети!
Ноги знают, чьими трупами
нам идти.
Или такое:
А мы — не Корнеля с каким-то Расином —
— отца — предложи на старьё меняться, —
мы и его обольём керосином
и в улицы пустим для иллюминаций.
Символы?! Нет, не выходит, не вытанцовывается. Есть слова, столь сильные сами по себе, что не могут быть тенью других слов, не могут выражать иные понятия, кроме тех, что положены им от века. Труп — это всегда труп, отец — это всегда отец… Так представлял ли он себе всё то, что писал, видел ли эти самые трупы, ощущал ли чьё-то мёртвое тело под своими ногами, видел ли своего отца, объятого пламенем и бегущего по улицам? Любой ответ на этот вопрос губителен для поэта…
Я знаю силу слов, я знаю слов набат…
Силу слов он знал, но не знал их тайны. Знал слова, но не знал Слова. Набат — это он понимал, но магии простой человеческой речи для него не существовало…»
И вдруг, Юра, оторвавшись от книги, воскликнул:
— Чёрт возьми, я и сам получаю удовольствие от своей книги! И вас очаровал! Чувствую — очаровал. Стал обаятельным и даже красивым. И это очень плохо. Набоков сказал, что «среди художников только бездарные являются обаятельными людьми. Талантливые живут творчеством и потому сами по себе неинтересны. Подлинно великий поэт оказывается самым прозаическим человеком, а второстепенные — обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры». Но вдруг Набоков ошибался?! И вот, последнее:
«Продался ли он советской власти? Он действительно получал большие гонорары и в некотором роде был советским барином: отдыхал в лучших домах отдыха, беспрепятственно ездил по заграницам, снимал дачи, имел домработниц и даже собственный автомобиль, едва ли не единственный частный в целой стране. И, конечно, это не могло не усиливать его чувства комфортности и соответствия. Но какая это была ничтожная плата в сравнении с тем, что он сделал сам! Никакие блага, никакие почести, ни те немногие, что воздавались ему тогда, ни даже те, что воздаются сегодня, не могут сравниться с его страшным подвигом, не могут служить за него платой — он дал этой власти дар речи. Новая власть так бы и корчилась безъязыкая, не будь у нее Маяковского. С ним, еще долго, об этом не зная, она получила в свое владение именно то, чего ей не хватало: величайшего мастера словесной поверхности, гения словесной формулы. Есть у Василия Абгаровича Катаняна, литературоведа и биографа Маяковского, забавный рассказик, называется «Сталинские лозунги». Там он прослеживает на протяжении нескольких лет почти буквальные совпадения строк Маяковского с печатными высказываниями товарища Сталина…
Горький заметил, что у Маяковского был «темперамент пророка Исайи» — но, самое главное, времени своего он не выразил… И, значит, ошибся Горький — был у Маяковского действительно невероятный словесный темперамент, но иного происхождения, чем у пророка Исайи…»
И сейчас, в конце, то, чего нет в книге. Сталин не любил Маяковского. Малопонятный, левак, крикун, слишком много выступает, слишком много обращает на себя внимания. И вдруг — «лучший и талантливейший»… Можно бесконечно долго копаться в этой, якобы, несуразности. Но мне нравится объяснение самое простое: когда Маяковского не стало, и беспокоиться больше было не о чем, Сталин вспомнил (а, скорее всего, никогда и не забывал) строчки из поэмы «Владимир Ильич Ленин» — недаром он так долго хлопал поэту, читавшему её в Большом Театре в день памяти Ленина:
…Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.
От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
внизу пулемётчики.
— Вас
вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он
там.
— Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?
В броневики
и на почтамт!
И знаете, что самое интересное? Что Сталина в тот в тот день в Смольном не было. Не было, и точка! И в двадцатых годах об этом знали многие. И Маяковский в том числе — он крутился среди людей, в то время значимых и знающих. Вот так надо служить власти! Кстати, до 1939 года все, кто знали об этом, были уничтожены.
На этот раз Юра с силой захлопнул книгу. И вдруг, как дитя улыбнувшись, весь посветлев, спросил:
— Ну и как вам?.. Знаете, сегодня я написал бы эту книгу иначе. Уж, наверное, она была бы трезвее, добрее, — Юра оторвал глаза от книги, — подчёркиваю — добрее, сдержанней, выверенней, справедливей и ближе к чему-то такому, что принято называть объективной истиной. Но сегодня я не стал бы писать эту книгу, я сегодня написал бы совсем другую — и, скорее всего, о другом…
Конечно, книги должны печататься вовремя. Но ведь я и не рассчитывал на публикацию дома и даже эту воспринимаю сейчас как неожиданность и подарок. Да и, строго говоря, семь лет не срок (я, конечно, имею в виду — для книги), и если в ней что-то устарело, отпало, то, значит, оно того и стоило. Будем надеяться, что кое-что все же осталось.
Я старался не врать ни в одном факте, ни в факте жизни, ни в факте творчества, ну а трактовка… да что ж трактовка? Филология — такая странная вещь, что любое высказанное в ней положение может быть заменено на противоположное с той же мерой надежности и достоверности. Как для кого, а для меня лично она убедительна лишь в той степени, в какой сама является литературой. Литературой…»
Он помолчал.
— Я ничего не абсолютизирую и заранее приветствую всех оппонентов и, не глядя, принимаю любые доводы. Но хотел бы отвести лишь одно обвинение, уже прозвучавшее в зарубежной критике: обвинение в ненависти к Маяковскому.
— Юра, можно мне два слова? — тихо спросил присутствующий на семинаре Липкин.
— Интересно, и что я должен ответить? — смиренно склонил голову Карабчиевский.
— Юра вам уже сказал, господа, — начал Семён Израилевич, — что представленную сегодня книгу я прочёл, мало того, получил её в подарок. Это чрезвычайно интересная, порой, просто захватывающая книга. Используя подходящие цитаты и с блеском комментируя их, автор показывает нам эдакого поэтического монстра без души, без сердца, эдакого феномена бездуховности. Однако же я думаю, что найдись автор, не уступающий Юрию Аркадьевичу в таланте, он смог бы с тем же блеском доказать и духовность, и ранимость, и искренность Маяковского. Но не зря «Воскресение Маяковского» названо самим автором филологическим романом. Художественного в этой книге, на мой взгляд, много больше, чем филологического. И именно это делает книгу настоящим чтивом, а не унылым академическим разбором. И вот ещё о чём хочется сказать. И Юрий Аркадьевич, и, не сомневаюсь, многие из вас знают, что ещё в 1927 году резкую статью о Маяковском — она называлась «Маяковский во весь рост» — написал прекрасный поэт Георгий Шенгели. Он отметил в своей статье, что Маяковский — цитирую: «талантливый поэт в 1914 году, в наше время бессилен дать что-то новое и способен лишь выполнять моссельпромовские заказы на рекламные стишки». Об этом же издевательски писал и Сергей Есенин:
Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме.
Но он, их главный штабс-маляр —
Поет о пробках в Моссельпроме.
Маяковский, по Шенгели, бездарен. Точнее было бы сказать другое: он почти бездарен как поэт, едва заслуживает имени поэта, но, конечно, гениален в том, как продал свой робкий и неоригинальный талант. И, увы, с этой статьи Шенгели началась разрешённая, подчёркиваю — разрешённая — травля Маяковского. Я ни в коем случае не хочу сказать, что именно этой цели добивался Шенгели. Но так случилось. А сам Шенгели именно из-за этой статьи, с 1931 года, после определения Маяковского, как «лучшего и талантливейшего», не печатался. И вообще, на мой взгляд, чудом уцелел. В том страшном времени у советской власти был огромный выбор, кого казнить, кого миловать. И логику этого выбора никто не в силах понять. Добавлю, что самоубийство Маяковского потрясло Шенгели. «Я отказался бы от самой мысли написать подобную книгу, — признавался он, — если бы мог предвидеть такое…»
Что же касается маниакального страха Маяковского заразиться — постоянно мыл руки, страшился прикасаться к дверным ручкам (протирал их перед этим), носил с собою личную посуду — стаканы, вилки, то я отношу это к психическому заболеванию Маяковского. С другой стороны, кто из людей искусства нормален?.. От болезни и страстная игромания его, и вовсе не ради денежного выигрыша, а для постоянного ненормального самоутверждения — выиграю или не выиграю? Им постоянно владел страх перед старостью и смертью. И страх, что исписался. Именно такие люди склонны к самоубийству. Художник Юрий Анненков рассказывал мне, что встретив однажды Маяковского в Париже, сказал ему, что решил остаться в Париже, чтобы стать, наконец-то, художником, а не писать на заказ плакаты. И услышал в ответ: «А я возвращаюсь, так как уже перестал быть поэтом». И неожиданно разрыдавшись, прошептал: «Теперь я… чиновник…» И особенно мне понравилось в книге Юрия Аркадьевича обстоятельное, не сенсационное, а логичное, умное, выполненное блистательно, с точки зрения литературы, объяснение причин самоубийства поэта. Оно гораздо, с моей точки зрения, глубже, чем известное высказывание Пастернака: «Мне кажется, Маяковский застрелился из гордыни, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие». Юра же указал на многослойность причин самоубийства поэта — наступившая с 30-го года страшная расстрельная пора, пора усреднения, унификации, взаимозаменяемости, пора ненужности самобытных, талантливых, в особенности, столь ярких, приковывающих к себе внимание личностей, как Маяковский, и отсюда — тихая, но ощутимая травля, и, как следствие, — издевательское отношение к нему публики, почувствовавшей, что теперь можно и что теперь нужно; переход от славословия партии к славословию одного единственного человека — маньяка и убийцы; запутанные отношения с женщинами — ни одна не захотела пожертвовать ради него устоявшимся бытом; жалкая, никому не нужная попытка организовать личную юбилейную выставку, провал постановки «Бани» и в Ленинграде, и у Мейерхольда в Москве; как удар из-за угла дубиной по голове, запрет на выезд в Париж, и, наконец, измучивший его, никак не проходящий грипп — постоянный озноб, температура, осевший голос…
Спасибо тебе, Юрий Аркадьевич! Поверь мне, эта книга останется. Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать.
Семён Израилевич растерянно оглядел аудиторию и вдруг сказал, обращаясь к Карабчиевскому:
— Юра, почитайте, пожалуйста, свои стихи.
— Пожалуйста! — произнесло ещё несколько голосов.
— Я не слишком люблю свои стихи, хотя есть и вполне удачные. Кроме того, у меня скверная память, и я помню только те, что прошли из сердца в мозг и обратно, заключив их в пожизненное кольцо. Например, это. Называется оно «Дом отдыха». Юра прокашлялся и резким голосом стал читать:
Дом отдыха. Сугробы снежные.
Фонарь, похожий на серьгу.
Протоптаны тропинки свежие
в глубоком голубом снегу.
Ночной состав кричит на станции,
тараща сонные глаза.
Сегодня в клубе вечер с танцами
и значит, переполнен зал.
Вошла. Еще твой взгляд растерянный
к потокам света не привык,
уже с улыбкой, парень стреляный,
к тебе подходит массовик.
И голос бархатисто-ласковый
плетет бессмысленную смесь.
И весь он маслянисто-лаковый
и, как тюлень, блестящий весь.
Ты комплиментом не улещена,
нет-нет, ему несдобровать!
Но ты веселая, ты — женщина,
и ты идешь с ним танцевать.
Его глаза мутны, как лужицы.
Мелькают тени на стене.
И все вокруг плывет и кружится
и исчезает в пелене…
Потом, покинув дом протопленный,
девчонок, пляшущих в кругу,
ты с ним идешь тропой, протоптанной
в глубоком голубом снегу.
И взгляд уже не возмущается,
и тяжелеет голова,
и поцелуи возвращаются,
и все прощаются слова.
Всему, всему на свете верится,
все сказка, а не сон дурной.
А ключ уже послушно вертится
В бесшумной скважине дверной…
Потом идешь в пальто распахнутом,
твой путь деревья стерегут
в снегу, тропинками распаханном,
в глубоком голубом снегу.
Не просишь у себя прощения,
не ждешь спасения в слезах.
Но что-то кроме отвращения
застыло у тебя в глазах.
Там, дома, кто-то бродит скверами
и, папиросу теребя,
ругает ночь словами скверными
и ждет тебя, тебя, тебя…
— Ну что, вогнал вас в тоску? Сами напросились… Потому что невесёлая это штука — моя жизнь…
— А из тех стихов, что были напечатаны в «Метрополе»?
— Не помню. Да Бог с ними. Вот это — много лучше напечатанного в «Метрополе»; называется «Еврейское кладбище»:
Мне кажется, что ветры могут дунуть
и разметать, не напрягая щек,
ограду, над которой могендувид
взлетел, как деревенский петушок.
Мне кажется, здесь все настолько хлипко,
настолько временно и на пока,
что даже солнца вечная улыбка
насмешлива как будто и горька.
Все правильно: отжил свое — и в землю.
И вот, в ограду тычась бородой,
хромой служитель, съеденный экземой,
поет и плачет над чужой бедой.
А там, вокруг, толпятся монолиты,
и старичок в засаленном пальто
читает золоченые молитвы,
которых не прочтет уже никто.
Но старики, они неисправимы,
они упрямы, эти старики.
Весь грохот века, рвущегося мимо,
для них не стоит праведной строки.
Все ждут они, когда утихнут битвы,
и кто–то там, в далеком далеке,
услышит их нелепые молитвы,
на древнем, как Планета, языке…
— Вы бы хотел иммигрировать в Израиль?
— Конечно, я много раз примерял на себя эмиграцию. Но я никогда не хотел эмигрировать. Я, видите ли, очень социальный человек. Это не значит, что мои произведения обязательно должны иметь некий социальный смысл. Просто есть несколько совершенно необходимых мне связей, разрыв которых делает мое существование бессмысленным. Я должен жить жизнью своих читателей, я не могу обращаться к ним со стороны. Это — во-первых. Во-вторых, все, что я делаю, — это в некотором роде репортаж с места событий. События могли произойти не сегодня, 10—20 лет назад, но все равно — репортаж. Такова специфика моей работы. Как ни ценю я все и всяческие мысли, для меня на первом плане стоят ощущения. Жизнь для меня первична, а слово вторично, поэтому жизнь должна ощущаться всеми пятью чувствами. Если я себя устраняю из среды, о которой пишу, я теряю право на репортаж, я становлюсь бесплодным. Для меня это абсолютно губительно. Я не знаю, смогу ли я что-нибудь сделать здесь, но то, что я там ничего не сделаю, я знаю точно.
Такое создалось впечатление, что аудитория очень расстроилась от сказанных Юрой слов, и личных вопросов больше не последовало.
— Ваше отношение к Бродскому?
— Я посвятил этому несколько страниц в книге. Читать не буду — вы устали. Пересказывать — получится не точно, а здесь каждое слово важно, каждая фраза мною выверена и пропущена через сердце. Могу сказать лишь одно — он не заставляет меня волноваться. Если и вызывает сердцебиение, то исключительно силой своего мастерства. А вот:
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела…
И схожу с ума… И не могу рационально объяснить это… И напоследок. Если не устали от меня окончательно…
— Не устали! — выкрикнул Фима.
— Я хотел сказать, что стихи — это не обязательно нечто рифмованное. Проза Бунина — стихи. А последние стихи Евтушенко — проза. Стихотворную прозу я пытался осуществить в своей повести «Жизнь Александра Зильбера». Прочту вам небольшой отрывок.
Он вытащил из портфеля переплетённую рукопись.
— Самое начало повести:
«Ни одно слово не живет само по себе — но лишь в сочетании с другими, названными и не названными. Мы говорим «лагерь» — и мрачные призраки обступают это слово со всех сторон, и толпятся, и машут черными крыльями. Но мы говорим «лагерь» и добавляем «пионерский», и это действует, как крестное знамение. Призраки убираются к себе в преисподнюю, и звучит горн, и бьет барабан, веселые игры, футбол–волейбол, река и лес, ягодки–цветочки…
Но у каждого, как бы ни сложилась его жизнь, есть своя лагерная тема — да не прозвучат мои слова кощунственно, да не оскорбят они ничьих страданий.
Высокий зеленый сетчатый забор. Территория. Сегодня я выйду за ее пределы не как нарушитель и трусливый беглец, а как свободный сын своей свободной мамы. Свою свободную маму я буду держать за руку, свободную от моего чемодана, буду нервным фальцетом рассказывать ей веселые лагерные истории, и мама будет гладить меня по головке и радостными восклицаниями перемежать мой слюнявый визг, отвечая не мне, а своим умильным мыслям, что вот какой у нее хороший и умный сын, и как все вообще хорошо, спокойно и гладко. Я расскажу ей, как я играл в футбол и забил два красивых гола, какое хорошее дно в реке, как я здорово врезал вчера Самойлову, и как в последнюю ночь мы издевались над спящими. И моя мама, прекрасно знающая, что я никогда не играю в футбол, не дерусь и не плаваю, что если кто–то и издевался, то уж точно не я, моя прекрасная мама, которую я люблю больше всего на свете, будет радостно мне поддакивать и гладить меня по головке, с привычной готовностью отметая суть происходящего.
Мои полуистерические рассказы не преследуют тщеславных целей. Просто я не хочу огорчать свою маму, она так старалась, доставая путевку на мою ежегодную каторгу. «В Москве пыль и такая жара, а там такой замечательный воздух!» Она меня любит, родная и добрая, и вот приехала раньше других и уводит меня все дальше и дальше от страшной ограды, а впереди за узкой полоской леса уже слышна станция, и там мороженое, толпа, электричка, живые отдельные нормальные люди, и никто из них, чужих, ничего мне там не прикажет, а свои — вот они, рядом, гладят меня и любят, и не меньше других, и не так, как других, а больше всего на свете! Разве я мог расстроить ее? Я давно включился в эту игру, мне и в голову не могло прийти нарушить ее условия…»
…Наслаждение от Юриного чтения для Фимы было невыносимым. Он едва не заплакал. Откуда этот волшебник узнал о его, Фимином, детстве, прошедшем в этих проклятых пионерских лагерях? Как он угадал каждое Фимино слово, сказанное им маме, одинокой, выбивающейся из сил маме, знавшей Фиму, как облупленного, не верившей ни единому его слову?
Последний раз Фима «отбывал срок» в пионерлагере, будучи уже восьмиклассником. И ему трижды устраивали «тёмную», в последний, третий раз, особенно жестокую, после которой утром, до побудки, он пришёл к директору лагеря, умному, усталому дядьке с многочисленными на пиджаке наградами, и сказал: «Позвоните моей маме — он протянул директору клочок бумаги с номером телефона — и попросите её забрать меня домой. Я вас очень прошу». И заплакал.
— Ты можешь назвать мне тех, кто обидел тебя?
— Обидел? — сквозь плач прокричал Фима. — Они душили меня подушками!
— Так скажи мне кто?
Фима утёр слёзы и уставился в пол.
— Ладно, можешь не называть… Осталось всего пять дней. Потерпи. Я переведу тебя в третий отряд. Там пионервожатая — Валя. Она не даст тебя в обиду. Обещаю. Иди, собери вещи и после завтрака отправляйся к Вале.
К Вале… Она встретила Фиму, как родного — «бедненький ты мой» — и прижала к своей груди. Не фигурально, а действительно прижала к груди, и Фима поплыл, поплыл… И случилось, что четырнадцатилетний мальчик с первого взгляда, точнее, с первого прикосновения к новой пионервожатой, влюбился в неё, двадцатипятилетнюю женщину, да так отчаянно, что написал первый в своей жизни стих. Уже перед самым закрытием лагеря она взяла Фиму за подбородок и, печально улыбнувшись, сказала:
— Ну что ты, малыш? У тебя ведь ещё и не стоит даже…
Но так ли уж она была права?..
Очнулся Фима от громовых аплодисментов. Заскрипели раздвигаемые стулья. Каждый уходящий подходил к Юре со словами благодарности, тот что-то бормотал в ответ. Потом Нина утащила его на кухню пить чай с пирогом. Липкина и Лиснянскую провожал самолично Валерий Николаевич. Последними ушли Фима с Тиной. Последними, потому что Фима, по незначительности своего статуса, в сравнении с остальными участниками семинара, — почти все доктора наук, правда, попадались и кандидаты, — а также по причине своей относительной перед ними молодости, всегда помогал сыну Валерия Николаевича приводить в порядок «зал заседаний». А на этот раз пришлось двигать и тяжеленный диван.
— Сумасшедший дом, — сказала по дороге домой Тина. — Сионисты, борьба за выезд, возвращение, новая родина, а отдают душу спорам о Маяковском, о стихах, о судьбе России…
— Не сумасшедший дом, а сумасшедший народ, — весело поправил Фима…
— 15 —
Фима сидел в кресле и думал. Думал о том новом, странном, что надвигалось на СССР. Стало интересно читать газетные статьи, слушать радио. Ходуном ходило его училище — наконец-то разрешили к постановке пьесу по роману Распутина «Прощание с Матёрой». Выпускной спектакль. Фима прочёл повесть Распутина и никак не мог понять, что в ней запретного. Строят новую ГЭС на Ангаре, посему будут затоплены несколько островов, на одном из которых стоит вековая деревня — Матёра. Да, есть в книге и чиновничье бездушие, и нежелание стариков переезжать в новый посёлок, и ужас предстоящего санитарно-технического уничтожения кладбища. Главный противник происходящего — бабка Дарья, прямая, умная, принципиальная. Ну и что? Почему два года не разрешали ставить пьесу? Что есть в этой повести антисоветского? Какие такие намёки?
Фима побывал на нескольких репетициях, и вот что он однажды услышал от ставящего спектакль любимца студентов профессора Катина-Ярцева: «Друзья мои, — и пух лёгких, седых волос, расположенных по периметру его головы, приподнялся над совершенно гладкой, розовой макушкой, — вы должны заставить зрителя задуматься: что будет с тем куском земли, который для каждого человека становится святым местом? Более того, что будет с Россией? Есть ли надежда на то, что Россия не утратит своих корней? Но, увы, вся надежда — это всего лишь бабка Дарья, только она, да ещё несколько стариков несут в себе те духовные ценности, которые будут буквально затоплены: память, верность роду, преданность своей земле. Берегли они Матёру, доставшуюся им от предков, и хотели передать в руки потомков. Но приходит последняя для Матёры весна, и передавать родную землю некому».
Ни студенты, внимательно слушавшие профессора, ни сам профессор, ни Фима не заплакали.
Но потом Фима увидел, как наворачивают спектакль кошмарами — и поджог первой избы, и бульдозер, превращающий кладбище во вспаханное поле, и надвигающийся на избу трактор — страшное равнодушие строителей к тем несчастным, что не успели собраться, не успели вынести из своих изб всё то, что составляло суть их жизни. Это было рычащее, звериное наступление советской власти на собственный народ. Не писал Распутин антисоветской повести, но, возможно, и сам того не желая, дал отличный повод превратить её в оную.
Фима не без труда добыл два пригласительных билета на премьеру — для Валерия Николаевича с Ниной.
Спектакль Валерию Николаевичу и, естественно, Нине решительно не понравился.
— Диссидентские слюни. Накатали ужасов, в которые не очень-то и верится. Рассказал бы лучше господин Распутин, как раскулачивала советская власть крестьян, как вырезали кормильцев России. И с тех пор покупают пшеницу в Америке… Фима, а студенты твои крестьян живых видели? Не вышагивают крестьяне спортивным шагом. И пьют по-чёрному — почитай Довлатова. И этого идиота тракториста, что приехал хату курочить, до смерти отмолотили бы, а не взывали к его чувствам… Но всё равно спасибо. Чую, чую, меняется что-то в этом болоте…
И, действительно, менялся СССР. Надвигалось что-то такое, о чём страшно было даже подумать, чтоб не сглазить. И Фима, еврей, немало наглотавшийся в этой стране антисемитской дряни, решивший уехать в Израиль, ставший вроде бы сионистом, решительно удалённым от жизни этой страны «отказом», — он даже перестал болеть за московское «Динамо», — должен был бы с равнодушием взирать на происходящее, но ничего подобного, наоборот, он после четырнадцатилетнего перерыва стал жить жизнью страны, страстно ожидая перемен и не связывая их с отъездом… Его очень пугало такое состояние души, он никому, даже Тине, не признавался в этом, понимая, что ни в ком не обретёт сочувствия.
…Тина в этот вечер вернулась с работы усталая, раздражённая и заявила мужу:
— К чёрту! Увольняюсь! Сегодня утром он вызывает меня, брюхатую на седьмом месяце, и заявляет, что переводит на сменную работу! И глаза аж сверкают от предстоящего удовольствия услышать мои возражения! Ждёт моей бурной реакции, что бы был повод поговорить по душам. Тут-то он мне всё и выскажет. А я промолчала. Сказала, что подумаю… Завтра утром напишу заявление об уходе…
— Давно пора! Сколько можно говорить об этом?!
— Я действительно устала. И ещё целых два месяца до декретного отпуска. И мне плохо, плохо на работе! Я тебе не рассказывала, но на меня накатали уже две жалобы… Сёстры издевательски не торопятся выполнять мои поручения. Опоздала на две минуты, и заведующая отделением учинила мне форменный скандал. А вчера…
Тина вдруг расплакалась.
— Что — вчера? Почему ты мне ничего не рассказываешь?!
— А вчера какой-то бабе, — Тина чуть успокоилась, — пришедшей в поликлинику с внуком, кто-то что-то нашептал, и она громко потребовала другого врача. Требовала и смотрела мне в лицо.
— Почему ты мне ничего не рассказываешь?
— Потому что Эдик сказал, что тебя нельзя слишком волновать.
— Вы до сих пор считаете меня сумасшедшим, которого надо оберегать от внешнего мира?
— Вот видишь, какая у тебя агрессивная реакция на самое простое событие!
— Простое событие? Над моей беременной женой издеваются на работе, и это называется простым событием!
— И ты собираешься набить им всем морды?
— Нет! Но я категорически настаиваю на том, чтобы ты послала их всех к чёрту и немедленно уволилась!
— Вот, это по-мужски! Но я, между прочим, с этого и начала…
— И очень здорово! Видишь, как, не скандаля, мы спокойно пришли к правильному решению проблемы. Меня только волнует, чем ты будешь заниматься целыми днями…
— Через пару месяцев ты увидишь, чем я буду заниматься целыми днями и даже ночами.
— Неужели ты не видишь во мне истового помощника?
И в это время зазвонил телефон. Первой взяла трубку Тина.
— Сенька! Привет! У нас всё в порядке! А у вас?
Тина вдруг ойкнула и медленно стала опускаться на стул, одновременно протягивая Фиме трубку. Глаза её расширились… Перепуганный Фима схватил трубку:
— Что ты наговорил Тине? Что?! Разрешение?! Сегодня утром? Дали две недели? Сеня, а как же мы… Через часок будешь… Закуску… сделаем, конечно… А ты меня не разыгрываешь? Даёшь честное пионерское… Прикатывай… Ждём…
Тина проковыляла на кухню, а Фима остался скрюченным сидеть на стуле, и холод, сначала охвативший ноги, медленно потёк наверх, забирая живот, грудь, и когда он охватил голову, Фима издал протяжное «а-а-а-а», и тут же примчалась Тина, и прижала Фимину голову к своему животу, и он затих, и, слава Богу, что Тина успела надеть передник, а то её платье стало бы совсем мокрым от ручья мужниных слёз. Впрочем, Фима скоро успокоился и побрёл вслед за женой готовить закуску…
Сенька выглядел скверно. Глаза впали. Непрерывно курил, с каждой новой сигаретой выходя на балкон. Оля выглядела ещё хуже. Пудра, обильно высыпанная на лицо, только подчёркивала следы недавних слёз. Она непрерывно мяла в руках лёгкий, красивый белый шарф, обмотанный вокруг шеи и ниспадавший до живота. Сели за стол. Выпили. Оля залпом выпила рюмку водки. И не закусила.
— Мы получили разрешение, — сказала Оля.
— И чуть не сошли с ума от радости?
— Фимка, не ёрничай. Я схожу с ума от страха.
— Оленька, лапочка, не начинай! — взмолился Сеня.
— Я действительно схожу с ума от страха. Что мы там будем делать? Мой муж — русскоязычный журналист, знающий два слова на иврите. Я окончила педагогический институт и до «отказа» работала библиотекарем в Библиотеке иностранной литературы. И тоже знаю два слова на иврите. И я спрашиваю вас — чем мы будем зарабатывать на жизнь? Я знаю, что вы сейчас наговорите мне всяких никчемных слов о переквалификации, о возможности Сени устроиться в русскоязычную газету и так далее. Чушь всё это! Мы едем страдать! А я не хочу страдать! Я устала от страданий! У меня нет отца и матери, которые живы! У нас нет богатых родственников в Израиле. Мы расстаёмся, чёрт знает на сколько лет с вами! Мне плохо! Мне очень плохо! Я боюсь ехать в Израиль! И не суйте мне под нос «о чём ты раньше думала»?
Она ткнула вилкой в солёный огурец, промахнулась и заплакала.
А Фима сказал:
— Оленька, родная, вы встретите нас в Израиле на чёрном «Форде» и прокатите по Иерусалиму, и сводите в роскошный ресторан, и мы будем умирать от зависти…
— У тебя, — вытирая салфеткой слёзы, будто не слыша обращённых к ней слов, продолжала Оля, — есть профессия, к тому же золотые руки, Тина — врач, а мы? Сеня гвоздём забивает в стену молоток, я умею только читать, готовить и смотреть, чтобы мой муж не выпил лишнего.
Она, наконец, подцепила огурец, с хрустом съела его и сказала:
— Всё. Больше не буду. Веселимся!
Заговорили о таможне, о собаке, о проводах…
Скоро дамы энергично принялись за смену блюд, а мужчины вышли на балкон.
…Небывалый стоял в Москве ноябрь 1986-го года. Тихий, желтолистный, без дождей и свирепых порывов холодных ветров. Двор, куда выходили окна Фиминой квартиры, отдыхал от детской возни и шума, на глазах темнел, погружался в сон. Сквозь ветви двух огромных тополей, властвующих над двором, всё ярче пробивался свет окон стоящего напротив дома, что, как ни странно, только увеличивало томительное ощущение темноты и тишины. Только и слышно было тихое шарканье ветки, с которой слетела птица и через мгновенье — тихое шарканье другой, на которую птица переместилась. Ну, и звёздам, как полагается, числа не было…
— Целый день истерика, — в отчаянии проговорил Сеня. — Не нахожу нужных слов, боюсь к ней притронуться. Я ждал этого, но не в такой буйной форме. Да и я не слишком радостен. Не заметили, как вросли в эту проклятую землю. Фима, только, пожалуйста, без банальностей. Меня не нужно успокаивать.
— Я только хочу понять, почему другие уезжают с таким восторгом?
— Я не хочу говорить о других, но мы с Олей влезли в «отказ», как в игру, увлекательную, напряжённую и, казалось, бесконечную. В этой стране можно прожить, не живя, всю жизнь, и вдруг такое! Мы не заметили, а, может, и не понимали, что вросли в эту страну или землю — чёрт его знает, что точнее — по самые уши, и «отказ», вернее, игра в «отказ» — часть этой страны, часть этого проклятого, но такого привычного, страшно сказать, полюбившегося быта. А игра вдруг кончилась. И мы оказались с голыми жопами…
— Ты никогда не говорил со мной об этом.
— Побаивался тебя. Ты мне всегда казался отпетым сионистом. И все твои в Израиле. А у меня — никого. Только новая родина. Историческая… Но недавно я понял, что и ты не без греха. Твоё сумасшедшее увлечение семинаром Сойфера, споры о Маяковском, Липкин, Лиснянская — это та же Русь… Не боишься получить в середине семинара разрешение на выезд в Израиль?
— Слушая тебя, стал побаиваться…
— Об одном молю Бога — о разрешении для тебя. Мне кажется, началось движение. Несколько разрешений «отказникам» в Ленинграде, шесть разрешений в Москве, из Риги куча народу поехала… Приедешь — может, вместе справимся…
— Мебель берёшь? Я помогу разобрать.
— Какую мебель? Ты видел у меня мебель?
— Но что-то возьмешь с собой?
— Только то, что ещё дышит и двигается.
— А книги?
— К чёрту! Запрещённые здесь — я найду там, а разрешённые — читать больше не хочу. Ну, может быть, что-то из очень любимого… Кстати, приготовь все свои вирши. Я постараюсь вывезти их через голландское посольство.
— Да кому они нужны в Израиле?
— Тебе. А я уж постараюсь сделать твоим виршам нужную рекламу. Всё опубликованное там, пусть даже и лишённое художественного значения, ляжет в копилку борьбы за твой отъезд.
Фима промолчал. Не время было обижаться. Сенька по-своему мстил за своё состояние.
— И, пожалуйста, перепечатай всё без помарок, через интервал…
— Да, да, как скажешь…
— Мальчики, чай!
…Виделись они в эти оставшиеся две недели мало. У «отъезжантов» всегда страшные хлопоты — что-то продать, что-то отдать, что-то купить. Но что мог продать Сенька и на что мог купить? Он суетился, бегал по каким-то знакомым, умудрился у кого-то занять денег, под клятвенное обещание вернуть в Израиле родственникам в долларах, что очень смутило Фиму. Купил на одолженные деньги мотоцикл — все «точно знали», что в Израиле можно его очень выгодно продать. Хотел купить и пианино, тоже с целью выгодной продажи в Израиле, но денег явно не хватало, а больше никто под честное слово одалживать не хотел. Тысячу рублей из двух, собранных для будущего ребёнка, дал Сеньке Фима. «Я не беру у тебя, я одалживаю, и увидишь, с какими отдам процентами!» — кричал Сенька. На что потратил эту тысячу Сенька, Фима не знал, спрашивать не хотелось.
Все, тщательно перепечатанные Тиной, — а печатать она научилась замечательно, по причине непрерывного мужниного творчества, — стихи и даже незаконченную «Отказную поэму» Сеня забрал и, по его словам, отдал в голландское консульство.
Народу на проводах было много. Сенька много пил, с каждым энергично разговаривал, много целовался. Оля выдавливала из себя улыбки, Сенькина мама, полумёртвая от усталости, каким-то чудом находила в себе силы бегать на кухню и обратно, доставляя для новоприбывших еду и убирая со стола недоеденное, обглоданное, небрежно брошенное. Исцелованный Кеша скоро заснул, и был Сенькой отнесён в спальню, куда немедленно умчался насмерть перепуганная громким пьянством Тяпа. Устроилась в ногах Кешки и затихла.
Фима с Тиной ушли рано, потому что Тина больше не могла выносить сигаретный дым. Да и обстановка искусственного веселья к долгому присутствию не располагала. Удивило Фиму большое количество совершенно ему незнакомых людей.
И на следующий день, 26 ноября 1986 года, после непродолжительного таможенного досмотра, Сенькина семья выстроилась на площадке второго этажа аэропорта Шереметьево. Выстроилась в одну линию — Дора Абрамовна с большой клетчатой сумкой, Сенька с Кешкой на руках и Оля с клеткой, в которой лежала скрюченная от страха Тяпа. Они долго махали свободными от груза руками, потом, как по команде — а так, наверное, и было — повернулись и исчезли.
Фима с Тиной возвращались домой со странным чувством и горечи, и освобождения. Слишком много было Сеньки в эти две недели. Были даже пропущены два семинара. Валерий Николаевич звонил и весело ругался.
— Валерий Николаевич, позвольте вам не поверить, что без нас семинары что-то там теряют!
— Фима, неужели вы не понимаете, как сказывается на настроении семинара отсутствие привычных лиц?! Ладно, с отсутствием вашей физиономии ещё можно смириться. Но без взволнованного, красивого личика вашей жены!..
Фима, добавляя немного приятностей от себя, пересказывал этот разговор Тине и снисходительно улыбался при виде светоносной её улыбки в ответ.
Как и полагается, уже на следующий день Фима сочинил посвящённое Сене стихотворение:
Тишиною граница объята,
Ни овчарок тебе, ни застав…
«Шереметьево» — щедрая плата
За надежду, за муки, за страх.
Снова проводы… Белые лица
И глаза во вчерашнем вине.
«Шереметьево» — это граница,
Перейти что досталось не мне.
— Ах, не плачь, мы увидимся скоро…
Только плакать кому, как не нам?
Я, граница, тобою расколот,
Как полено — меж глаз, пополам.
И хотя говорить уже не о чем,
В каждом слове отчаянье тая,
Пристаю к тебе с просьбою мелочной,
Чтобы только продолжить тебя.
Как команда, посадка объявлена…
И щека твоя, друг, холодна.
Посади в честь оставшихся яблоню,
Может, нас и дождётся она…
Вот и всё… И дорожками гладкими
Из сияющего дворца
Мы выходим к шоссе Ленинградскому,
Чтобы ездить им в оба конца…
— До слёз трогательно, — сказала Тина.
— Раньше ты говорила: «Мне очень нравится».
— Я поумнела под воздействием Липкина, Лиснянской и Карабчиевского.
— Я — тоже. И, как следствие, понял, что меня отличает от Карабчиевского.
— И что же? — с некоторой тревогой в голосе спросила Тина.
— Для него творчество равноценно дыханию. Перефразируя Окуджаву: «Если пишешь, значит, дышишь». А я пишу стихи только, когда что-то случается. Если бы ничего не случалось, я бы не написал ни одной строчки. Мало того, качество того или иного моего стихотворения ясно говорит о силе впечатления, произведённого на меня тем или иным событием.
— Если только этим ты отличаешься от Карабчиевского, то я спокойна.
Очень скоро после отъезда Сеньки, через получившего разрешение знакомого «отказника», который что-то там переправлял в Израиль через голландское посольство, представлявшего тогда интересы Израиля в СССР, Фима отправил на адрес мамы ту же кучу своих стихов и коротких рассказов, который передал Сеньке. Странно, но ему не верилось, что Сенька сделает то, что обещал. Самому противно было от этих мыслей, но они не покидали его.
— 16 —
Часто появлялась на сойферовых семинарах удивительная отказная пара — известные шахматисты Борис Францевич Гулько и его жена Аня Ахшарумова.
Все без исключения относились к ним с нежной симпатией. Обобщённо их звали Гульками. Валерий Николаевич всё уговаривал Борю сделать доклад.
— О чём?! — отбивался Боря. — Рассказывать сплетни о Карпове? О закулисной шахматной жизни в СССР? Та же гнусь, что и везде! Или продемонстрировать какую-нибудь удачную свою партию? Представляю себе физиономии слушателей… А рассказывать о себе — ей богу, неинтересно и нескромно.
Удивительный это был человек. Он обожал слушать. Не комментировал, не критиковал, не выступал — слушал. Всегда с доброй, чуть отстранённой улыбкой. Он, казалось, был всегда благожелателен к собеседнику, к выступающему. Такой же была и Аня — скромная, молчаливая, очаровательная. И никак не верилось, что они — многократно битые гебешниками, многократно арестованные, проведшие нескончаемое количество демонстраций на улицах с плакатами «Отпустите нас в Израиль!», проводившие чудовищные по своей длительности протестные голодовки, страдавшие от форменных погромов в своей квартире, терпевшие самые страшные угрозы, терпевшие гнусные письма о супружеской неверности Ани… И при этом Борис — чемпион СССР 1977 года, Аня — чемпионка СССР 1976 и 1984 годов! В СССР стать чемпионом по шахматам! При таком средоточии великих шахматистов!
Но однажды, вне рамок семинара, при очередном мужском, но, конечно, в присутствии Нины, застолье у Валерия Николаевича, Боря немного поведал о себе.
— Родился я в Восточной Германии в 1947 году, в том же году переехали в Москву. Закончил факультет психологии Московского университета, четыре года работал научным сотрудником. Оказалось, что я способный к шахматам мальчик, и в 1975 году стал серебряным призёром чемпионата СССР, в 1977-ом — чемпионом. А вот моя Аня, — гордо добавил он, — дважды становилась чемпионкой СССР — в 1976-ом и в 1984-ом.
…Аня Ахшарумова… Тоненькая, соблазнительно стройная, с нежным, продолговатым лицом, на котором словно навсегда застыло чуть удивлённое выражение. Она была столь же молчалива, как и Боря, а если и заговаривала, то всегда по делу, всегда удивительно точно и остроумно. Фима украдкой любовался ею, что, естественно, не укрылось от Тины.
— Фима! Оторвись от созерцания Ани! — шептала ему на ухо Тина. — Однажды Боря Гулько заедет по твоей голове шахматной доской!
— Во-первых, Валерий Николаевич не играет в шахматы, и, значит, в его доме нет шахматной доски. Во-вторых, я созерцаю её не как сексуальный объект, а как совершенную картину. За это не бьют.
…Боря продолжал:
— Всё началось в 1976 году, кода Корчной не вернулся из Голландии, стал невозвращенцем, оставив жену и сына на съедение властям. Но я понимал его обиду. В 1974 году у него был невероятно трудный матч на первенство мира с Карповым. За Карпова болела вся «дружная семья советских народов». У Корчного далеко не сладкий характер, его многие недолюбливали, он нажил себе кучу врагов, но главный его недостаток был в его национальности. Даже не то, что он наполовину еврей, главное — не русский. Гроссмейстер Светозар Глигорич в одной из своих статей отметил, что советская пресса освещала этот матч так, будто советский спортсмен сражался с иностранцем, представляющим вражескую страну. Корчной, проигравший матч, в долгу не остался и в интервью югославскому агентству ТАНЮГ выдал Карпову по полной программе, заявив, что его проигрыш был результатом давления «сверху». Корчному в наказание уменьшили размер стипендии, полагающейся профессиональному шахматисту, и запретили выезжать из СССР. Но через год, благодаря содействию Карпова, — ему позарез нужна была международная реабилитация, — Корчной снова стал выездным и… не вернулся из Голландии. Пресса тут же заклеймила «отщепенца», и его лишили советского гражданства. Власть приготовила письма рабочих и творческой интеллигенции, пригвоздивших «изменника» к позорному столбу. И вот, одно из таких писем должны были подписать ведущие шахматисты страны. Отказались трое: Давид Бронштейн, Михаил Ботвинник и я, на тот момент в звании действующего чемпиона СССР. Для Бронштейна это стало концом его блестящей карьеры. Ему закрыли выезд на международные турниры. Но к середине семидесятых Бронштейн был уже человеком пожилым, по международным турнирам ездил редко, и эта история не очень его задела. Кстати, Давид Бронштейн назвал своего новорожденного сына Львом, публично объясняя, что Лев Давидович — это в честь Троцкого (Бронштейна). Не коснулись санкции и жизни Ботвинника. А по мне с Аней ударила весьма ощутимо — нас немедленно вычеркнули из поездки на турнир в Восточную Германию и из всех престижных турниров внутри СССР. Но, ей Богу, сохранность души того стоила. Должен сказать, что шахматисту стать «невыездным» — это смерть! И нам не оставалось ничего другого, как подать заявление с просьбой о выезде в Израиль. И мы, естественно, угодили в «отказники». Первым, кто из шахматистов отреагировал на это, был чемпион мира товарищ Карпов — он всякий раз возмущённо отворачивался, когда я появлялся в его поле зрения.
Меня вызвали в КГБ и предложили забыть о выезде в обмен на возвращение в «строй славных советских шахматистов». Отказался. И тогда нам запретили участие во всех без исключения турнирах. Мы остались почти без средств к существованию. Нам попытался помочь Михаил Ботвинник — Аня была его любимой ученицей. Он сказал, что пойдёт в ЦК КПСС и добьётся, чтобы отношение к нам изменилось. Жаловался, что и его не пускают за границу, — это было как-то связано с его компьютерной программой, — что сократили наполовину рукопись его автобиографической книги. И при этом свято верил, что родной ЦК во всём разберётся. Напоследок дал совет: записать нашего сына Давида на фамилию матери — Ахшарумов. «Мои бы родители точно бы так поступили, — усмехнулся Ботвинник, — но беда в том, что фамилия моей мамы — Рабинович». Так что, это никакой не анекдот, я сам слышал от него эту фразу.
А в 1982 году в Москве проходил межзональный турнир с участием Гарри Каспарова, Михаила Таля, других известных советских и зарубежных гроссмейстеров. Сначала соревнование думали проводить в Московском доме туриста, но поскольку мы с женой объявили, что собираемся провести демонстрацию протеста, турнир перенесли в небольшой зал гостиницы «Спорт», чтобы гебешникам легче было контролировать все входы и выходы. В первый же день турнира мы с женой пришли к гостинице с плакатами, на которых было написано: «Отпустите нас в Израиль». Гостиницу по всему периметру окружил батальон гебешников. Просто удивительно, какие ресурсы советская власть бросала на достижение таких ничтожных целей! Меня били прямо на глазах у сотен любителей шахмат, которые недоумевали: почему их не пропускают в турнирный зал через главный вход и за что бьют чемпиона Москвы?
— И Аню били? — взволнованно спросил Фима.
— Нет. Её оттащили от меня, она кричала им: «Подонки! Бандиты!» В этом же году Аня на чемпионате СССР боролась за первое место с Наной Иоселиани. В решающей партии Нана просрочила время, и, согласно правилам, судьи засчитали ей поражение.
Через неделю из Москвы пришел приказ: решение арбитров отменить, а партию продолжить! Первый случай в истории шахматных соревнований! Аня прийти на доигрывание отказалась, и тогда ей зачли поражение. В результате, Аня отстала от Иоселиани как раз на отобранное у нее одно очко. Но через два года Аня все-таки стала чемпионкой страны. И случилось это в день 7 ноября 1984 года, годовщину Октябрьской революции! И газете «Правда» пришлось сообщить, что на чемпионате СССР в Киеве золотую медаль завоевала Анна Ахшарумова.
Но однажды власть проявила «гуманизм» — мне дали сыграть в чемпионате Москвы 1984 года, и я, сволочь такая, взял да выиграл его, — кстати, в том же году Аня стала двукратной чемпионкой СССР! — и на церемонии, посвященной закрытию турнира, я потребовал выпустить из страны семью Корчного: сын его Игорь долгое время скрывался от армии — служба в армии была лучшим на то время способом присобачить молодому человеку секретность и не выпускать его из страны, — но потом был пойман и посажен в тюрьму. Моя фраза «Тень тюремной решетки не должна падать на шахматную доску» вышла на первых полосах самых тиражных западных газет. Как вам фраза? Я думаю, что даже ты, Юра, похвалил бы меня за неё.
— От всех этих историй о шахматах на высоком уровне, — сказал Валерий Николаевич, — у меня сложилось впечатление, что шахматы — это и не игра вовсе, а битва мутантов со смертельным исходом
— Шахматы действительно в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков были битвой, правда, уж извините, Валерий Николаевич, не мутантов, а титанов, и без смертельного исхода. А советская власть, больная от необходимого ей всегда и во всём безусловного престижа, превратила шахматы в кровавую мясорубку… Началось это с Московского международного турнира 1925 года, который имел огромнейшее агитационное значение. Этим турниром был дан мощный толчок развитию шахматной игры в СССР, естественно прозванному «шахматному движению в СССР». Движение — не иначе!
— Но при этом СССР вырастил толпу гениальных шахматистов.
— А в какой нормальной стране можно годами бесплатно пестовать способного шахматиста? Растить чемпиона мира? Кормить его, поить, посылать за государственный счёт на престижные турниры? Давать за привезённые победы такую жизнь, которая и не снилась обывателям?
— Я смотрю на футболистов, — сказал Юра, — проигравших матч, уходят они с поля расстроенные, не более того. А в шахматах проигрыш — всегда трагедия!
— Конечно! В шахматах один человек вмещает в себя всю футбольную команду! В нём одном средоточие эмоций всех футболистов! Мне вообще кажется, что поединки один на один — самые разрушительные для здоровья и психики человека.
— Сколько же вас будут мучить? — спросил Фима.
— Кто знает… Пишем лидерам США, писали Брежневу. Теперь пишем Горбачёву. Выходили с Аней на демонстрации, устраивали голодовки. Перед самой смертью Брежнева, я голодал 38 суток, а Аня — 21 день, правда, пили воду, а незабвенный Леонид Ильич умер, и мы стали никому не интересны… В начале 1986-го наши друзья в Швейцарии в рамках проходившей там конференции по правам человека организовали шахматный турнир под названием «Салют, Гулько!» В знак солидарности с ними мы объявили десятидневную голодовку, а потом целый месяц выходили на демонстрации протеста. Одну из таких демонстраций Фима, наверное, хорошо помнит…
…Фима действительно хорошо помнил эту демонстрацию! Это случилось в конце апреля, после восьмисуточной отсидки Фимы в «Матросской тишине», но до визита к Фиме виртуального лейтенанта. А произошло всё так: после завершения семинара к Фиме подошли Борис Гулько и Валерий Николаевич.
— Фима, давайте проводим Борю вместе.
Фима понял, что предстоит серьёзный разговор, так как в своей квартире о чём-либо действительно важном, связанным с «отказными» делами, Валерий Николаевич предпочитал не говорить, подозревая, не без основания, что квартира находится на «прослушке». Вышли. Встали под уличным фонарём.
— Фима, — обратился к нему Борис Гулько, — вы работаете в театральном училище, что находится в двух шагах от Гоголевского бульвара, где мы с Аней предполагаем послезавтра, в понедельник, в 12 часов дня, провести демонстрацию. Если вам не трудно, не могли вы подойти к этому времени к памятнику Гоголю, чтобы всё, что произойдёт увидеть собственными глазами и рассказать обо всём увиденном Валерию Николаевичу с тем, чтобы он оповестил журналистов. Я уверен, что нас загребут. Фима, я нисколько не обижусь, если вы откажетесь…
— О чём вы говорите, Боря? Я буду там, как штык!
И поймал, нежный, признательный взгляд Ани. На том и расстались.
В означенный понедельник, скинув с себя рабочий халат, Фима, одетый Тиной во всё тёплое и серое, едва отличимое от цвета асфальта, отправился на Гоголевский бульвар и уже без четверти двенадцать с книжкой, впопыхах вытащенной из книжного шкафа, оказавшейся тоненьким томиком стихов Баратынского, расположился позади постамента на лавке, самой ближней к нему. Ровно в двенадцать, мимо Фимы спокойно прошли Боря, одетый в строгий костюм и плащ, и Аня, — в изящной кофточке поверх платья, — и встали между лицевой частью Гоголя и прямоугольной цветочной клумбой, расположенной в нескольких метрах от постамента. Фима не шелохнулся. Он всё прекрасно видел, и потому становиться первым зрителем предстоящего спектакля необходимости не было. Между тем, Боря полез за пазуху, быстрым движением вырвал оттуда прямоугольный кусок белой ткани и развернул его двумя руками над головой. Тогда, около цветочной клумбы стали собираться люди. Когда их набралось порядочно, Фима с ленцой покинул удобную лавку и присоединился к народу. На плакате чёрной краской было выведено: «Отпустите нас в Израиль!» Милиции не было. Лица Бори и Ани были совершенно спокойны, как будто манифестация в центре Москвы была для них делом очень даже обыденным. А толпа росла и внутри себя переговаривалась.
— Смотри, евреи как раскудахтались!
— Он-то — типичный еврей, а она — хорошенькая и очень похожа на русскую! А пошла за еврея!
— Ну, и умница! За вас, что ли, алкашей выходить?
— Интересно, кто он?
— Да что, не видно? Только что от мясного прилавка.
— Не скажите. Выглядит интеллигентно. Мне даже кажется, что я где-то видел его физиономию… Чуть ли не в газете… А она — уж точно не мясник — вон какая худющая!
— И что за них держатся? Чего их не выпустить? Дышать стало б легче!
— Интересно — муж и жена, полюбовники или коллеги?
— Коллеги… по сионизму.
— Ну и дела пошли у нас в стране — ни милиции, ни других органов…
— Да, другие времена настали!
— Это ж, какие другие?
— А вы при Сталине так спокойно балагурили бы при виде такого? Небось, первым бросились бы избивать их.
— Ох, не к добру это, что евреи убегать стали… Как крысы с корабля…
— А смелые ведь ребята! Я б точно так не смог!
— Да оставьте вы — «смелые». Ну, получат 15 суток, и дело с концом.
— 15 суток? А этот, Щаранский их?
— Так я ж и говорю — времена другие.
— И я очень надеюсь, что более радостные, чем были…
Фиме очень хотелось и самому продолжить разговор на эту тему, но он был на задании.
Наконец, подкатила белая милицейская «Волга». Из неё выскочили два молоденьких милиционера, решительно направились к демонстрантам и начали что-то выговаривать им. Боря и Аня в ответ отрицательно мотнули головами. Один из милиционеров стал говорить в переговорное устройство, очевидно, с начальством. Закончив говорить, стал слушать, что говорят ему. Закивал головой и обратился к толпе:
— Граждане, расходитесь! Вы мешаете другим прохожим!
И в этот момент подкатили «хозяева». На чёрной «Волге». Из неё выскочили три молодца в одинаковых плащах, двое из них в два прыжка оказались около Бори и вырвали из его рук плакат. Третий, белобрысый, схватил Аню за локоть и пытался оторвать от Бори. Ему это не удалось, тогда первые двое заломили Борину руку, за которую держалась Аня, оттащили Борю, и белобрысый, схватив Анину руку чуть выше локтя, — и это наверняка было очень больно, — повёл её, скорее, потащил, к милицейской машине. Аня вырывалась, и белобрысому было нелегко. В конце концов, ему пришлось обхватить её за шею и волочь за собой. Волочить Аню… А ведь казалось, дунь — и она полетит…
А скрюченного, с заломленными руками Борю, чекисты быстро и мощно тащили к своей «Волге», и слышно было, как шаркали подошвы его ботинок по асфальту. Подтащив, швырнули внутрь, один из чекистов полез за ним, другой бегом бросился к милицейской машине, куда была втиснута Аня, что-то приказал водителю, и через мгновенье Гоголевский бульвар обрёл первозданную чистоту, а Гоголь, стоящий во весь рост на высоченном постаменте, улыбающийся и излучающий оптимизм, будто благословлял чекистов, проведших столь блестящую операцию над «жидами».
Фима немедленно позвонил Валерию Николаевичу и подробнейшим образом описал всё, что произошло на его глазах. Вернулся в училище. Кое-как доработал. Домой вернулся в поганейшем настроении. Долго, во всех подробностях, словно изгоняя из себя увиденное, рассказал Тине о Боре и Ане. Вечером Тина потащила его в кино на фильм Германа «Мой друг Лапшин». Скорей всего, это был не тот фильм, который надо было в этот день смотреть Фиме. Ночь была кошмарной — Лапшин избивал Аню, она кричала; затоптанный чекистами, Боря смотрел на неё и выл. Потом белобрысый чекист пытался сорвать с Ани одежду, а она выскользнула из его рук и полетела…
Гульков выпустили из милицейского участка через двое суток…
В те дни Фима сочинил посвящённое им стихотворение. Вот оно:
Свели двух гениев, мутантов…
Еще качаются со сна
Четыре скованных мустанга,
Четыре скованных слона.
Часы вдруг щёлкнули, и спешно
Две волосатые руки
Швырнули жертвенные пешки
На смертоносные штыки.
Их руки яростны и быстры,
Меж ними желтая доска,
Меж ними ненависти искры
И одиночества тоска.
Атаки зреют справа, слева…
И двое рубятся в бреду,
И умирают королевы
На девятнадцатом ходу.
О, жарких битв хмельное зелье!..
И тихо пал последний слон —
Красиво умирают звери,
Не перекошенные злом.
Ах, не фигурки б им, а колья!..
Последний дьявольский прыжок,
И мертво вытянулись кони,
Уставясь глазом в потолок.
Они усталы и сутулы…
А кровь все гуще, все жирней —
Убитые скатились туры,
Оставив голых королей.
И, словно ветошь, их швырнули
В незащищённые углы.
Метались от последней пули
По скользким клеткам короли.
Ничья… Они в свои каюты
Спешат, чтоб смыть сраженья пыль.
…Им снятся чудища-дебюты,
Что пожирают миттельшпиль.
И вместо тур им снятся танки,
И вместо женщины — доска,
Им снится грозный Капабланка
И наблюдатель из ЦК.
Им снится денежная речка,
В Кремле устроенный обед,
На Новодевичьем местечко,
Да пара томиков побед…
…А в зале над клочком билетным
Кряхтит уборщица… И на
Ристалище тысячелетнем
Кладбищенская тишина…
— Какое-то оно кровавое, — сказала Тина.
— Под стать моему настроению.
Гулькам стихотворение он не показал.
…Но вернёмся к прерванному нами разговору в доме Валерия Николаевича.
— И всё-таки, — сказал Фима, — я не понимаю, почему вас не отпускают.
— Шахматные боссы убедили отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС и КГБ, что в случае моего выезда на постоянное жительство за границу, я, являясь сильным гроссмейстером, смогу оказать помощь «отщепенцу» Корчному в его борьбе с Карповым за звание чемпиона мира. Для меня это стало приговором. Вот они и стараются сделать из меня не сильного гроссмейстера… Убить во мне шахматы. Мерзавцы… Они хотят подчинить себе шахматы! Они никогда не поймут, что в настоящие шахматы может играть только свободная личность. Корчной, Каспаров, Карпов…
— Карпов? — удивился Валерий Николаевич.
— Именно! Потому что он свободен в их рамках. Ему позволено в этих рамках всё! Ему не нужна никакая другая свобода! Поэтому я не верю, что долго протянет в этих рамках Каспаров. Он внутренне независим, и я уверен, что рано или поздно произойдёт взрыв. Но пока и он свободен, правда, в меньшей степени, чем Карпов.
Как-то Витя Корчной рассказал мне такую историю — не берусь судить, насколько она правдива. Ему поведал её в конце 1960-х годов один знакомый геолог, подаривший ему несколько шахматных фигурок, кое-как сделанных из дерева. Вот эта короткая история. На Колыме поставили лагерь. Привезли несколько сот заключенных, стражу, еды на месяц. А потом начальство про этот лагерь забыло. Забыло и всё. Когда через полгода на это место пришли геологи, они смогли подобрать только несколько сот скелетов и… эти шахматные фигурки. Фигурки, так и не ставшие заключёнными… Цена свободы…
— Чёрт, — пробормотал Юра, — какой сюжет! Скажи, среди найденных скелетов были и охранники?
— Я не спрашивал у Корчного… — растерянно проговорил Боря.
— Сумасшедшая ситуация! Выходит, что охранникам даже радио не дали! Кончился бензин, и единственная полуторка превратилась в сугроб. Продукты питания не подвозят. Голод. Несколько отчаявшихся охранников пытаются пешком добраться до какого-нибудь селения. По дороге гибнут — метель, мороз. Назревает «беспощадный» голодный бунт — самый страшный, самый решительный и разрушительный бунт, когда не жалеют ни себя, ни других. Охранники боятся стрелять — их разорвут заключённые. Они в ужасе бегут. Заключённые — за ними, думая, что те знают дорогу. Чудовищная полярная зима уничтожает всех… И в одном из бараков находят шахматные фигурки… Ну, кто из ныне здравствующих писателей вытянул бы такой сюжет?

— Вы, — спокойно сказал Валерий Николаевич.
— Извините. Меня занесло, — тихо произнёс Юра. — Ах, как я всем вам завидую, в вас столько энергии, оптимизма. Вы выстроили своё будущее, и я не сомневаюсь в исполнении всех ваших планов. И, глядя на вас, я понимаю, что депрессия — это именно невозможность выстроить своё будущее. И не из-за того, что это неисполнимо, а из-за непонимания, каким оно должно быть. Уехать… Ах, на тоску, я был бы согласен. На невозможность существования вне России — нет.
— Юрий Аркадьевич, но ведь и Бунин, и Набоков, и Ходасевич… — сказал Фима.
— Да, конечно… Вечный довод… Но ведь никто не знает, что они пережили. Кроме того, их психика, психика свободных людей, формировалась в Царской России, для них — прекрасной, свободной стране. И потому их психика была иной, чем у нас, рабов, привязанных к своему стойлу и так привыкших к нему, что свободу могут и не пережить…
— А я уверен, рухнет это стойло, и в очень скором времени! Жрать уже нечего! Глаза у россиян стали волчьими! Да вы, Юра, на мой стол не смотрите — всё из «Берёзки»! Мы, «отказники» — привилегированная каста в стране победившего социализма. Мы питаемся, как члены родного ЦК! Всё, всё у них полетит вверх тормашками! Я вчера прочёл в газете «Правда» — а её нынче надо читать всю, от корки до корки, — что предстоит закупка пшеницы! Россия закупает пшеницу! Безумно интересно!
И все дружно выпили.
…Гульки в ноябре 1986 года получили разрешение на выезд. Уехали они тихо, без проводов, ежеминутно ожидая провокации властей, кожей чувствуя, как те ненавидят их. Аню в Шереметьево повезли прямо из больницы, где она лежала с воспалением лёгких…
…И случился в это время взрыв в Чернобыле, горячий ветер которого убил Фиминого дружка, однокурсника, милого, добродушного, необыкновенно талантливого химика Диму Осадчего, одного из первых специалистов, посланных в Чернобыль. Отец Димы, сообщив Фиме по телефону о гибели сына, добавил: «Ну, и стал быстро доктором наук. Ну, и что?»
На похоронах Димы было много бравого вида молодых людей…
И пришла жуткая ночь с кричащим ему Димой Осадчим: «Помоги, Фима! Помоги!»
И через несколько дней к Фиме пришёл лейтенант…
— 17 —
И действительно, стало так, что есть стало нечего. Уволившаяся Тина, несмотря на «растущую» беременность, занималась добыванием растительной пищи на базаре, а Фима преуспел в деле добывания мяса. Недалеко от училища, в месте, где улица Арбат пересекалась с Поварской улицей, находился небольшой магазин под сочным названием «Мясо». Мясником там работал мрачный, казавшийся неприступным Михаил Захарович. Получив от него мясо, Фима тихо выносил его из подвала, где Захарович разделывал туши, непосредственно на улицу, через запасной выход. Фима расплачивался за мясо строго по прейскуранту. Так в чём же был у Михаила Захаровича навар? Не поверите — в билетах на все без исключения спектакли театра им. Вахтангова. Ибо дочь мясника была фанатичной театралкой. Покупать билеты в театр для Фимы труда не составляло (Захарович расплачивался за них тоже строго по прейскуранту), а за постоянную помощь театральным плотникам доставались ему иногда и пригласительные билеты, не стоившие ни копейки.
Время шло, и лицо Захаровича мрачнело. Любовь дочери к театру не уменьшалась, а количество мяса уменьшалось, и очень. Были страшные минуты, когда Фима заставал мясника просто читающим книгу. Но Захарович старался, ибо любил Фиму. И не только за билеты для дочери, но и за подарки в виде иностранных сигарет, безделушек и — редко, правда, — за виски. Поэтому, даже в опустевшем подвале для Фимы полтора-два килограмма мяса почти всегда находились. Но само предприятие становилось всё более опасным, особенно выползание из подвала на улицу, где могли находиться в это смутное время немало наблюдателей.
Добыча продовольственных продуктов стала профессиональным занятием москвичей. При словах «Там дают…», люди срывались с места и бросались по указанному адресу. В Москву съезжались сотни тысяч людей из Подмосковья и близлежащих городов для закупок хотя бы чего-нибудь. Началась антиалкогольная компания. Огромные массы дееспособного населения страны Советов стояли в гигантских очередях за вино-водочными изделиями и, заполучив их, вставали в очередь за закуской. Особо дальновидные взялась за самогоноварение. Страна под названием Советский Союз менялась на глазах. Скорее всего, наступил обещанный ещё Хрущёвым коммунизм. Оставалось только исхитриться жить в нём.
По-особому чувствовали изменения «отказники». Во-первых, «пошли» разрешения. Во-вторых, иностранцев, посещающих отказников, стало в два раза больше. В-третьих, на следующий год должна была произойти встреча Горбачёва с Рейганом, и вот тогда — никто из «отказников» не сомневался в этом — Рейган «выдаст» ему… А встреча их в Женеве в 1985 году по поводу ядерных вооружений, «отказники» вообще не считали за встречу — о них там, кажется, не было сказано ни слова…
Заметно активизировались антисемиты. Созданное в 1985-ом году общество «Память», названное так в честь полуграмотного, в смысле интерпретации российской истории, романа Владимира Чивилихина «Память», к концу 1986 года превратилась в организацию, претендующую на роль главного идеолога русского националистического движения, что ещё более поспособствовало желанию евреев уехать из страны. Евреям доставалось от «Памяти» на митингах, общественно-культурных мероприятиях, в многочисленных статьях расплодившихся газетёнок и печатных листков, воззваниях и густо намалёванных плакатах. Но погромов не было — власть относилась к «Памяти» с несколько брезгливой снисходительностью, но распускать руки не позволяла, ибо велика стала зависимость СССР от западных поставщиков еды и от переговоров с Западом по сокращению разоряющих страну вооружений. Кроме того, уж очень криклива была «Память». А крикливость пугает только в первый раз. Страшны молчаливые, сжавшие тонкие рты, юдофобы. Они, чуть пьяные, молча садятся на коней, в их руках — горящие факелы, биты, вилы, сабли, и вот погромная кавалерия влетает в еврейское местечко и сжигает, убивает, уродует, насилует… Такой жуткой картины «Память» в еврейских снах не вызывала. Но уехать хотелось…
Ироничное отношение евреев к «Памяти» пытался выразить Фима в фельетонном рассказике «Пресс-конференция», который он хотел дать в копилку собираемых материалов для «Симпозиума по отказу». Вот он:
«В клубе «Новый россиянин» состоялась долгожданная пресс-конференция неформального объединения «Память». Вёл пресс-конференцию видный представитель этого объединения, социолог Чернов.
Вашему вниманию предоставляется сокращенный протокол состоявшейся пресс-конференции.
Чернов (с нескрываемой грустью). — Память… Господа, у нас выбили из голов память! Кто мы? Чьи мы? Откуда мы? А мы — русские! Я не знаю, что такое советский народ! Не знаю! Во мне есть литовская кровь? Азербайджанская? Бурятская? Не дай бог, еврейская?! Нету! Я — русский! И вы — русские! Православные!! Да, мы — особый народ! Мы — не гнилые европейцы! Перефразируя Александра Блока, да, мы — азиаты, да, мы — скифы! Мы стоим между Западом и Востоком! На нас возложена великая миссия спасения христианского мира от грядущего нашествия Востока на Запад, нашествия, как орудия Божьей кары погрязшему в грехах Западу. И мы станем Востоком Христа! Мы берём на себя нравственную миссию спасения и последующего обновления христианского мира! Я схожу с ума, когда думаю, что предстоит нам, русским людям! Но чтобы иметь нравственное право спасать Запад, мы и сами должны нравственно измениться! Поэтому лозунгами «Памяти» стали: православие, самодержавие, народность, антикоммунизм, антисионизм, антимасонство. Ура, господа! А теперь можете задавать вопросы. Я отвечу даже на самые жгучие из них!
Вопрос. — Православие — не проблема, все мы православные. Что касается самодержавия — и здесь я не вижу проблемы: кликните, и мы пойдём за государем! Народность — я понимаю так, что надо заразить вашими идеями весь народ. Пойти всем нам в народ — тоже не проблема. Только надо подумать о достойной зарплате — ведь нам придётся уволиться, идти в народ — это ж весь день идти, а то и ночью. Антикоммунизм тоже не проблема — наелись коммунизмом досыта! Хватит! Насчёт антимасонства я не очень понимаю, но уверен, что и это не проблема. А вот как быть с антисионизмом? Вот это — проблема! Как обнаружить сионистов? Чем они отличаются от просто евреев?
Чернов. — Спасибо вам, дорогой друг за глубокое проникновение в суть проблемы! Мы различаем три типа сионистов: сионист открытый, сионист скрытый и жид пархатый. Нашей социологической группой разработан ряд методов, позволяющих различать эти типы. Расскажу вкратце об одном из них. Социологу нужно наклониться к уху человека семитской наружности и отчётливо прошептать: «Израиль — фашистское государство!» Сионист скрытый покраснеет и опустит глаза, жид пархатый радостно пожмет социологу руку, а сионист открытый непременно даст ему по морде. Но метод не безупречен. Недавно, подойдя с такой вот фразой к десяти евреям, семеро из которых, как нами предполагалось, были всего лишь жидами пархатыми, наш социолог восемь раз получил по морде, и три раза в него густо плюнули…
Голос из зала. — Но восемь и три — это одиннадцать. А подошли только к десяти евреям!
Чернов (растерянно). — Действительно… Видимо, один из испытуемых евреев не только дал по морде нашему социологу, но и плюнул в него. Тяжёлая у нас работа, товарищи.
Вопрос. — А как вообще отличить еврея от не еврея? Страшная иногда путаница происходит!
Чернов. — Общий принцип — по обрезанию! Но, увы, сегодняшний уровень перестройки еще не позволяет определять это в общественных местах.
Вопрос. — Каково отношение «Памяти» к евреям, покидающим страну?
Чернов. — Со всей присущей нам откровенностью отвечу: пусть едут! Но только в Израиль! Ибо Израиль расположен в таком месте, что сионистам там не до мирового господства. Как говорится: не до жиду, быть бы живу! (в зале гомерический хохот). Но, дорогие товарищи, в нашем обществе «Память» есть течение, требующее не отпускать евреев… э-э-э э, простите, сионистов в Израиль, чтобы они не смогли избегнуть заслуженного наказания за те преступления, которые они совершили по отношению к многострадальному русскому народу. Вопрос этот сложный. Сходу его не решить, и, как говорится, «первоисточники» здесь не помогут. Мы думаем, товарищи!
Крики из зала. — Пока думаете, они все и смотаются!
— Мебель всю вывезут!
— Почему разрешают им брать с собой мыло и туалетную бумагу?
— Таможня продана сионистам!
Раздается еще много оскорбительных криков в сторону министерств, ведомств, а также заслуженных деятелей партии и правительства. В конце концов, зал успокаивается.
Вопрос. — Ваше отношение к верующим евреям?
Чернов. — Мы никогда не простим им распятия Христа! (Весь зал в едином порыве встает и осеняет себя крестным знамением). Товарищи, хочу сообщить вам радостную новость: изучение зданий, в которых располагаются синагоги, показало, что никакой исторической и культурной ценности они не представляют! А нашей славной молодежи негде зимой потанцевать! (Негодующие крики в зале).
Вопрос. — Делается ли что-либо для усиления ассимиляции евреев?
Чернов. — Товарищи, ассимиляция нами приветствуется! Мы не фашисты! Мы не за чистоту расы, а за чистоту народа! И мы много делаем для усиления процесса ассимиляции. Установлено, что евреи-мужчины тяготеют к молодым, пышногрудым, длинноногим блондинкам с небольшим количеством веснушек. И сейчас к нам поступили такие девушки-добровольцы. Работа им противна, но они знают, что от их усилий во многом зависит очищение России от чужеродного элемента. Их дети — наполовину наши! А по еврейской вере — уж и вовсе не евреи! (Аплодисменты). Что касается еврейских девушек, то доступность многих русских девушек мешает нашим патриотам заняться малодоступными еврейскими девушками. Как видите, борьба с сионизмом есть одновременно борьба за моральное оздоровление женской части нашей нации. (Бурные аплодисменты. Раздаются женские крики: «Мы тоже станем недоступными! Станем!» Крики переходят в бушующие, очистительные рыдания. Трех девушек выносят, хотя они сопротивляются).
Вопрос. — На вас, представителей «Памяти», льют ушаты помоев! Почему вы молчите, бедненькие?
Чернов (в его глазах кипят слезы). — А кому сейчас жить на Руси хорошо? Честному патриоту? Труженику? Русскому писателю? Нет! На Руси жить хорошо сионистам и мракобесам, подкупленным ими! Да, мы облиты помоями и не только! Но придет время, и они своими шершавыми языками слижут с нас эту гадость!
Крик из зала. — Царя-батюшку!! (Все встают и, плача, поют «Боже, царя храни»).
Вопрос. — Есть ли у вас боевые отряды?
Чернов. — Друзья, не надо задавать вопросов, ответы на которые очевидны. (Овация)
Вопрос. — И пулемёты есть? (В зале раздаются возмущенные крики: «Провокатор!» «А может, это сионист?» «Снять с него штаны!» Слышится возня, пыхтение, крики. «Товарищи, он — наш. Он больше не будет». Зал успокаивается.)
Вопрос. — Много ли в вашем обществе творческой интеллигенции?
Чернов. — Непростой вопрос. Знаете, с этой интеллигенцией, как с той девицей: «И хочется, и колется, и мама не велит» (хохот). Они все хотели бы войти в наше светлое, очищенное от сионистской скверны общество, не замарав своих белых воротничков. Не выйдет, товарищи дорогие! Только облитые, как хорошо здесь было сказано, «ушатами помоев», мы войдем в наше завтра! (Крики «Ура!» «Не боимся замараться!» «На всех говна хватит!»)
Вопрос. — Как вы относитесь к заселению нашими сионистами исконных арабских земель?
Чернов. — Велики страдания нашего младшего брата, тоже великого, но арабского народа. И объединяет нас не только то, что и у них, и у нас есть нефть, а то, что и у них, и у нас — один общий враг. Наш младший брат переживает тяжелейшую минуту своей истории. Но мы с тобой, братишка! (Крики «Ура!» «Да здравствует Аллах Акбар!» «Все запишемся в общество «Джихад!» «Не отдадим Нагорный Карабах!»)
Вопрос. — Есть ли филиалы «Памяти» в других странах?
Чернов. — Отвечу так: ширится международная солидарность в борьбе с сионизмом! Понятно, товарищи? (Овация)
Вопрос. — Можно ли начинать бить сионистов в необщественных местах?
Чернов. — Друзья! О тактике и стратегии «Памяти» вы скоро прочтете в нашем легальном журнале «Узелки на память» (Аплодисменты). Да, товарищи, теперь у нас есть свой орган, и мы не дадим сионистам обрезать его! (Хохот. Бурные аплодисменты).
Вопрос. — А кто такие жидомасоны?
Чернов. — Великий русский человек, общественный деятель эпохи императора нашего Александра Первого, Михаил Леонтьевич Магницкий впервые произнёс это слово в отношении масонов, использующих в своих ритуалах иудейскую, каббалистическую, ветхозаветную символику и прославляющих Сион. Жидомасонство — заговор против России! И это доказано в классическом труде «Протоколы сионских мудрецов». Кто из вас читал их, а? (Поднимается одна единственная дрожащая рука старика в линялой соломенной шляпе, грязноватом, когда-то белом, чесучовом пиджаке. Оратор, увидев это, с великой грустью продолжает). Больно мне видеть такое… Конечно, куда увлекательней читать писульки всяких там Довлатовых, Аксёновых, Войновичей, Бродских и прочих семитофилов и евреев. Но если бы вы только открыли «Протоколы», вы бы уже никогда не закрыли их, а вышеназванных литераторов выбросили бы на помойку.
Вопрос. — Где ж их взять-то, «Протоколы» эти?
Чернов. — Нами готовится академическое издание этой великой книги по доступной любому русскому человеку цене! (бурные аплодисменты)
На этом пресс-конференция была завершена».
Фельетон этот Фима показал одному из руководителей «Симпозиума по режиму», умнице, доктору технических наук, многолетнему «отказнику» Милану Менджерицкому. Тот, читая, пару раз соизволил улыбнуться и по прочтении спросил:
— Ну, и какое это имеет отношение к нашему симпозиуму?
— Никакого, — ответил Фима. — Просто напоминание о времени, в которое проводится симпозиум.
И Милан ехидно продолжал:
— А лирический стишок о симпозиуме ты уже написал?
— О симпозиумах стихов не пишут. Даже такие поэты, как я.
— А где порученный тебе фельетон?
— Не получается.
— Как же так? Я помню, ты говорил про некоего Рабиновича, изобретшего автомат, стреляющий вбок…
— Не получается… Не смешной он…
— Тогда напиши обоснованное опровержение так называемой «важности для государственной безопасности» твоей бывшей секретности.
— Вот это я могу. В нескольких могучих строчках. Скажи, Милан, твоя квартира прослушивается?
— Понятия не имею. Но не исключено…
Фима поднял к потолку гордую голову.
— Тогда я громко заявляю следующее: да, я знал и знаю сейчас, что на известных мне химических комбинатах вырабатывают отравляющие вещества. Но существуют ли в мире химические комбинаты, на которых не вырабатывают эту гадость?! И каждому ясно, что расположение всех до единого советских химкомбинатов американские спутники знают лучше любого гражданина СССР! Эти комбинаты вопиют к небу огромными вертикальными трубами, которые ещё и дымят! Они опоясаны километрами разноцветных труб, по которым во всех направлениях текут исходные химикалии, готовая продукция, вода, пар, отходы! Они огорожены огромными заборами. К ним ведут десятки подъездных дорог! Вокруг них на десятки километров нет жилья! И стоит разбомбить хоть небольшую часть химкомбината, как вырубятся все его производства, включая и производство ядов, ибо все они обслуживаются одной системой. И что, американцы тупее меня?
— Очень эмоционально и логично. Меня только сильно смущает твой призыв к американцам бомбить советские химкомбинаты.
— Милан, ты превратно понял мой монолог…
— Я его понял точно так, как это понимают гебешники. Смягчи, добавь, что и у славных советских лётчиков есть точно такая же возможность, и вперёд! Только, пожалуйста, не зарифмовывай…
— 18 —
Засверкала новая фамилия — Борис Ельцин. В декабре 1985 года он стал первым секретарём московского городского комитета КПСС. Придя на эту должность, выгнал из горкома многих руководящих работников и многих первых секретарей райкомов. Лично проверял магазины и склады, ходил, плохо одетый, в нечищеных сапогах и завалящей кепке пешком по московским улицам, ездил на общественном транспорте. Охранники, не успевавшие влезть в троллейбус, бежали следом. Организовал в Москве продовольственные ярмарки. Начал публично критиковать руководство партии. Но отношение его к «отказу» оставалось неясным.
«Перестройка»! Она легонько трепала поседевшие локоны «отказников», смутно обещала перемены, открыла форточку для более полноценного дыхания и, главное, перестала сажать в тюрьмы. «Отказники» выходили на редкие демонстрации с плакатами, милиция грубо, но без мордобития изымала их и… уезжала. Обезличенным «отказникам» не оставалось ничего другого, как разъезжаться по домам.
Но самое главное — в феврале 1986 года был выпущен из лагеря Толя Щаранский и уже на следующий день после освобождения прибыл в Израиль. А в мае получили разрешение на выезд его мама Ида Петровна и родной брат Лёня с семьёй.
Ида Петровна… Как она натерпелась за эти проклятые девять лет сыновних лагерей и бесчисленных в них карцеров и голодовок! Упрямый, несгибаемый сын… Ида Петровна ездила к нему на свидание в Чистополь в страшный холод и за три дня свидания пыталась отогреть, откормить сына.
Шатаясь, шла завьюженною Камой
В чужую даль, в чужую тьму,
Шатаясь, шла, обмотана шарфами,
На краткое свидание к нему.
Потом, нелепо суетясь, кормила сына,
Такого маленького, худенького, что
Могла бы с лёгкостью взвалить его на спину,
И снова через Каму, через шторм.
Потом лежала, успокоенная, рядом,
И так естественно, свободно потекло
Сквозь каждый наболевший мамин атом
К нему последнее старушечье тепло.
Потом, сращённая с тюремной решёткой,
Рыдала сыну обречённо вслед,
И шла обратно тяжкою походкой,
В холодный, рыхлый, бесконечный снег.
И только об одном молила Бога,
Не поднимая к небу мокрых глаз:
— Дай, Господи, пожить ещё немного…
И Он её услышал в этот раз…
Четыре года тому назад Фима вручил Иде Петровне это стихотворение, и она, прочитав, так разрыдалась, что перепуганный Фима не знал, куда деваться. А 23 августа 1986 года Ида Петровна напилась на собственных проводах! У Фимы хранилось фото, на котором она запечатлена с огромным и уже пустым стаканом. Речь её была бессвязной. Она со всеми целовалась и приговаривала: «Мы скоро увидимся, мои родные! Мы скоро увидимся!» А Фиме шепнула на ушко: «А твоё стихотворение я выучила наизусть. Хочу видеть, как эти сволочи отнимут его у меня!».
Нет, это были не обычные проводы — это были проводы «отказа»! Так осязаемо было высокое чувство сие, так вдохновенно повторяла Ида Петровна «мы скоро все увидимся», так весел был Володя Слепак…
Возбуждённые этими событиями, «отказники» решили наведаться к тогдашнему министру внутренних дел. Но он не принял. Занят. Не приняли и несколько его замов. Заняты. И вдруг согласился принять некто Гундарев с неясными полномочиями.
На улицу Огарёва, в небезызвестный дом номер шесть прибыло двенадцать старых «отказников». Принял их пожилой человек в генеральской форме, с тяжёлыми крестьянскими руками, хитрым мужицким лицом и сиплым, махорочным голосом.
— Ну, товарищи, что там у вас?
Очень ободренные тем, что впервые их, «сионистов», «предателей», отбросов социалистического общества» и так далее, называют «товарищами», «отказники», жестикулируя, всхлипывая, перебивая друг друга, принялись рассказывать седому генералу о несправедливостях, творимых подопечным министерству ОВИРом по отношению к ним.
Он ни разу не перебил. Он сказал, что проверит. Что виновных накажет. Он вытащил огромный носовой платок и так высморкался, что «отказников», до единого, вынесло из кабинета.
Как потом оказалось, это был уже год как уволенный из органов МВД на пенсию генерал, в прошлом — крутой специалист по борьбе с бандитизмом.
— Надо к Ельцину! — сказал один из очень старых «отказников».
И «отказники», униженные и оскорбленные, бросились к нему с жалобой на МВД. Но Ельцин не принял. У него накопилось дела поважнее. Не приняли и восемнадцать его замов. Но согласился принять некто, ответственный по организационно-идеологическим делам. И «отказники» увяли. Три очень старых «отказника» не пошли, так как сочли унизительным встречаться с лицом, не известным широкой мировой общественности.
— Хватит с нас! — сказали они.
Еще три очень старых «отказника» не пошли, потому что не пошли три первых. Еще один в этот день встречал полинезийских социал-демократов, а другой дописывал вторую главу своей книги «Мой путь в Сион» (предварительное название).
Из оставшихся великих, пойти на приём решил Володя Слепак, неожиданно выбравший себе в напарники Фиму. Одному идти на приём ему показалось скучным.
В приемной маялась обыкновенная очередь из обыкновенных советских людей, как и Володя с Фимой, предварительно записанных на прием.
Темп приема был ошеломительный. Каждые пять минут из двери кабинета выскакивал потный, красный посетитель и, матерно ругаясь, бросался к двери, ведущей на улицу. Было ясно, что в кабинете сидит не шутник. И уж совсем стало интересно, когда оттуда выскочил пожилой полковник в форме с криком:
— Я найду на тебя управу, сука!
«Перестройка» давала себя знать. Еще год тому назад, даже получив по физиономии, из такого вот кабинета выходили бы, лучезарно улыбаясь. Теперь же чувствовалось, что отношения между партией и ее народом приобретают искренний, деловой характер.
— Слепак! — возопила секретарша. И Володя с Фимой встали. Неупоминание Фиминой фамилии нисколько его не обидело. На допросы, с последующей в 1978 году ссылкой на пять лет, Слепака вызывали тоже без Фимы.
Вошли. Это был небольшой кабинет, почти заполненный огромным письменным столом. На стене в простой рамке висел портрет с кепкой хитро улыбающегося Ленина. А за самим столом спиной к портрету сидел чернявый, востроносый ответственный работник с явными признаками бессонницы. Глаза его были как у хорька: круглые, темные, безбровые, жутко злые и, одновременно, заспанные. Честно говоря, Фима никогда бы не поверил, что в ответственные партработники можно попасть с такой вот физиономией. Видимо, был талантлив.
— Слушаю вас.
И Володя Слепак, с известной всему миру хрипотцой, спокойно, деловито начал излагать проблемы «отказников». Ответственный работник, явно чтобы не сорваться, в первые три минуты речи Слепака, что-то энергично жевал. И по окончании трёх минут, прожевав, он прервал Слепака и сделал это очень эффектно: ударил ладонью по кипе бумаг и затем резким, отлично поставленным голосом, выстрелил:
— Хватит! Я теперь буду говорить!
И в тишине, последовавшей засим, он раздельно произнес:
— Будь моя воля, я бы прямо отсюда отправил вас в Сибирь, навсегда, чтобы духа вашего сионистского не было в Москве, чтобы не мешали нам жить (он стал подниматься), чтобы не гадили священную нашу московскую землю (он встал и направился ко второй, ранее не замеченной Фимой, боковой двери), чтобы не отравляли наш чистый воздух (Володя с Фимой поворачивали вслед ему головы, завороженные его ненавистью), не заражали наши водоемы (он взвизгнул), ручьи и реки, озера и плавни!
И исчез из кабинета.
Стало ясно, что этот человек, будучи в прошлом ответственным за чистоту окружающей его среды, был в суете «перестройки» брошен на организационно-идеологическую работу. И Володя с Фимой остались вдвоем в пустом кабинете.
Что и говорить, хозяин этого кабинета был действительно талантливым человеком: в такой вот ситуации, поди, ответь ему, возрази, нагруби, наконец! Ничего — бейся головой о стенку и восхищайся методами партийной работы! А, может, он побежал только справить нужду и вернётся?
Зычный голос секретарши потребовал от них очистить священные покои…
Но уже в разгаре была весна, и хотя месяц март из последних сил цеплялся за московские крыши, его последние льдины таяли и вместе с серым снегом с грохотом проваливались в водосточные трубы…
— 19 —
Менялась не только страна, менялась, причём, на глазах, и Фимина жена Тина. Декабрь 1986-го года прошёл под знаком её резко увеличивающегося живота. Фима нервничал, а Тина деловито готовилась к родам. Уволившись, она сохранила дружеские отношения с несколькими бывшими коллегами, звонила им, рассказывала о симптомах, получала ценные советы и сияла. Через день звонила из Израиля её мама и кричала Тине, чтобы она «главное, не нервничала и не занималась „отказными“ делами». И всегда спрашивала: «А он (то есть, Фима) помогает тебе?» И содержалась в этом вопросе удивительная проницательность, ибо Фима, как и многие другие «отказники», окрылённые гуманным к себе отношением властей, стал частенько вечерами отлучаться от дома, по причине возросшего объёма общественных дел. Тина не протестовала даже тогда, когда муж возвращался чуть навеселе. Она понимала, что «общественные дела» были весьма разнообразны. Впрочем, Фима всегда многословно рассказывал ей, где был, с кем, по какому поводу выпил и даже что пил.
Звонила раз в неделю Фимина мама и наставляла:
— Ты до сих пор не знаешь, кого родит Тиночка? С ума можно сойти! У нас это узнают на четвёртом месяце беременности! Теперь слушай: если мальчик, дашь имя дедушки — Юда, в Израиле переделают его, как полагается, а если девочка, дашь бабушкино имя — Хая…
— Мама, но я собираюсь в Израиль, а не в Бердичев! Кроме того, и у Тины были дедушка и бабушка.
— Так что, у вас будет только один ребёнок?!
— Мама, ты лучше расскажи мне, как у Сеньки дела! Он не пишет и не звонит!
— Сыночек, я должна тебя огорчить — о нём говорят нехорошо. Будто назанимал денег, долги не возвращает, непонятно, чем занимается. Ко мне он ни разу не приезжал. Только один раз позвонил, и всё. Учти, что всё это, конечно, слухи, но уж очень упорные.
— Мама, что с моими стихами?
— Ждут тебя!
— А ты не можешь отправить их в какую-нибудь русскую газету?
— Я пыталась, но мне сказали, что они стихов не печатают. Скоро приедешь и сам во всём разберёшься.
— Мама, откуда ты знаешь, что «скоро»?
— Мы, родители «отказников», недавно встречались с русскоязычным евреем Яшей Кедми, — он большой человек в Израиле, — и он сказал, что не сомневается в скором приезде многих советских евреев, включая «отказников». Сыночек, я так скучаю…
Далее следовал мамин плач, взаимные признания в любви и горькие слова о невозможности больше терпеть разлуку…
…И наступило одиннадцатое января 1987 года, и в это ясное морозное утро заявила Тина Фиме, что надо идти в роддом. Что она чувствует, что пришло время рожать. Перепуганный Фима засуетился, стал носиться по квартире и громко спрашивать Тину, где находятся её вещи. Тина долго смотрела на взмокшего мужа и, наконец, сказала: «Я собрала свои вещи ещё три дня тому назад. Неужели ты думаешь, что я могла оставить это на последний день? Ты бы лучше оделся поскорей».
Тина потребовала идти пешком. Роддом находился в двадцати минутах ходьбы, и Тина вошла в его светлый вестибюль с раскрасневшимися щёчками, весёлой улыбкой и совершенно потерянным Фимой. Через минут пятнадцать её увели, а Фиме велели ждать — вдруг придётся отправляться домой. Прошёл целый час, прежде чем Фиму позвали к крайнему окошку в регистратуре, и пожилая, полная женщина сообщила, что Тину оставляют, что всё в порядке, что вечером, но не позже семи часов, он может прийти и узнать, что и как…
— А звонить вам можно?
— Звони, милок, если телефон у тебя в личном кабинете.
И пошёл Фима по белой тропинке, скрипучей, очищенной ретивыми дворниками от выпавшего ночью снега и уже утоптанной мужьями, пошёл прочь, на каждом шагу оглядываясь на серое, невзрачное трёхэтажное здание районного родильного дома с множеством окон, на четверть запорошённых снегом. И сердце его ныло от тревоги и радости, и приветливая ворона отчётливо и раздельно каркнула ему: «Па-па!»
Работалось тяжело. Фима то и дело застывал с молотком, поднятым для удара по шляпке гвоздя, или отвёрткой, нацеленной на головку шурупа. Едва кончился рабочий день, он примчался в роддом и узнал, что Тина ещё не родила. Он вышел в роддомовский садик и стал пристально вглядываться в окна. В них, через изуродованные наледью стёкла, мелькали разные лица, однажды ему показалось, что он увидел Тину, но лицо быстро исчезло, и Фима поплёлся домой.
— Эти еврейские дела… — думал он, прожёвывая после хорошей стопки водки бутерброд с безвкусным, прилипающим к нёбу сыром. — Не родила — нельзя заносить в дом детские вещи. А родит — как я успею? А сколько дней держат в роддоме после родов? Вот, если б неделю, я бы всё успел. Ах, какая я сволочь! Ради вещей готов целую неделю не видеть родную жену с родным ребёнком…
И пошёл спать, совершенно расстроенный.
На следующее утро та же регистраторша или чёрт её знает, какая у неё там должность, сообщила, что никаких изменений нет. То же самое случилось и на второй день. А на третий…
Все знакомые «отказные» женщины говорили ему, что это в порядке вещей, что забирают всегда раньше срока; одна рассказала, что провалялась до родов десять дней! А другая сказала:
— Что тебе так плохо? Ты бы дома вешался от каждой её схватки! Или ты умеешь принимать роды? Ты руки-ноги должен целовать советской власти за её заботу о тебе! Ты лучше подумай, как организовать обрезание, если будет мальчик!
Фима пришёл на работу мрачный. А на работе его встретили так, как будто ждали всю жизнь.
— Наконец-то! — орал Виктор Васильевич, уже знакомый нам проректор по хозчасти. — Какой-то гад выломал дверь в «реквизитной», а там — до чёрта нового, только что купленного! К счастью, ничего не украдено. Но, скажи, зачем тогда ломали дверь?! Я посадил студента дежурить до твоего прихода. Кровь из носа, но дверь ты должен сегодня починить! А этих взломщиков я найду! Ох, найду!
Фима с инструментами, с новыми дверными петлями быстро спустился в полуподвал и направился на склад реквизита. Картина, которую он там застал, была страшной: наполовину открытая, скособоченная дверь держалась на одной нижней изуродованной петле и упёртым между дверью и полом, дуэльным пистолетом. Верхняя петля, вырванная из дверной коробки, тоже изуродованная, кое-как держалась на двери, и в ней торчали мучительно изогнутые шурупы. Рядом с несчастной дверью на табурете сидел красавец Игнат, хорошо знакомый Фиме четверокурсник, его многорублёвый должник с трёхлетним стажем, почти выпускник, и увлечённо читал тонкую книжицу. На облупленной батарее парового отопления, на каждой её впадине, лежало по куску чёрного хлеба, обильно смазанного клеем под названием «БФ — 2». Клей почти высох, скоро придут студенты, якобы за реквизитом, ножом соскребут затвердевшую часть клея и будут жадно поглощать влажный, насыщенный спиртом и эфиром хлеб.
— Привет, Игнат! Объясни, зачем было ломать дверь, если ничего не украдено?
— Дядя Фима, неужели вы думаете, что воровство является единственной движущей силой человеческих поступков? А кураж? Да ещё под кайфом? По моим сведениям, они катались на этой двери! Они получали от этого невыносимое блаженство!
— Кто этот «они»?
— Дядя Фима, я могу осудить, но не предать!
— Скажи, — указывая на «выпивку», так откровенно расположенную на батарее, — как проректор не углядел это?!
— Прикрыли грязноватой маечкой. А проректор наш человек партийный, потому и брезгливый. Вот вам, дорогой товарищ плотник, ключ от двери, я с великой грустью покидаю вас, сохраняя надежду, что количество «батарейных» бутербродов не уменьшится.
Фима вздохнул и принялся за работу. Несмотря на поганое настроение, работа шла споро, к счастью для Фимы, взятые им петли были точно такими же, как и выломанные, и уже через два часа дверь, прочно сев на новые петли, чуть поскрипывая в знак благодарности, легко совершила положенный ей полукруг под лёгким толчком мастера. Можно было уходить, но почему-то никто не приходил за совершенно высохшими бутербродами. Если же богемные алкаши, полагая, что дверь по-прежнему сломана, — а об этом уже знало всё училище — заявятся, и она окажется закрытой, то им ничего не будет стоить ещё раз выломать её. И Фима, закрыв дверь на ключ, бросился искать Игната, чтобы тот предупредил алкашей. Нашёл он его быстро — Фима знал, что весь четвёртый курс готовился к сдаче экзамена по танцу. Игнат на просьбу Фимы откликнулся немедленно, как был в танцевальном пиджачке для аргентинского танго, куда-то убежал и вернулся через несколько минут с сообщением, что алкаши, эти «малолетки», по выражению Игната, уже час стоят на коленях перед проректором по хозчасти и умоляют не выгонять их из училища. А проректор, как услышал один из студентов, проходящих мимо его кабинета, кричал: «Мне плевать, что из вас могут получиться Смоктуновские!» Фраза на некоторое время стала в училище крылатой. Игнат не поленился сбегать в «реквизитную», очистил батарею от бутербродов, вернул ключ Фиме и высокопарно, употребляя выражения типа «о, плотник из плотников», «о, санитар великого театрального училища» и так далее, поблагодарил Фиму за отремонтированную дверь.
— Дядя Фима, а что не веселы вы нынче?
— Жена в роддоме, и я ничего не знаю о её состоянии.
— Так позвоните!
— Один и тот же ответ — «сведения о роженицах выдаются после пяти вечера».
— Дядя Фима, боже мой, оказывается, вы не умеете разговаривать по телефону с советскими служащими! Вперёд!
Он схватил Фиму под руку, и потащил в кабинет ректора училища. По счастью, недавно назначенный, величественный ректор училища Владимир Этуш уехал, и просители остались наедине с его секретаршей, женщиной молодой, малопривлекательной и оттого весьма суровой. Но мог ли кто устоять перед обаянием Игната? Он весь изогнулся в нижайшем почтении, он улыбался, как Марчелло Мастрояни, он подошёл к ней, взял её беспомощную руку, прикоснулся к ней вытянутыми губами и произнёс:
— Зинаидочка Петровна! У нашего замечательного плотника рожает жена. Возможно, в этот миг. Она корчится от боли, а он умирает от волнения. Один звонок, Зинаидочка Петровна. Всего лишь один звонок!
И Зинаида Петровна, даже похорошев в это мгновенье, произнесла:
— Ох, Игнат, сколько несчастных женщин породишь ты в нашей стране! Чёрт с вами! Только быстро!
Игнат снял трубку. Фима продиктовал телефон.
— Роддом номер семнадцать? Прекрасно!
Игнат преобразился. Он стоял, выпятив пузо, заложив левую руку за лацкан танцевального пиджачка. Несколько раз прокашлялся. Изъяснялся, чуть грассируя:
— С вами говорит профессор Браверманн из Центрального Института акушерства и гинекологии. Мне совершенно необходимо узнать о состоянии роженицы Тины Залевской, поступившей к вам одиннадцатого января, разумеется, сего года. Я жду. Ах, вы соедините меня с врачом? Великолепно! Как фамилия врача? Доктор Зубова? Превосходно! Я жду. Доктор Зубова? Ах, Мария Николаевна? Великолепно! Дорогая Мария Николаевна! Ах, вам уже передали, в чём дело? И что же? Только что родила? Прекрасную девочку? Три сто? Великолепно! Роды были сложные? Замечательно! Роженица оказалась чрезвычайно терпеливой, и поэтому, слава Богу, обошлось без кесарева сечения. Я вас правильно понял? Дня-три дня она ещё пробудет у вас? Прекрасно. Почему меня так волнует эта роженица? Она была некоторое время под моим специальным наблюдением, подробности которого я, к сожалению, не могу разглашать по телефону. Но я непременно пришлю вам приглашение на наше научное заседание, и вы всё узнаете. Спасибо вам, милейшая Марья Николаевна. У вас удивительно молодой голос. Прощайте. Всего вам наилучшего!
Увлёкшийся трёпом, Игнат не заметил, что Фима медленно осел на пол, да так и сидел, обливаясь счастливыми слезами. Похорошевшая Зинаида Петровна спешила к нему со стаканом воды…
«Отказная» взаимопомощь заработала в полную силу. Уже вечером Фиме доставили прекрасно сохранившуюся, разобранную детскую кроватку, в которой отсутствовало всего лишь одно колёсико. Тем же вечером Фима привёз тюк вещей для новорождённого, купленных Тиной, но оставленных у подруги. Утром следующего дня Фима на такси привёз разобранный комод-пеленатор. А из мебельного магазина, при помощи взятки, уже вечером, ему доставили небольшой шкаф. И так далее, и так далее. Фима, получив недельный отпуск, всё собрал, всё починил, всё улучшил, всё расставил, согласно подробнейшим указаниям жены, и, наконец, просидев три мучительных часа в ожидании выписки, встретил осунувшуюся, счастливую Тину со свёртком в руках, внутри которого содержалось сморщенное существо с закрытыми глазами и носом, казалось, сросшимся с верхней губой и, ко всему этому, непрерывно чмокающее.
С именем споров не было — Геула, как и было решено заранее. С полученной из роддома справкой, Фима направился в районный ЗАГС, дабы получить серьёзное, официальное, с твёрдой обложкой свидетельство о рождении дочери.
— Как назвали? — спросила худая, энергичная чиновница.
— Геула, — раздельно, с достоинством произнёс Фима.
— Как?!
— Геула!
— И что это значит?
— Ничего, кроме имени, это не значит.
Не объяснять же ей, что в переводе с иврита это значит «освобождение»!
— В нашем справочнике имён такого имени нет!
— Значит, надо расширить справочник.
— Должна вам заметить, что для всего советского народа его всегда хватало!
— Но всё течёт, всё меняется…
— Я должна посоветоваться с начальством. Подождите меня, пожалуйста, в коридоре!
Фима вышел из кабинета с учащённым сердцебиением. Обречённо сел на жёсткий стул и стал в волнении ждать
Скоро его позвали. Громко и отчётливо. Фима вздрогнул, встал и вошёл в кабинет. Та же худющая чиновница, но с чуть порозовевшим лицом и злобными глазами.
— В общем, так, — заявила она, — поскольку выбранное вами имя не находится в реестре имён, принятых на территории СССР, вы должны вернуться к нам с женой для подтверждения ею выбранного имени.
— Но нам не с кем оставить ребёнка!
— Можете прийти с ним.
— С ней. Она — девочка. Её зовут — Геула.
— А теперь покиньте, пожалуйста, мой кабинет!
Геула, на завтра приплывшая на маминых руках в кабинет чиновницы, вела себя идеально.
К середине марта у трехмесячной Геулы нос совершенно отделился от верхней губы, личико стало молочно-розовым, и Фима, даже сердясь на дочь за очередную бессонную ночь, с наслаждением касался губами её круглых щёк и мастерски менял импортные подгузники, подаренные сочувствующими еврейскому движению иностранцами.
— 20 —
1987 год был годом всеобщего «отказного» сердцебиения. В феврале из лагеря вернулся Иосиф Бегун, 4-го мая был освобождён из тюрьмы Юлик Эдельштейн и уже в июле укатил в Израиль. Обоих встречали на Казанском вокзале такие толпы, что не снились ни одному освобожденному из ГУЛАГа.
«Отказники» поехали… И даже на фоне таких событий, известие о разрешении на выезд Иде Нудель прозвучало взорвавшейся бомбой. Она казалась вечной «отказницей». Бесстрашная страдалица и, увы, одинокая, несмотря на звание «матери узников Сиона», несмотря на то, что весь западный мир знал о ней, писал о ней, требовал выпустить её. Но одиночество — это такая штука, которую не восполнит и целый мир. Рядом с ней всегда ощущалась некая неловкость от собственного благополучия, здоровья, наличия семейного очага. Её честность, принципиальность, прямолинейность зашкаливали. Ею восхищались, но следовать за ней было уделом очень немногих. И всего месяц тому назад она навестила Фимину семью и аккуратно кормила удивлённую, но не терявшую при этом аппетита полугодовалую Геулу.
И, может быть, впервые Фима видел оживлённую смеющуюся Иду, полную надежд. Что-то варилось для неё, шли какие-то слухи о её скором отъезде, но никто ничего толком не знал.
И вот свершилось: у Иды Нудель разрешение! И вновь у этой женщины, не как у всех: не вызывали в ОВИР, не требовали никаких бумаг, а прилетел в Россию миллиардер Хаммер (тот самый, который имел дела ещё с Лениным!) на личном самолете, с кем надо поговорил, и вот, увозит он Иду в Израиль! Трагедия, длиной в восемнадцать лет, завершённая счастливой сказкой! Но увозит — это потом. А 14-го октября 1987 года в московском ресторане «Вильнюс» состоялись проводы Иды Нудель!
С Геулой осталась Тинина тётка, тётя Циля, которая перестала избегать Фимин дом лишь два месяца назад, после решения уехать к дочери в Америку.
В банкетном зале на втором этаже ресторана собралось человек двести. Мороз, несмотря на всего лишь октябрь, стоял страшенный, отопление явно не справлялось, но евреев было так много, такими они были горячими, так дышали, так орали, так смеялись, так, в конце концов, пили, что холод был только во благо!
И вот появилась Ида! За ней — Хаммер! Ида сияла, Хаммер улыбался, от юпитеров шёл пар, блицы сверкали, «отказники» орали, фотокорреспонденты — кто на коленях, кто на столе, кто на люстре. Официанты, белые, как их курточки, выстроились вдоль стен со своими подносами, шагу ступить не могут, а администратор в штатском смотрит, запоминает, потный весь, измученный.
Сели за стол. Хаммеру дали котлету под названием «Московский бифштекс», и пошла пьянка!
— Смотри, смотри, — восторженно кричала Тина, — как миллиардер пожирает эту несъедобную котлету! А мы всё кричим: «Общепит! Общепит!»

Тосты звучали такие, что скрытые в стенах микрофоны с треском лопались. И все смотрели на Иду и на Хаммера. А он молчал и тихонечко ел котлету. С отменным аппетитом. Ида разрумянилась, что-то отвечает, смеется, кричит… Невеста, ей-богу, невеста. Невесты всегда красивы.
…А Фима вспоминал её в ссылке, в деревне Кривошеино, в Сибири — он вызвался навестить её, привёз продукты, починил и обил дверь, заменил в окне треснувшее стекло, наколол, сколько мог, дров, пробыл у неё три дня… И до сих пор с ужасом вспоминал, как провожал Иду на работу — она работала ночным сторожем местной автобазы, где строго охранялись две перекошенные от старости «полуторки» — и возвращался в её домик под тягучий, выматывающий душу вой волков и пугливый стон жавшейся к его ноге мирной лохматой колли, любимой Идиной собаки.
Ида… Ватник, валенки, мороз, пурга, вой волков в ночи, и ответное, трусливое подвывание собак, и дрова… дрова, непрерывно и покорно исчезающие в пасти дырявой печки. И в каждой черточке лица ее — усталость, и в каждом шаге её — усталость, и в каждом слове её — усталость… И вот — на тебе! Что стало с советской властью?!
И вдруг…
Вдруг, в разгар веселья влетает в зал явно иностранный корреспондент: рубашка порвана, брюки — спущены, лицо — в крови (нет, нет, не подумайте чего-нибудь такого — просто несколько раз падал на лестнице), шуба — в руках, фотоаппарат — в зубах… Влетел, встал, покачался (тишина стояла жуткая), упал на колени, помотал головой и вдруг как зарычит (даём в литературном переводе с английского):
— Слепакам… разрешение… ура…
И упал.
Где взяли евреи сил взорваться в порыве нового восторга?
Официанты, все до единого, влезли на раздаточный стол. Администратор в штатском взобрался на штору. Окна распахнулись настежь. Граждане СССР, сидевшие на первом этаже ресторана, в ужасе разбежались, не успев заплатить за еду.
А Хаммер спокойно ел котлету. Кажется, вторую. Неужели вкусная? Фима подумал, что он просто вырвался на вечерок от своих врачей, вырвался из опостылевшей ему диеты. На здоровье, дорогой ты наш миллиардер!
И через минуту, в живом коридоре восторженно вопящих людей, в свете чарующей своей улыбки появилась царственная Маша Слепак, а за ней и «сам» — седой, бородатый, очумевший Володя.

Именно тогда, в этот потрясающий вечер, все присутствующие в ресторане евреи поняли, что начинается в России то смутное, дивное время, о котором мечтали и за которое боролись лучшие сыны её, и к пришествию которого приложили руку и «отказники», коих судьба — маленькая страничка Великой Еврейской Летописи — еще ждет своего историка. И главное, что пришел конец стране «Отказнии», о которой когда-то Фима сочинил:
О, страна моя, Отказния
Разом мачеха и мать,
Где единственные праздники
Просто проводами звать…
О, страна моя великая,
Где от Риги до Читы
Одинаковы реликвии,
Одинаковы мечты.
Ни господ в тебе, ни парий,
Сколько виз и столько дат.
Мир твоих не знает армий,
Только горестных солдат.
Мы — рабы твоих традиций,
Мы твою признали клеть,
Тяжело в тебе родиться,
Но, не дай Бог, умереть.
О, страна моя охриплая,
Где под горькое «ура»
Через улицу Архипова
Нас погнали за Урал.
Где средь лозунгов и песен
Время в сторону текло,
Где дарил Володя Престин
Нам последнее тепло.
…Но придёт — последним рейсом
Из тебя навек уйдём;
Станешь памятью еврейской
И классическим стихом.
Над твоим склонимся прахом,
Переломим с треском плеть…
И никто не будет плакать,
И никто не будет петь.
О, страна моя, Отказния,
Разом мачеха и мать,
Где единственные праздники
Просто проводами звать…
…И впервые защемило сердце от таких простых и долгожданных слов: «Прощай, Россия!»
…Фима долго не мог уснуть. Чрезмерно выпитая водка гоняла его воображение от картины к картине, искривляя их, выдумывая новые краски, неожиданные повороты. Лица Иды и Слепаков то вырастали до гигантских размеров, то крошечными виделись из иллюминаторов уплывающих пароходов. И вдруг он отчётливо увидел Красную площадь и себя, одиноко стоящего в середине её и смотрящего, как исчезают в сторону Исторического музея «отказники», спины их уменьшаются, некоторые оглядываются и машут Фиме рукой, а он — один, совершенно один на пугающе огромной, холодной, пронизанной ветром площади. И даже Тины с Геулой не было рядом. Куда девались Тина и Геула? От ужаса этой картины он очнулся. Аккуратно, не без некоторого даже изящества, перелез через безмятежно спящую жену, выпил воды, навестил дочь — она, чуть освещённая лунным светом, пробившимся из-за шторы, безумно красивая, спокойная, закинув обе ручки на подушку, словно сотворив венок вокруг головы, спала, да так неслышно, так покойно, что Фима склонил к ней голову, чтобы удостовериться, что дочь дышит. О, как она замечательно, ритмично дышала!
— Господи! — тихо взмолился Фима, — мы-то когда? Неужели я для Тебя важнее Слепака? Иды?
Несмотря на головную боль и вялое общее состояние, Фима нашёл в себе силы гордо не реагировать на остроты жены по поводу вчерашнего и вяло собираться на работу.
Но горячий кофе и поцелуй в небритую щёку он всё же получил.
— 21 —
С 23 по 25 ноября 1987-го года прошёл «Симпозиум по режиму». Конечно же, без Фиминого доклада. Ну, не умел Фима писать доклады. Кроме того, предварительно прочитав несколько докладов других авторов, Фима понял, что все пишут — и очень толково — об одном и том же. Гнева Милана Менджерицкого он нисколько не боялся, так как прекрасно понимал, что голова его забита вещами, куда более важными. Симпозиум прошёл гладко, но, к немалому разочарованию участников, без особого внимания зарубежной прессы.
А 6-го декабря 1987 года, за день до встречи в США президента СССР Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана, в Вашингтоне более 250 тысяч человек собрались для того, чтобы призвать Кремль открыть ворота для эмиграции советских евреев. Не только «отказников» — евреев! Это оказалось самой большой демонстрацией в американской истории, организованной евреями. И день этот назвали Воскресеньем Свободы.
— Что вы там сидите?! — в гневе кричали израильские мамы Фимы и Тины.
…И по квартире деловито ползала годовалая Геула.
Разрешение Фима получил в феврале 1988 года. Произошло это столь же буднично, как покупка лежалого хлеба в булочной. Зато на следующий день началась сводящая с ума суета. Пересчитали отложенные на «чёрный» день деньги. Плюс деньги за кооперативную квартиру — покупатель нашёлся мгновенно. Можно было что-то (и, честно говоря, немало) купить для начала жизни в Израиле. Но что? Тинина мама наказывала, что нужно привезти мебель и пианино. Тинин папа — что нужно привезти пианино и мотоцикл, но и мебель неплохо. Фимина мама настаивала на очень хорошей мебели, но не исключала и мотоцикл тоже. Фиме от одного слова «мотоцикл» становилось дурно, и они решили купить дорогую мебель и пианино. Но в СССР в это время решение купить не значило возможность купить. И Фима немедленно обратился к другу детства и ранней юности замечательному русскому человеку Мише, Мишане.
…Их было трое — Фима, Мишаня и Володя, но последний, будучи главным сионистом в их компании, ещё в 1981 году уехал в Америку, посему участие в Фимином отъезде принимал лишь духовное, поздравляя по телефону и уговаривая ехать только в Израиль. «Хоть ты останься практическим сионистом!» — чуть ли не рыдая, сказал он Фиме.
Ах, отношения Фимы и Володи, самым близким другом детства и юности, были не простые. Вместе мечтали об Израиле, и поэтому неожиданное решение Володи ехать в Америку вызвало у Фимы чувство обиды и гнева. Началось отчуждение. Более того, Фима, попавший в «отказ», видел, что друг, тогда ещё не подавший документы на выезд, стал под многими предлогами избегать частых встреч с ним — его, по-прежнему «тёмные» делишки, мало соответствовали Фиминому статусу «отказника», за которым, по твёрдому убеждению Володи, КГБ ходил по пятам.
Он был очень разумным человеком. Можно сказать, мудрым. Так, будто предвидя будущий отъезд, отказался от работы в секретном предприятии. Ничуть не горевал, получая мизерную зарплату, зато замечательно покупал-продавал дефицит, имел обширнейшие связи в этой области. Вообще, выглядел человеком устроенным, вписавшимся в советскую власть, хотя и ненавидел её люто. Очень любил бытовавшую тогда поговорку: «Чем меньше у человека (разумеется, советского) зарплата, тем больше он зарабатывает».
Разрешение на выезд в 1981 году получил легко — случилось послабление, еврейский активистов распихали по тюрьмам и ссылкам, а в качестве компенсации «смирным» евреям приоткрыли форточку.
Фима очень любил друга. И было за что. Он блистательно играл в шахматы. Не изучая никаких теорий, не занимаясь ни в каких кружках, громил даже перворазрядников и всегда в своём стиле — медленном, от обороны, выжимая из противника все соки, не оставляя никаких надежд на атаку. Потрясающе играл в карты, особенно в преферанс. Феноменальная память на вышедшие из игры карты, интуиция, почти безошибочное проникновение в психологию противников делали его в преферансе, при достаточно длительной игре, практически непобедимым.
Умел и жульничать в карты — при врождённой ловкости рук, играл краплеными, передёргивал, менял колоды, клал в прикуп при сдаче нужные карты и так далее, и так далее… Не только деньги — ему доставляло ни с чем несравнимое довольствие видеть лица соперников, проигравших в одно единое мгновение так удачно складывавшуюся игру. Всё это требовало не только потрясающей ловкости рук, но и незаурядной смелости, ибо «канделябром по морде» тоже бывало…
Умел с лёгкостью добиваться благосклонности девушек. Небольшого роста, словно вырубленный из цельного каменного куска, необыкновенно сильный физически, с огромными, выразительными лазами, напористый, излучающий неприкрытую страсть, умело создающий у бедной девушки ощущение полной безнадёжности её сопротивления, он почти не знал поражений на сексуальном фронте. Мало того, побеждённая бедняжка, как правило, влюблялась в него, но куда там! Он уже спешил к новым победам.
Была в нём некая отчаянность, страсть к риску, страсть к преодолению обыденности. Его отношение к советской действительности зиждилось на двух китах: советских людей и милицию можно обмануть или купить, но с КГБ — не связываться никогда.
Они не расставались с шести лет… Фима на всю жизнь запомнил «Шереметьево» в утро Володиного отъезда. Боль от предстоящей разлуки и обида смешались в горячих слезах, в глухой тоске… Фиму за неделю до отъезда друга вызвали в районный КГБ и сухо сообщили, что он никогда ни в какой Израиль не уедет, и предложили начать жизнь нормального советского гражданина, а иначе… Впрочем, это было заявлено многим «отказникам» и особого впечатления на них не производило.
Стиснув друга в прощальном объятии, Фима почувствовал отчаяние. Он не стеснялся слёз, хотя понимал, что выглядит жалким, потерянным, маленьким на фоне широко улыбающегося друга, чьи горячие, карие глаза сияли счастьем и самодовольством.
Конечно, это расставание немедленно дало себя знать стихотворением, названным «Другу, улетевшему в США».
Самолёт на Рим… Светлеет…
Сто семей и море слёз.
Ждёт Америка евреев,
Оплатив их перевоз.
Улыбаюсь по уставу,
Чтоб от горя не орать.
Ах, не мне досталось право
Будущее выбирать,
Мне достались только робость
Да солёный, мокрый рот,
Мне досталось — на автобус,
А ему — на самолёт.
Всё… Прощай… И деловито
Он целуется со мной…
Самолёт, росой умытый,
Взмыл, как шарик надувной,
Взмыл от грёз, тоски, ОВИРа,
Лёг на курс и с глаз долой.
…Безнадежность конвоиром
Неотступным шла за мной…
…Фима, Володя и Мишаня сладкие годы детства провели в подмосковном посёлке Лосиноостровская. Они дружили, любили друг друга, но жизненные пути их, по мере приближения к зрелому возрасту, расходились всё больше и больше, хотя и встречались, и выпивали. Если Фима рос средних способностей, но правильно ориентированным юношей с чётким планом «учиться, учиться и учиться», с последующим поступлением в какой-нибудь институт, куда принимают евреев, то Володя, как самый умный и способный среди них, осуществлял и Фимин план и одновременно занимался тёмными делишками, как-то: куплей дефицита с последующей перепродажей его, занятием очередей за дефицитом с последующей продажей этих очередей и так далее. Что же касается Мишани, то и его деятельность длительное время заключалась в проворачивании дел, совершенно несовместимыми с «кодексом чести строителя коммунизма».
В 1966—1967 годах все трое в течение двух летних месяцев работали (конечно же, Володя нашёл эту фантастическую работу) «доставщиками», если хотите — разносчиками железнодорожных билетов гражданам Москвы, заказавшими эти билеты по телефону. А советский человек был устроен так: если он что-нибудь заказал, и заказ исполнялся (называлось это в СССР — «сервис»), то он так балдел, так не верил происходящему, что тут же давал исполнителю заказа чаевые. Но вот, сколько давал — во многом зависело от «доставщика». У Фимы был такой метод: приходил небритым (оттого выглядел не на свои 22, а на целых 25), рубашечка — летняя (в СССР «тенниской» называлась), обязательно с короткими, широченными рукавами, чтоб ручки в ней выглядели как можно более тоненькими (в зеркале жалость к собственным ручкам до слез его доводила), ботинки — стоптанные, и всегда наготове рассказ о двух крошечных детях, болезненной жене и старушке маме. Давали ему обычно от пятидесяти копеек до трёх рублей, так что при разноске сорока билетов в день (норма), до 60-ти рублей набиралось, при заработной плате инженера в те годы — 90 рублей в месяц. Через два года этой летней работы Фима с мамой купили кооперативную квартиру в девятиэтажном доме. Правда, на первом этаже…
Володя же приходил к клиентам всегда подтянутым, выбритым, вежливым, гордым. И такой у него был взгляд, что у бедных заказчиков руки от сдачи, как от раскаленной сковородки, отскакивали. А сдача — о-го-го какой иногда бывала! И поэтому Володя раза в два больше Фимы приносил. И учил:
— Помни, старик, нищим — подают, а богатым — дают.
Или:
— Не входи в дом просителем, а входи давателем. Тогда и тебе дадут.
Внял Фима его совету однажды. Оделся, выбрился, и первый же клиент сказал ему:
— Как хорошо, что билеты стали приносить нормальные люди, а не попрошайки.
До копейки забрал сдачу, проводил до дверей, сказал «спасибо», пожал руку и выразил желание видеть Фиму в этой должности и на следующий год. Скотина…
И Фима понял, что нельзя вылезать из своей, Богом данной шкуры…
Шли годы… Мишаня, окончив музыкальное училище, уехал работать на Север, вернулся помятым, задумчивым. После отъезда Володи жил тихо, зарабатывал деньги, скорее всего, трудами неправедными, но Бог берёг его. Именно в это время он сблизился с Фимой. Виделись они не часто, но Мишаня обожал посещать Фиму на предмет потрепаться. «Отказ» в выезде, борьба «отказников» за выезд, отъезд Володи — волновали Мишаню необыкновенно. Он и сам стал подумывать об отъезде. Конечно, в Америку, к Володе.
И всё ближе становился к Богу. Даже лицо его менялось. Светлее стали глаза. Мягче речь. Спокойней жесты. Он открыл для себя Библию. Открыл «Новый завет». Он открыл для себя Иисуса Христа. Многое испытал на этом свете Мишаня, и Вера стала его последней станцией на жизненном пути.
Визиты его к Фиме происходили так: он раскрывал свой объёмистый портфель, и выплывали оттуда колбасы и дефицитные консервы, и невиданные в магазинах конфеты и вина. Фима с удовольствием принимал Мишанины дары, отдавая себе ясный отчёт, какими методами они были добыты. Но противен себе не был. Однако ж, по долгу дружбы, постоянно и лицемерно просил Мишаню прекратить его тёмные делишки.
И когда Геула засыпала, Тина устраивала маленькое пиршество, и они говорили, говорили, говорили… О советской власти, о Боге, об Израиле, о Библии, об Иисусе Христе, об отъезде, о Володе. Странно было наблюдать, как всё красивее становилось Мишкино лицо, как усложнялась его речь, как зрели его планы уехать. У него появился наставник, — молодой человек, искренне верующий христианин, еврей, видимо, человек умный, страстный, упорный, — и Мишаня под его влиянием стал меняться буквально на глазах. Он долго и хорошо говорил о Вере, в волнении ждал духовной встречи с самим Иисусом Христом (не иначе!), он медленно становился не вообще верующим, а верующим в то, что Христос найдёт лично его, войдёт в него, изменит его жизнь… Он глубоко верил, что может существовать индивидуальная связь человека с Христом. Страстная, отчаянная натура, он ничего не делал наполовину; он поверил и навсегда стал другим человеком. И однажды, придя с роскошной бутылкой коньяка и коробкой импортных конфет, впившись в Фиму своими яркими, голубыми глазами, он произнёс:
— Ты скоро уедешь. Мы с Сашей молились за тебя. И Иисус нам ответил…
Это было ровно за год до получения Фимой разрешения.
А в марте 1988 года Мишаня, став законным членом еврейской семьи, — фиктивно женился на родной сестре Володиной жены, — получил разрешение на выезд и укатил к Володе в Америку. Судьба русского человека, всю жизнь окружённого евреями… В Америке Мишаня с фиктивной женой развёлся и умудрился вызвать к себе свою давнюю подругу, милую русскую женщину, ставшую его законной американской женой.
— 22 —
Но мебель для Фимы Мишаня добыть успел. Связи его были неисчерпаемы. И огромный, с невероятным количеством ненужных в нём предметов, отделанный под дуб, мебельный гарнитур румынского производства прямо из магазина поехал на таможню, где полным ходом загонялась в деревянные, на месте сколачиваемые ящики немалая домашняя утварь маленькой Фиминой семьи. Успел купить Фима и вишнёвого цвета отечественное пианино. Когда в магазине, выбирая пианино, Фима осторожно откинул крышку клавиатуры, то на обратной стороне её сверкнули золотом гордые слова: «Красная заря». И Фима, с видом знатока перебрав несколько клавишей, тотчас услышал могучие звуки Бетховенской «Аппассионаты». Ему не оставалось ничего другого, как побрести к кассе.
Дел, которых надо было переделать за три недели до вылета, было столько, что Фима едва успевал поесть, не говоря уж об выпить. Тина мало чем могла помочь, ибо, перепуганная каждодневными визитами разных дядей, то с грохотом приносящих что-то, то с грохотом что-то уносящих, Геула не сходила с её рук.
Но самым страшным испытанием для Фимы стали ночи — на него обрушивались сны. И не какие-то, требующие потом разгадки, обращений к сонникам, нет — это были реальные, не выдуманные сны о событиях, которые действительно случались в его жизни, но будто развороченных, вспоротых ножом. Сны, как врагом написанные, издевательские страницы его жизни. Страницы, небрежно перелистываемые перед ним демоном сновидений. Скомканный эпилог жизни в СССР… Так, например, омерзительный сон о том, как Валерий Николаевич яростно тыкает его лицом в липкую Христову плащаницу и кричит: «Как ты посмел написать о ней?» Или Липкин, топающий на него ногами, кричащий: «Не смейте прикасаться к стихам! Не позорьте русскую поэзию!» Или Сенька, вопящий: «Не езжай в Израиль! Сдохнешь от ностальгии!» Или Володя, отсчитывающий ему доллары и бубнящий: «Только в Америку! Только в Америку!
Эти сны страшно мучили Фиму, он часто просыпался среди ночи. Боясь разбудить Тину, аккуратно, не дыша, перелезал через неё на их двуспальной кровати, а когда и кровать уехала на таможню — слезал с топчана, с которого, слава Богу, можно было слезть по другую сторону от спящей жены, и на цыпочках пробирался на кухню, жадно пил воду…
Ужасен был холод в ногах, который никак нельзя было одолеть. Не помогали никакие шерстяные носки, наоборот — ступни ног оказывались, будто в холодильнике. Отчаявшись, Фима вытягивался, складывал руки на груди и ждал, когда холод поднимется выше, захватит грудь, голову и… конец. Но предполагаемая смерть не поднималась выше колен… Тине он не рассказывал — на ней и так лица не было.
По утрам Фима готов был смеяться над своими сновидениями и делал всё, что нужно, и делал толково. Но с приближением ночи… Позвонил Эдику. Тот немедленно отозвался и через своего знакомого, жившего недалеко от Фимы, прислал таблетки. Стало легче… Тина делала вид, что ничего не замечает.
А потом пришёл тот страшный день, когда на таможне наступила очередь отправки последних частей мебели, книг и собранных за четверть века коллекционирования шестнадцати альбомов, шестнадцати бесценных, толстых, любимых альбомов, в которых покоилось более трёх тысяч открыток — репродукций картин великих живописцев; альбомов, в которые он заглядывал почти каждый день, смакуя, наслаждаясь, вспоминая, не давая никому дотронуться до них без тщательного омовения рук с мылом. И как он же бывал счастлив, когда вошедшая в его жизнь Тина, бережно и с великим интересом (а притворяться она совершенно не умела) просматривала альбомы, спрашивая о той или иной открытке, об истории её нахождения в альбоме…
До прихода грузчиков к нему подошёл таможенный офицер, узкоглазый, с мясистым лицом, похожий на откормленного казаха. Равнодушно прошёлся взглядом по книгам, подошёл к аккуратно увязанным двум пачкам с альбомами. Сердце Фимы застучало так, что он даже прикрыл левую часть груди ладонью.
— А это что?
— Да альбомы с открытками.
— А покажите, пожалуйста!
Фима дрожащими руками развязал одну из пачек и сунул ему в руки альбом с русскими «передвижниками».
— Ух, ты! И долго собирал?
— Лет двадцать пять…
— Да… А ты, мил человек, не задумывался, что открыточки твои нашим русским достоянием являются?
— Да какое же это достояние, если любую открытку можно в магазине купить?
— Любую, говоришь? А вот эта, толстая, небось, дореволюционная?
Он вытащил из страницы альбома старую, издания 1914 года репродукцию с картины Венецианова «Алёнушка».
— Может, она единственная в СССР, а? Ишь ты, сколько старинных-то открыток! — задумчиво продолжал он, перебирая листы альбома.
Внимательно посмотрел на Фиму. Долгим, спокойным взглядом. Чего-то не дождался и вздохнул:
— Ты мне на каждую старинную открыточку из Ленинской библиотеки справочку принеси, тогда и провезёшь! Точка! А в толстую-то открыточку и стодолларовую купюру вклеить можно, не находишь? Голь на выдумки хитра!
— Да какая ж я голь, — устало ответил Фима. — Вон, мебели сколько…
— Голь, точно тебе говорю, голь, да ещё и перекатная!
У Фимы закружилась голова, от ненависти и бессилия выступили слёзы, а в ушах раздался рёв израильского «Фантома» и свист несущейся вниз беспощадной бомбы…
…Надо было бы, конечно, пойти в «Ленинку», но нашлась «добрая душа», энергичный, хамоватый приятель Юра, который сказал Фиме:
— Фима, ты где рос?! Где твои мозги?! Ты не догадался дать ему на лапу?! Он же протянул тебе руку! Моё уважение к тебе понизилось на целый балл в десятибалльной шкале. Фима, не трать силы на «Ленинку»! Там надо было занять очередь год тому назад. Оставь мне эти альбомы. Я через полгода приеду в Израиль, и, уж поверь мне, вывезу их все до единого. Расплатишься со мной долларами.
Повернулся к Тине, державшей на руках только что закончившую реветь Геулу, и галантно произнёс:
— Тиночка, но мои чувства к тебе совершенно не зависят от моего чувства к твоему никчемному мужу!
Чмокнул Тину, Геулу, ловко схватил обе пачки с альбомами и исчез…
Всё, что успел сделать Фима — вытащить из альбомов семь самых дорогих ему открыток, каждая из которых была его романом, его историей, его любовью… Уж их-то он вывезет…
Фима смотрел на захлопнувшуюся дверь, и ему казалось, что на лестничной клетке его родные альбомы рвутся к нему из пачек, раскрываются, выгибаются, лопаются, рассыпая открытки, ломая их… И стонут, стонут… Он даже открыл дверь, но на тёмной лестничной клетке стояла обычная тишина. Всё, что он услышал — затихающее пыхтение мотора старого Юриного «Жигулёнка».
— И на сколько баллов в десятибалльной шкале уменьшилось твоё уважение ко мне? — устало спросил жену Фима.
— Ни на сколько! — ответствовала Тина, передавая ему дочь и целуя его поникшую физиономию. — Я знала, за кого выхожу замуж. И ты, конечно, помнишь, что сегодня твоя очередь укладывать её.
— Знаешь, — говорил Фима, отправляясь с Геулой в её комнату, — я даже не знаю, с какого жеста начинается взятка…
Геула, против обыкновения, уснула быстро. Тина возилась на кухне, перебирая, что из посуды брать с собой, что не брать — следующий день был последним днём на таможне. В квартире оставались Геулина постель, старый трёхстворчатый шкаф, в котором разместились четыре чемодана с наклейками «взять с собой», два уже упомянутых низких, неудобных, подаренных друзьями, топчана, принайтованных друг к другу болтами, дабы не нарушать близости с женой, круглый, многократно чиненный Фимой обеденный стол и три качающихся стула…
До вылета самолёта оставалось два дня…
И тоска навалилась на Фимино сердце… И вся ночь была посвящена его любимым открыткам…
Он лежал с открытыми глазами, слышал ровное дыхание жены, и плыли перед ним семь его любимых открыток и шлейфом тянулись за ними воспоминания, ибо каждая из этих открыток была рассказом, то грустным, то весёлым о том, как она попала в заботливые Фимины руки. Семь открыток, которых он прозвал «приключенческими», семь непридуманных историй…
…Творение великого флорентинца Джотто — знаменитая «Мадонна Оньисанти»…
Мадонна «Оньисанти» («оньисанти» в переводе с итальянского означает «все святые») — гордость галереи Уффици. В этой удивительной картине дева Мария не суть одухотворённость, а земная, крупная женщина, со спокойной силой, исходящей от её фигуры, облачённая в простые одежды, со светлым и открытым лицом, с чуть заметной, осторожной улыбкой, позволяющей при внимательном взгляде увидеть даже белизну зубов.
Это из-за «Мадонны Оньисанты» Фима грубо, беспардонно нарушил главное правило коллекционирования художественных открыток, заключавшееся в том, что открытка обязательно должна иметь на тыльной стороне очерченные типографией места для марки, адреса и письма. А он, долго искавший и, наконец, отчаявшийся найти мадонну, вырезал репродукцию её из старой книжки по искусству, подогнал под стандартный размер и наклеил на обратную сторону обычную почтовую открытку, тыльной стороной наружу, выдав самому себе этот «бутерброд» за художественную открытку. У него не было тогда ни одного Джотто! Каждый раз, перелистывая свой альбом со «старыми» итальянцами, Фима стыдливо посматривал на «Мадонну». Дальше — хуже. Странная, диковатая сложилась ситуация. Он стал бояться рассматривать своё творение. Было ощущение, что кто-то стоит за спиной и уличает его. Он стал оглядываться. Он возненавидел «Мадонну». Точно, как у Евгения Шварца в его «Тени», когда Юлия рассказывает учёному, как она возненавидела своего возлюбленного за то, что её поцелуи приходились ему только в затылок, ибо едва лишь она начинала целовать, он оборачивался посмотреть, не появилась ли его злобная, ревнивая жена. Да и сама Мадонна стала поглядывать на Фиму с плохо скрываемым презрением.
Впрочем, Фима был скоро наказан не только морально: тонкий книжный лист захирел от клея, и строгий, задумчивый лик мадонны скукожился, потом вообще перестал быть ликом, слившись с общим фоном картины, в свою очередь, изменившим свой цвет с золотого на блекло-жёлтый. И он разорвал подделку, почувствовав при этом радостное освобождение. Такая вот штука коллекционирование: укради, убей, продай родину за открытку — ничто не возбраняется, даже приветствуется, — но только не профанация, только не подмена. Коллекционер может продать душу дьяволу, но никакой дьявол не заставит его поменять самую плохонькую открытку на самую роскошную репродукцию, тыльная сторона которой не будет размечена славными знаками почтового ведомства… И немедленной наградой за поступок, стала покупка репродукции «Мадонны», правда, обычного, скверного советского качества, в простом книжном магазине за простые 30 копеек. И уплыла Мадонна в небытие, и вместо неё перед взором взволнованного Фимы появилась «Благовещение» Симоне Мартини, художника, жившего и творившего в 13—14 веках, и осмелившегося изобразить деву Марию в момент получения «благой вести» от архангела Гавриила о предстоящем ей непорочном зачатии Иисуса Христа не благостной, не восторженной, не задыхающейся от счастья, а перепуганной, в ужасе отшатнувшейся от архангела, будто в одно страшное мгновение довелось ей увидеть то, что предстоит пережить ей и её сыну. Какое страдальческое лицо у Марии! Какая потрясающе нежная шея! С каким естественным изяществом подбирает она рукой свой плащ, словно защищаясь от охватившего ее смятения. Потрясающее, ни на что не похожее Благовещение! Как велико было мужество художника, жившего и творившего в 13—14 веках, и осмелившегося изобразить деву Марию в момент получения «благой вести» от архангела Гавриила о предстоящем ей непорочном зачатии Иисуса Христа не благостной, не восторженной, не задыхающейся от счастья, а перепуганной, в ужасе отшатнувшейся от архангела, будто в одно страшное мгновение довелось ей увидеть то, что предстоит пережить ей и её сыну. Какое страдальческое лицо у Марии! Какая потрясающе нежная шея! С каким естественным изяществом подбирает она рукой свой плащ, словно защищаясь от охватившего ее смятения.
И во всех подробностях всплыла перед Фимой история приобретения репродукции «Благовещения». Не было её в магазинах. Даже в любимом букинистическом, что находился в здании «Метрополя», напротив Большого театра. И ни у кого из друзей коллекционеров не было её. Но коллекция Фимы не имела смысла без представителя сиенской школы Симоне Мартини. Что это вообще за коллекция без величайшего художника четырнадцатого века?! И он решился на звонок к «самому». «Сам» — это был Игорь Евгеньевич, пожилой еврей, который мог достать все в мире репродукции. Условие было только одно — репродукция должна была существовать. Связи его были фантастичны, при том, что он никогда не выезжал за границу и не был резидентом западной разведки. Он даже не был коллекционером. Он был великим собирателем «обменного фонда». У него могло быть пять одинаковых, но дефицитнейших открыток. И он мог за хорошую мзду расстаться с единственной открыткой. Мзда, которую он брал за услуги, была невероятно разнообразной — от билетов на футбольный матч «Динамо» — «Спартак» до железнодорожных билетов в Сочи в разгар курортного сезона. Нет, не подумайте — билеты он оплачивал. Но его никогда не интересовало, во сколько вам обошлась добыча их. Он был безжалостен, как кобра, и пуглив, как кролик. Добраться до его скромной квартиры на Ленинском проспекте, где он проживал с огромной собакой и неприветливой супругой, можно было только через длинную цепочку рекомендаций. И лишь развитому сионизму был обязан Фима знакомству с этим удивительным человеком. Дело было так: однажды в субботу, находясь, как обычно, около Центральной Московской синагоги, он, совершенно случайно, познакомился с молодым евреем, которому уже год с лишним не приходил вызов из Израиля. «Матёрый» отказник Фима немедленно вызвался помочь (и помог-таки!), и в процессе знакомства выяснилось, что у еврея есть дядя, Игорь Евгеньевич, который…
Первая же встреча с дядей обошлась Фиме в страшно тогда дефицитную книгу Кузнецова «Бабий Яр» за всего лишь три, не слишком дефицитных открытки: Эль Греко, Рембрандта и Айвазовского. Дядя был умён, деловит и не сентиментален. «Ничего себе!» — сказал себе Фима после сделки и решил с дядей больше не встречаться. Но жизнь без «Благовещения» Симоне Мартини оказалась невыносимой. И он, по прошествии почти года, решился. Короткий разговор по телефону. Долгожданный ответ — «могу помочь», и вот наш герой в знакомой квартире.
— Зачем тебе Симоне Мартини?
— Хочется.
— Но зачем он тебе в Израиле?
— Не знаю…
— Коллекционирование — это удел несвободных людей. Одна из попыток спрятаться от нашей действительности, от этой власти. Свободный человек тратит время на путешествия, творчество, на служение отечеству.
— Я попробую совместить.
Игорь Евгеньевич вздохнул, полез в ящик стола, достал заранее приготовленную, изумительную репродукцию «Благовещения» и протянул Фиме.
— Что взамен? — хрипло спросил Фима.
— Ни-че-го! — отчеканил Игорь Евгеньевич. — В знак благодарности за то, что выбираешься из-под сучьей власти, тем самым внося лепту в разрушение её. И дай тебе Бог счастья. А мой племяша укатывает в Штаты… Засранец…
Незачем, конечно, говорить о слезах, немедленно выступивших на глазах Фимы.
…И уплыла любимая «Благовещение». И вместо неё появилась роскошная картина Россо Фьорентино (буквальный перевод — «Рыжий из Флоренции») «Моисей, спасающий дочерей Иофора».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.