
Бесплатный фрагмент - Философия современности и межвременья
Издание 3-е, исправленное и дополненное
Книга представляет собою взаимосвязанную систему очерков, посвященную разработке философской основы анализа переживаемой современности. Ставятся вопросы о возможности разработки гуманитарной теории, о ее отличии от естественнонаучной, о ее методологии и онтологии современности. Вводится идея социокультурной парадигмы и ментального портрета, как единой программы социогуманитарных наук, белее пригодной для них, чем математика. Обосновывается переход к неомодерну, как перспектива общественного развития.
Книга адресована всем, кого интересуют проблемы современного мира.
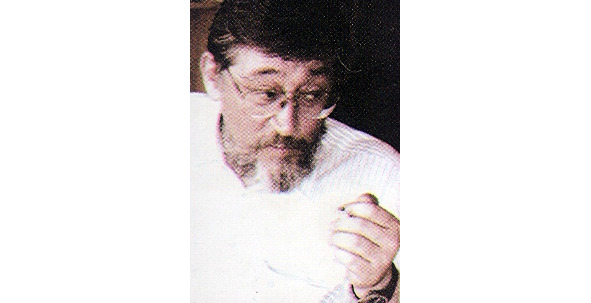
Предисловие
Книга д. филос. н., профессора А. В. Павлова написана безупречным русским языком. В ней есть образные пояснения, мягкий юмор. Однако это отнюдь не научно-популярное сочинение. Это серьезное исследование, которое требует не столько чтения, сколько изучения и анализа. Неспешные, весьма тонкие рассуждения автора о социокультурном субъекте, современности и межвременье изложены в свойственной ученым беспристрастной манере с использованием общепринятой сегодня научной терминологии. Эмоции и оценки ограничиваются только горько-саркастическими замечаниями автора по поводу российского прошлого и настоящего да редкими вздохами по несбывшейся демократической мечте об обществе свободных индивидуальностей. Мечте, которая (заметим) так созвучна К. Марксу и Ф. Энгельсу: «Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».
На мой взгляд, философия А. Павлова — это экзистенциалистский постпозитивизм. Два крыла западноевропейской философии (экзистенциализм и позитивизм), которые, будучи «заклятыми друзьями», на протяжении полутора столетий определяли ее характер и содержание, нашли в философии А. Павлова общий постмодернистский язык с присущими ему понятиями и метафорами. И это не какой-то «мокрый огонь зеленого вкуса», как можно предположить в первый момент. Это синтез достаточно органичен. Он стал возможным, потому что для экзистенциализма и позитивизма общим является утверждение автономности индивида как субъекта. С той лишь разницей, что в экзистенциализме индивид есть субъект онтологический, который из переживаний своего существования творит свое бытие и свою сущность, а в позитивизме индивид — это субъект познающий, гносеологический. Напомню, что позитивизм вырос из кантовского учения об активности познающего субъекта: «Задача науки, — писал И. Кант, — состоит не в том, чтобы познавать законы природы, а в том, чтобы предписывать ей их».
Хосе Ортега-и-Гасет в статье, написанной по случаю 200-летия И. Канта, писал, что вся его философия выросла из одного семени — страха перед ошибкой. А может быть, страха перед бытием вообще. Отсюда — знаменитый кантовский агностицизм (есть и такая трактовка). Перефразируя испанского философа, можно сказать, что вся постклассическая философия выросла из страха перед утратой индивидом своей неповторимости и свободы творчества.
Именно этот страх свойственен большинству философов, на которых чаще всего ссылается автор. Вот их имена: Бадью, Барт, Бодрияр, Бубер, М. Вебер, Витгенштейн, Гадамер, Гваттари, Гуссерль, Делез, Деррида, Камю, Т. Кун, Кьеркегор, Леви-Строс, Лиотар, Ницше, Сартр, Тоффлер, Фуко, Хабермас, Хайдеггер, Хантингтон, Шопенгауэр, Шпенглер, Щюц, Элиас, Ясперс. Как мы видим, все они — представители неклассической философии, а лидерами по частоте цитирования в книге –Делёз и Сартр. Формально позитивисты автором почти не упоминаются, но его подход к социально-исторической реальности, при котором — в полном соответствии с позитивизмом Огюста Конта — отвергаются (как антинаучные) метафизический и религиозный, а тем более мистический подходы, говорит сам за себя. Исключение составляет лишь метафизическое в своей сущности полагание бытия человеческого Я.
Разумеется, цитируются и представители классической философии. В первую очередь И. Кант. Значительно реже упоминаются Маркс с Энгельсом и Гегель. А вот Фалес, Гераклит, Платон, Аристотель, Аквинат, Декарт, Спиноза, Лейбниц — один-два раза. Из русских философов-классицистов — только В. С. Соловьев (один раз, да и то в полемическом ключе). Таким образом, даже по внешним признакам методология автора основана на западноевропейском (преимущественно французском) экзистенциализме и постмодернизме ХХ столетия. Самая характерная их черта — субъективный идеализм, когда всё и вся выводится из субъекта, а всякая детерминация (онтологическая и гносеологическая) низводится к простой привычке, как это делал еще Д. Юм, история — к мифу, а традиция, право и власть — к насилию над свободной индивидуальностью.
Проблема как марксизма, так и неклассической западноевропейской философии– при всем их эвристическом потенциале — состоит в нигилизме, неприятии и отторжении этими философами современного им состояния общества (вплоть до разрушения всего и вся), в неспособности любить своё отечество и свою историю. Это свобода без истины, поскольку без любви к предмету познания познать его в его истине довольно проблематично, а может быть, и невозможно. Я отнюдь не призываю автора к официозному, квасному или слезливо-сентиментальному патриотизму. Любовь к отечеству критике не помеха. Один из самых беспощадных критиков российских порядков и нравов, генерал-губернатор Н. Е. Салтыков-Щедрин говорил: «Я люблю Россию до боли сердечной». Просто свобода вообще и критики, в частности, может базироваться только на том, чтобы принимать мир таким, каков он есть, точнее, таким, каким он стал в результате своей истории. Вне и без этого свобода теряет всякий смысл и ценность, оставаясь лишь мучительной мечтой. Более того, она превращается в рабство.
Марксизм и западноевропейскую философию ХХ века объединяет пафос утверждения свободы индивида с той лишь разницей, что в марксизме эту свободу еще надо завоевать, а в философии ХХ столетия важно её не утратить. Когда Н. Бердяев утверждал, что русский коммунизм — явление более русское, чем принято считать, наверное, он имел в виду и «бунташный характер» как русского народа, так и марксизма.
Но обратимся непосредственно к тексту. Конечно, неблагодарное это дело — пересказывать содержание не своей книги. Автор, наверняка, ужаснется, увидев свой текст в кривом зеркале рецензента, ведь даже буквальная цитата вне контекста нередко обретает какой-то иной, совсем не предполагаемый автором смысл, а краткий пересказ неизбежно связан с упрощением авторской мысли. Поэтому я буду говорить только о тех положениях концепции и отдельных суждениях А. Павлова, которые лично мне представляются, хотя и не бесспорными, но достаточно интересными и познавательными, по возможности оставив за рамками рецензии наши с автором принципиальные разногласия в оценках прошлого и настоящего, природы и сущности диктатуры и демократии, специфики России и Запада.
Говоря об актуальности своего исследования, А. Павлов отмечает: «…даже на Западе современность понимается сейчас скорее социологически: и З. Бауман, и А. Бек, и Э. Гидденс, концептами которых сегодня преимущественно оперируют, — они все социологи. У. Эко, рассуждая о баумановском взгляде на современность, замечает, что З. Баумана не слышат <…> У. Эко не прав, Баумана слышат, однако его взгляд узко специализирован. Из такого взгляда легко можно вывести философию политики, коммуникации или искусственного интеллекта, но он не позволяет построить адекватную современности новую философскую парадигму общественной жизни людей».
«У нас же, к большому сожалению, — пишет далее автор, — философия современности почти не существует. В основном наша сегодняшняя картина мира по-прежнему восходит к XIX веку, то есть, к проблематике и рационализму более чем вековой давности, заявляя его как свою методологию, и лишь после распада СССР в ней замечается едва различимое присутствие XX века». И наконец: «Тотальная, «перманентная» современность — это новая предметная область для российской философии, да, пожалуй, и мировой тоже, которая призвана стать «ментальным портретом современного человека».
Как мы видим, это не просто констатация сложившейся ситуации, а серьезная заявка автора на новую парадигму, как минимум, на целое направление в социальной философии — философию современности и межвременья.
По мнению автора, социальные науки изучают общество, его историю и современное состояние так, как будто не было и нет людей, точнее, живых, относительно автономных в своем существовании индивидуальностей. Собственно, эта проблема и определяет пафос, цель и предмет исследования А. Павлова: показать как бы на молекулярно-атомарном уровне всякого социума (не важно американского или китайского, античного или средневекового), каким образом индивиды обусловливает современность, каждое мгновение превращающуюся в историю-миф, почему, когда и как индивиды своим бытием и своей деятельностью (или бездействием) рождают состояние и ощущение межвременье, какие проблемы и возможности для индивидуальностей открывают межцивилизационные эпохи.
Уже во введении А. Павлов четко формулирует основную идею работы.
В области гуманитарной науки, пишет он, для определения предмета необходимо вводить точку отсчета, позволяющую обозначить, кто именно этот предмет определяет. От этого и будет зависеть, что мы считаем современностью. А эта точка отсчета, считает автор, может быть только субъективной. Современным оказывается то, что мы находим в самих себе, в качестве нашего внутреннего опыта. Именно субъект как практикующий наблюдатель не просто создает картины мира, он их практически и предметно воплощает в коммуникации и институты, стабилизирующие общественную жизнь и придающие ей форму цивилизации.
С этой точки зрения (точки отсчета), современность — «явление более емкое и глубокое, чем повседневность, оно включает в себя историю, правда, не как свою объективную предопределенность, а как миф о прошлом, историческую память, сумму предпосылок и как креативное отношение к будущему, проективное видение». Тогда как межвременье — внутренний потенциал современности. Суть межвременья скрыта в современности. Современность всегда, даже в годы прочных и процветающих империй содержит в себе межцивилизационный потенциал. Межвременье — это современность, неудовлетворенная своим состоянием и преодолевающая саму себя, характеризующаяся деградацией базовых ценностей и их делегитимацией. Межвременье — эпоха перемен, стадия, какая опосредует два социальных порядка, сменяющих друг друга. Межвременье — это процесс формирования нового порядка общественной жизни, являющийся экзистенциальной проблемой каждого человека.
Первый очерк посвящен предварительным рассуждениям автора. В них заявлено о его приверженности позиции, базирующейся на признании личности главной ценностью (демократической), и неприятии другой позиции («самодержавной»), согласно которой, главная ценность — социум. Замечу, однако, что автор и сам (пусть косвенно) указывает на объективную конкретно-историческую обусловленность выбора системы ценностей: «… демократия чревата охлократией и диктатурой, а диктатура демократией». Полагаю, что это, действительно, так без относительно к тому, о какой стране идет речь, России или США.
На мой взгляд, более продуктивна другая идея, или принцип, автора: конкретные человеческие субъекты создают общественную жизнь и общество как способ и форму своего существования. Поэтому общественную жизнь можно изучать лишь в аспекте современности, причем, понятой не как одновременность, а как контемпоральность (буквально со-врѐменность — А.Ч.), которую автор понимает как экзистенциальный диалог. В процессе его каждый индивид занимает в общественной жизни свое определенное место, порожденное множеством экспектаций (ожиданий и требований), как тех, что он адресует к окружению, так и тех, что адресованы ему. В результате индивид становится комплементарным (взаимодополняющим, созвучным, или вступающим в резонанс — А.Ч.) с другими индивидами в пространстве их совместной общественной жизни.
Второй очерк посвящен практике современности. Касаясь проблемы столкновения цивилизаций в эпоху глобализации, автор акцентирует внимание на том, что в этом конфликте происходит слом культурных кодов (вопрос только в том, кто и чей культурный код ломает и с какой целью, или злого умысла вовсе нет, а просто есть, как говорил главный герой сказки «Синяя борода»: «Извини, так вышло, дорогая»? — А.Ч.). Дальнейшее развитие цивилизаций больше зависит от субъектов, чем от внешних по отношению к ним исторических или географических факторов. Таким образом, конфликт цивилизаций происходит не столько в пространстве, сколько во времени. Собственно, слом культурных кодов и есть «веселое межвременье» как межцивилизационная эпоха, которая контрастирует с предшествующей ей эпохой, с чувством безнадежности, исторического тупика и скуки. Это время аномии, беспредела, безнормицы, этики цинизма.
Межцивилизационная эпоха проходит три стадии, связанные с ее носителями: сменяющими друг друга поколениями отцов, детей и внуков. Поколение отцов инициирует межвременье, переставая соблюдать нормы устаревшей и утратившей легитимность цивилизации. Поколение детей морально делегитимирует цивилизацию, они — носители экзистенциальной революции. Это поколение игры и гламура. Поколение внуков (что-то мне подсказывает, что это дети других, совсем не «гламурных» детей — А.Ч.) стоит перед проблемой выживания, вызванной институциональным произволом, рывковой сменой курсов, отсутствием долгосрочных и устойчивых программ и планов созидания, абсурдными и циничными реформами социальной сферы, образования, здравоохранения, мелкого и среднего предпринимательства, амбициозными и неоправданными космическими, военными, спортивными программами. По мнению автора, поколение нынешних российских внуков ищет выход, обратив свой взор в сторону демократического Запада. (Может быть, это и так. Вопрос лишь в том, возможно, да и нужно ли нашу российскую действительность переделывать на западный манер, а если нет, то кто и что их ждет там, на Западе? — А.Ч.)
Третий очерк посвящен философии современности. Эта философия базируется на метафизическом понимании человека как беспредпосылочном, свободном «Я». Соответственно, основной принцип философствования — антропоцентрический в противоположность социоцентрическому. Целое обусловлено так называемыми экспектациями — ожиданиями и требованиями каждого к каждому, как это мы видим в переполненном автобусе, где тоже есть и «общество», и навязанные коммуникации, и границы, обусловливающие необходимость сосуществования.
Цель автора — понять общество по-человечески, то есть найти в ситуации воплощение своего бытия, а в себе — возможность ситуации, редуцировать понимаемое к своему экзистенциальному опыту. По мнению автора, в межличностном, экзистенциальном диалоге в рамках устойчивого пространства складывается своеобразная полифокальная система отношений. Она может быть разной: и по типу свободного сообщества, и по типу криминального, где порядок организуется вокруг «сильной личности», а слабому достается роль «козла опущения».
Благодаря объективному механизму «интерсубъективности» — сети взаимно легитимных коммуникаций вместе с их ментальным содержанием — в обществе возникают уже не просто классы или абстрактные социумы, а ясно очерченные «социальные миры»: город, армия, правоохранительная система, спецслужбы, спортивные общества, система образования, церковь, предприятия, государственная бюрократия, политические партии и т. д. Социальный мир становится своеобразным «социальным организмом», превращенной формой общества в целом с учетом традиций, хотя они второстепенны сравнительно с индивидами и локальностью пространства. В основе же социальных миров находится необходимость индивидов сосуществовать с «Другими», сохраняя личную самобытность и по-прежнему идентифицируя себя как «Я».
В подтверждение своей философии современности, автор обращается, во-первых, к концепции Норберта Элиаса о фигуративной социальности, позволяющей рассмотреть цивилизацию как длительный исторический процесс, имеющий не только общественное, но и индивидуальное бытие, а именно как процесс взаимного резонирования индивидуально различных персонифицированных людей; во-вторых, к концепции Альфреда Щюца о мире повседневной жизни, где первостепенное значение имеют поступки и мотивация живых и действующих индивидов, а все остальное — производно от них. Причем пафос второй концепции автор усматривает в утверждении личной ответственности каждого, видимо, за судьбу общества и мира в целом.
Четвертый очерк — самый большой и, может быть, самый важный для автора. Его предмет — ни мало, ни много, онтология общественной жизни. В рамках этого предмета рассмотрены: 1) социокультурный субъект; 2) общественная жизнь человека; 3) комплементарность субъектов; 4) «Я и Другое» как постулаты познания и творчества современности; 5) ойкуменальность как принцип существования в современности; 6) ойкуменальность «Я» и «Другого». Попытаюсь обозначить основные идеи это очерка, так сказать, «по-пунктно».
1. Важнейшим условием появления и одновременно способом существования социокультурного субъекта является экзистенциальный диалог, который попросту невозможен без самобытности как «Я», так и «Другого». Именно такой субъект, исходя из своего субъективного представления о справедливости, в общении с другими субъектами, путем согласований и компромиссов вырабатывает нормы общественной жизни. При этом роль традиций, по мнению автора, незначительна. Реальный выбор для большинства означает интеграцию и комплементарность (взаимодополнимость, резонансность), когда компромисс достигается при условии сохранения личностного самобытия и способности войти в коммуникацию.
Социокультурный субъект возникает не только как область простых согласованностей между людьми, но и как социально допустимый идеальный тип человека эпохи, зачастую персонифицирующиеся в конкретных личностях или в художественных образах. Например, для европейского средневековья, это фигуры воина, святого, купца, аристократа (замечу, что автор не упомянул ключевые фигуры средневековья — феодалов, крестьян и ремесленников — А.Ч.), а для начала XXI века, это фигуры бандита, олигарха, чиновника, политика, шоумена, телезвезды (опять одни потребители и никого, кто создает материальные и духовные ценности; наверное, потому что они для автора не субъекты, а просто говорящая биомасса, потому что они не ведущие, а ведомые — А.Ч.). Такие идеальные типы являются посредниками в межличностных отношениях, необходимыми для человеческого взаимопонимания. Идеальный тип всегда идет рука об руку со столь же идеальным контртипом: друг с врагом, полицейский с воровским авторитетом и т. п.
Конфигуратором и основанием общественной жизни становится социокультурный субъект, который прямо или косвенно создает набор социально значимых жизненных ориентиров. Они и задают устойчивую сеть моральных и правовых отношений, воспроизводящуюся через их публичное поведение. Затем общественная жизнь наполняется поступками индивидов, находящихся в поиске комплементарности на основе оппозиционных ориентиров, не совпадающих с господствующими правом и моралью. Их действия ведут к смене элит и фанатов, к изменению смысла и формы морально-правовых отношений, способа жизни в целом, в том числе, и к трансформации социокультурного субъекта. Кроме того, в общественной жизни участвуют индивиды, по ряду причин находящиеся, как считает автор, вне комплементарности: заключенные, морально отверженные, добровольно или вынужденно выпавшие за пределы общественных требований: бомжи, бичи, преступники, андеграундные и маргинальные личности и т. д.
2. Общественная жизнь есть некая масса взаимодействующих индивидов, хаос, спонтанность, ризома. Обществом она становится в соответствии с нормами. Где нет норм, там есть толпа, закон которой — беспредел, безнормица, аномия, хотя, подчеркивает автор, не бывает ни абсолютного хаоса, ни абсолютного порядка.
Нормы общественной жизни задает социокультурный субъект, его сознание и межчеловеческое общение. С точки зрения субъективного идеализма (а именно её придерживается А. Павлов — А.Ч.), общественная жизнь людей замешана на трех позициях: 1) желании властвовать и подавлять «Другого»; 2) подчиниться ему или 3) достичь с ним компромисса, придя либо к разграничению сфер существования, либо к сотрудничеству.
Власть победителя становится своеобразным генокодом, который воспроизводит образ жизни, способ мышления и общения, экономику, политику и весь уклад жизни, заданный его основателем, формирует политическую идеологию.
Наконец, в общественной жизни складываются две конкурирующие системы порядка: общественная и государственная. Каждый из этих порядков стремится стать тоталитарным. Их противоборство способно породить как анархию или диктатуру, так и диалог между ними (иначе говоря, демократию — А.Ч.).
3. Как уже отмечалось, комплементарность субъектов возникает и живет в экзистенциальном диалоге, предполагающим самобытие его участников. Причем это даже не диалог, а полилог, в котором каждый участник (подобно лейбницевской монаде — А.Ч.) интегрирует и фокусирует в себе если не самобытие других участников, то по крайней мере их социальную личину. Каждый может лишь угадывать в другом его «Я». Такое взаимоприятие требует доверия. Экзистенциальный диалог — не состояние, а процесс, жизнь, когда Я-субъекты как бы прорастают друг в друга, создавая что-то вроде Делезовской ризомы.
Важнейшая характеристика современности — «область индивидуальной свободы» начинается как свобода понимания. Любая попытка ограничения этой свободы путем манипулирования коммуникациями, средствами права, организации, управления, контроля ведет либо к уничтожению индивидуальности, либо к социально-приемлемой конфигурации ее свободы. (Я бы определил это по-другому: первый вариант — это издержки контроля, а второй вариант — это цель и смысл такого контроля — А.Ч.)
Комплементарность предполагает свободу выбора (где, с кем и как), открытость Я-субъекта вовне, волю к принятию самобытности Другого, практическую трансформацию, при которой участники диалога превращались бы друг для друга в необходимые условия жизни и, наконец, обоюдную ответственность и обязательность.
4. Познание современности означает познание субъективности. И напротив, разум как индивидуальное бытие сознания доступен для исследований только в контексте современности. С этой точки зрения субъективность есть интерсубъективность, невозможная как без «Другого», так и без «Я». Само исследование субъективности оказывается реконструкцией сложного ментального портрета внутреннего мира человека как продукта взаимодействия «Я» и «Другого». «Я» — это субъективность, отличающая себя от объективности. При осознании предмета на первом месте стоит «Я», а в сознании предмета на передний план выходит уже не «Я», а его со-в-местность бытия с «Другим».
Сознание акцентирует или выводит на первое место в системе ценностей внешний мир, а осознание — самобытие личности. Таким образом, мы имеем дело с двумя конфигураторами. Первый организует внутренний мир как определенное внутриположенное пространство, становится его точкой отсчета и может обозначаться как «Я». Второй же конфигуратор оказывается самим миром в качестве жизненного мира «Я». Причем «Я» и «Другое» — это два фокуса одного жизненного мира, одной и той же данности с двух точек зрения, так сказать, «изнутри» и «снаружи».
Что же касается бессознательного, то это то же самое мышление, но только в аспекте его пассивности и адаптации. Познание бессознательного есть познание внешнего культурного и «за-культурного» мира как его источника.
Как способ организации, «чистое сознание» Э. Гуссерля становится «языковой игрой» Л. Витгенштейна. Отсюда — первая предметность сознания как нарратив, который выступает формой общественной жизни. Это воплощенный в индивидуальном сознании практический синтез общества с индивидом путем языковой коммуникации. Вторая же предметность — это опыт переживания «Я» как данности человека самому себе, придающей внешнему опыту «мой» смысл, самосознание и самобытие.
Сознание и рациональность становятся формами и способами социального мышления. В этом плане сознание и рациональность различаются по демографическим (половым и возрастным), бытовым и профессиональным признакам. В этом же ряду — сословно-групповое рациональное сознание (академическое, чиновно-бюрократическое, «бомжовое», партийно-идеологическое, пенитенциарное, армейское, уголовное, правоохранительное, орденское и др.), виртуальное сознание (сетевое, экранное, публичное и т.п.), этническое и национальное сознание (русских, евреев, армян, французов, и др.). Кроме того, существует институциональная рациональность — церковная, академическая, образовательная (школьная, университетская) и пр., а также поселенческий тип сознания (городской, сельский и т.д.).
5. Может быть, это самый ценный не только для автора, но и для читателя фрагмент всей книги (А.Ч.).
Постулировав «Я» и «Другое» мы тем самым постулируем их ограниченность, или ойкуменальность как принцип существования в современности.
Человек не осознает и не отдает себе полного отчета в том, кто он таков во всех возможных ситуациях своей жизни. Его самосознание обладает границами, зависящими от принятого типа рациональности. Он и сам живет, и пользуется предметами, мало что зная о них и о себе самом. Поэтому в европейской мысли то и дело на передний план выходит идея объективного, бессознательного и иррационального.
Поскольку современность ограничена достигнутым уровнем развития разума и типом рациональности, вопрос о происхождении человека теряет смысл. Проще говоря, конкретным людям, утверждает автор, безразличны метафизические причины их появления на свет (хотя это очень спорно: человек — существо любопытное — А.Ч.). Важно, что он уже есть и с этим надо что-то делать (Сартр). Человек для самого себя есть «Я», которое всякий раз локализовано «здесь и теперь». «Там и тогда» имеют экзистенциальное значение лишь как определяемые этим «здесь и теперь» цели, мечты, надежды, опасения и т. д.
В отличие от Ясперса, для которого пограничная ситуация является случайным открытием и шоком (например, смерть), для автора ойкуменальность не случай, и не простая гносеологическая неисчерпаемость, а бытие конкретного субъекта. Это необычайное, как важнейшая характеристика бытия человека.
Ойкуменальность вовлекает предметный мир в экзистенцию как свою внерациональную часть. Человек как «Я» сам выступает для себя пограничной ситуацией и придает такое же качество всей своей жизни. Поэтому ойкуменальность не чистая пограничность, не границы, а пространство как целое, рассмотренное через призму его границ. Осознание пограничности бытия субъекта требует рефлексии границы, того, что «Я» воспринимает как «горизонт» своей экзистенции. Рефлексия границы есть творчество культуры. Сама же культура становится рациональным проведением границы между «Я» и внешним миром, и вместе с тем разумным преодолением проведенной границы.
Культура есть культурное тело, пространство, занимаемое культурным организмом. Динамизм культуры обусловлен взаимодействием духовности и телесности. Человек как разумное существо творит культуру и окультуривается ею, приобретая свою национальную, гражданскую, профессиональную и всякую иную культурную определенность.
Культура, которая считается с человеческим «Я», должна быть трансцендентной. Трансцендентность культуры означает, что за любым ее проявлением предполагается внекультурная сторона. Культура неотрывна от внекультурья.
6. Локальность, ограниченность бытия «Я» и «Другого вынуждает рассматривать человека как существо онтологически противоречивое, в каждом отдельном своем поступке действующего не только на основе своего знания, но и на основе своего полного невежества. Это означает, что и мир, в котором человек живет, и сам человек в его внутреннем культурном наполнении всегда больше того, что он знает и понимает. Своими осознанными поступками мы лишь придаем себе и нашему миропредставлению определенные конкретные формы, содержание которых неизбежно пропитано нашим невежеством и глупостью.
Человеческая жизнь есть непрерывный выбор личностной определенности, стремление придать ей долговременную устойчивость. Но личность при этом становится похожей на капитана корабля, который ведет свое судно по неизвестному океану и не знает, что находится у него в трюме. И тогда каждое решение этого капитана влечет за собой множество последствий, часть из которых ему известна и ожидаема, а другая часть — неизвестна и неожиданна. И капитану, попавшему в такое сложное положение, остается только принимать меры, защищающие от любых последствий, даже от самых приятных, считая, что лучше уж синица в руках, чем журавль в небе. Думается, замечает автор, что религиозный культ и церковный институт возникает как защита от всех мыслимых и немыслимых последствий, как способ достижения определенности.
Однако ойкуменальность, — и как онтология, и как факт признания личностной ограниченности каждого человека и его культуры — проводит трансцендентную границу, замыкает его в своеобразном круге жизненного мира. Именно эта граница позволяет ему представлять себе Другого как другого, в его чуждости и непонятности и стремиться к защите от него как от возможной и неизбежной угрозы, и к его преодолению.
Человек и его Другой становятся взаимно непостижимой тайной и непреложной явью, открытостью и одновременно закрытостью. Опираясь на ойкуменальность каждого человеческого бытия, мы получаем возможность говорить о специфике культур и решать проблему их взаимоотношения.
Пятый очерк посвящен онтологии современности. Философия второй половины XX века показала, что эволюция — это не только поэтапное формирование, но и движение от порядка к хаосу, от хаоса к порядку и изменение типа порядка, его формы, структуры и т. п. Оба эти состояния — хаос и порядок — пронизывают и человеческую, и общественную жизнь, являясь двумя противоположными характеристиками, описывающими их реальную динамичность. Основу постоянной проблематичности человеческого рода, наряду с другими причинами, составляет непрерывный поиск баланса или допустимых пропорций между хаосом и порядком в современности.
Хаос может быть понят по-разному. Древнегреческое значение этого слова означает зияние, отсутствие формы. Сегодня доминирует представление о нем, как о беспорядке. На самом деле, наблюдение беспорядка не обязательно означает отсутствие порядка. Чаще — это нарушение порядка, вызванного, например, его изменением в соответствии с неизученными законами, или нераспознанность порядка, а иногда просто его непривычность.
Вопросы хаоса и порядка изучает синергетика. В гуманитарных науках это предстает как проблема возникновения общезначимого смысла при взаимодействии индивидуальных значений, как проблема свободы и творчества. Хаос в социальном и гуманитарном познании трактуется как пространство свободной активности индивидов и творческая среда. Порядок же понимается как детерминация спонтанно движущихся частиц со стороны их организации. Таким образом, хаос и порядок оказываются двумя взаимно обратными сторонами общественной жизни людей, непрерывно сопутствуют друг другу и предобусловливают постоянно воспроизводящуюся альтернативу общественного развития.
Если современность понимать содержательно (культурологически, социологически, экономически, политически), то в ней всегда соседствуют два типа рациональности. Один тип, «классицистский», другой — критический. Критическая рациональность — альтернативная, спорная, содержащая и перспективные, и тупиковые взгляды, новая по отношении к устоявшейся и традиционной «классике» (часто просто инфантильно безответственная, а то и мало вменяемая — А.Ч.).
Культуры европейского типа за два с половиной тысячелетия сменили несколько способов представлений о человеке и мире, и несколько связанных с этим представлением рациональностей. Их история выглядит как переход от надындивидуальной аксиоматики к индивидуальной, и к нарастающему обособлению человеческого индивида уже от культуры, то есть к такой позиции, где человек трактуется не как изначально социализованное существо и носитель заданных ему ценностей, а как создатель новых ценностей, могущих иметь общее значение.
Завершив своеобразный виток от интуитивно-космоцентристской аксиоматики Античности к интуитивно-культуроцентристской аксиоматике XX века, европейская рациональность и цивилизация входят в состояние кризиса, которое сегодня диагностируется с легкой руки Ж.-Ф. Лиотара как «состояние постмодерна».
Постмодерн неоднозначен. С одной стороны, он — система взглядов на современность с позиции культуры, где мыслящий индивид отождествляет себя с нею как с источником социального единства. Превратившись в жизненную практику множества индивидов, культура общественной жизни оказывается плюралистичной, «поликультурной».
Частная культура, персонифицируясь в живых людях, становится сферой их жизни, воспроизводящей их ценности, способ практики, тип субъективности и рациональности. Эти системы и воспроизводимые ими нормы институализируются и оказываются своеобразными субцивилизациями. Причем их субцивилизационный характер означает не столько их подчиненное положение, сколько наоборот, то, что именно они, субцивилизации, скрепленные собственными институтами сферы жизни, интегрируются в цивилизацию и становятся ее основами, «строительными блоками» (всё правильно, только что или кто их интегрирует? — А.Ч.).
Разновидностями субцивилизаций является политическое и хозяйственное руководство страны, армия, чиновно-бюрократический аппарат, полиция, церковь, школы и вузы и т. д. Образ жизни армейского офицера, школьного учителя, следователя, врача и чиновника очень отличаются друг от друга, различаются и типы их рациональности. Существование таких субцивилизационных сфер общественной жизни позволяет некоторые из них изолировать и помещать на периферию, превращать в своеобразные «загоны» и «инкубаторы» — воинские подразделения, тюрьмы, лагеря, психбольницы, интернаты.
Но с другой стороны, постмодерн оказывается человеческим противопоставлением себя культуре и цивилизации, открытием мнимости и иллюзорности собственного бытия в качестве нарративного, функционального человека. А значит, своеобразным «бунтом» против метанарратива, проявленном в осознании личностной самобытности и отдельности существования. Здесь понятия субцивилизации, сферы культуры, института и т. д. уже не правомерны. Уместнее говорить о кругах: криминальных, диссидентских, оппозиционных, революционных, андеграундных и прочих, сюда же относятся и сумасшедшие, рассмотренные М. Фуко, и представители нетрадиционных сексуальных ориентаций, и бомжи, и работники нетрадиционных профессий, и сектанты и т. д. Здесь на переднем плане не метанарратив культуры, а индивидуальное человеческое самобытие, выходящее за пределы господствующих ценностей, норм и стереотипов.
Упрощенно можно сказать, что состояние постмодерна обнаруживает два типа людей: тех, чье бытие — общественная культура, придающая им форму и наполняющая содержанием; и тех, чье бытие, содержание и форма принадлежит им самим. При этом различие между ними состоит в акцентах, которые человек расставляет в собственном мировоззрении: социальное для него важнее или самобытное (недобрый выбор: что важнее муравей или колония муравьев; а ведь важнее всех муравьиная матка — А.Ч.). Но тем важнее оказывается личный выбор, моральный акцент, принцип, которым мы руководствуемся. Человек постмодерна — это либо послушный власти обыватель, либо коварный оппозиционер, либо наивный бунтарь, либо игрок, либо стойкий оловянный солдатик со своими принципами.
Постмодернистское состояние представляет собою границы межцивилизационной эпохи, содержательно наполненной изменением типа рациональности и порядка, или, по выражению французского философа А. Бадью, поиском нового дискурса. Именно в этом социокультурном состоянии индивидуальный и социальный аспекты общественной жизни расходятся до предела, за которым уже начинается распад цивилизации и межцивилизационное состояние.
Вопрос о хаосе, порядке и их соотношении может быть поставлен не только исторически, но и с позиции современности. Иначе говоря, стадии исторического развития общества должны иметь продолжение в ориентирах внутренней жизни человека. При этом каждое человеческое поколение всегда является современным для самого себя, а жизненные ориентиры не только унаследованы от исторического прошлого, но и составляют горизонт будущего, сложный спектр скрытых в современности возможностей. И в этом смысле, у каждого поколения есть своя живая первобытность, своя античность, свое средневековье, возрождение и просвещение (и, наверное, свое перманентное межвременье? — А.Ч.), не зависимо от того, к какой исторической эпохе это поколение относится.
Тогда в исследовании на передний план должна выходить не связь и преемственность эпох, а их независимость друг от друга и их ориентация на реализацию всего спектра заложенных в эпохах возможностей. Отчасти этот подход разработан в творчестве М. Фуко, в его идее дисконтинуитета (от англ. discontinuity отсутствие непрерывности).
Шестой очерк посвящен социокультурной парадигме. Автор исходит из того, что философия, будучи гигантским упрощением явлений любой сложности, позволяет ориентироваться в реальности. Она всегда этически нацелена. Ее результат не теория предмета, а теория субъективной практики. Философия, это стратегическая для культуротворческой практики идея, представленная в форме рационально-теоретической концепции. Границы ее применимости начинаются только там, где природа уступает место свободе. Эта идея может быть сформулирована в одной строчке, а может быть развернута концептуально в целом философском трактате. Философская идея может быть превращена в общую практическую программу или в план в той мере, в какой она привлекательна для социальных групп и становится их стратегией. Правда, оговаривается автор, философская концепция доказывает правомерность идеи, но не правильность всего пути.
А далее автор констатирует: для существования реального общества нужна некая согласованность между людьми, которая предполагает диалог, установление коммуникаций и взаимную легитимность. Но она может основываться как на их одинаковости, так и на комплементарности. Согласованность в одинаковости означает доминирование институциональных коммуникаций. В этом случае мы находим самодержавие, т.е. власть как исключительно государственную функцию, опирающуюся на властвующую бюрократию и причастные к властной вертикали коррупционные слои, власть, стремящуюся контролировать все процессы общественной жизни. Согласованностью в комплементарности обнаруживается демократия как «естественное общество», где в результате эволюции устанавливается, пользуясь терминологией К. Леви-Стросса — «оптимум различий». Она не строится, а вырастает примерно так же, как большой лес, где сосуществует множество самых разных растений.
В противоборстве моря и плотины, плотина всегда проигрывает: внешнему давлению можно сопротивляться лишь до поры. Поэтому политика должна переориентироваться с автономного и агрессивного Я-субъекта, осваивающего мир исключительно в своих интересах, с тотального субъекта на комплементарного Я-субъекта, сохраняющего собственное достоинство и способность к самобытному существованию, но признающего такое же право и за соседями и общую взаимосвязь, в которой в пику модернистскому принципу bellum omnium contra omnes (войны всех против всех) доминирует принцип нужности и востребованности каждого для каждого.
Прошлое, как завершенный отрезок пути, навсегда осталось за спиной и обращение к нему лишено всякого смысла, считает автор. Теория входит в контекст исторического времени, тогда как практика всегда современна. В ней два полюса: тоталитаризм и крайние формы индивидуализма. Посредине же — демократия, то есть, разные степени комплементарности. Комплементарное общество становится похожим на океан с неизбежными волнами и резонансами (что-то вроде осциллограммы). Первым такой вопрос (конечно, безотносительно к России, больше о Франции 1968 г.) поставил Ж. Делез, сформулировав в своей «номадологии» проблему соотношения компарса и диспарса в пределах одного геополитического пространства города.
Идея комплементарности индивидуальных субъектов позволяет построить концепцию социокультурной парадигмы. Это — образ, но не литературно-художественный, а философский. Автор напоминает, что у Томаса Куна главное в учении о парадигме не модель решения научной проблемы, а то, что объединяет членов научного сообщества и, наоборот, научное сообщество состоит из людей, признающих парадигму. Поэтому у А. Павлова под социокультурной парадигмой понимается не просто образец или эталон научного познания и практики, а то, что служит онтологическим основанием творчества социальных норм, общих коммуникаций и институтов.
Любая человеческая культура сегодня опирается на парадигму, обладающую субъект-объектными признаками, однако наиболее явно они по-прежнему господствуют в культурах европейского типа. Рациональным способом гносеологического опосредования отношений субъекта к объекту служит методология, а способом практического отношения выступает ее родная сестра — технология.
Седьмой очерк посвящен социокультурному субъекту. Социокультурный субъект как онтология представляет собою сеть каналов, направляющих личную активность Я-субъекта. Это — совокупность норм легитимной самодемонстрации личности, сумма знаний и представлений о способах человеческой самореализации и самоутверждения. Субъект имеет собственную архитектонику: 1) «Я» как данность самому себе и теоретически постулируемая себетождественность человека — «Я-идентификация»; 2) «Я-субъективность» как социально оформленная и культурная активность «Я» в направлении других; 3) «Я» как идеальный тип, выражающий жизненную перспективу в рамках социальных норм.
Далеко не все участники общественной жизни, утверждает автор, становятся ее субъектами. Это зависит от конкретных условий рождения и воспитания. В эпоху модерна субъективизм концентрируется по преимуществу в общественной элите. В отличие от класса, элита — это скорее субъективная функция общественной жизни, чем продукт разделения общества по каким-либо признакам. Она угадывается по той степени уважения и доверия, которые оказывает ей население.
Элита состоит из людей, самостоятельно выбравших или создавших себе жизненный путь, большая же часть общества модерна не становятся субъектами своей жизни, попытка самим прокладывать себе дорогу всегда девиантна и может быть даже криминальной. Но когда их бунт против элиты созидателен, то они — революционные утописты, источник будущих преобразований и новых элит.
Исторический процесс становления личности скрыт в прошлом и доступен лишь в качестве гипотезы, да еще в разнообразных интерпретациях древних мифов. Однако он может наблюдаться и переживаться в первые годы человеческой жизни, в периоде от рождения до пробуждения «Я». Архитектоника личности включает в себя два базовых компонента: «бытие собой» (самобытие) и «бытие другим» (инобытие), а сама личность не математическая точка социокультурного пространства, а сложный внутренний мир, созвучный внешнему, но не тождественный с ним. Личность представляет собою своеобразную область трансцендентального перехода между внутренним и внешним, между Я и его предметным окружением, область ценностей.
Будучи всегда современным, Я посредством практики превращает в современность все, с чем соприкасается. Личность, сформированная только одним Я, оказывается эгоистически аутичной, шизофренической или параноидальной агрессивной личностью. Личность, сложившаяся на основе исключительно Другого — конформистична, это уже больше социо-компьютерная программа, чем человеческий индивид.
Будучи вторичной от человеческой личной активности, общественная жизнь формирует вторичные субъекты: народы, общества, науки и пр. Это — тоже субъекты, так как они каждому участвующему в них индивиду предъявляют экспектации, побуждающие Я-субъектов к выбору и предпочтению.
Человек как онтологический субъект современности всегда обладает исторической формой, но вся суть в том, что он — существует. Он — исходная точка истории в любой момент общественной жизни, и ему по большому счету безразлично все предшествующее, считает автор, там были другие люди, другая общественная жизнь, другая история. Даже свое прошлое он создает из предзаданного материала, направляя на него свои оценки.
Опираясь на различение самобытия и инобытия человека, можно говорить о двух основных разновидностях субъектов: человеческий и культурно-исторический. Первый преимущественно индивидуален, второй же — социален. Человеческое общество состоит из людей, в то время, как человек из обществ не состоит, человеческая субъективность является очевидно приоритетной. Человек передает обществу самое главное — свою активность живого и разумного существа. Но в то же время, содержание этого способа и этой формы: потребности, интересы, знания, образы у человека обусловлены его биологической и социальной природой.
Далее автор говорит об отличие современной России от Запада, которое, по его мнению, обусловлено не менее чем четырехвековым господством в нашей стране самодержавия, ставившего людей фактически в крепостное положение. Именно от него у нас до сих пор неистребим тоталитаризм, проявляющийся и в традициях, и в морали, и в праве, и в воспроизводящемся политическом устройстве. Демократическое устройство Запада восходит к приоритетности не социокультурного, а индивидуально-человеческого права буржуазного субъекта. Именно поэтому там успешно проходили буржуазные революции, а у нас они всегда завершались провалами.
Характерные черты новоевропейской субъективности автор видит в монистическом логоцентризме, мессианском характере истории, отличающей европейский регион в течение, по меньшей мере, полутора тысяч лет, в претензии на «мировое господство». Европейский прагматизм — это практическое креативное отношение освоения и европеизации субъектом окружающей реальности, превращение ее в комфортную для себя среду. Рационализм, — от механицизма Р. Декарта до своего предела в конце XX века в идее «машины желаний» Ж. Делеза — лежит в основе европейской культуры, обусловливая собой и классический рациональный либерализм, превратившийся позднее в идеи юридического гуманизма и правового государства, и креационизм, и морализм, и технологии. Их суть в том, что они онтологически присущи Я-субъекту. Они легитимны для Я-субъекта настолько, что попросту привычны до незаметности. Тот, кто становится субъектом, по меткому выражению Ж.-П. Сартра, не имеет оправданий нигде, кроме как в самом себе. Объекта несет поток жизни, а субъект сам выбирает себе дорогу.
Однако за каким-то пределом детализации, начинается тот эффект, который у нас в России называют «заорганизованность». Гипердетализация и гиперорганизация, какую М. Фуко связывал с паноптизмом И. Бентама, ведет к тому, что эти качества теряют для Я-субъекта легитимность, и вызывают сопротивление. Именно здесь начинается межцивилизационная эпоха, когда социокультурный субъект распадается на множество автономных индивидов и формирование цивилизации начинается заново.
Стихия общественной жизни содержит возможность самоорганизации, перехвата власти субъективностью у объективной реальности. Таким образом, стихия и организация сменяют друг друга и поочередно задают способ общественной жизни: то стихия с силовым доминированием на первом месте, то организация с господством права и формальной морали. Это можно выразить с помощью библейской метафоры лестницы Иакова. Она оказывается не просто сооружением между землей и небом, а непрерывным движением по ней. Иаков с потомками поднимается вверх, а падшие ангелы спускаются вниз.
Особенно показательно несовпадение по фазам развития СССР с параллельной эволюцией стран Запада: глобальный кризис на Западе — подъем СССР, экономический подъем западной цивилизации — спад и саморазрушение СССР. Опыт Советского Союза имеет общеевропейское значение, и может быть, даже общемировое потому, что его тоталитарный режим показал все достоинства и недостатки тотальной организации, одновременно с закатом СССР и его вхождением в межцивилизационную эпоху, на Западе стали наблюдаться признаки формирования собственного тоталитаризма.
Возможной оказывается трактовка социализма и капитализма как взаимообусловленных и исторически сменяющих друг друга способов организации. Капитализм вынужден «исчерпать себя» тогда, когда его производство начинает качественно обгонять рост потребностей у населения. А затем, после межцивилизационной эпохи наступает очередь социализма. Его функциональная заданность не в производстве, с которым он справляется плохо из-за слабой мотивации и ограниченной частной инициативы, а в государственном перераспределении произведенного капитализмом. Именно тут достигается максимальная степень равенства всех граждан. Но его достижения сопровождаются ростом бюрократизма и коррупции, ростом потребностей населения, уровня его образования и исчерпанием накопленных при капитализме богатств.
В нашей стране, наконец, вступило в деятельный возраст второе постсоветское поколение. С его активизацией в 2010—2011 гг. началась экзистенциальная революция, которая в любом случае окончательно ликвидирует либо кардинально переосмыслит сохранившиеся советские ценности. А завершиться она может либо либерализацией, либо восстановлением под другими названиями традиционного для России самодержавия.
Восьмой очерк посвящен современности и смыслу. Ж.-Ф. Лиотар убедительно показал, что постмодерн — завершение эволюции культурно-исторической эпохи Просвещения или Модерна в целом. Состояние постмодерна — это состояние культуры после трансформаций, которым подверглись правила игры в науке, литературе и искусстве в конце XIX века. С точки зрения субъектов нынешних европейских культур, знание в качестве ценности теряет свою легитимность, потому что нелегитимными и лишенными доверия оказываются сами механизмы его получения. Европейский социум зачастую предпочитает знания, полученные каким-то другим путем: религиозные, эзотерические, мифологические, любые, лишь бы они не были научными. Либо из-за сомнительности приносимой пользы, либо в том, что она каким-то образом сумела стать для людей разновидностью насилия. Или же наука почему-то стала вдруг выглядеть смешной, разновидностью современного «корабля дураков».
За постмодерном следует межцивилизационная эпоха. Межцивилизационность же говорит о межкультурье, об утрате одной формы и поисках другой. В условиях стабильной цивилизации она скрыта, подобно древнегреческому хаосу, всегда прячущемуся в космосе. Начинается игра ницшевских аполлонического и дионисийского начал, их периодическое чередование и вечное возвращение. Общественная жизнь оказывается похожей на непрерывное волнение возникающих и угасающих структур и эпифеноменов соляристического океана С. Лема.
Исчезает то, что утрачивает смысл, и возрождается то, что его имеет. Коммунизм Л. Д. Троцкого был одним, мировой революцией; коммунизм И. В. Сталина был другим, полностью управляемой и подконтрольной страной; коммунизм Н. С. Хрущева был третьим, а коммунизм деда Григория заключался в подаренных ему колхозом валенках.
Межцивилизационная трансформация социума является обессмысливанием и угасанием одних структур и созиданием других. Материально-производящая экономика сменяется финансовой, предприятие по выплавке стали и пошиву обуви меняется на предприятие по производству депутатов и экранных образов, а капитал из реальной денежной суммы, тесно связанной с материальным производством, превращается в сумму символов,
В основе изменений скрывается динамика человеческого смысла, развертывающегося в отношении внешней для людей реальности. История не просто лабиринт, многоярусный и многоходовый, но построенный кем-то и когда-то. В толще мироздания она сама прорывает себе все новые и новые ходы, где каждый ход не повторяется уже потому, что все предыдущие обрушиваются, когда мы возвращаемся к началу. Общественная жизнь приобретает и теряет смысл не только в масштабах всей культурно-исторической эпохи, но и в жизни каждого поколения, и даже каждого человека. Вся история втягивается в человеческую жизнь как в непрекращающуюся современность. А значит, современность представляет собою непрерывный поиск и утрату смысла.
Нравится нам это или нет, но мы действительно вступаем в новую эпоху. В межвременье соскальзывает весь западный мир. Новая эпоха стала следствием чрезмерной сложности мира. Эта сложность, становится основой того, что принято называть «вызовами», и вызовы катастрофически нарастают и умножаются. Мир в этом случае выглядит как древнегреческий хаос. Того, кто не может стать принципиальным, хаос поглощает, для них наступает буддистская нирвана, такой же хаос и небытие в голове, какой царит снаружи.
Когда люди впервые увидели мир, как целое, чья сложность превышает их познавательные возможности, они поняли, что нужно упрощение. Первое упрощение произошло еще до античности и связано с рождением мифологии. Вторым типом упрощения стала греческая философская теория. В XVII веке родился третий тип упрощения — научная теория. Противостояние науки и философии в эпоху Модерна, это борьба двух идеологий, одна из которых связана с мировосприятием буржуазии, а другая — аристократии и бюрократии.
Со второй половины XX века на первый план выходит сфера развлечений, финансовый капитал, мало связанный с производством и политический капитал. Зарождается и расцветает общество потребления — квазиобщество, цементируемое только многочисленными манипуляциями массовым сознанием и силой. Для него характерны квазидемократия (гибрид охлократии с диктатурой), квазичеловеческие права (система электорального принуждения), квазинаука (покупка и продажа диссертаций, путаница и мошенничество в науке — красная ртуть, биоэнергетика и т.д.), квазиобразование (тесты, нынешнее ЕГЭ, игровые методы преподавания, дистанционной образование и т.д.).
Общество потребления породило свой «искусственный интеллект». Это не машинный интеллект, а человеческий; это выражение стандартности человеческого мышления. Искусственный интеллект формируется в «нейросетях», какими условно можно считать человечество, представляя каждого человека отдельным нейроном, и он утверждает порядок путем практического упрощения самих людей, каждого человека. Искусственный интеллект, это — не разум. Разум свободен и креативен, а искусственный интеллект — способ упрощения мира не через свободу, творчество, а через эффективных менеджеров, ставших зримой фигурой человеческой стандартности.
Начинается третья идеологическая борьба: не между мифологией и философией, или философией и наукой, а между их теориями и эффективным менеджментом с его тотальным искусственным интеллектом. Искусственный интеллект подобен третьей модели профессора Выбегаллы из фантастической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Это идеальный потребитель.
В обществе потребления охлос становится самостоятельным организмом, примитивным, как амеба, но диктующим и мысли, и поведение свободно действующим индивидам. Свобода превращается в иллюзию, обусловленную традицией. Она складывается из «средних людей», предпочитающих винить в собственных проблемах других, а не себя. «Демократия полна противоречий, неуклюжести по отношению друг к другу, социального расслоения, и она — элитарна, право выбирать и быть избранным в исполнительную власть в ней принадлежит только субъектам, но никак не всем, то есть едва ли четверти населения. Всем остальным принадлежит право критики и контроля за исполнительной властью, т.е. свобода слова, митингов и демонстраций, свобода обращения в контролирующие органы и т.д., но не свобода выбора исполнительной власти».
С этой точки зрения, главный порок советского представления об историзме заключается в том, что он побуждает к творчеству не индивидов, а «народные массы». «Творчество масс» только звучит благородно и возвышенно, якобы каждому человеку предоставлено право на творческое самовыражение. А на практике оно означает тотальный паноптизм, при котором все следят за всеми. Поскольку индивиды сами были сформированы недавним крепостным состоянием досоветского и советского самодержавия, по факту в расчет принималась только необразованная, лишенная самобытия и самосознания индивидов «масса», а не люди, из которых она состоит.
Пассивное большинство по-прежнему искало «высокого служения» Державе, Царю, Церкви и помещику, поменявшим не суть, а всего лишь названия. Активное же меньшинство вообще не удовлетворялось служением, а хотело творчества нового и своего, креации. Таких по мере роста образованности становилось все больше, и они оказывались носителями не исторических традиций, а современности. Однако и западное общество на своем опыте показало, что без учета историзма повседневность тоже уводит в абстракцию и способна формировать искусственные социальные конструкции, хотя и другого типа, чем историзм советский.
Классический Модерн — пройденный в истории этап, он адекватен для периода формирования наций, национальных культур и государств. Остается современность, как допускающий разнообразие синтез историзма с повседневностью, то состояние, которое, пусть и с «политкорректными» перегибами нащупывает сегодняшний Евросоюз, и которое вполне правомерно считать «Неомодерном».
До тех пор, пока культурные коды самодержавия в России, а в особенности мораль остаются в неприкосновенности, любая попытка обновления у нас рискует обернуться великим русским бессмысленным и беспощадным. Неомодерн — метафора, указывающая на необходимость возвращения от строительства к развитию.
В последние годы на передний план выходит культуроцентризм как строй, основанный на доминировании культурных ценностей. Культура по своей онтологии не объективна, а субъективна и интерсубъективна, она — в головах. Она — личное движение, опредмеченное в индивидуальных способах деятельности. Объективированность культуры появляется только в «точках соприкосновения» субъектов, где каждый партнер коммуникации вынужден идти на компромисс. Какие из многочисленных культур общества способны к интеграции и могут стать системообразующим фактором цивилизации или никакие не способны? Когда-то Советский Союз возник на базе синтеза демократического в сущности марксизма с крепостническим самодержавием и православной церковью. Что у нас формируется: цивилизация нового тоталитаризма, демократии, диктатуры, традиционализма, теократии или, скажем, гуманизма?
Демократично лишь то общество, где на каждого «демократа» найдется свой «антидемократ», а каждому «либералу» противопоставлен «антилиберал», и где правительство не проводит свою демократическую или тоталитаристскую линию с непреложностью, а занимает позицию поддержки меньшинства, уравновешивающую большинство, лишь бы эта позиция умещалась в границах «человеческих ценностей», ибо все мы, при любых издержках и перекосах, все-таки суть люди.
Люди должны быть самими собой, а Бог разберется, кто есть кто. Человек, это эксперимент, отвечающий на один вопрос: кем он еще может стать? И ему должна быть предоставлена свобода выбирать тот путь и ту социальную нишу, какие наиболее адекватны текущим обстоятельствам его жизни, или создавать их, если в современном ему обществе нет соответствующих путей и ниш.
По сути своей, чем более человек культурен, тем менее он жизнеспособен, а человек только культуры — нежизнеспособен вовсе. Человек же вне культуры — не человек вовсе, но простое социальное животное, масса. Проблема, следовательно, в том, чтобы найти оптимальное соотношение собственной культуры и своего же внекультурья. Человек оказывается намеком на свободу и возможность выбора, творчества и неотрывного от созидания — разрушения. И он имеет право, конечно, но никак не обязан слепо следовать культурным предписаниям, своей современности.
***
Таково в кратком изложении содержание, а в сущности, выводы книги А. Павлова «Философия современности и межвременья». По крайней мере, такое содержание, каким его понял я. Книга полезна уже тем, что утверждает свободу и творчество человека. А главное — позволяет посмотреть на нашу действительность через призму индивидуального восприятия, экзистенциального диалога и креативности, увидеть в ней то, что не позволяли традиционные социально-исторические парадигмы, в которых гегелевское «сущность — в прошлом» — основной принцип.
Но, для меня, как человека, воспитанного на классической «объективистской» философии, не устраивает категоричность автора в противопоставлении личности и социума (прежде всего власти) как чего-то живого чему-то мертвящему. Как это ни парадоксально, но книга А. Павлова привела меня к мысли о необходимости рассматривать социум не просто как структуру или общественную форму бытия человека, а как живой организм, который относится к индивиду примерно так, как человеческий организм относится к живым клеткам, из которых он состоит. Организм, который имеет свою душу. То, что применительно к России А. Пушкин называл русским духом. Кроме того, продолжая аналогии с организмом, изучение, например, нервной системы (социокультурного субъекта) вовсе не делает ненужным изучение скелета или системы кровообращения (географической среды, народонаселения, истории, экономики и политики).
Социокультурная парадигма ценна не тем, что она может быть использована вместо других, а в том, что она дополняет уже имеющиеся, о чем, собственно, и декларирует сам автор во введении к своей работе. Но одно дело — декларировать, а другое дело найти точки для компромисса и той самой комплементарности, о которой говорит автор книги. Как писал классик, «прежде чем объединяться, надо размежеваться». Философия современности и межвременья Александра Павлова — это еще только размежевание. Без этого она просто бы не состоялась. Но нужен и второй шаг.
Д-р филос. н., профессор Благовещенского государственного педагогического университета Александр Чупров
Философия современности и межвременья
Нулевой меридиан. Вместо введения
Нулевой меридиан — условная линия на карте, на поверхности земного шара ее нет. Тем не менее, эта линия стала точкой отсчета для целенаправленной практики кораблевождения, торговли, строительства дорог, появления вдоль них жилых поселений, размещения производства и т. д. А с тех пор, как все построили, нулевой меридиан становится непреложным фактом, вроде Кавказского хребта или реки Волги. Он закреплен в искусственных ландшафтах, привычных торговых путях, и он тем более непреложен, чем больше окультурена поверхность планеты.
Подобно нулевому меридиану и предисловие к книге. Оно формулирует ее проблематику и цели, в нем вводятся ограничения, предостережения и оговорки и задается ракурс, под которым книгу стоит понимать, разъясняется, о чем в ней пойдет речь, а о чем не пойдет. Конечно, по ходу дела проблематика уточняется и развертывается в более детальную систему задач, ее невозможно прописать заранее, как невозможно проложить подробный маршрут в ранее нехоженом пространстве. Однако без точки отсчета, куда бы ни пошел, все равно будешь стоять на месте.
Что такое современность и как ее познавать? — Для ответа на этот вопрос надо исследовать предпосылки непрерывно текучей современности, изучить ее пространственные границы, и обозначить направление, в котором подталкивает ее внутренняя энергия человеческого «Я».
1
В философии общественной жизни существуют два альтернативных подхода: с позиции времени (историзм) и с позиции современности. Один обладает прогнозным потенциалом и позволяет исследовать развитие общества с точки зрения прогресса, а другой дает возможность изучать микроструктуру общественной жизни тем, что раскрывает природу субъекта, живущего ею и ее делающего. У него иные представления об истории, которая оказывается встроенной в современность как потенциал. Оба подхода в нашей философии традиционно трактовались как несовместимые, и при этом, подход с позиций современности объявлялся «идеалистическим». Однако на самом деле они отлично дополняют друг друга. Межвременье, являясь нашей современностью, адекватнее всего раскрывается с позиций современности.
Межвременье или межцивилизационная эпоха, это состояние общества и людей между двумя цивилизациями, одна из которых уже фактически завершилась и медленно угасает в памяти и привычках, а другая еще не родилась и только угадывается в надеждах на лучшую жизнь. Его еще называют «социальной трансформацией», «эпохой перемен», «переходным периодом», «сменой парадигм», но я предпочитаю свой термин.
Если подходить к межвременью, совмещая историзм и современность, то вероятнее всего, в основу придется положить понятия эпохи, и современности. Оба понятия находятся в контекстах своих трактовок историзма: для «эпохи», это ее начальный и завершающий этапы, переход между ними и внутренние причины саморазвития, но одновременно это и та длительность, какая отделяет одну эпоху от другой. А для «современности», это ее непрерывная трансформация и динамизм, из-за которых современность в каждый «момент» рассыпается на множество различных мгновений и содержательно не похожа на саму себя. И оба понятия позволяют строить свои, очень разные теории одного и того же.
Эпоха достаточно неопределенное понятие, оно указывает на некий исторический период, отличающийся от предшествующего и последующего периодов, и обладающий внутренним единством и общими признаками большинства процессов. Рамки эпохи плавающие, они свободно перемещаются по исторической шкале и зависят только от задач, которые всегда задаются современностью.
Что касается современности, то ее порою путают то с одновременностью, то с повседневностью. Она крайне непривычный для нашей философии предмет. Нынешнее состояние философии, равно как и гуманитарных наук обусловлено научным наследием, зародившемся в XVII — XIX веках, а для России — в последние досоветские десятилетия и при советской власти. На Западе в философию и гуманитаристику еще можно вносить некоторые коррективы, благодаря бурному философскому творчеству XX века и разработанной им новой предметности. В этот век сложилось гуманитарное познание, и был поставлен вопрос об особой философии современности. Но даже на Западе современность понимается сейчас скорее социологически: и З. Бауман, и А. Бек, и Э. Гидденс, концептами которых сегодня преимущественно оперируют, — они все социологи. У. Эко, рассуждая о баумановском взгляде на современность, замечает, что З. Баумана не слышат. У. Эко не прав, его слышат, однако его взгляд узко специализирован. Из такого взгляда легко можно вывести философию политики, коммуникации или искусственного интеллекта, но он не позволяет построить адекватную современности новую философскую парадигму общественной жизни людей.
У нас же, к большому сожалению, философия современности почти не существует. В основном наша сегодняшняя картина мира по-прежнему восходит к XIX веку и к СССР, то есть, к проблематике и рационализму более чем вековой давности, заявляя его как свою методологию, и лишь после распада СССР в ней замечается едва различимое присутствие XX века. И в этой «отсталости» нет ничего дурного, благодаря классицистским подходам обеспечивается интеллектуальная связь и преемственность эпох. Но нет и ничего хорошего, так как вне современности философия не имеет связи с жизнью, не видит реальных проблем и не способна выдвигать новые идеи.
В XXI веке классицизм стал односторонним и абстрактным от тех практических задач, какие стоят перед познанием сегодня, даже модернизм уже несколько подустарел и превратился в классику. Собственно говоря, именно практические задачи являются двигателем науки. Конечно, познание ради самого познания всегда будет важнейшей целью и мотивом наук, обеспечивающим их развитие. Но в целом, познание предназначено для решения практических проблем, а они возникают именно в современности, и далеко не всегда обусловлены логикой исторической эволюции. Гораздо чаще они появляются помимо нее, спонтанно, как некий взрыв, но от этого не становятся менее насущными.
Наука должна откликаться на современную проблематику, используя заготовленные фундаментальные концепции как возможные методологические ориентиры, содержащиеся в опыте прошлого. Однако опора на один только опыт заставляет ее решать уже решенные или пережитые и утратившие актуальность проблемы, подгоняя современность под образцы старины. А так, как наука лежит в основах технологий, а технологии — в практике общественной жизни цивилизаций европейского типа, то научное исследование определяет и направление истории.
Говорят, что полководцы всегда готовятся к минувшей войне, эти слова подходят и науке. Проблематика может быть только актуальной, актуальность же бывает теоретической и практической. И если теоретическая актуальность еще может задаваться историческим прошлым, подобно некоторым нестыковкам в философии И. Канта, которые через двести лет после самого И. Канта вдруг обнаружил молодой Ж. Делез, то с практикой так не получается. Само видение проблемных ситуаций, а тем более их решение требует творчества, не возможного с позиции только концентрированного опыта, содержащегося в классике.
Практическая актуальность обусловливается современностью, как наводнение внезапно рухнувшей плотиной, безотносительно к причинам, вызвавшим ее обрушение. Ограничить же ее постановку и решение именно этими причинами, т.е. классицизмом, значит, увести ее к сотворению мира и превратить в интеллектуальное упражнение, интересное для развлечения, но не нужное для жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать, какого рода актуальность распространена в наши дни, например, в российских докторских диссертациях по философии, как она обосновывается и где ее авторы видят возможность применения своих идей.
Я ни в коем случае не хочу сводить всю научную проблематику исключительно к практически-прикладным задачам, на мой взгляд, это диктуемое сегодня требование является пагубным политическим трендом, и не более того. Но происхождение науки связано именно с прагматизмом, хотя практику при этом стоит понимать в самом широком смысле.
Советской социальной и гуманитарной науке, как самой цивилизации был присущ перекос в сторону развития. Каждое явление рассматривалось под углом зрения исторической обусловленности, из которой выводилась некая тенденция, непосредственно полагаемая в основу проектов будущего. Благодаря этому перекосу, революционный пафос марксизма налагался и на сам советский строй. Если, как полагали К. Маркс и Ф. Энгельс, в основе каждого общества находятся условия его будущего самоуничтожения, то и СССР не составляет исключения. Этому, конечно, не учили, но само общественное устройство, созданное в рамках историко-материалистического проекта с его классовой диалектикой, с его отчужденным от общества государством насилия и с его историзмом подталкивало к такому выводу любого наблюдательного человека. Оно и заставляло одних нацеливаться на революционное преобразование советской системы, а других противодействовать диссидентской романтике. Не учили, но человек воспитывался в духе революционизма, для которого цели и интересы сегодняшней жизни казались низменными и обыденно-мещанскими.
А после естественно произошедшей в 1991 г. новой революции, разрушившей советский строй почти единодушным движением всего революционно ориентированного народа, начался перекос в противоположную сторону, в повседневность. В стране утвердилось общество потребления, и сформировалось целое поколение, где большинство живет в повседневности и не умеет, а возможно, и не может мыслить о перспективах. Замечу, что в странах Запада, где, собственно говоря, и родилась идея повседневности и общества потребления, этот проект не реализовался в чистом виде потому, что там одновременно конкурируют друг с другом множество проектов. Он реализовался в постсоветской России, привыкшей всё объяснять с помощью одной-единственной «подлинно научной» философии. Повседневность преобразовала под себя образование, когда парикмахер и визажист оказались престижнее историка, физика и философа; науку, в которой отныне личный счет и коттедж вытеснили научный поиск; экономику, где материальное производство оказалось подмененным финансовым капиталом и дележкой бюджета, формирующегося от добычи сырья; искусство, где осознанный эпатаж заменил художественное творчество. Но без исторического и революционного взгляда на вещи нельзя быть креативным даже в собственном бизнесе, в котором этот взгляд превращается в инновацию.
Выход из общества тотального потребления наших дней я нахожу в том, что современность, а не повседневность, способна непрерывно генерировать новый, и всегда разный Модерн. Именно в ней возможна человеческая свобода, обязательность и ответственность, и возможно творчество. Но для этого надо иметь философию современности как тотального, или, как говорит один мой аспирант, «перманентного» процесса, по-баумановски текучего, но устойчивого именно в своей текучести. Современность — явление более емкое и глубокое, чем повседневность, оно включает в себя историю, правда, не как свою объективную предопределенность, а как миф о прошлом, историческую память, сумму предпосылок и как креативное отношение к будущему, проективное видение.
Я не призываю отказываться от историзма и революционизма. Более того, я убежден, что и Европа, и, само собою, Россия, сумеют найти новую перспективу, если первая восполнит свое сегодняшнее увлечение повседневностью собственным же исторически сложившимся Модерном, а вторая найдет, наконец, способ прописать в рамках модернизма прошлого — повседневность. Повседневность — альтернатива модерну, однако абстрактно друг от друга они губительны, только совместными усилиями оба подхода внушают оптимизм. Модерн — социален и исторически объективен, он формирует нации, Повседневность же индивидуальна и личностно субъективна, в ней появляются личности, но человек живет в обществе, а общество состоит из людей.
Социогуманитарная наука сегодня складывается в контексте современности, этого синтеза истории с повседневностью, которого у нас ни и в науке, ни в образовании почти не существует. А в ее отсутствии невозможно вести непрерывный диалог и разрабатывать новые методологические подходы, откликающиеся на проблематику наших дней, где повседневность на самом деле господствует и не дает возможности продвигаться вперед. Наша культура похожа на сумасшедший автобус, который когда-то свернул с шоссе и попробовал проложить свою автостраду в окружающем бездорожье. А когда не получилось, решил вернуться назад, но заблудился и увяз. Думаю, этот образ по нашему бездорожью сегодня более понятен, чем взятый из прошлого и чужого Летучий Голландец.
2
Межвременье — внутренний потенциал современности. Как эпоху, его невозможно считать ни цивилизацией, ни формацией, ни какой-либо иной исторической стадией, оно между ними и представляет собою сам переход с одной ступени на другую. Более того, его нельзя связать и с какой-нибудь концепцией исторического времени, коль скоро уж, как показывают наши дни, оно может характеризоваться переходом не только между стадиями, но и между их проектами, моделями и программами.
Европейская историческая эпоха, начинающаяся с Возрождения, нередко называется Модерном. Ее принято связывать с капитализмом и со становлением буржуазии как господствующего класса. В ней явно прослеживаются, по меньшей мере, несколько стадий: Классика Просвещения, Романтика проблематизации феодального наследия, собственно Модерн, где ее сущностные характеристики полностью развертываются в процессах и институтах и т. н. Постмодерн, который, по сути, принадлежит Модерну и является его завершением, этаким сбывшимся пророчеством Ф. Ницше и О. Шпенглера о закате Европы. И в таком случае, межвременье, это — то, что наступает за Постмодерном и ни к Модерну, ни к какому-либо другому проекту уже не относится, межцивилизационная эпоха.
Оговорюсь, так как понятие Модерна принято относить только к культурам европейского типа, то и постмодерн кажется исключительно европейским занятием. Но на самом деле, это просто завершающая стадия любой цивилизации, независимо от того, что ей предшествовало. Постмодерн характеризуется не обязательно деградацией нормативных ценностей именно Модерна, но деградацией базовых ценностей любой сложившейся цивилизации и их делигитимацией. Именно здесь начинается превращение естественных норм в искусственно навязываемые правила, персонификация и атомизация ее обитателей, осознание ими необходимости самостоятельной разработки схем деятельности, не связанных нелегитимными нормами, здесь и начинают преобладать игровые характеристики практики, выражающемся сегодня произволом спекулятивного реализма. Только начинается, полностью развертываются они в межвременье, т.к. цивилизация еще существует, переживает восторг и оптимизм массового творчества и оказывается, в конце концов, перед проблемой своего дальнейшего бытия и перед качественной трансформацией, к которой ее и подводит рост творческой активности граждан. Помимо нынешней, для Европы эпохи, таково Возрождение, на самом деле, межцивилизационная для двух устойчивых эпох — Средневековья и Модерна. В России — это эпоха отмены крепостного права и угасания Петровского периода, а перед нею — от Московского царства до зарождения империи в трудах Петра и Елизаветы.
Думается, суть межвременья скрыта в современности, и современность всегда, даже в годы прочных и процветающих империй содержит в себе межцивилизационный потенциал. Современность нельзя представить и понять как непреложное порождение прошлых обстоятельств, она — сплошная неопределенность и цепь непредсказуемых выборов направлений будущего развития, проще говоря, хаос в древнегреческом значении. Просто, в какие-то моменты неопределенность современности зажата в рамки законов, морали и традиций, а в другие она вырывается на поверхность, как река в весеннее половодье после суровой зимы. Эта метафора позволяет думать, что современность, это — вода, просто река без берегов, как раз, та самая вода, из которой, по мысли Фалеса все и состоит. Или, что то же самое, это — Гераклитов огонь. Не костер, а просто огонь без поленьев, само состояние горенья. Именно так ее и представил в своих трудах Ж. Делез, выдвигая идею ризомы.
3
Эта книга посвящена современности, но не тому, что происходит в одном календарном времени, а современности как таковой, не имеющей времени в том смысле, на какой намекает часовой механизм. Что это за предметность, и как ее можно изучать? Только ответив на этот вопрос стоит надеяться, что нам удастся исследовать межцивилизационное состояние составляющее сущность нынешней современности в России, а может быть, и не только в ней, так как в межвременье понемногу соскальзывает весь западный мир. Причем, современность трактуется абстрактно от времени уже потому, что время и история чрезмерно доминировали в СССР, это была противоречивая страна, в ней людей приходилось подгонять в будущее розгами, пока рука не устала махать. Не было в этой стране внутреннего мотива к труду и развитию. Но в не меньшей степени она посвящена и истории, оттеняющей современность и служащей ее фоном. Без истории разговор о современности невозможен, даже Делезу, чтобы говорить о ней, пришлось придумать свою концепцию истории, прописанную вы номадологии.
Выбирая этот «предмет исследований», приходится считаться с тем, что в отличие от одновременных событий, от которых можно дистанцироваться и рассматривать их позитивно, привычными методами, изучать современность возможно только изнутри нее самой, прибегая к рефлексии. Однако здесь возникает затруднение, связанное с тем, что для определения предмета в области гуманитарной науки необходимо вводить точку отсчета, позволяющую обозначить, кто именно его определяет, от этого и будет зависеть, что мы считаем современностью. А эта точка отсчета может быть только субъективной.
Для любого утверждения по поводу современности нужно ясно ее отличать от несовременности и от времени, в том числе, от одновременности. Между тем, в отечественной литературе отрефлексировано только ее понимание как жизненной проблемы, общей для современников и как игры. В целом, это, конечно, правильно, однако уже это понимание вызывает вопросы, на сегодня решенные неудовлетворительно. И в частности, методологический вопрос о том, как современность способна стать проблемой и предметом рационального познания, применима ли к ее познанию рациональность, и какая рациональность, какая методология тут возможны. Более тонко современность рассматривается в западной литературе.
Точка отсчета фактически выступает фокусом, связывающим воедино множество событий и ситуаций, делая их современными друг другу. Но это субъективный фокус, он обусловливает столь же субъективный и интеллектуальный характер связи, современным оказывается то, что мы находим в самих себе, в качестве нашего внутреннего опыта. Т.е., теория современности является саморефлексией человека. Именно это и позволяет нам быть внутри современных нам событий, а затем и практически решать созданные как нами, так и ими проблемы и противоречия. Проще говоря, каждый из нас, людей — современник самому себе, и развитие этого тезиса дает возможность изучать современность других.
Продолжая Б. Капустина, на передний план выходит главный вопрос, если современность оценочна, если она — субъективная проблема, касающаяся всех, то какой именно субъект ее оценивает, задает ее эталон, является предметом ее познания и может быть теоретически оформлен. Без решения этого вопроса современность превращается в произвол, в многообразие невзаимосвязанных и потенциально враждебных субъектов. В этом произволе современностей много, их столько же, сколько и субъектов, и все они разнородны. По отношению друг к другу все они оказываются «несовременными», и любая из них содержит в себе особое качество, которое уместно назвать даже «постсовременностью», подчеркивая, что это не постмодерн эпохи, а внутренняя основа, доводящая до деградации и распада как эпоху, так и субъектов современности. Между тем видно, что в реальной общественной жизни современность более-менее скоординирована, это и придает обществу устойчивый характер и структуру, лишая его делезовской ризоматичности. Получается, что точкой отсчета, определяющей современность как таковую должна быть общая субъективность, но что это такое, и как она появляется в человеческом многообразии?
4
Межцивилизационная эпоха, образно называемая Межвременьем, это — эпоха перемен, стадия, какая опосредует два социальных порядка, сменяющих друг друга. При этом оно — неотъемлемая сторона современности, нечто в ней такое, что определяет ее динамизм и неопределенность. Между цивилизациями динамика выходит на передний план и становится основной характеристикой и исторического времени, и пространства, если речь идет о взаимоотношении сосуществующих цивилизаций, и самой современности.
Межвременье, это процесс формирования нового порядка общественной жизни, являющийся экзистенциальной проблемой каждого человека. Нельзя ли в этой неопределенности, тем не менее, найти что-то устойчивое и определенное, чтобы именно на него опереться? Что представляет собой эта устойчивость в хаотическом потоке перемен, каким образом она становится матрицей будущего социального состояния? Как она превращается в новые типы личности и стереотипы мышления, новые отношения и институты, новую рациональность и новую цивилизацию?
Роль концепции современности, по отношению к распространенной в нашей стране социальной философии сравнима с ролью физики микромира и с релятивистской физикой, по отношению к классической ньютоновской механике. Современность, конечно, не физична, но подобно квантовой механике, она вносит существенные коррективы в макроконцепции общественного развития, так как выводит на передний план своеобразного «наблюдателя» — живую и индивидуальную человеческую субъективность и позволяет изучать микроэкономику, микрополитику и практическое правоприменение, соединяя формальное право с присущим каждому человеку чувством справедливости. Более того, субъект как практикующий наблюдатель создает не просто картины мира, он их практически и предметно воплощает в коммуникации и институты, стабилизирующие общественную жизнь и придающие ей форму цивилизации.
Думается, эта проблематика когда-то захватила Ж. Делеза. И он, подчиняясь западноевропейской логике, постулировал свою ризому, как некий древнегреческий хаос, лишенный любых определений. Ризома оказалась пределом, до которого человеческая мысль вообще способна дойти своими силами, она и помогла Делезу сделать много удивительных наблюдений и выводов. Но хаос не может быть постулатом потому, что любой постулат противоречит идее хаоса. Постулированный хаос оборачивается воплощенным небытием как началом и концом всего, а небытие невозможно изучать, как невозможно исследовать несуществующую предметность. Ризома — абсолютная бесструктурность, а то, что не имеет формы, для рациональной мысли не существует. И в то же время Ж. Делез должен был заметить, по крайней мере, одно оформленное существование, свое собственное. Он должен был его заметить даже не по самому себе, а хотя бы наслушавшись Ж.-П. Сартра, который в одно и то же время с Ж. Делезом и в одном и том же месте настойчиво проводил мысль о человеке, как существовании, способном создавать себе форму, структуру, сущность и бытие. И вполне мог сделать вывод, что он сам, Ж. Делез и является тем, кто превращает свою жизнь и весь ее мир из зияющего хаоса древних греков в структуру, обозначенную его именем. А тогда ризома уже не постулат и не всеобъемлющее понятие, определяемое путем его интеллектуальной проработки, а только исходный пункт человеческого существования, от которого человек может двигаться к бытию.
Философия Ж. Делеза оказывается вполне правомерной, если человек живет во Вселенной, в ее вечности и бесконечности, и именно в этом состоит современность его жизни. Но тогда он уже и не совсем человек, потому что на самом деле он живет только на нашей планете, да и на ней в определенных странах, селах и городах. И поэтому он сам, его жизнь и создаваемая им культура, все-таки, имеют форму и структуру, заданную его ограниченной природой и самоограничением.
5
Межвременье, это — современность, неудовлетворенная своим состоянием и преодолевающая саму себя. Для нашей страны, где и в теории, и в практике, на протяжении ряда столетий социальная и материальная сторона общественной жизни не просто доминировала над индивидуально-человеческой, но и подавляла ее, думается, что субъективизм и индивидуализм помогают выправить этот застарелый вывих. Они так же абстрактны, как и любая другая теория. Но доказанная абстракция дополняет, а не опровергает другие доказанные абстракции. Точно так же и хорошо аргументированная индивидуалистическая концепция дополняет классическую социальную философию с ее историзмом, подключая к ней дотоле не учитываемый ею личностный и внеисторический фактор. Она позволяет увидеть общественную жизнь такой, какой она действительно является в глазах человека, обеспечивающего ее существование своим участием.
Точкой отсчета в этом тексте является субъективность, площадка и навязанные коммуникации. Она позволяет определить:
— предметность — человек современности;
— проблематику — межцивилизационная эпоха, характеризующая современность в России;
— общую методологию — ментальный портрет человека современности.
Кстати, что касается общей методологии, организующей текст этой книги, то ее придется разрабатывать. Тотальная, «перманентная» современность — новая предметная область для российской философии, да, пожалуй, и мировой тоже, несмотря на старания Делеза, Фуко и Баумана. Для каждого предмета разрабатываются свои методы, или же сильно видоизменяются существующие. В какой-то степени пригодится синергетика, но не потому, что она ныне у нас стала модной, а всего лишь потому, что применительно к гуманитарным и социальным наукам, где субъект участвует в предмете, она обещает очень своеобразный редукционизм не к прошлому, а к современности и субъективности, создающим общественную жизнь, а не пользующимся только тем, что создано предшествующими поколениями. В какой-то степени подойдет феноменология, герменевтика, только не текста или языка, а человека, экзистенциализм и другие концепции. Но их предстоит слить в особый сплав под углом новой предметности, и получить некую интегральную методологию, которая в этой книге называется «ментальным портретом современного человека», адекватным, на мой взгляд, современности, где всякий раз всё рождается заново и по-новому.
В конце концов, человек — единственная книга, которую стоит читать.
* * *
В этом исследовании только намечается подход к такой сложной теме. Отчасти оно перекликается с моими статьями из журнала «Социум и власть», и с книгами, в силу обстоятельств опубликованными в виде учебных пособий.
ОЧЕРК 1. Предварительное рассуждение
1.
Философия бывает разная, в частности, она может быть традиционалистской и философией современности. Эти очерки написаны в русле философии современности, чем и обусловлены их ограничения: с их помощью нельзя прогнозировать, можно только предвидеть, так как современность — субъективна. О будущем они могут сказать лишь то, что оно станет таким, каким его делают современники.
Непосредственным предметом этой книги являются общественная и человеческая жизнь в России конца XX — XXI вв., а проблематикой — попытка их теоретического представления. Если общество хочет жить и быть самим собой, оно должно соответствовать тем вызовам, какие ему бросают его население, природная и социальная среда, т.е. другие общества и их правительства. Управлять любым обществом сложно. А российским с его огромной, северной и слабо заселенной территорией, растянутыми и сухопутными границами, с его огромным социокультурным разнообразием, плохой согласованностью между культурами и с населением, на протяжении столетий имевшим самодержавие и крепостное право, и не имевшим суммарно и двадцати лет свободы сложно вдвойне. Если страна не захвачена и в ней не насаждаются чуждые ей порядки, то ее общественно-политический строй соответствует этим вызовам. Он соответствует, даже если губит страну, формируя управление, как пагубную технологию.
Сегодня российская современность может быть названа межцивилизационной эпохой. И это не стадия предшествующей цивилизации, Е. Н. Яркова, например, считает, что культурой межцивилизационной эпохи является постмодерн. Прежде всего, замечу, что это, на мой взгляд, меж-цивилизационная эпоха, и она никак не может быть «определенным историческим периодом в рамках развития одной и той же цивилизации», хотя это зависит от принятого в тексте представления о цивилизации. Однако межцивилизационная эпоха сегодня уже не проблема только России и стран бывшего СССР, судя по последним событиям на Западе, западные страны тоже соскальзывают в нее, только не путем обрушения, как СССР, а плавно, как свойственно демократиям.
Есть общество, которое уместно рассматривать как систему, то есть, как социально-территориальный организм, а есть общественная жизнь т.е. совокупная жизнь людей, составляющих общество, жизнь, протекающую в его пространстве, они взаимосвязаны, но различаются. Общественная жизнь, это общество в аспекте его существования, современности и содержания, говоря более привычно, в аспекте функционирования и самоорганизации, а общество, это общественная жизнь, рассмотренная формально, то есть, модель в пространстве и времени.
В пространственно-временном ракурсе, об общественной жизни принято говорить, как о целостном образовании, социуме, занимающем определенное место и переживающем длительный исторический период. Тогда она и может быть названа обществом, народом, нацией, исторической эпохой, социальной системой, цивилизацией, формацией. Что же до жизни в рамках социального организма, то она перекликается только с метафорой «жизнь людей», и вместе с нею может быть названа «экзистенцией».
Экзистенция — термин, который не будет слишком уж распространен в этой книге. Он, все-таки, чужд русскому языку, ровно настолько, чтобы за ним всегда ожидалась некоторая завершенная формальность, однозначная дефинированность и денотированность, семантическая определенность, в то время как этого здесь нет. Мне представляется уместнее, вместо него использовать давно бытующие в русской философии общественную и частную человеческую жизнь. Они означают то же самое, только на русском языке.
Этот русскоязычный характер слова, указывающего на самый предмет исследований, очень важен. Дело в том, что экзистенция — процесс деятельного существования, неотрывный от субъекта. Она занимает место и время, и исследуется не извне, а изнутри, как мыслящая жизнь и как целостное переживание субъектом его собственного окружения, как восприятие, мышление, чувствование, эмоциональная оценка, непосредственная реакция на любое изменение окружения, благодаря которой субъект достигает самостоятельного бытия, сохраняет его и поддерживает баланс со средой.
Экзистенция будучи индивидуальной всегда субъективно содержательна, а ее формальное описание должно быть таким, чтобы содержание не было потеряно. Это заставляет экзистенцию быть вечной метафорой, непрерывно рождающей терминологию, причем, не столько литературно-философской, сколько первобытно-предметной метафорой. С помощью таких метафор субъект проводит аналогию не между объективными событиями, явлениями, ситуациями, а между собою и собственным внешним миром, всегда, при любом уровне развития и цивилизованности сохраняя наивную способность понимать мир на свой собственный лад. Причина, по которой я использую термин «метафора», заключается в необходимости подчеркнуть роль переноса значения с себя на внешний предмет.
Это наивное понимание предметов сохраняется в глубинах любого формального и математизированного понимания самого абстрактно мыслящего ученого, оно лежит в основе его творчества, без которого нет и науки, без которого она превращается в простое ремесло лаборанта. И тогда формальность теоретического описания человеческой и общественной жизни уже не может быть только научным описанием и логической систематизацией признаков и существенных свойств. Из абстрактного описания теория превращается в литературно-философское выражение и представление ориентиров субъективных переживаний, а содержащееся в теории знание становится не так информацией, как информативно насыщенным образом, где обязательно присутствует субъективное отношение.
Можно ли строить такие теории, а если можно, то каким прагматизмом они обладают? — В этом заключается проблематика последней главы моих очерков.
2
Книгу можно было начинать и отсюда, с того, как формируются площадки, но можно и заканчивать ими. Площадка и человек на ней, пожалуй, самое главное.
За пределами известного нам мира, включая в него и человеческую природу, находится хаос. Однако хаос не является беспорядком, это древнегреческий хаос: зияние, непознанное, пустота, лишенность формы, бесструктурность. И самое ключевое слово для его характеристики — непознанность. Лучше всего он изображен в «Черном квадрате» К. Малевича, однако увидеть его можно и в обыденной жизни, достаточно безлунной и беззвездной ночью из ярко освещенной комнаты посмотреть на небо в открытую форточку, и увидишь тот же квадрат, абсолютную деструктурированность. Ну, или присмотреться к путанице своих снов. Отсутствие структуры нельзя увидеть, там видеть нечего, и поэтому она предстает перед нами отдельными бессвязными и несистематизируемыми вспышками форм, создаваемых нашим воображением, то есть, беспорядком. Нам попросту неизвестно, что находится за пределами известного нам мира.
Мы упрощаем хаос, придавая ему отчетливо зримую форму, иначе в хаос обратится сам наш разум. Мы ограничиваем и структурируем его своей волей и творчеством, и вытесняем за пределы площадки, созданной нами или неизвестно кем и предзаданной нам. Но за ее границами он остается тем же чистым хаосом, то есть фактической непознанностью.
Площадка, это ограниченное пространство, в котором и расположен любой отдельный субъект, в том числе и социум. Любая практика актуально или потенциально сопровождается ограничениями, в этом и заключается суть площадки. Это могут быть ограничения, налагаемые субъектом управления, природной или социальной средой. Если они налагаются средой, то означают организацию и управление, так как по сути указывают на необходимость считаться с обстоятельствами. Все дело, следовательно, в мере этих ограничений, не противоречат ли они друг другу и человеческим намерениям, способствуют ли или препятствуют тому, чтобы человек обретал форму, обеспечивающую его жизнь и социальную ценность самовыражения, такую форму, какая при этом не мешала бы жизни других людей и не девальвировала бы их ценности.
Если ограничения устанавливаются изнутри площадки, то это — самоорганизация и самоуправление. Оно спонтанно устанавливает такую форму, целенаправленное же управление корректирует самоуправление с позиции личности или института, проводящих давление среды. В этом смысле, оба вида управления всего лишь конфигурируют границы площадок, соотнося их с природой субъективности и окружающего мира.
Совершенно не важно, что исторически развивающееся общество узнает о мироустройстве все больше и больше, оно все равно знает исключительно мало, а человек, живущий не в истории, а в современности, не знает почти ничего, будучи ограниченным и кратким сроком жизни, и своей узкой специальностью, и другими условиями.
Если в обществе главной ценностью является личность, то самоуправление должно доминировать над управлением, не более чем корректирующим его. Такое общество обязано быть демократичным. Если же на первом месте по значению находится социум, то оно неизбежно трансформируется то в тоталитарное управление, то в диктатуру, где оно вытесняет самоуправление, лишает его ценности и предписывает каждому человеку образ жизни. И тогда оно порождает самодержавие, вынося образ самодержца как фокус социальной жизни за ее пределы. Такое общество создает себе фигуру царя и персонифицирует ее в каком-либо индивиде, не зависимо от его способности соответствовать этой фигуре, и даже не зависимо от его принадлежности к роду человеческому. Он может быть человеком, инопланетянином, котом, по остроумному совету Марка Твена или вообще не существовать иначе, как в живописном или экранном образе. Гораздо важнее, что в него верят, ему поклоняются и послушно исполняют волю, заявленную от его имени.
Экзистенциальный диалог, это осмысляющий и культуронесущий диалог в первую очередь между людьми, он протекает в рамках площадок, возникающих и меняющихся в нем. Человек — существо социальное, но в равной степени и индивидуальное. Социальность проявляется в его стандартности и материальности, а индивидуальность — в идентификации человека с самим собой, в самобытии, в духовности, свободе и творчестве вплоть до маргинальности его образа жизни. Управление стандартизирует всех, самоуправление выводит свой субъект за пределы стандарта. В отличие от этих абстракций, реальная жизнь сочетает демократию и самодержавие, отдавая человеку власть над самим собой. В зависимости от того, сколько людей в обществе властны над собой и способны к творческому самовыражению и свободе, в зависимости от того, насколько они способны распоряжаться своей жизнью, общество и может быть идентифицировано как демократическое или самодержавное.
А хаос, который мы называем «природой мира» создает экспериментальные площадки, социальные аттракторы, — мы их называем цивилизациями, государствами, странами, и в каждом утверждает свой порядок. Разные порядки начинают конкурировать уже на международной арене, укрепляться или угасать, а победивший в конце концов порядок превращается в свою противоположность, демократия чревата охлократией и диктатурой, а диктатура демократией. Уж слишком много людей теперь живет на Земле, и каждый со своими взглядами и интересами, они сами привносят в свою жизнь хаос, желая порядка, но на свой лад.
Площадки создаются под влиянием объективных факторов, не зависящих от сознания человека. Этих факторов два: объективен внешний мир и объективны общественные условия, созданные или создаваемые самими людьми. Общественные условия бывают такие, какие формируются ими целенаправленно, и такие, что возникают спонтанно, в силу социальной самоорганизации толп в ограниченных условиях площадок. При этом самоорганизация начинается с осознанной и целенаправленной деятельности человека, считающего, что он хорошо владеет обстановкой, но в какой-то момент его деятельность и ее результаты вдруг выходят из-под его контроля и начинают демонстрировать силу, подпитывающуюся обществом, а не индивидом.
Пусть это — сила вторичной субъективности, но она, тем не менее, от нас не зависит уже потому, что мы рождаемся в условиях готовых, сложившихся площадок, созданных предыдущими поколениями, и они задают созданные ими же элементы нашего окружения, по отношению к которым нам необходимо определяться. Абсолютная демократия утопична, как и абсолютный тоталитаризм, в реальном обществе всегда есть обе тенденции, поэтому управление им на всех своих уровнях требует особой аккуратности и сравнимо с искусством канатоходца, это баланс между свободой самовыражения и принуждением к стандарту.
В межцивилизационных условиях вторичная социальная субъективность ослабевает, связи разрываются, отношения угасают, человек высвобождается от общества в силу того, что оно становится рыхлым и распадается, но полностью эта субъективность не угасает никогда. Она передается через самого человека, через то обстоятельство, что в каждой современности взаимодействуют люди разных возрастов, как те, какие только что родились и являются подлинными детьми межвременья, так и те, кто сформировался и состоялся в предыдущую эпоху и стал носителями самой этой эпохи, ее ценности и нормы превратились в их привычки.
На каждого человека действуют привычки людей, пользующихся для него авторитетом, в том числе, и привычки к угасшим или мнимым ценностям. Они передаются через рассказы, становятся мифами и метарассказами, формируют идеалы и утопии, а через них оказываются общественными целями и побуждают восстанавливать утраченные ценности. Может быть, не в том виде, в каком они были естественными раньше, в новом, но восстанавливать. Трудно ожидать от досоветского или советского генерала, что он в постсоветскую эпоху легко уйдет в фермеры, что советский министр или сотрудник КГБ, работник аппарата ЦК КПСС станет честным бизнесменом. Точнее, станет, если нужда заставит, но именно советское, сохранившееся в душе, заставит его и через бизнес воссоздавать весь тот строй, какой он утратил.
Межвременье, переживаемой Россией сегодня, преодолевается в течение минимум трех поколений. Но речь идет не о демографических, а о культурных поколениях, о людях самых разных возрастов, но разделяющих одни ценности, рожденные минувшей эпохой, поколениях, которые являются скорее субэпохальными, и череда которых составляет временной строй, структуру эпохи.
Человек создает ценности, а ценности формируют человека в тех пределах, в каких он является личностью определенной культуры, они оставляют нетронутой только индивидуальность, и то не у всех, а у тех, кто по разным причинам с самого начала сомневался в этих ценностях. И чем дольше длится культурное поколение, тем меньше таких людей. Сопротивляемостью эпохе обладают люди, принадлежащие другой культуре, и те, кто свою личность сформировал сам из материала разных культур, они и становятся первичными субъектами общественной жизни. Они и вступают в борьбу за свои права с выродившимся обществом, персонифицированным, тем не менее, в своих персонажах.
Как субъекты, они действуют в современности, но их действие уходит в новую эпоху, где они уже не властны над результатами в силу собственной ойкуменальности. Никто не знает, к чему приведут его усилия, большинство даже и не задумывается, как не задумывались наши предки в гражданскую войну, что вера в доброго царя приведет к новому, сталинскому самодержавию, как не задумывалось большинство, что самодержавие способно возрождаться, и его придется удерживать от реставрации после третьей революции 1991 года. А оно наиболее естественно сейчас, любое межвременье переживает период мягкой или жесткой, скрытой или явной диктатуры, когда требуется навести порядок. И любой порядок поначалу формален, пока он не воспитает свой тип личности и не станет для него ценностью.
3
В XX веке была разработана синергетика как философия нестабильности и теория самоорганизации хаоса в порядок. Она потеснила классический детерминизм и дала возможность изучать историю, в которой время доминирует над пространством и является продуктом непрерывного творчества, выбора и решения. Для общества же она оказалась теорией не только самоорганизации, но и эволюции самоуправления, предполагающего социально направленное творчество индивидов. И, пожалуй, она методологически наиболее пригодна для анализа межвременья.
Общественная жизнь, текущая на ограниченной площадке, неизбежно либо сваливается в самоуничтожительный конфликт, когда она прекращается вместе с ее проблемами, либо самоорганизуется, находя какие-то компромиссы между участниками. А так, как она все еще идет, то, следовательно, эти компромиссы находятся. На самом деле, самоорганизация общественной жизни для ее отдельных участников означает организацию без всякой приставки «само». Отдельные личности обладают достаточной субъективной силой, чтобы организовать ее фрагменты в более-менее устойчивые аттракторы. Они как фокусы в оптике притягивают к себе людей, становятся авторитетными и создают основы власти. С этого и начинается их управление, которое для общественной жизни в целом выглядит как самоуправление до тех пор, пока она не расколота и не превращена в борьбу взаимно непримиримых классов.
В этом важнейшая проблема управления в условиях межвременья, в том, чтобы влиять на умы, не вызывая отторжения, и не доводя дело до классовых конфликтов. Популярный метод «эффективного менеджмента» И. В. Сталина тут не годится, репрессии обостряют конфликт, до поры загоняя его в глубину, но лишь только созданная таким «менеджментом» система чуть-чуть демократизируется, как конфликт выходит на поверхность и разрушает ее. Это и продемонстрировал опыт М. С. Горбачева, Советский Союз попросту догнала заложенная еще в двадцатые годы классовая борьба: репрессии, насильственная коллективизация и т. д. Не годится и сегодняшний опыт гламурной лакировки противоречий, они есть, и обусловлены не только ошибками в управлении, но и сложностью такой системы, какой является Россия.
Чем больше единиц управления в системе (людей, групп, предприятий, территорий и т.д.), чем более разнообразны их культурные и природные условия, чем слабее транспортные коммуникации, тем сложнее управлять, сложнее договариваться, тем больше система идет вразнос. Тем больше разрастается бюрократия и складываются условия для единовластия. А оно уже провоцирует не то, что национализм, а прямо нацизм, разрывающий систему. Между демократией и самодержавием нет строго маркированной границы. Аналогичная проблема стоит и перед Евросоюзом. Достаточно проследить корреляцию между усложнением европейского пространства (появление новых членов, рост миграции, рост численности населения и т.д.) с одной стороны, эволюцией брюссельской бюрократии с другой, и с третьей стороны динамикой представительства националистических партий в Европарламенте, ростом привлекательности их лозунгов для населения, как все становится очевидно. Это конечно еще не нацизм, но уже зарождение сепаратизма, обусловленное пробудившимся патриотическим чувством. Нельзя централизованно из Киева управлять Донецком, как из Москвы нельзя управлять Кавказом, Уралом или Забайкальем. Нельзя из Брюсселя управлять Берлином, а из Вашингтона — Техасом. Они сами будут собой управлять.
США решили эту проблему путем федерализации, предоставив преимущественные права управления на места. Это правильно, но действует до поры. По мере усложнения каждого штата, им приходится все больше навязывать «Вашингтонскую бюрократию». Так и появляется в США и в ЕС «политкорректность», одно из проявлений бюрократии, переосмысляется классический либерализм и демократия, меняется их суть так, что они больше похожи на самодержавную вертикаль власти, чем на ту демократию, что была им присуща еще лет 40—50 назад. В теории управления важна мера соотношения внешнего из столицы распоряжения и самоуправления на местах. Переберешь с одним, и центр начинает навязывать свою волю, не считаясь с провинцией, переберешь с другим — и в провинции возрастает степень сепаратизма и анархии.
Тем более что это происходит сейчас, на фоне практически развертывающейся глобализации. Вероятно, мы сегодня наблюдаем спонтанное упрощение систем управления, выраженное в сепаратизме и изменении исторически сложившихся границ, противоречие между нарастающей сложностью и исторической традицией. С одной стороны, все привыкли к тому, что США это — США, Россия — Россия, а Германия — Германия. А на практике, США в большой степени — Китай, Мексика, Россия, Ирландия, Англия, а Россия — конгломерат Татарии, Кавказа, Европы и того же Китая, а Германия — Турция, Россия и косовские албанцы, Франция — это Алжир и Марокко, Британия — это арабы и индийцы. И все это каждодневно меняется.
Новые площадки возникают и изменяют свою конфигурацию в результате вынужденной глобальной интеграции культур. Мир, перечеркнутый старыми государственными границами, больше не соответствует новым условиям. И это объективный фактор, не составляющий ничьи интересы. Глобализация неизбежна, но она создает условия для нового передела. Для кого-то эти условия важны, кому-то они не интересны, но они складываются сами собой. Тот, для кого новые условия важны, ими пользуется. Кому выгодно таяние льдов в Арктике? — Вроде, никому, но им сразу заинтересовались нефтяники всех стран.
Очень легко объяснить многочисленные ошибки России, США или Евросоюза глупостью или продажностью их лидеров, но это, пожалуй, упрощенное объяснение. Кто умеет демократически управлять системой, состоящей из бывших врагов и формирующейся с нуля (Евросоюз)? А системой, в которой множество самостоятельных государств в силу нарастающей сложности и взаимного давления проникают друг в друга, создают единую финансовую, экономическую, технологическую цепочку, но при этом сохраняют все права самостоятельных государств (США)? А Россией, чье самодержавие сложилось под влиянием огромной доли северных территорий, Орды, крепостного права, гигантского, слабо освоенного (только пятнами) и совсем не управляемого пространства, невероятного культурного, религиозного и географического разнообразия, необходимостью защищать гигантскую государственную границу, содержать непомерно огромную армию и нерентабельные регионы, взимать для этого колоссальные налоги, соответственно, принуждать, давить, брать всё под полицейский контроль? А огромный полицейский аппарат и еще большее налоговое бремя означает нерентабельность бизнеса, госэкономику и планирование, и опять-таки единовластие, а это значит, откровенная либо скрытая форма крепостничества, корпоративность, коллективное сознание.
Самодержавие некий вариант гламурных империй, помимо нас только Испания да Франция от Людовика XIV до Наполеона III могла чем-то подобным похвастаться. Самодержавие, это не тогда, когда царь или король издает общеобязательные законы, а когда он может проконтролировать их исполнение, сам же, при этом, им не подчиняясь, это надсоциальный институт.
Хорошо американцам, у них со всех сторон океан, они до сих пор не заморачиваются охраной госграниц! У них, с точки зрения России, похоже, и пограничников нет. Высадился на побережье в плавках, и пошел. В США полно кубинского рома и гаванских сигар, несмотря ни на какие блокады. Что там охранять, границу с Канадой и Мексикой? Российские пограничники и таможенники только горько ухмыльнутся, особенно сегодня, в условиях фактически открытых, а где-то и не демаркированных границ.
Контуры мирового пространства меняются всегда. Они сначала накапливаются в пределах государственных границ, потом переходят в цивилизации, а потом взрывают и их тем, что цивилизации просто проникают друг в друга. Правда, они до поры меняются не так быстро и заметно. 1949 г. — распад колониальных империй, 1991 — распад СССР, между ними 40 лет кажущейся устойчивости, во время которой тем не менее происходили и открытые изменения в Африке, и скрытое накопление исламских ценностей в Европе, китайских в США, и западных в СССР. Сейчас просто все вылезло на поверхность. Достаточно сравнить политическую карту мира 1955 г. издания с картами 1968 и с современными.
Я пытаюсь набросать контуры общей теории, объясняющей то, что кажется глупостью. А это — не всегда глупость, просто меняется структура площадок, социального пространства разных регионов. И меняется по-разному, в зависимости от уровня развития региона.
Мы в самом центре Евразии, более того, мы чуть ли не половина Евразии, а это по сей день центральный мировой материк, 90% политики происходит в Евразии, почти все войны, революции и перевороты — там же. Есть США — цивилизация на основах демократии, и есть мы — на основах самодержавия, США — цивилизация экономико-технологическая, а мы — политико-технологическая. Мы — альтернатива, и именно поэтому для США и Евросоюза неприемлемы, как они неприемлемы для нас сегодняшних. Разнообразие культур в условиях глобализации неизбежно, культуры самоорганизуются по-разному, но разнообразие самостоятельных цивилизаций невозможно потому, что это означает различие в объективных законах развития и функционирования, это всегда острая до вражды конкуренция, которая в условиях нового вооружения чревата самоуничтожением всего человечества. Кто-то должен уступить, а демократическое общество уже потому, что оно основано на множественности субъектов уступить просто не в состоянии. Уступить может только самодержавное, как когда-то добровольно уступил Советский Союз.
Чем меньше общество организовано, тем больше в нем действует статистика стихии, а они потому и стихии, что ни от кого не зависят. Мировое пространство, подчиненное международным отношениям, никогда особенно организовано не было. Невозможно проконтролировать одновременно: миграцию, туризм, обмен студентами, преподавательские стажировки, поездки бизнесменов, поездки на конференции, нелегальный товарооборот, контрабанду, наркоторговлю, активность криминала, международные браки, неоправданную самоуверенность разных лидеров, обоюдное воровство культурных ценностей, идеологическую и корыстную дезинформацию со стороны СМИ и т. д.
Эта независимость общественных законов от индивидуального сознания, как ни странно, хорошо известная уже со времен СССР, действует аналогично природным законам и создает ту самую предсказуемость, считаемую по тенденциям и трендам, которой так не хватает России. У нас опять гиперорганизованная страна, располагающая односторонней властной вертикалью узкой группы элит, а значит, крайней затрудненностью обратных связей, тотальным паноптизмом, и зависящая от воли одного коллективного и анонимного лидера, персонифицированного в образе Президента. Чтобы предсказать поведение России, необходимо предсказывать поведение разнородных и конкурирующих элит, возглавляющих ее.
Чего боятся на Западе? — Того, что у нас тенденции и тренды не работают, вместо них — опять «государственная воля», а это — воля лидера, рационально не просчитываемая. Мы, стало быть, непредсказуемы, а против непредсказуемости можно защищаться, только изолировав непредсказуемое пространство и относясь к нему, как к потенциальному противнику.
Тенденции складываются исторически, а самоорганизация происходит в современности, тенденции социальны, а самоорганизация именно личными волями и обусловлена. Но одно дело, когда страна демократична и там более-менее влияет воля каждого, а другое дело, когда на всю страну — одна единственная воля. Мы — вполне европейская цивилизация, но альтернативная США, так исторически сложилось. У нас — самодержавие, у них — демократия, а между Россией и США — третья цивилизация, гуманитарная Западная Европа. Типы же цивилизации очень медленно меняются, целенаправленно их изменить, это как изменить генотип живого существа.
В условиях глобализации меняется сам способ самоорганизации, исчезают не просто Великие Державы, имеющие интересы по всему миру, но исчезает само государство, как угасают государства в Евросоюзе и в США. На передний план выходит понятие Великой Культуры, не цивилизации, которая становится одна общечеловеческая, а Культуры, не имеющей интересов, но оказывающей влияние на весь мир.
Какая из нынешних национальных культур способна стать образцом для создания новых площадок для всего человечества, какая из нынешних стран обладает такой культурой?
4.
Общество организуется и стабилизирует свою жизнь, а она в ответ придает обществу динамизм и хаотичность. Так, что можно предполагать, именно общество определяет границы собственной жизни, благодаря которым, оно и выглядит супериндивидной, самостоятельной, целостной и внутренне связной системой. А общественная жизнь, напрямую переходя в жизнь человеческую, обусловливает духовность или бездуховность, нравственность или безнравственность, свободу или зависимость людей, а в конечном счете, ту мотивацию и тот практический характер, которые непрерывно давят на формальные границы социума и изменяют их.
В отношении к индивидам, общественная жизнь представляет собою взаимно согласованный и взаимосвязанный поток их частных практических действий — внешних проявлений внутренней мотивации. «Я хочу = Я действую», — а если не действую, значит, не так уж хочу, или чего-то другого хочется больше. Все потребности и интересы, убеждения и верования, знания и иллюзии сосредотачиваются в воле к тому, чтобы сделать нужный шаг для получения необходимого, чтобы оно стало органичной частью «моего жизненного мира». Из этого и складывается общественная жизнь, глубокая, как океанская бездна, или мелкая как прибрежная отмель, временами пересыхающая и распадающаяся на отдельные лужицы. А ее границы обозначают единое пространство, называемое «Океан».
Так же, как в Океане, в общественной жизни могут вырастать острова, возникать перешейки, изолированные моря, строиться прибрежные плотины. Можно представить и высыхающий океан, распавшийся на отдельные большие и мелкие, связанные и не связанные друг с другом озера. Река может менять русло, вокруг нее после весеннего наводнения могут появляться старицы. Но мелеющий океан есть только там, где вода, но не там, где его обозначенная на старых картах претензия. Сегодняшнее Аральское море, это не его бывшее дно, а те лужицы, какие от моря остались. И общество существует лишь там, где есть люди, относящие себя к нему, но не там, куда указывает его государственная воля.
5
Последние сто лет в нашей науке разрабатывались только теории общества, но не общественной жизни. В результате возникла иллюзия, что политические границы СССР совпадали с его государственными, культурными и социальными границами. Это понятно, наука должна быть формальной и теоретичной. Подражая давно доказавшей свою правомерность классической физике, социальная наука может строить теории. Но считается, что это невозможно, опираясь на гуманитарную философию, очень уж та художественна и связана с уникальностью каждого человека, запрещающей обобщать. Правда ли, невозможно?!
В конце концов, художественная литература обобщает, а ее образные типизации на практике построены тою же интуицией, что и научные понятия. И давно подмечена неразличимость границы, где роман переходит в философское сочинение крупного писателя, тем не менее, при всей незаметности границы, сочинение, явно отличающееся от развлекательного рассказа, и уж тем более от демагогической болтовни или идеологического плаката. Это происходит везде, где есть слово, всегда сохраняющее в себе потенциал превращения и в термин, и в симулякр. Слово позволяет поэзии выражать не только стихию языка, но и стихию мысли, быть и называнием вещей, но и молитвой. И не только слово, а любой знак, созданный культурою: музыка, танец, живопись и т. д.
Рискну предположить, что время и современность, общество и его жизнь — разные предметности, для которых нужны разные методологии, дающие разные теории, как-то соотносящиеся друг с другом. Я не сторонник того, чтобы считать монистический логоцентризм и теоретизм исторической ошибкой или пройденной на сегодня стадией в познании. Скорее всего, критикующая логоцентризм гуманитарная философия XX и XXI века просто нашла его дополнительные измерения. Однако думается, что даже в классическом виде и теоретизм, и логоцентризм правомерны и актуальны при исследовании общества, пространства и времени его бытия. А для общественной жизни сам их смысл должен кардинально меняться и индивидуализироваться.
Монистический логоцентризм становится плюралистическим, обнаруживающим проблему поиска новых теоретических способов описания и модельного представления. Просматривается аналогия между ними обоими с одной стороны и средневековыми апофатикой и катафатикой с другой, с теорией двух истин или с активно разрабатывающимися в западной философии XX века генерализующим и индивидуализирующим, номотетическим и идеографическим подходами. Ю. Хабермас довольно давно пояснил, что речь идет не менее чем о разработке новой методологической рациональности, хотя я и не думаю, что тотализующая позиция в исследованиях так уж устарела, как он на это указывает. Она просто другая, и у нее другие задачи и результаты. Более-менее точная, объемная характеристика изучаемой реальности может быть получена лишь одновременным анализом с разных сторон, подобно тому, как еще недавно стереофотография получалась только съемкой предмета с двух позиций на один кадр.
6
Здесь рассматривается концепция общества преимущественно в аспекте современности, то есть, общественной жизни. В этом ракурсе я по возможности абстрагируюсь от общества как такового и его исторического времени, то есть, от привычного линейного историзма Модерна. Это не значит, что классический историзм объявляется преодоленным или ошибочным, нет, просто обнаруживается его абстрактная односторонность, и он наполняется фукольдианскими значениями. Я не совсем согласен с базовым тезисом К. Поппера о том, что историческая необходимость является предрассудком и исторические прогнозы с помощью рациональных методов невозможны. Иначе бы они были невозможны во всех социальных науках, в то время как экономическая наука, социология и политология только на них и живут.
И историческая необходимость, и опирающиеся на нее прогнозы и возможны, и точны. Просто у них другое, не формально-логическое значение. Они точны лишь тогда, когда их смысл раскрывается ясным пониманием, исходя из которого конкретные человеческие субъекты создают общественную жизнь и общество как способ и форму своего существования. А без учета живых и индивидуальных людей исторический прогноз действительно не имеет смысла, так как его некому делать, некому адресовать, и никто не может его осуществлять. Общественная жизнь и общество создаются людьми, отсюда и прогнозная перспектива, являющаяся не более чем способностью хоть в какой-то мере, но знать, что мы такое создаем.
Абстрагироваться от общества и исторического времени в этой книги приходится потому, что общественную жизнь можно изучать лишь в аспекте современности, причем, понятой не как сиюминутность, а как контемпоральность. Этот аспект слабо представлен в сегодняшнем российском мышлении, зато вопросы «происхождения народа», его «самоопределения», «независимости», «ультрапатриотизма», «исторического наследия», «преемственности культур и политических устройств», «эпох», «цивилизаций и формаций», «целостности государств» и т. п. продолжают активно обсуждаться. Именно те, старые вопросы, какие характерны для зарождающихся наций, и были актуальны в эпоху раннего Модерна и Просвещения.
Конечно, историческое время, как и пространство неизбежно будут присутствовать в моей работе уже потому, что они всегда рождаются в современности любого живого субъекта. Но в том и дело, что и пространство, и время возникают в современности, в практике живых людей, а не наоборот. Конечно, возникнув они предопределяют практику, однако именно людям свойственна сознающая себя индивидуальность, способная выходить за пределы пространства и времени. А если предположить, что современность образуется во времени, то появляется много несообразностей, когда, например, приходится считать, что современно все, что относится к одной и той же эпохе, и что, в силу единства каких-то базовых ценностей эпохи сближаются и отождествляются друг с другом. Тогда, например, крепостное право Екатерины II современно демократическому праву середины XX века уже потому, что по времени оба относятся к эпохе Модерна, а русское самодержавие, это — то же самое, что Президентская Республика, а следовательно, достаточно переименовать самодержца в президенты, и больше ничего менять не надо, это и будет Демократия.
Конечно, бывает, что между Царем и Президентом нет никакой разницы, но это все-таки не в силу одинаковости царизма с демократией, а из-за того, что политика, проводимая властью, может быть и жестко, и мягко самодержавной по желанию и воле власти, из-за ее интересов, а не по каким-нибудь объективно-историческим причинам. Эти причины, на самом деле, не более чем предметные условия, которые власть может комбинировать по своему усмотрению, на пользу себе или обществу, но и, в случае серьезных ошибок, во вред. То, что прыжок с небоскреба по причине земного притяжения неизбежно повлечет за собой сотрясение мозгов, не отменяет возможности этого прыжка по глупости. И демократия, и самодержавие — больше каждодневный политический выбор, чем исторически унаследованная неизбежность. Историческое же наследие — материал практики, начинающейся по мере выбора, оно осложняет или облегчает практику, но не предопределяет ее.
7
Советское мировоззрение было чрезмерно историческим, но историческим в классическом детерминистском духе. Принцип историзма, характерный для средневекового и модернистского мышления, вполне правомерный и необходимый для анализа прошлого и для социальных прогнозов, в СССР был искусственно культивирован, и стал основой его организации, политики и одной из базовых ценностей его мышления. Думаю, в какой-то степени именно историческое мировоззрение во многом повлияло на распад СССР как единого общества со своей особой культурой, обусловленная им убежденность, что любой общественный строй, в том числе, и советский, в своих основах всегда содержит причины будущего самоуничтожения. То, что исторично, всегда заканчивается, и жизнь СССР была наполнена одновременно оптимистическим (строительство светлого будущего) и апокалиптическим умонастроением.
Классический историзм, может быть, и пригоден для целостного общества как единой социальной системы, но для множества людей, чей поток и составляет общественную жизнь, правомернее принцип современности. Оба принципа должны дополнять друг друга, как дополняют друг друга общество и человек. Историзм связан с тотальностью, а современность с единичной человеческой сингулярностью, с индивидуальностью, демократией, свободой, креативностью.
Я акцентирую именно современность в значении контемпоральности, полагая, что об историзме у нас пока рассуждать нет надобности, за века эта ценность и без того глубоко проникла в «историческое бессознательное». А вот говорить о современности необходимо, она до сих пор слабо различается и почти не учитывается ни в политике, ни в экономике, ни в правовой организации.
В западной мысли работа по переоценке их собственного Модерна продолжалась весь XX век. Особенно велика, на мой взгляд, роль экзистенциализма и некоторых лучших философов т.н. постмодерна, пересматривавших Модерн под углом контемпоральности (Ж. Делез, М. Фуко и др.). Эта работа привела в итоге к попытке объединения Европы, мультикультурализму, толерантности, политкорректности и некоторым другим чрезмерностям, за которыми опять, похоже, наступает тоталитаристская, националистическая и ультрапатриотическая реакция. Можно предположить, что жизнь в одной лишь современности способна вызвать шок и моральную усталость, аналогичную футурошоку Э. Тоффлера. Уже это наводит на мысль о том, что жить в «чистой» современности невозможно. Что до нашей страны, то здесь был культивирован «чистый» Модерн, жизнь в котором оказалась тоже невозможной. Между ними должна быть найдена пропорция и установлен паритет. Каким он будет, могут показать дальнейшие исследования и практика. Мои же очерки всего лишь о современности и межвременье, органичное усвоение которых, думается, нужно нынешнему российскому мышлению, они предназначены скорее для обозначения проблемы, чем для ее решения.
8
Современность — предмет гуманитарно-философского познания, лишь в нем она вообще обнаруживается. Наука служит только системой ограничений философии, направляющей ее интеллектуальную энергию и культуру на определенную и данную в опыте предметность. Причем, в первую очередь, это — экзистенциальная философия, совпадающая с самой мыслью ученого. Она всегда локальна, современна, она экзистенциально содержательна, и имеет творческий и поисковый характер. Она заставляет выдвигать гипотезы, пересматривать картины мира, и побуждает самого ученого философствовать, если существующая философская литература его не удовлетворяет.
В гуманитарном исследовании современности есть своя аксиоматика, свой «логоцентризм» и «редукционизм». Подобно тому, как Ф. Бэкон в XVII в. перевел аксиоматику познания с теологических догматов на экспериментально полученную предметность, Р. Декарт сделал то же самое для гуманитарного исследования, показав, что можно исходить только из данных, полученных в непосредственном опыте:
— Есть «Я», каждый человек как данность самому себе в качестве одушевленного, мыслящего и телесного существа.
— Есть некоторое множество «Других», составляющих предметное окружение каждого «Я».
— Есть ограниченное пространство, в рамках которого сосуществуют друг с другом «Я» и «Другие» (площадка).
— Есть отношение мыслящего «Я» с его окружением, и это отношение проявляется в двух планах: как телесное и как одушевленное отношение (экзистенциальный диалог и навязанные коммуникации).
И пока что, распространенные во второй половине XX века попытки «преодолеть Декарта» ведут только к дегуманизации человека. А если гуманизм понимать не как политический тезис, а как признание того факта, что люди являются единственными персонажами человеческой истории, то дегуманизация означает лишение человека субъективных качеств, и в первую очередь, мышления, то есть, она означает новое обличие тоталитаризма как у нас, так и в любых странах Европы или Америки. Чем же он тогда собирается познавать?
Тогда познание оборачивается дискурсивным языковым описанием, человеческое мышление уравнивается с искусственным интеллектом, а Декарт все равно остается в своем праве, так как обезмысленный человек, действительно, «машина», пусть даже это делезовская «машина желаний». Начинаются парадоксы, история превращается в абсурд, люди уходят из нее, и она становится историей никем не сконструированных и не построенных машин.
Но если, хотя бы путем первобытной метафоры, по самому себе признать, что люди существа неизбывно субъективные и мыслящие, принять этот факт за непосредственную данность, то неизбежность отношений мыслящих индивидов в ограниченном пространстве обусловливает экзистенциальный диалог как основной способ их сосуществования.
Экзистенциальный диалог ведет к тому, что каждый индивид занимает в общественной жизни свое собственное определенное место, порожденное множеством экспектаций, как тех, что он адресует к окружению, так и тех, что адресованы ему. В результате индивид становится комплементарным с другими индивидами в пространстве их совместной общественной жизни.
Комплементарность выражается в представлении нормальности/ненормальности своего и других положения в этом пространстве. Производными от этого представления становятся нормы, девиации, легитимность и не-легитимность общества.
Нормы оказываются способом существования социокультурных парадигм — коллективно выработанных представлений о некоторых типичных качествах человека, мира и их взаимоотношения, какими они должны быть. Парадигмы в качестве своей субъективной формы вырабатывают социальные грани индивидуальных сознаний множества участвующих в общественной жизни индивидов.
Субъективные формы парадигм становятся основой групповых норм и девиаций, закрепляющихся базовыми институтами власти и оппозиции. В таком закрепленном институтами обличии они и оказываются субцивилизациями и цивилизациями. Цивилизации выступают теми структурами общественной жизни, какие придают ей качество общества. Субцивилизации оборачиваются общественными кругами.
В рамках этой концепции современность и межвременье существуют только на уровне индивидов как оценки легитимности и не легитимности их совместного существования с Другими. На уровне же всей общественной жизни, они принимают облик цивилизаций и межцивилизационных эпох.
А отсюда уже следует, что как о цивилизации, так и о межцивилизационной эпохе можно говорить, только опираясь на их индивидную основу.
9.
И наконец, предваряя дальнейшие рассуждения, напомню о том, что познание предполагает два аспекта: формальный и содержательный. И каждый из них должен раскрываться с двух сторон: объективно и субъективно. В этом случае, результат исследований становится многомерной моделью, адекватно характеризующей как самобытность предмета, так и его ценностно-смысловое наполнение.
Табл. 1. Многомерность исследовательских позиций и их результатов
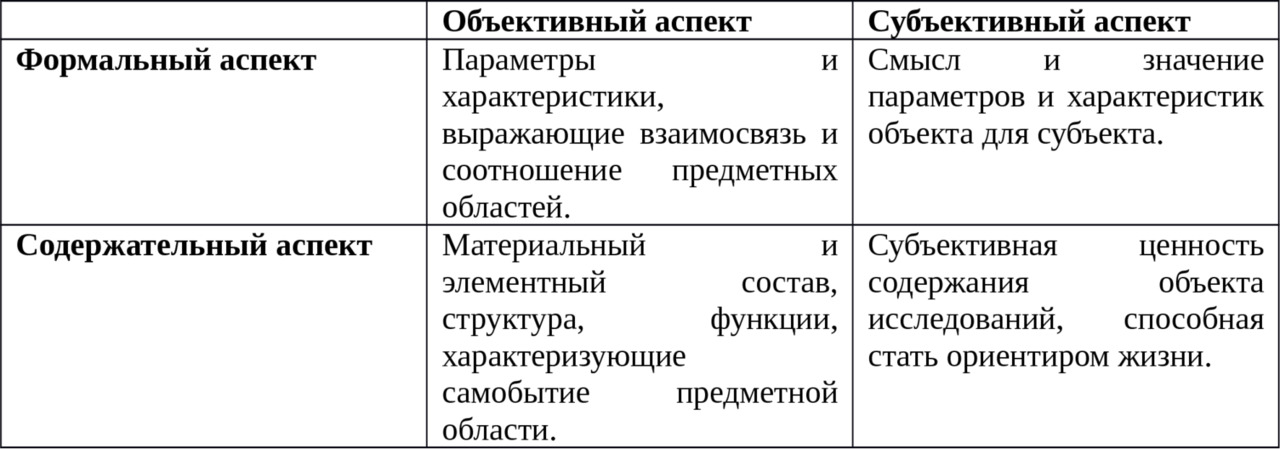
При этом адекватность знаний оказывается своеобразной пропорцией всех четырех позиций, когда каждая их них соотнесена со всеми другими, сохраняет свою действенность, но не подавляет действенность партнеров. Адекватность становится продуктом своеобразного паритета позиций. Именно этот паритет поддерживался Модерном, развивающим все возможные способы познания и оформляющим их в виде специальных наук.
Модерн и формулирует основные максимы адекватного познания: каждая наука знает свою предметную область лучше других наук, а чужие предметы она представляет деформировано, под углом собственной предметности и для установления межнаучных связей. Эти максимы и становятся основой абстрактного гносеологического оптимизма Модерна, обещающего, пусть в необозримой перспективе, но возможность всестороннего исследования каждого предмета и природы в целом. А то обстоятельство, что природа при этом трактуется как бесконечное множество взаимосвязанных предметов, и ведет к чрезвычайно оптимистичному бесконечному развитию научного познания.
Познавательный Модерн сосредотачивается, прежде всего, в физикализме. Физика, доказавшая свою состоятельность, вторгается в биологию и создает биофизику, в геологию, формируя геофизику, в химию — и появляется физическая химия. Это все хотя и называется «интеграцией», на самом деле является экспансией физики, великой науки, но тем не менее, уничтожающей специфику биологии, геологии и химии тем, что она навязывает не свойственную им предметность. Впрочем, может быть, это и правомерно, и оправдано для естествознания, но для истории, социологии, экономики, политологии, филологии «физическая история», «социальная физика» «экономическая» или «политическая физика» уже противоестественны, так как никто не доказал с «математической надежностью» применимость математики к гуманитарным наукам. Зато неприменимость вполне доказана тем, что живому человеку свойственна свобода, и это отнюдь не непознанная необходимость, а бытийствующая реальность его существования.
Как полагается, всё испортили гуманитарные науки. С самого своего рождения в качестве специальных научных областей, с конца XIX века они уже заявили, что, во-первых, объектом их познания является сама познающая субъективность, а следовательно, знание о ней может быть адекватным, но объективным, при этом, быть не может. Уже это ставит под сомнение обязательную объективность научных знаний в том смысле, что это — знание о независимых от сознания свойствах предметности. Объективная независимость отныне становится уделом только естественных наук.
Во-вторых, гуманитарные науки конституировали уникальность своей предметности, это — индивидуально-человеческая субъективность, у каждого — своя. Что же до общей на всех субъективности, то она только модель, парадигма, позиция, продукт индивидуального познания каждого ученого, несущий в себе уникальный отпечаток его личности.
И в-третьих, объективность гуманитарного познания, в таком случае, оказывается независимостью полученного знания от личных предпочтений, независимостью, которая выражается и подкрепляется неизбежным диалогом ученых, консенсусом, выработкой общей позиции, научными коммуникациями, институтами, единой гуманитарной картиной мира и разработкой общих стандартов «официальной научной точки зрения».
И более того, именно этот вид наук разработал взгляд, согласно которому главным субъектом познания является вовсе не наука, а многообразие ученых, как объединенных в научное сообщество, так и существующих в эпизодическом контакте с ним, а то и изолированно от него. В этом научное сообщество похоже на любое физическое множество, например, на облако газа, тем более разреженное, чем ближе к его краям. А наука для каждого ученого не самоцель, а только доминирующая в его сознании культура, то есть, она — та форма, которая существует в его личности, наряду с культурой питания, отдыха, отношения к близким, наряду с футболом, детективами, фотографированием и пешими прогулками. Наука — характеризует ученого, но не исчерпывает его, и эта личная неисчерпаемость и «за-научность» как раз и поддерживает познавательный и креативный потенциал ученого, без него ученый просто не состоятелен, и в лучшем случае, он не более чем начетчик и занудный методист.
Таким образом, объективность познания оказывается весьма значимой, но не самой главной характеристикой научного знания. Главным же является его адекватность, то есть его изоморфность, эквивалентность изучаемому предмету, полнота соответствия ему, точное повторение предмета в субъективном пространстве знаний, как его самобытности, так и внешних связей. А это означает многомерность знания, аналогичную многомерности предмета.
На табл. 1. представлены только некоторые исторически сложившиеся исследовательские позиции, однако уже они позволяют считать, что современность существует не исключительно сама по себе, она встроена во время, точнее в историю, так же, как и процесс истории рождается в динамике современности. Во времени история и повседневность представляют собой две диаметральные друг другу позиции, позволяющие изучать реальность общественной жизни адекватно, конкретно и стереоскопически. Современность же как Я-субъективность является точкой отсчета, а пространство и время, это региональные и исторические границы площадки, позволяющие Я-субъективности формировать оценочную сеть современности. Пространство позволяет формально исследовать предметы в статике, время — в динамике, а современность трактует их содержательно, с точки зрения их субъективных ценностей, смыслов и значений.
ОЧЕРК 2. Описание современности
1.
Однако, прежде чем анализировать современность, ее надо определить, или хотя бы метафорически описать. Современность, это непосредственная индивидуальная жизнь, наличная данность, определить ее в строгом смысле невозможно, пока еще нет более-менее прописанной теории, но необходимо же показать, о чем пойдет речь.
После статьи С. Хантингтона о столкновении цивилизаций, стало ясно, что само по себе, в пространственном плане такое столкновение малосущественно. Однако оно приобретает гораздо большее значение, если сосредоточить внимание на том обстоятельстве, что в нем у обеих цивилизаций меняются культурные коды и начинается их переход в межцивилизационное состояние, когда каждая из них по сути рассыпается на множество отдельных субъектов и реорганизуется. А в дальнейшем их развитие зависит больше от воли этих субъектов, чем от внешних по отношению к ним исторических или географических факторов. То есть, когда оно проявляется через столкновение во времени.
В этот момент на передний план выходит повседневность. Межцивилизационная эпоха — слом культурных кодов, цивилизации здесь нет, есть частная цивилизованность или отсутствие оной, есть воспоминания, сожаления, мечты, иногда — воля, однако у каждого — своя. Отсюда, из взаимного противоборства частных субъектов проистекает и безудержная лихость таких эпох, но отсюда и их оптимизм. Это не постмодерн, в отличие от веселого межвременья, где господствует напряжение жизни, постмодернистское состояние наполнено чувством безнадежности, бесперспективности, исторического тупика и скуки. Легитимация, необходимая для того, чтобы цивилизация опять восстановилась, осуществляется каждым человеком эпохи межвременья не на основе исторических метанарративов, а на основе взаимного убеждения и уговаривания партнеров, в дискурсе, и подчиняется логике дискурса, провокационной по существу. Это эпоха неизбежной экзистенциальной революции, т.е. кардинального изменения типа мировоззрения и смысловых ориентиров, которую отличают социокультурный хаос, цивилизационный выбор и формирование из хаоса новых культурных кодов и цивилизационных норм, или окончательный распад.
Легитимирующие идеи, возникающие в диалоге по мере взаимного убеждения, со временем уходят в прошлое, отношение к ним со стороны новых поколений лишается скептицизма и критичности, они становятся привычными и превращаются в новый исторический метанарратив, морально обосновывающий текущую упорядоченность новых цивилизаций.
2
Постулаты философии современности
Цивилизация, это, на мой взгляд, привычный порядок общественной жизни, закрепленный сложившимися на его основе институтами. Ее источник — убежденность людей в необходимости какого-то порядка, обусловленная легитимностью как исторических метарассказов, так и современных дискурсов, и легитимирующая в свою очередь коммуникации и институты.
Этот порядок субъективен: что считается порядком, то им и является. Так, что не существует никаких объективных оснований считать, например, Америку, сложившуюся на формальном праве, цивилизацией, а Иран, построенный на законах шариата, варварством, как нет и оснований считать наоборот. В огромном человеческом океане возникают несколько точек самоорганизации и складывается несколько аттракторов, какими и являются цивилизации, они образуются и вступают друг с другом в конкурентные отношения. Природа пробует разные виды порядка, выясняя, какой из них в данный момент наиболее оптимален в плане выживания человечества. Цивилизация, это — аналог законов природы для культуры, когда мы изучаем культуру, всю мешанину ее знаков, ценностей, смыслов и значений, и пытаемся раскрыть за нею некоторую законосообразную устойчивость, мы на самом деле исследуем цивилизацию, являющуюся этой устойчивостью.
В основе цивилизации находится массовое субъективное желание порядка и действие, трансформирующее социальный хаос в порядок уже потому, что альтернативой ему является самоуничтожение. Процесс формирования цивилизаций, хотя и происходит на исторической основе, но осуществляется в современности и подчиняется воле действительных субъектов, а не исторической детерминации. Историческая обусловленность уже со времен постмодерна не легитимна, в нее попросту никто не верит. Она воспринимается как свалка сомнительных фактов, и подобна грубым камням разбитого фундамента, из которых, тем не менее, можно сложить новый фундамент, переосмыслив факты прошлого.
А современность, это прежде всего живая и конкретная субъективность индивидов, ситуации, в которых они оказываются, проблемы, которые они создают друг для друга, их экзистенциальный полилог и коммуникации, оценочная координатная сеть, возникающая в сознании каждого индивида, ценности, созданные на основе разноречивых оценок, институция, и затем социокультурная субъективность, образующаяся в результате коммуникаций и полилога и объединяющая все многообразие индивидов на ограниченной площадке.
Субъективное действие обусловлено объективными природно-географическими, историческими и культурными предпосылками, нацелено на практическое преобразование этих предпосылок, и оно объективирует в общественном порядке какую-либо идею упорядочения общественной жизни: формальное право — ну, значит, формальное право; шариат — значит, шариат, традиции — значит, традиции, где, когда, и что сложится. Однако предпосылки не предопределяют порядок, они оставляют простор для субъективного выбора и маневра. Они только горизонты, границы площадки, на которой именно субъекты воплощают то, относительно чего между ними достигнут компромисс. А массово распространенная идея порядка с детства закладывается в головы новых поколений образованием, воспитанием, пропагандой, искусством, наукой, религией, философией и прочими средствами общественной рациональности, оформляющими индивидуальные разумы людей.
В отличие от истории, современность вполне лояльна к сослагательному наклонению, так как выбор одной идеи означает отказ от выбора всех остальных, к которым порою можно вернуться и повторно проанализировать, что было бы, если бы выбрали их, не допущена ли в ходе выбора ошибка и не стоит ли переиграть выбор, пока он не стал основанием цивилизации.
Правомерны вопросы: «Что было бы, если бы Александр II не был убит и успел довести свои реформы до конца», «если бы Столыпин остался жив», «если бы советский НЭП не был задавлен в считанные годы», «если бы М. С. Горбачев завершил реформу СССР», «если бы Ельцин выбрал „преемником“ Немцова» и т. д. Дело в том, что каждый такой выбор означает направление преобразований, и дает время, в течение которого к выбору еще возможно вернуться, еще не окрепли нормы, составляющие цивилизационные законы будущей культуры. Суть не в тех датах, когда, например, царствовал Александр II, и не в том, как жил он, чиновники, дворянство и крестьяне, а именно в комплексе реформ, какие он проводил, и которые были предложены М. Т. Лорис-Меликовым. А Лорис-Меликов пересмотрел исторический выбор, сделанный для России Николаем I и вернулся к реформам более чем полувековой давности, предложенным еще М. М. Сперанским.
И в силу субъективного характера цивилизации, межцивилизационная эпоха тоже субъективна, как говорится, «разруха — в головах, а не на улицах». Для ее теоретического представления, необходим личный опыт ее переживания, который можно отрефлексировать и превратить как в жизненные принципы, так и в теоретические постулаты, и в политические цели. Таких постулатов три, и мне уже приходилось о них писать:
1. Я-субъекты, упрощенно — индивиды, осуществляющие выбор и действующие в соответствии с ним.
2. Площадка — ограниченное и ясно очерченное локальное пространство, в котором располагаются и действуют Я-субъекты: государственные границы, границы культурного региона, корпорации или группы, религиозные, юридические и моральные границы, географические препятствия для переселения, распределение природных ресурсов, в целом ограниченные размеры земного шара и т. д. То есть, это границы и географические, и культурографические, и исторические. Многослойность границ площадки коррелирует с многомерностью выбора на ней.
3. Навязанные коммуникации — взаимная обусловленность и экспектации, от которых невозможно уклониться, но которые адресованы Я-субъектами, живущими на одной площадке, друг другу.
3
В обществе всегда существуют две неравночисленные и неравнозначные группы людей. Одни стремятся активно менять окружающие условия, преобразуя их «под себя», подгоняя под свои взгляды, вкусы и привычки, это — субъекты своей и общественной жизни и их меньшинство. Другие — большинство — предпочитают пассивно принимать правила, навязываемые субъектами и становятся объектами их деятельности. Однако это большинство, приняв правила субъектов, уже в силу своей многочисленности сильнее и консервативнее их, оно и создает устойчивую площадку, на которой действуют массовые привычки и которую субъектам очень сложно изменять. Большинство меняет свои привычки только в том случае, когда они грозят его выживанию.
Это, конечно, абстракции, в действительности каждый человек в чем-то субъект, а в чем-то объект. Однако онтологически обе группы различаются смысложизненной акцентуацией, каждая из них предпочитает свою позицию преобразователя или агрессивного исполнителя, защищающегося от любых изменений. Проявляется акцентуация в конкретных эмпирических фактах: доверие к прочитанным газетам, прослушанным выступлениям, просмотренным телепередачам, к проводимым реформам, в целом к власти или оппозиции, надежда на них, ожидание повышения пенсий, зарплат или стремления самому зарабатывать, надежда на улучшение условий жизнеобеспечения и т. д. или скептицизм, сомнение в том, что чужие решения способны облегчить жизнь, желание взять на себя ответственность за свою судьбу.
Во времена СССР взгляды на порядок обозначались понятием не цивилизации, а формации, которая понималась как исторически обусловленная программа действий по строительству общественного организма. Эта программа принималась и утверждалась тогдашним руководством страны, а затем воплощалась в жизнь. Но поначалу она коррелировала с ужасающей досоветской безграмотностью населения, с его бюрократической и крепостной ментальностью и с его ожиданиями нового, но доброго царя. И она обеспечила второе пришествие самодержавия в лице «красного царя» И. В. Сталина, но одновременно — всеобщее образование, постепенное установление 8-часового рабочего дня с выходными и отпусками, относительное равенство зарплат, осуществленные средствами тогдашней бюрократической вертикали и т.д., то есть, в целом оправдала ожидания пассивного большинства. А что до репрессий и геноцида, то они проводились незаметно, рабочих в основном не касались, проскальзывали на периферии сознания, а в самый тяжелый период 1937—52 гг. обосновывались классовой борьбой с «врагами», подготовкой к войне и преодолением ее последствий.
Программа целенаправленного социального строительства обусловила искусственный характер социальной системы в тех областях общественной жизни, что рефлексировались советским обществознанием. Причем, обусловленность была субъективно телеологической, а не объективной. А за пределами внимания программы находился огромный ойкуменальный пласт, практически недоступный для контроля и регулирования, и обозначенный как «теневая экономика». Там господствовали примитивные капиталистические отношения, бартер по типу «я — тебе, ты — мне», коррупция, «блат», фарца и пр. спекулянты, цеховики и т. д. Соотношение теневой и государственной экономик было таким, что без теневой, и огромное неповоротливое плановое хозяйство не могло функционировать. Но эта раздвоенность экономики повлекла за собой раздвоенность политики, конфликт морали и права, цинизм как своеобразную моральную норму и внутреннюю разорванность всего социального организма страны, приведшую в конце концов к параличу власти и крушению советской системы.
В западном же мире возобладала точка зрения, в которой общественный порядок обусловливался не столько материальными, сколько, в первую очередь, духовно-субъективными причинами. Здесь на передний план выходила современность, а не историческая предзаданность, индивидуальность, а не коллектив. Программы общественного развития не было, ее заменяла «миссия» как общее направление, и общество функционировало как естественно сложившаяся, а не искусственная система.
Рассмотреть перспективу становления цивилизации в нынешней России, значит, отыскать способ совмещения равно унаследованных ею советского и западного представлений. Этот способ позволяет синтезировать предпосылки и найти «зародыш субъективности», из которого в будущем возможно развитие новой российской цивилизации.
Если цивилизация — привычный порядок общественной жизни, то она — нормативный базис культуры. Нормы морали, права, производства, потребления, политические, экономические, даже вкусовые, нормы в науке, в литературе и в искусстве, в религии и т.д., нормы в самом широком смысле инвариантны для всех явлений каждого отдельного культурного организма и выполняют функции законов культуры. Цивилизация, это — форма социальной культуры, придающая ей определенность, связность и устойчивость. Феноменологически же она является единством легитимных ценностей, норм и институтов, воспроизводящих друг друга как целостную и довольно-таки инертную систему.
Цивилизация придает культуре форму благодаря тому, что оформляет и регулирует с помощью права, морали и других норм межиндивидные отношения. Не убий, не укради, не прелюбодействуй, не бери взятки, не плюйся в автобусе и т.п., до тех пор, пока подобные нормы привычны большинству, они — легитимны, их соблюдают. Но в какой-то момент по разным причинам они перестают быть легитимными и становятся сомнительными. И тогда почему «не убий», если на меня с ножом? Почему не укради, если я голоден, а у него много? Почему не прелюбодействуй, если очень хочется? — И порядок социальных отношений рассыпается от малейшего толчка.
Межцивилизационная эпоха, это полная делигитимация всех норм общественной жизни, превращение порядка в социальный хаос, на поверхности которого еще может плавать пена нелегитимных и формальных правил, обрядов и ритуалов, выдающих себя за традиции, но ставших или изначально задуманных как симулякры. Так бывает в весеннее половодье, когда освободившаяся река несет на себе отдельные льдины, но уже не скованна льдом.
4
В начале 1990-х гг. была такая иллюзия, что достаточно ввести частную собственность, отпустить цены, допустить конкуренцию и обеспечить расчет деньгами, и сразу всё наладится. А наладилось не всё. Гарантированная этими факторами экономическая мотивация, на самом деле, внешняя, а не внутренняя. Люди захотят зарабатывать, но не будут знать, как это делается: честным ли трудом, коррупцией ли, грабежом или воровством. Причем, коррупция, грабеж и воровство оказываются экономически эффективнее, чем честный труд в силу большей прибыли, какую обеспечивает коррупция и более быстрого оборота, какой гарантирован при грабеже. Нужна еще внутренняя мотивация, воспроизводимая в масштабах всего общества только моралью. По отношении к отдельному человеку моральная мотивация тоже, конечно, внешняя, ибо означает всего лишь «будь как все», но в общественной жизни она внутренняя, культурная, а человек в значительной мере культурное существо.
Мораль же, явление отнюдь не высшего порядка, а вполне земного, и зависит от конкретной региональной культуры. Проще говоря, у США — своя мораль, организованная вокруг исторически сложившихся частнособственнических отношений, конкуренции и денег, а у России — своя, организованная вокруг крепостных отношений и приоритета политики над экономикой. Меры, принятые в начале 1990-х гг. означали только начало весьма длительной эпохи реорганизации морали и ее переориентации с крепостного права и политики на формальное право, обусловленное формальностью денег как обезличенного средства обмена.
Такая эпоха проходит три стадии, связанные с ее носителями: сменяющими друг друга поколениями, каждому из которых демографией отводится 25—30 лет. Первый этап представляет собою деградацию норм цивилизации. Они делигитимируются и теряют способность согласовывать межсубъектные отношения, попросту говоря, их перестают соблюдать. Следствием оказывается дезинтеграция социокультурного целого, общество рассыпается на отдельных индивидов. Индивиды, находясь на одной площадке и по необходимости вступая друг с другом в коммуникацию, участвуют в ней как носители исключительно собственной разумности и неразумности. Степень их конфликтности и взаимная угроза для жизни здесь настолько велики, что они оказываются вынужденными идти на компромиссы. Стремление к компромиссу заполняет коммуникации экзистенциальным диалогом, в ходе которого образуется интерсубъективность и появляются «прасоциумы» — относительно небольшие самоорганизующиеся группы.
Это — «поколение отцов», и оно вступает в эту эпоху уже во взрослом состоянии. «Отцы» становятся крупными и мелкими лидерами, увлекающими толпу, и начинают межвременье тем, что окончательно перестают соблюдать нормы устаревшей и утратившей легитимность цивилизации. В СССР они отчасти обусловливают стиль советского постмодерна. Можно предполагать, что с того момента, как в СССР легитимная экономика стала уравновешиваться теневой, начинается цивилизационный поворот. Он даже был замечен закрытым пленумом ЦК КПСС, — тогдашней власти, — в ноябре 1979 г.
Лидеры затевают реформы цивилизационных институтов, в то время как все остальные либо продолжают соблюдать устаревшие правила, либо поддерживают лидеров в их реформаторской деятельности. Говоря на языке советского марксизма, лидеры конституируются как «квазикласс», своего рода классовый зародыш, старающийся выжить и перехитрить другой квазикласс — господствующую «номенклатуру». Так зарождаются тенденции, за которыми начинается уже классообразование и противостояние, вплоть до антагонизмов.
Квазиклассы появляются на постмодернистской стадии предшествующей цивилизации, как в СССР в 70—80 гг. распространилась теневая экономика, теневая политика, теневая мораль, и каждый человек, каждое предприятие вынуждены были функционировать в полях обеих — теневой и легитимной — структур. Поколение отцов на первом этапе межцивилизационной эпохи меняет эти структуры местами, то что было теневым, становится легитимным, то, что было легитимным — оказывается теневым.
В целом, поколение отцов освобождается от прошлого политически и экономически, но не морально, на них сказывается тот факт, что их взросление и становление как личностей пришлось на циничные времена предыдущего постмодерна. Но срок поколения отцов — то самое время, когда они дают импульс всем областям общественной жизни. А потом их сменяет второе поколение — «дети». У нас, это те, кто родился в 80—90 гг., и вырос, либо не помня и не зная эпохи СССР, либо зная о ней только по безответственным экранизациям и книгам.
Начинается второй этап, в котором возникает первичная социальная структура, являющаяся агрегированной суммой субъектов: мелкие партии, предприятия, неформальные объединения, разрозненные профсоюзы, криминальные группировки и т. д. Горизонтальный диалог сопровождается вертикальным, воцарившуюся среди населения анархию пытается обуздать власть. Тогда группами первичной социальной структуры становятся и новые, и унаследованные от предыдущих времен: территориальные и отраслевые корпорации: производственные комплексы, банковские объединения, армия, правоохранительная и пенитенциарная система, система образования, науки, государственной бюрократии и т. д. Они выполняют конфигурирующую роль и пытаются установить свои формальные коммуникации для начавшегося экзистенциального диалога. На втором этапе власть заявляет преимущественно о своей субъективности и вступает в противоборство с остальными субъектами. В этот момент возрастает тенденция, которую принято называть «реставрацией» не во французском смысле, а в общеполитологическом.
Реставрация, на самом деле, реставрирует только одно: формальную целостность государственно-политической системы. Конечно, в обществе еще многочисленны слои, выросшие при «старой власти», но социальные силы, поддерживающие реставрацию, уже другие. Поэтому «старые парадигмы власти» оказываются всего лишь образцом для подражания, намекающим на «былое величие», но ни в малейшей мере не наполняющие новую власть содержанием.
В силу общей дезинтегрированности, каждая группа на втором этапе проводит собственную политику, мало считающуюся с политикой других групп. Теперь экзистенциальный диалог идет уже между корпорациями, включая в их список и властные органы. Людям же предоставляется выбор: либо примыкать к сильнейшему, либо сохранять свободу, отказываясь от корпоративной и властной поддержки и защиты, а то и попадая под давление корпораций. Складываются дезинтегрированные рынки: нефти, продовольствия и т. д. Они формируются, в первую очередь, не как общегосударственные, а как внутрирегиональные и межрегиональные. Но самые экономически эффективные из межрегиональных рынков очень рискуют попасть в зависимость от авторитарной власти, рассматривающей себя не только как политическое явление, но как политику, создающую свою экономику. Властная вертикаль, вовремя не устраняющаяся от управления, с течением времени превращается в матрицу порядка и рациональности, экономически закрепляется и определяет сознание всех участвующих в ней людей. Она заставляет и жить, и воспринимать реальность, и интерпретировать ее только под своим углом зрения.
У обособленных рынков обнаруживается разная скорость развития, различные весовые категории, мировоззрения и интересы. Они вступают в противоречие друг с другом, и начинается конфликт экономик, политических стратегий и элит. Нарастает напряженность в межрегиональных отношениях, формируются несколько взаимоконфликтных идеологических «центров». Все это пропитывается молодыми поколениями, не связанными с предыдущей эпохой, но усваивающими ее циничный формализм.
Отсюда и сам второй этап межцивилизационной эпохи, как преобладающим экзистенциальным состоянием, характеризуется дезинтеграцией нравственности и еще большей, чем на первом этапе, дезориентацией персонифицированных индивидов. Проще говоря, перед людьми возникает многообразие относительно стабильных, но слабо скоординированных смысловых ориентиров, из которых, тем не менее, необходимо выбрать один, несмотря на полное отсутствие привычных оснований для выбора и вызванную этим растерянность.
Часть молодого поколения, восприняв цинизм старших, превращает его в собственный естественный эгоизм, основанный на блоговом характере его разума, позволяющем ему рассматривать всю социокультурную среду как еще не освоенный ими материал природы. Они неосознанно солидаризируются со старшим поколением и, неожиданно для себя, становятся вместе с ним субъектом реставрации. На «дело реставрации» работают не одни только проправительственные организации. В нем фактически участвуют и оппозиционные круги в бизнесе и в политике, и криминальные круги, и люмпенизированная молодежь и т. п. Стремление к реставрации является ясно различимым смыслом жизни молодого поколения. Эта нравственная позиция легко оформляется и направляется властью, которая на втором этапе межцивилизационной эпохи тоже заинтересована в реставрации во благо населяющих ее чиновников.
Диаметрально противоположная группа молодежи романтически отрицает формализм, нацеливаясь на нераспознанное будущее. Но при этом, например, в России, она сама расслаивается на тех, кто это будущее представляет в виде мечты о прошлом величии и на тех, кто находит в нем свою мечту об абсолютной вестернизации (или ориентализации) России.
И наконец, наиболее обширная часть молодого поколения растворена в суеминутности переживаемого момента. Эта «пляшущая молодежь», веселая, игривая, в меру циничная и в значительной степени инфантильная оказывается в итоге предметом конкуренции первых двух групп и становится социальной базой экзистенциальной революции.
На втором этапе нарастает противоборство между реставрацией и обновлением, накаляющая атмосферу пляшущей молодежи, по сути, совсем не желающей «загружаться», а стремящейся лишь избавиться от нарастающего морального напряжения и вернуться к своей веселой игре. Это их стремление и реализуется экзистенциальной революцией. Она сметает и фарс реставрации, и остатки былых ценностей и иллюзий, и дает шанс межцивилизационной эпохе перейти к третьему, завершающему этапу — формированию новой системы ценностей. «Поколение детей» морально делигитимирует цивилизацию, они — носители экзистенциальной революции. Это и «мажоры» — дети богатых родителей, и «эффективные» (на наш манер) менеджеры, и «бизнес-инструкторы», и поп-артисты, журналисты, и «офисный планктон», и уличная гопота, и даже те представители старшего поколения, кто побуждает себя встраиваться в задаваемый детьми стиль жизни и т.д., но их «порядок» — правила игры как таковой, и относятся они к нему именно как к игре.
Это глубоко неквалифицированное, но обладающее удивительным цинизмом поколение. Они могут прийти на предприятие и устроить там «психологический тренинг» для опытных работников кадровых отделов с многолетним стажем, обучая их, как «правильно» управлять кадрами. Могут явиться в университет или академический институт и выступить там со словами: «Забудьте всё, что вы раньше знали, и начните с чистого листа», — этим предлагая кандидатам, докторам и академикам забыть содержание своих работ по физике, истории или экономике. Их стиль — гламур, мышление же — поверхностно и дискурсивно. Они утилитарны, однако не по-западному, где утилитаризм по сути синоним практицизма, а в эгоистически-корыстном смысле.
Однако именно они смывают все остатки морали былой цивилизации и утверждают на ее месте цинизм и нигилизм, причем даже не ницшеанский, а в духе Минаевского «Евгения Онегина нашего времени», написанного в аналогичные времена 60-х гг. XIX века. Они завершают начатую отцами деконструкцию предыдущей социальной системы, и на месте страны появляется наполненная хаосом и абсурдом строительная площадка. И начинается выбор нового пути, еще допускающий, наряду с реальными, фантастические варианты, вроде образования методом чипизации и подчинения человеческого сознания искусственному интеллекту.
Во время детей дезориентация начинает угрожать целостности общества и ее стремится усмирить политическая власть. Однако, чем больше дети взрослеют, тем больше они заражают саму власть своими раздробленными идеалами, политика власти становится абсурдной, соответствующей объекту ее управления.
А за ними уже идет третий этап — «поколение внуков и правнуков», появившихся на свет в хаосе и бессмыслице строительной площадки. Во времена «внуков» экзистенциальный диалог обостряется и становится особенно интенсивным, поскольку идет уже не во имя обогащения, как у «отцов», и не во имя игры, как у «детей», а во имя выживания. Их деятельность легитимируется не исторически, а взаимным убеждением, диалогом, они уже не зависят ни от истории, ни от соседей и, хотя заимствуют оттуда то, что считают пригодным для себя, но живут без веры в их безусловную правоту и относятся к ним вполне осознанно и скептически.
Экзистенциальный диалог, это непрерывные взаимные провокации, он наполнен конфликтами и поиском точек совпадения, стремлением к взаимопониманию, но одновременно и к самоопределению. «Внуки» начинают «стадию напряженных переговоров», где каждое сближение позиций приобретает для участников значение «норм» и «принципов», хотя бы на время, но может быть и навсегда. Их временные нормы оказываются аттракторами грядущего, успокаивающими хаос межвременья. В их диалоге складывается та нормативная основа, на которой уже может возникнуть новый цивилизационный «скелет» и нарасти ткань культуры. «Внуки» — продукт декультурации «детей», они не склонны учиться по книгам, к ним еще больше, чем к детям применимо понятие «клиповое мышление», они учатся на примерах и заимствуют наиболее удачные с их точки зрения образцы, взятые хотя бы и со стороны, однако видоизмененные и наполненные собственными проблемами и решениями.
«Со стороны», это значит, или у успешных, по их мнению, соседей, или глядя на предыдущую цивилизацию, которая для внуков уже не формирующая их среда, а осознанное и рациональное представление. И то и другое они идеализируют, абстрагируясь от всего негативного, абсолютизируя только положительные черты, и превращают в утопии. А уже утопии рассматриваются ими как обоснованные и легитимные цели и воплощаются в осмысленных поступках.
Именно перед «внуками» и «правнуками» проблема выбора дальнейшего пути ставится со всей остротой, фантастические варианты ими отвергаются. В расчет берется только реальная альтернатива: целенаправленно возвращаться к прошлому или повторять порядок успешных соседей. Ни то, ни другое, конечно, невозможно, слишком мешают конкретные обстоятельства их жизни, каких не было ни в прошлом, ни у соседей, и в частности, мешает противоборство сторонников разных вариантов. И порядок получается таким, какой устраивает все стороны, но полностью не нравится никому, он обнаруживается в точках совпадения взглядов, он становится абстракцией и формальным правом.
Так древнерусские великие князья, только еще освобождающиеся от орды, не имея университетов и учебников, но понимая, что какой-то порядок должен быть, берут за образец единственное, что им известно — организацию орды, куда они ездили за ярлыками на княжение. И воспроизводят у себя орду, позднее рефлексируя ее и превращая в самодержавие. Европейские и византийские нормы от них далеко, с этим они встречаются лишь эпизодически, а орда, это — повседневность, и великие князья становятся ханами, но по-русски, интерпретируя на ордынский манер и европейские порядки, и византийские.
Так и «поколение внуков» может ориентироваться только на удачные образцы западных стран и непосредственно предшествующего межцивилизационной эпохе Советского Союза. СССР и его систему ценностей восстановить нельзя, время ушло, и поэтому на деле у них получится что-то новое, Советский Союз, но с частной собственностью и рыночной экономикой, и может быть, с демократией. И если в аналогичных условиях у англичан получилась конституционная монархия со слабеющей властью королей, то у «поколения внуков» получится нечто, опять доселе невиданное: «конституционная президентская республика» со слабеющей властью президентов. Говорю — «невиданное», потому что, казалось бы, президентская республика априорно конституционная государственная форма, но как быть с тем, что у внуков она станет наследницей советского самодержавного строя с абсолютной властью Генеральных секретарей ЦК КПСС и Политбюро, а та сама была наследницей царского самодержавия, которое выступило реинкарнацией ордынских ханов! «Внукам» придется в Основном Законе оговаривать ослабление президентской власти, и усиление парламентской.
Вероятно, так и будет, при условии, что, проходя через второй этап межцивилизационной эпохи, через «поколение детей» страна вообще уцелеет как некое политически единое пространство.
5
Субъективность онтологии современности ставит и цивилизацию, и межцивилизационную эпоху в зависимость от ментальных и экзистенциальных состояний субъектов, переживающих деконструкцию прошлого. Дело в том, что та сила межчеловеческого понимания и взаимного доверия, какая характеризует легитимность и цивилизационную стабильность, разрушается вместе с разрывом экономических, политических и социальных связей индивидов друг с другом, с переоценкой ими своего места и роли в общественной жизни, с резко ускоренной и произвольной горизонтальной и вертикальной мобильностью, с отсутствием или непонятностью новых правил жизни, описанными еще Э. Дюркгеймом, Р. Мертоном, а в какой-то мере и Э. Тоффлером.
Наша криминальная среда нашла очень удачный аналог термину Дюркгейма «аномия», углядев в общественной жизни господство «беспредела», то есть, отсутствие пределов, задававшихся старыми нормами, «безнормицу». Этот термин оказался настолько значим, что в считанные недели распространился и стал словом обыденной речи, он вполне может претендовать на статус категории той философии, какая изучает подобные времена.
Беспредел, это значит отсутствие межчеловеческого взаимопонимания, разрушение формальных коммуникаций и утрату привычных смысловых ориентиров. Он означает и страх нового мира, и восторг от освобождения от навязанных и нелегитимных старых норм как права, так и морали. Это распространение своеобразной этики «цинизма», начавшееся еще в 70-е гг., но теперь почти тотальной. Это и взаимное недоверие, подозрительность, разрушение дружеских связей, распад семей, конфликт поколений, понимание своей абсолютной экзистенциальной свободы, буквально, по Ж.-П. Сартру, свободы как пустоты, то есть, как отсутствия оправданий и ориентиров, но при этом и понимание необходимости личного выбора нового жизненного пути и личной активности.
То есть, беспредел, это человеческое одиночество в новой неопределенной реальности, какое нередко называют «атомизацией». Но предпочтительней представляется термин «персонификация», как потому, что Я-субъект не превращается в атом общественной жизни, он всегда им был, а сейчас только осознал свой статус, так и потому, что атомизация, в отличие от персонификации, может быть распространена на любой субъект и объект, не только на человека. А субъективностью, как и объективностью может обладать и человеческий индивид, и социум, и его ментальность, и его институциональная сфера.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
