
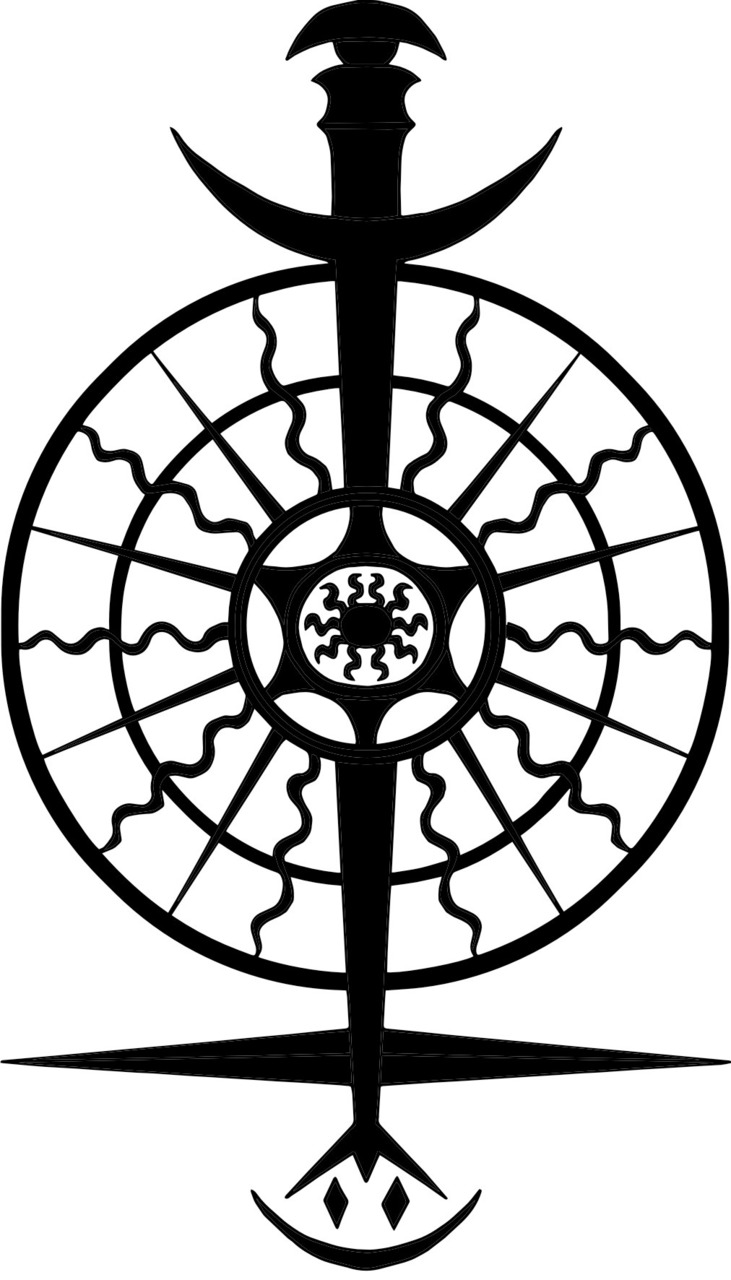
Посвящается Наталье Абрамовой, лучшему психотерапевту. С благодарностью и уважением.
Которого отца дочь?
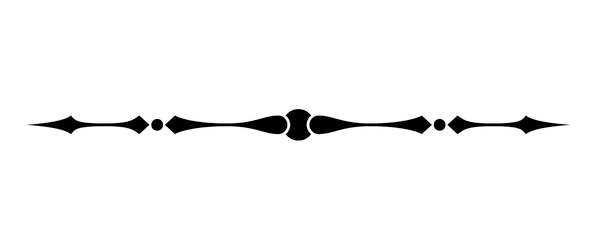
Ветки ежевики царапали ей лицо. Комар больно впился в макушку. Но она не смела шелохнуться, затаилась, изо всех сил стараясь не дышать. Хрустнула ветка, она зажала себе рот рукой, чтобы ни крик, ни всхлип не выдали ее тому, кто пел:
— Инга! Иииин-гаааа, не прячься, дурочкааа!
«Господь Вседержитель, молю тебя, отведи проклятого беса, пусть он мимо пройдет, Господь и Дева Мария, умоляю!»
— Девочка, я найду тебя, куда бы ты ни спряталась! — ласково смеялся ее брат, и сафьяновым сапогом шевелил кусты дикой смородины в двух шагах от нее.
— Ну, куда ты уйдешь в моем-то лесу, а? Не дури, сестричка, ты ведь у меня одна осталась!
Девочка застыла, словно камень на морозе. Она боялась даже зажмуриться, чтобы шуршание век не привлекло его внимания. «Одна осталась», сказал он, и не соврал. Других-то всех уже извели… всех двенадцать выродков Его Светлости Абеларда Проклятого. Конечно, сам себя он величал понаряднее да пострашнее, но в народе его звали не иначе, как Дьяволом, Сатаной да Проклятым. И было за что. Когда господин князь скопытился, люди вздохнули с облегчением. Да только не знали они, что наследник и того лютее окажется! Первое, что учинил Адалвалф Дедерик Еремиас Эккехард, когда благородный отец его отошел в руки Господа («провалился в самый Ад!», как говорила чернь), это разыскал всех бастардов, кто еще в живых остался, и мог единой крови с ним быть, и привез ко двору. Душистым мылом отмыл, разодел их в шелка да меха, сладким медовым вином напоил до рвоты. За столы длинные усадил их всех при сотне свечей. И пока одуревшие, ничего слаще диких яблок в жизни не евшие щенки обоих полов хлебали ковшами драгоценное пойло, и лопоухими головами качали, тонувши в сахарных речах своего святого новоявленного братца, отборные псы Адалвалфовы вешали на деревьях их матерей, и мотали на длинные ножи кишки их отчимов. Все их соседи видали страшную, подлую цену грехов Его Светлости, и отлично усвоили, чего стоит иметь хоть половину, но княжеской крови, не будучи законно признанным перед церковью отпрыском старого Абеларда Проклятого!
Одну лишь Ингу уберег господин великий Случай. Не привидься ей морок ночной, не жила бы она уже!
Всю свою блеклую, чахлую жизнь девчонка прозябала в самой грязной и захудалой лачужке, гаже которой трудно было бы отыскать в целом королевстве. Мать ее работала прачкой при дворе Проклятого. И это все, что знала о ней дочь. А еще то, что Ингу она ненавидела, обзывала «поганым отродьем», избивала мокрым бельем, поносила, на чем свет стоит. Все мечтала, чтобы дочь сдохла где-нибудь под крыльцом, и чтоб ее не нашли, хоронить бы не надо было! Девчонка росла, как сорная трава на проезжей дороге, хилая. Мамаша ее все старалась почаще возле кухарки крутиться, в подружки набивалась. А попросту, к выпивке поближе. Воровала она вино кислое, в котором мясо вымачивалось к хозяйскому столу. Но Инга только на той дружбе и продержалась, кухарка ее подкармливала. Если б не тетушка Лизабета, никакой Инги бы давно на свете не было!
«А может, оно и к лучшему?» — судорожно метались мыслишки в голове скрюченной под кустом девочки: «Слегла бы да от голодухи усохла, и не надо было б теперь на колу три дня кровищей течь, как все ублюдки князевы…» Во рту все смерзлось, тошнота костяной рукой схватила. Не сбежать ей, ох, не сбежать!
«Но каким-то же чудом невидимым меня ото сна ночью-то сдернуло, а?» — едва не закричала она. Надежда пронзила, как горящая стрела, в самую дыхалку! А ну, как у Господа на нее свои намерения, и не выдаст он Ингу на мучительную смерть? Ведь как дело было — спала она, умученная работой в свинарнике, на вонючей сырой рогожке у себя в темном углу, замерзла по самое некуда, ночь была туманная, прохладная. Сквозь сон с силами собиралась чтобы встать и переползти к самой мирной свинушке Мушке под горячий, уютный бок. Как вдруг, будто в левую ладонь кто уколол! Заворочалась девочка, глаза открывать мочи нет, тело разламывается. Ох, только бы не рассвет… еще один день чистить свиные загоны тяжелыми лопатами, таскать неподьемные бадьи помоев, чесать сотне здоровенных животин спины скребком… «Дай еще хоть часок, на боку провести, а больше я ни о чем и просить не осмелюсь!» — прошептала Инга, и посыпалась в тревожную сонную муть, но шило в ладонь ткнулось заново, и голос позвал:
— Инга!
Так отчетливо, так властно! Вскочила девочка на ноги в одно мгновенье, готовая любые понукания и приказы принять. И… никого не видит перед собой! Что за чертовщина? Проморгалась свинарка, но даже когда глаза ко тьме привыкли, никого так и не увидела. А голос, будто бы прямиком в голову ей переместился, и велит: «Не ложись теперь, а иди прямиком в самый замок! Укради кусок господского мыла, да одежду по себе». Встала Инга, как вкопаная. «Э, нет, думает, не рехнулась я тебе, чтобы за воровство руки под топор положить, да потом глядеть, как мои же любимчики, самые мирные свинюшки, Мушка да Брюшка пальцы мои жуют!
«Иди, и ничего не бойся! Я с тобой!» — прошептал голос, а Инга охнула и дернулась. Теперь будто в левую ладонь кто ее уколол. Подняла она руки к лунному свету, и видит засохшую каплю крови на ладони правой, и свежую, блестящую темную каплю на ладони левой. Сложила она было пальцы, осенить себя святым крестным знамением, а голос в ее голове насмехается: «Ни к чему оно тебе, не примут на небе от тебя прошения!»
— Это чего это? — тихонько пролепетала озябшая, как осина под мокрым снегом, Инга. «А некрещеная ты, потому что!» — бросил ей голос, и приказал: «Двигайся! Что дальше, сама поймешь!»
Мыло украла Инга безо всякого труда, у белошвейки, которая сама его стырила у господ. Белошвейка та с конюхом по бережку гуляет, как пить дать! «Ну и дура, будешь потом, как мамаша моя, горгулья чертова, спиваться да колошматить дитя ни в чем не повинное!» — злобно думала Инга, и хотела было уже тихонько утечь, держась за стену в кромешной темноте, да запуталась в тяжелом тряпье, развешанном вдоль той стены. «Батюшки светы, одежда! Прям как велено!» — воскликнула Инга без голоса, а наставник ее невидимый в голове довольно хмыкнул. Принялась она хватать что ни попадя, а руки будто сами знают, что хватают. Увязала все в какой-то камзол — не камзол, черт его разберет, и со всех мышиных ног дернула вон! Весь замок спал, ни единого шороха, кроме тех, что сами по себе случаются — то птица господская в клетке вскрикнет, то прислуга где-то в своем уголке всхрапнет. Инга выскользнула тайным ходом, про который только дети да крысы знали. Мать ее научила, что надо в шкафу с посудой отодвинуть доску на нижней полке, которой никто не пользуется, и откроется дыра, а в ней узкий лаз. «Такой хорек паршивенький, как ты, пролезет запросто! Да с бутылочкой для мамочки, да?» — хихикала мать, по спутанным волосенкам отродье свое нелюбимое поглаживая. Инга, дурочка, все пыталась любовь ее заслужить. Таскала все, что могла. Однажды утащила крестик. На полу валялся он, в кухне. Откуда было знать ей, что блестящая штучечка окажется из золота, и обронила его любовница князева сынка. Этой штучкой он с новой кухарочкой рассчитался за нежные встречи тайком. Мать обрадовалась, с пьяных глаз пообещала Инге платьице, вспомнила вдруг, что у нее девочка, а не просто грязный выкидыш, который сатанинской волей живой ползает! Инга сознание потеряла, с голодухи и от радости. Да поторопились они обе, и мамаша и дочь.
Полюбовница наследникова своему мил-дружку нажаловалась. Тот, без ведома отца, велел прачку выпороть. И еще сам в экзекуции поучаствовал. Да так разохотился, что половину кожи с несчастной снял. Маленькая синеглазая девочка долго потом искала, да так и не смогла найти свою пьяную, злую, любимую мамочку.
Инга кралась по узкой тропинке к реке, и вдруг остановилась. А ведь прав голос-то! Некрещеная она. Никто не удосужился полумертвого младенца Господу представить. Мать, наверняка, надеялась, что дитятко поорет, поорет, да и сдохнет. А другим никому и дела не было. Даже имя ей не мать дала, и не отче в купели со святой водой. Она долго не говорила, наверное, попросту не учили ее, и пока сама не набралась хоть каких-то человеческих слов по углам, все только мычала. Однажды, когда она уже ходила и даже кое-как бегала на кривых слабеньких ножках, кто-то из дворовых спросил ее, как, мол, звать? Мать зло отмахнулась, выворачивая бесконечное, как свиные кишки, белье в бадью, а дитя нетвердо покачиваясь, икнуло:
— Йин… га… Инга!
— Инга, кочерыжка вонючая, шевелись! — шикнула она сама на себя, и резво помчалась к реке. Не время вспоминать свои горести. Крестили ли, нет ли — а бог о ней знает все! Видит ее и ведет, прямиком к воде! Отмылась она, хозяйским мылом, таким душистым, что голова кружится, так бы и набила им рот! Да пробовала уже. Крючило потом три дня, кровь с желчью отовсюду лилась, сгустками и ручьями… Инга покачала головой, отгоняя пустые видения, и принялась торопливо обтираться чем ни попадя. Оказалась, рубаха, белая, льяняная, и такая уж нежная, будто кошечку лощеную княжескую наглаживаешь! А кожа, кожа-то в свете Луны какая белая! «Это что же, моя шкурка такая, фарфоровая?» — ахнула Инга, и залюбовалась недоверчиво своими тоненькими ручками. «А уж не призрак ли я?!» — испугалась она. «Что-то больно уж бела?!» Но нет, призракам с чего бы такие муки голода претерпевать? Желудка-то у них нету, который набить себя так и просит, так и стонет пустой! «А может, вампиром я стала? Что-то голодуха совсем уж адовая…» Но крови совсе мне хочется. Дал бы кто чашечку свиной, она б не отказалсь, но чтобы прямо изводиться, как без водицы в полдень — нет такого. Значит, не упырь, рассуждала она, натягивая неслыханные, мягкие и пахучие тряпочки на свою новую, ангельски отмытую плоть. И такие они все роскошные, такие ласковые, что Инга расплакалась. Аж ноги подгибаются. Чуть в сырую траву прибрежную не осела. Но удержалась — нельзя же в таком роскошестве да в грязь! Утерлась рукавом, и чует она — надо идти! Нельзя ей здесь ночевать. «Постарайся, — сама себе говорит, — уйти, куда ноги донесут, но подальше!» Двинулась она было прочь от реки, но вернулась, и свое вонючее старое рубище истасканное, унавоженное, подняла. До чего же мерзкое, а? И как она в жизни не задумывалась, и не понимала в какие ремки кутается? Крысиное гнездо, и то набивать таким бы не стали распоследние его жители! Подняла Инга камень, да в рванину свою завернула. Сморщила нос, сплюнула, и зашвырнула его на середину реки. Любовно свой новый камзольчик погладила, так ей в нем тепло, так ласково! Залезть бы в брошеную барсучью нору, сухим мхом выстеленную, да и уснуть, вдыхая пыль и сладкий дух бархата… И забыть навсегда, насовсем о грязном тряпье, таком же мерзком как вся ее жизнь!
— Фу-ты, только б рыба не потравилась моими подарочками! — проворчала она, и торопливо зашуршала осокой прочь, прочь!
Боль в пустом животе резала пополам и застилала глаза. Но стоило ей остановиться, как ладони протыкали горячие штыри, и выступала свежая кровь. Нельзя стоять, медлить нельзя! Можно только кусать потрескавшиеся губы, и тащить себя вверх по обрыву. Дрожащими руками цепляляясь за корни деревьев, задыхаясь и отплевываясь, Инга доползла до самого верха, и рухнула в мокрую от ночной росы траву. Слезы щипали изьеденное потом лицо. Так бы тут, под старым дубом, и померла! Не хочу, не могу больше… А неуемный, злой голос тащит за шиворот. Теперь ему за каким-то чертом понадобилось, чтобы девчонка на дерево лезла!
— Не могу, не могу я! — запричитала Инга, корчась в узловатых дубовых корнях. Оставь меня умирать, на кой собачий хвост я тебе сдалась, а?
А сама уже последние ногти сдирает о железную кору. И даже не успела все, что о своем дьявольском провожатом думает, высказать, а уже сидит на толстой ветке, и дышит тяжело, надрывно, как больной шелудивый пес.
— Ну, и на кой… — начала было она ворчать, но замолчала, пораженная мрачным зрелищем. Вот он, замок, весь ее мир, но с другой стороны, которую она даже воображать не пыталась! Стоит, громадина, скалой неприступной, темные стены прямо в воду речную уходят. Лениво плещутся плошки огней на башенках. «Почему не спят?!» — заскребся у грудины тревожный хорек. Вся обратилась Инга в уши и глаза: слышит, как кричат веселые люди, смеются, переругиваясь. И лошади копытами цокают, уймища лошадей! И собаки в лае заходятся, и девчонки визжат… Да что же такое там?! Ох, кажется, правильно она утекла… вовремя!
Видит Инга — сотни огней разом вспыхнули по всему двору! Даже умей она считать, не пересчитала бы! Много огня, столько, что королевство спалить бы хватило, вздумай какой злодей весь его на волю выпустить!
Вот смотрит она — во дворе собрали столы. Веселая, разряженная крестьянская молодежь гомонит, дурная, неотесанная. Слуги им кланяются, за столы усаживают. И так захотелось ей обратно вернуть тело свое, голодное, вслед за разумом, что незримый витал среди них! Ведь там была еда! Ах, сколько еды князь выкатил… Инге бы до конца дней хватило даже половиночки от того пиршества! И к чему такая растрата? Наутро собаки да свиньи доедать будут, а ей и корки плесневелой никто не швырнет!
Смотрела Инга, как озверевшие деревенщины на сласти и вино набросились, и уже знала, что это все не к добру. Бежать бы вам, недотепы, ох, бежать бы, пока не поздно. Да не услышат они ее, такие же голодранцы, как она сама, за миску горячего варева пальцы себе отрезать готовые!
Рассвет нежно расцеловывал каждую чуть живую, трепыхающуюся фигуру. Розовый свет небес переливался в кровавые лужи по всему двору.
«Что… что они сделали? Что?» — шептала девочка сама себе по кругу. А голос, о котором она уж забыть успела, вдруг твердо проговорил:
— Это братья и сестры наследника! И ты — одна их них, ублюдок княжеский. Хочет ваш господин один такой быть, сын своего отца. И ты там была бы, медовые вина пила бы, но твой истинный Отец иначе решил.
«Кто такой, мой истинный Отец…» — как сквозь дым подумала Инга, и тут же все мысли отбросила.
Благодарность разливалась по телу, словно сытость и довольство, будто теплым вином напоили ее. Благодать божия! Вот они — руки ее, кровят немножечко, но это ничего! И ноги ее, ножки кривенькие, все еще тут, с нею! И несут ее, слушаются, родненькие! Изранила обо всякое, каждый шаг от боли так и звенит, но что болит — то и живо! И идти могут, и даже бежать. Уносите меня, ноженьки, подальше отсюдова, хоть куда, я уж вам и указывать не буду, только несите!
Так и плелась она, спотыкаясь и оскальзываясь, в счастливом забытьи, никто и звать никак — живая, живая! Пока не провалилась в лисью нору. Да там и улеглась. Накрылась с головой камзолом и уснула, тревожно и маятно.
Но спала беглица недолго. Прежде чем осознала зачем, она уже неслась, сломя голову, по кустам, не разбирая дороги. Лес смеялся над ней, враждебный и темный, как та «адова хата», куда швыряли нерасторопных слуг… Инга, когда только ходить научилась, забрела туда, куда маленькие отбросы соваться не должны, когда только ходить научилась. Тогда ее схватил за шивороток худой рубашки кто-то из «заплечных», и швырнул кухарке на руки: «Нос отрублю!» А сейчас ей казалось, что она оказалась в самом чреве того пыточного дома, откуда выхода нет, и бежит, задыхаясь и кашляя, и будет бежать вечность, по кругу! Острые ветки хватали ее за шиворот, мошкара залетала в глаза, она утирала злые отчаянные слезы, рвала кожу и оскальзывалась в ручьи, хрипела и ползла хоть бы куда, только подальше, подальше!
За ней, четко по следу, шел ее брат.
А дичь его единокровная бежала, умоляя то бога, то дьявола о защите, да поскользнулась на мокрой от росы траве, расшибла локоть о случайный камень, и притаилась. Изнурительный страх прибил девчонку к земле. Сердце ее грохотало так, что палач услыхал. На миг наступила тишина… а в следующий миг уже заслонила свет темная фигура, и тяжелая рука цепко схватила Ингу за волосы. Наследник Проклятого торжествующе зарычал и выволок костлявое тельце добычи своей, встряхнул и на дрожащие ноги поставил.
— Фи, девочка, какая же ты грязная! — картинно пристыдил ее смешливый упырь. — А одежда-то на тебе… — он сделал огромные глаза, и фальшиво ахнул: — Краденая! Не могу поверить, что дочь моего отца скатилась до воровства!! Ах, скажи, умоляю, что ошибаюсь я, и это совершенно не так?! — плаксиво выкрикнул князь и жестко схватил девочку за локти. Она только горестно всхлипнула, умоляя высшие силы, чтобы прощание с жизнью не затянулось, и не было бы слишком больно… Она уже слышала, как трещат ветки под копытами Бледного Коня, и губы ее пытались молитву складывать.
— Князь Адалвалф, отчего ты без приглашения по моим лесам охотишься?
Голос женщины прозвучал так неожиданно, как счастливый смех на похоронах. Низкий, ведьминский голос. Князь замер и разжал хватку железных когтей. А Инга аж вытянулась вся, как струна, будто этим голосом ее по хребту ударили! Столько было в нем власти непререкаемой, такая невозможность ослушаться. Если бы эта женщина была ее госпожой, свинарка бы не подумала никуда бежать, наоборот! Сама бы влезла на чурбан для колки дров, и топором бы себе лицо раскроила, когда бы того госпожа потребовала! Ингино нутро аж узлами завязывало от желание взглянуть на владелицу голоса. Но не смела она, лишь едва дышала, не в силах поверить, что еще жива…
— Ах, прости за вторжение, княгиня, не сочти за дерзость, но эта вот пигалица — моя беглая чернавка!
— Это мне все едино, чернавка или госпожа, ты залез в мой огород, и ягоды мои рвать не спрашивал, а я не разрешала!
Инга, под шумок, подняла на женщину глаза. Княгиня гордо возвышалась на породистой вороной лошади. Девчонка так и ахнула — какая красавица! Маленькая, не выше самой Инги, тоненькая, складная, вся в алый, расшитый золотом бархат затянутая. Волосы вороного крыла, так и блестят на утреннем солнце.
— Катэрина, брось! — раздраженно гавкнул князь: — Говорю тебе, это беглая прислуга, воровка! Заберу ее и исчезну, до следующего Рождества!
Княгиня ловко спешилась, черную с белой гривой кобылу по морде похлопала:
— А докажи, что твоя! — и хохочет белозубая! — На девке никакого знака нет!
Потемнел лицом молодой изувер, хватанул беглянку, как зайца за шкирку, ворот с треском по шву пошел. Ан глядь, нет на шее клейма! А ведь каждая последняя муха в пределах его отца — меченая. Знал Проклятый, что делает — без клейма поганая чернь так и норовит деру дать, все им блазнится, что у соседей жизнь послаще будет!
А названная Катэриной усмехается:
— Чистенькая! И нет мне нужды кожу своим людям портить. Они меня любят, как мать! Никуда не бегут! Не то, что твои! — Катэрина улыбнулась самой щедрой улыбкой на свете: — Они ж мои кошечки, собачки мои!
И глаза черные, вороньи, сверкают! Инга испуганным зверьком переводила глаза с одного голодного волка на другого — который ее порвет?..
— Да брось, Кэт, на что тебе падалица? Мы же друзья!
Красавица усмехнулась и головой покачала:
— На моих землях эта ежевика росла, мне и варенье с нее варить!
— Не твоих, а твоего полумертвого господина, княгиня Лисицкая! — рассвирепел князь, и схватился за нож на поясе. Инга отшатнулась и сама не поняла, как очутилась за спиной у красавицы. «Пусть лучше она меня за дерзость в батога, чем этот упырь кишки выпустит!» Катэрина завела руку назад, и точно сквозь прореху в штанах Ингу по бедру погладила. Девочка едва сдержала жалобный стон. Матушка, не отдай!
— Иди домой, князь! — княгиня насмешливо махнула кончиком лошадиного хлыста. Князь заскрипел зубами, глаза его налились чернотой.
— Забирай! — зловеще улыбнулся он, и в один миг метнулся к беглянке, схватил ее за плечо железной хваткой, вот-вот сломает куриные косточки!
— Ты все равно вернешься ко мне! — прошипел он полумертвой бедняжке в лицо.
— Князь, ты портишь мое имущество! — холодно одернула его княгиня.
— Ну, ничего, Кэтти, твой старик помрет, со дня на день, и я возьму тебя, и все твои земли! И все твое паршивое имущество!
Его Светлость сплюнул на землю, резко развернулся, и пошел, свирепо давя сапогами траву, прочь.
А Ее Светлость даже не удостоила взглядом соседа своего. Только по крупу коня своего похлопала, и через плечико королевски-холодно растоптанной беглянке бросила:
— На лошадь садиться не умеешь, конечно же?
Девчонка рухнула на колени, как подкошенная трава. Во рту у нее пересохло, язык к небу прилип. Она попыталась выдавить какие-нибудь жалкие благодарности, но к смертельному ужасу поняла, что не знает ни единого достойного слова, какое возможно при госпоже сказать!
— Ваша Светлость… — только и сумела прохрипеть она.
— Да помолчи, поняла я уже! — хохотнула княгиня. Подошла к своей дрожащей добыче, взяла ладонями за костлявое лицо, кожа перчаток такая нежная, а пахнет лютым наказанием! Инга замерла, готовая претерпеть боль и кричать, если прочитает в глазах новой госпожи желание крови, либо молчать, если княгиня того потребует. А вот что делать, когда владычица в нос тебя целует горячими и влажными губами, она не подумала! Растерялась, зажмурилась, всхлипнула, теребит край рубахи и слезы злые, непрошенные на ресницах висят. А госпожа Катэрина коня своего по шее похлопала, он перед ней так и раскланялся. Подогнул точеные передние ноги, и головой мотает. Катэрина повелительно промеж лопаток Ингу хлопнула:
— Забирайся! Ну, чего ждешь, живо! — прикрикнула. Девчонка в два счета на крутом изгибе седла оказалась, а сама госпожа за спиной у нее устроилась. Обняла Ингу через живот, поводья в руки взяла:
— Не дрожи-ка! — велит. — Не сьем я тебя! Я до юных свинарок не охочая!
Тронулся конь, Инга тотчас чуть не рухнула. Вцепилась в рожок седла, зажмурилась. Мысли, как зайцы испуганные, носятся. «Как это вообще люди держатся, оно ж все шевелится, точно гора живая ходуном ходит! Ей-ей, упаду! Ох, ты, матушки светы, пронеси беду стороной! Свалюсь мешком, собаке дохлой позавидую, потопчет меня копытами, и поминай, как звали! Ох, правду же люд судачит, направо пойди, налево — а не уйдешь от судьбы! Сказано мне помереть, и коли ночью уцелела, так догоняй мертвецов своих поутру!»
Долго ли ехали, не поняла она, а только конь вдруг встал. Инга открыла глаза и укусила себя за язык.
Конюхи суетятся, поводья хватают, на Ингу, как на дичь какую-то поглядывают. Того и гляди, кухаркам отнесут и велят в суп бросать!
— Что встали, охламоны? Вон пошли, по своим местам! — гаркнула Ее Светлость, и люд неохотно зашевелился. Госпожа повернулась к Инге, и строго ее оглядела:
— А ты, иди за мной и сделай-ка лицо пораболепнее! Дарую тебе великую честь показаться на глаза самого господина твоего, Его Светлости Князя… помнишь хоть, как зовут его, Ежевика?
Инга только неловко кивнула. Да откудова ей знать, и на кой бы ляд? Она бы и все сорок сороков имен собственного хозяина не повторила, хоть ей ногти щипцами рви! А сердце так и зашлось, так и упало в самые пятки! Как так, ее, свинью тощую, и в самое сердце замка? Княгиня-то сама доброта, да и то черт ее разберет, чего у нее в рукаве расшитом припрятано, милость ли, или тридцать батогов по масластому хребту. А чего надумает про нее князь… сглотнула Инга, вдавила пальцы прямо в раны на ладонях. И за госпожой спасительницей поплелась. Только сейчас поняла она, что госпожа княгиня-то хрома! А хромые — все злые! «Вот отчего госпожа на покорную-то не смахивает, дерзкая!» — тешила она мыслишки, в прямую, как доска, спину княгини глядючи. «Гаркнет ей князь — отправь, жена, эту падаль на корм свиньям! А она не согласится… вот же чудо будет, когда жена поспорит с мужем, все равно, что мышь с лошадью!» У Инги аж волоски зашевелились на загривке. Ей уже не терпелось увидеть, каковы они есть, эти ангелы, настоящие избранные богом, наделенные властью женщины! Где у них тот ров с темной водой пролегает, который не перелететь, не перепрыгнуть? «Ведь их не отправляют на бойню, кишки отмывать! И не вешают на городской стене, и даже не бросают палачу под три-десять плетей! Чего же боятся они, чем их мужья наказывают?» — Инга так погрязла в своих гаданиях, что когда Катэрина остановилась, впилилась в нее, и больно носом ударилась.
— Ой… господом молю, простите, госпожа, — залепетала было она, но княгиня досадливо холеной рукой махнула, и сама, без помощи слуги, открыла тяжелую дверь с горгульей посередь. В пасти уродливая тварь держала алое яблоко, так искуссно сделанное, что Инга потянулась его сорвать… но одумалась, и шагнула вслед за госпожой во тьму, едва живую в свете тонких свечей.
Рот открыв, глядела Инга на всемогущего господина, выше которого только король. Совсем не таким она запомнила господина Абеларда Проклятого, величественного и ужасающего как Чернобог, с седыми длинными волосами, в бархатном плаще, и на коне в железо закованном! От одних только мыслей о Проклятом в костях ледяная ломота, и тело само пополам сгибается, поклониться торопиться, убраться с благородных глаз!
А этот князь лежал посреди огромной кровати, едва занимая собой десятую часть. Из-под серого мехового одеяла только голова его выглядывала, в реденьких клочках грязных седых волос. «Да он же как Кощей высохший!» — едва не крикнула Инга, и снова впилась в ранку на левой руке. В точности, как если госпожа надумала пошутить и сняла казненного с городской стены, где тот провисел три дня! И вонь стоит точно такая, как сдох кто покрупней а псы не растащили!
Да только как бы ни был жалок и слаб ядовитый змей — он все еще хозяин и господин, одно шевеление мизинца его отшвырнет любого из черни ли, из купцов, в руки княжеского палача!
И так нехорошо девчонке стало, рядом с роскошной князевой женой, да перед глазами князя, в камзоле изорванном не по размеру, того и гляди с тощего плеча свалится! Босые стопы примерзли к каменному полу. Стоит она, корявое дерево, ногу за ногу прячет, да куда тут денешься?
— Господин мой, муж! — медоточиво запела Катэрина, приседая перед тряпичным чучелом. — Счастлива видеть вас в добром здравии!
Инга чуть в кулак не прыснула, едва удержалась. Какое уж там «здравие», да еще и доброе? Никак, госпожа смеяться изволили? Лежит усохший мертвец, и то ли дышит то ли нет, непонятно, одни глаза пустые шевелятся! Ни дать, ни взять, упырь восставший, кукла Сатаны!
— Возрадуйтесь вместе со своей покорной женой, любимый супруг! Счастье посетило наш дом, господь благословил нас за наши молитвы и усердие в делах заботы неустанной о благополучии ввереных нам крестьян! Среди черни нашлась кровь моя единая, сестра моя родная, потерянная! Ежевика, иди, подойди поближе пусть наш добрый князь взглянет на тебя!
Инга вздрогнула, и робко шагнула к постели. Катэрина смахнула фальшивую, как жизнь ее мужа, слезу, и поцеловала девчонку в висок.
— Незаконно разлученные мы!
Инга так и встала, как вкопанная, чуть на ногах удержалась. Что это за новая игра такая? А князь сквозь нее смотрит. И такая пустая бездна расстилается в его бесцветных, запавших в череп глазах, что никаких сомнений — видит он самый Ад! Инга чуть было не перекрестилась, но только снова острые обломки ногтей в раны на ладонях вонзила.
— Ах, да что я вас утомляю, мой дорогой! — вспеснула руками ее «сестра»: — Мы вас оставим отдыхать, и удалимся с сестрицей моей молиться усердно о вашем здоровии!
Присела в колченогом полупоклоне, и усмехнулась кошачьими губами. Злой, зеленый огонек вспыхнул и погас в черных глазах Ее Светлости. Инга неуклюже повторила то ли почтительную, то ли насмешливую позу госпожи, и поспешила выскочить вон, вслед за княгиней, пока не наломала корявых дров.
Вот идут они вдвоем с новой госпожой, по темным коридорам, слуги, словно мыши, рассыпаются, кланяются. И все молчат, почтительные. А Инга уже так и слышит сплетни да пересуды, какие грязным облаком поднимутся в тот же миг, как только… да вот, прямо сейчас когда Катэрина закрыла дверь за спиной у нее. «Почему она сама всеми дверями хлопает, отчего не слуги?» — подозрительно подметила Инга, и осторожно огляделась. И как человек может в такой красоте жить и в своем уме оставаться? Потолки, должно быть, звезды подпирают ночами! А ковры, Дева Мария милосердная, словно шкура зверя Индрика! А розы живые по вазам, размером с саму Ингу! Батюшки светы, и эти кровати… Инга бы умерла в такой с огромной радостью! Она же с целую крестьянскую избу, и вся устелена шелком и бархатом. Неужто же можно для одной женщины, пусть даже и такой, как госпожа княгиня Катэрина эдакую уйму свечей жечь? Ох, не врали поди, про Проклятого, что тот ночами в нетопыря перекидывается и задирает поздних гуляк! Не может человек, хоть бы и богатейской крови, обычное тело иметь! Уж эти-то летать уметь должны, им ничто не преграда! А этот князь, мужик Катэрины, он поди грязь в золото обращать умеет, ты погляди, как жену обустроил! Тем непонятнее, за что она, свинарка несчастная, тут оказалась! Или за то, что голос в ней есть… Колдовской, непростой! Может ли оно означать, что и Инге чего перепало от Проклятого, раз сказано, будто она — семя его?
— Что за дрянь на тебе надета, не пойму! — раздраженно разбила ее дрему госпожа. — Раздевайся давай!
«Ну вот, оно и… началось…» — вздрогнула Инга, сама не понимая, о чем, и слабо зашевелила непослушными руками по пуговичкам. «И на что только они там позарились… курица я полумертвая… уж лучше б в лесу меня бросили, я б уснула уже тихонечко, и не стало б меня…»
Наконец, кое-как управилась с камзолом, стянула через голову рубаху, вскользь подивившись, какая же грудь у нее плоская, два прозрачных комочка плоти, да и только! Не то, что у «сестры» ее — махоньки, да заметные груди-то! Штанишки упали на пол, и в тот же миг скрипнула дверь. Инга испуганно обернулась. Вошел старик, высокий и худой, лицо сухое и ничего не выражающее, как морда бойцового пса. Старик, не старик… мужчина, в общем. Девочка застыла, не смея прикрываться. Привычно покорная господам. Старик на Катэрину сухо глянул:
— Почем знаешь, что она?
— А ты на ноги ее посмотри!
Инга украдкой глянула на свои ноги. Ну да, кривые… Насторожилась девочка — так ведь и Катэрина хромоногая! Должно быть, это что-то значит… Уж не дурное ли чего?
Старик кивнул. На два шага приблизился, девочка сьежилась и задрожала, кляня себя за дерзость дрожать… Но человек к ней даже руки не протянул. Бегло оглядел Ингу, ничего не сказал, и вышел. Катэрина проворно закрыла за ним дверь. Спиной прислонилась, и улыбнулась. У Инги слезы на глаза выступили. «Спасибо, матушка!» — поклонилась она мысленно. Но телом повторять не стала, знала — лишнее. Не того от нее Катэрина ждет! А чего? Непонятно пока, но Инга тихой сапой надеялась прояснить. Ведь не задаром же она здесь греется?!
— Давай-ка посмотрим, что у нас есть для тебя, Ежевика!
Княгиня весело подпрыгнула, будто девчоночка дворовая, и распахнула здоровенный сундук. На крышке его Инга успела углядеть такую же горгулью, с яблоком в пасти. Не успела она покумекать, что бы оно значило, а княгиня уже выволокла кучу одежды и на кровать ее плюхнула. И снова Инга поразилась, чего княгиня сама возится! Будь у Инги хоть пара слуг, она б ни в жизнь и пальцем не шелохнула! Валялась бы себе на подушечках пуховеньких, вино медовыми пирогами закусывала, да жирела, как Мушка! А чего бы и нет? Хоть бы и мушкина судьба зарезанной быть к господскому столу. А у Катэрины разве судьба иная?.. Зато б успела досыта натешиться!
— Какой же ты хореночек-то, — покачала головой Катэрина. — На-ка, вот надень! Это тебе половчее сядет!
И кинула что-то темно-красное, тяжелое. Инга проворно поймала вещь, развернула. Батюшки, да это штаны! А она почему-то платье ожидала. Вроде как… девка… стыдно ей было и боязно себя таковой назвать, ведь в каком месте она к женскому принадлежит? Разве что, там, между ног. Но никто не захочет такой заветренной селедки, как она, проку от нее по-бабьи никакого, у нее до сих пор ни разу «грязных дней» не случалось. Видать, не способна она даже кровоточить, так что — какая уж она «девушка»? Ну, и правильно тогда госпожа ей с одежкой определила! Инга поддакнула сама себе, и просунула свои корявые веточки в штанины.
Катэрина одобрительно кивнула, и протянула ей сапожки. Простенькие, но такие красивые! Настоящие сапожки, о господи! Да Инга даже не знает, как их носить. Она даже зимой ноги оборачивала тряпьем, и вся ее обувачка!
А госпожа подошла к Инге близко-близко, положила руки на плечики:
— Отец дарует нам страдания, ибо сам не владеет ничем иным! Нет у него любви, и счастья нет, но он не жалобится и не скулит! И мы того не умеем, понимаешь меня, Ежевика? Отец наш — Великий Изгнанник, Хромой Господь. Мы гордимся своими ногами, ибо помнят они об увечьях отца! Не скрываем свои изьяны, и будучи женщинами, носим штаны! Пусть видят все, кто мы есть, и не смеют помыкать нами! Отец от нас не просит и не требует, мы сами даем. Мы не служим, и не поклоняемся, мы ангелы его, Ежевика! — шептала княгиня, горячим молитвенным шепотом.
— А много… нас? — робко прошептала в ответ девочка. Надежда горячим угольком вспыхнула — а вдруг, у нее и братья-сестры самые настоящие могут быть?! И не такие, как у князя Адалвалфа, а… другие!
Катэрина тряхнула головой, и вся переменилась на веселую беззаботность:
— Да ты сама все узнаешь, со временем! Пойдем, пора ужинать!
Взяла госпожа Катэрина сестру свою названную за руку, и повела за собой длинными корридорами. Мягко да цепко, как железо в шелках. Словно кошка мышку сжала — и не ест, и не выпустит.
Привела свою гостью-пленницу княгиня в обеденный зал. Инга аж зажмурилась. До чего же огромный! Да тут целую деревню поселить можно, и то еще перекрикиваться, аукать с угла на угол придется!
Слуги, как изваяния каменные, ни единого человеческого пятнышка на них! Перед госпожой точно пополам сгибаются, будто у них веревка поперек живота натянута. Уселась княгиня на высокий стул, под ножки подушечку бархатную ей подложили. А Инга мнется, не решается… стол-то какой огромный, у троллей, чтоли, отобрали? Куда человеку такую каменную махинищу? Оно и понятно, господа, у них все излищество на излишестве! Но все-таки… не дотянется она, мелкая пигалица! Слуга подскочил, Инга только пискнула, а уже сидит в мягком креслице, и такая же подушечка бархатная ноги ласкает! Ох, как страшно-то!
Инге, больше чем есть, хотелось убежать, но ослушаться она не осмеливалась. Стол не был таким, как у ее прежнего хозяина. Не лилось вино кровавыми потоками по скатертям, не плескался по фарфоровым емкостям золотистый суп, не сгибались дюжие слуги под тяжестью лебедей жареных. Еда тут была скромная и простая, хоть и обильная. Картошку вареную распознала Инга, зеленым луком посыпанную, маринованные грибы, рыбу с ароматом дымка, яблоки. И кажется, «китайским яблоком» это называется, круглое такое, с задорным сочным запахом! Кожурки от этих штук частенько в помоях свинячих плавали. Инга даже вылавливала и жевать тайком пыталась. Да горькие они оказались, и едкие! На что госпоже эта пакость? Для красоты, чтоли?
И гляди-ка ты, никакого вина на столе. Ни единого кувшинчика! «Как это так, у господ на столе — и один травяной отвар? Она что, больна, или сумасшедшая?» — растерянно подумала Инга, и сама себя одернула. Госпожа Катэрина сестрой своей тебя назвала, а ты! Да что-то не укоряется, так, чтобы искренне! Сглотнула Инга слюну, но в голодное горло и кусок не лезет. Чует беду все нутро ее!
Княгиня звякнула тарелкой по столу, пододвигая печеную речную форель к себе. Инга дернулась, и покорно замерла, ожидая приказов. Но Катэрина заговорила тихо и тепло, будто по спине погладила:
— Ты, разумеется, гадаешь, отчего ты здесь, в замке моем, и ответа никак не найдешь, так? Я скажу тебе, Ежевика. Казнить тебя упыреныш Адалвалф не имел никакого права, нет в тебе и ложечки его крови. Ты не сестра ему ни на грош, ты — моя сестра. А князь Проклятый — ерунда! Все, что от него в тебе есть, это предлог для появления на свет!
Инга покорно в тарелку глядела, не смея глаза поднять. Только уши ее ярко полыхали над гладко зачесанными снежными волосами.
— Да, твоя мать под него ложилась, понесла, и хотела извести плод, — говорила Катэрина, и вилкой над рыбой орудовала. Инга рот открыла, и слюну глотала. Рыбки как хочется… Но вилка, куда уж ей! Катэрина подняла глаза, и пристально посмотрела на девочку. Будто все поняла, отложила рогатый инструмент, и принялась совать в рот кусочки руками! Инга с облегчением выдохнула, и наконец впилась зубами в мягкую, пахучую плоть! Она застонала, уже не стесняясь, блаженно прикрыв глаза. Еда, еда, спустя столько времени! Она где-то слышала, что оголодав до безумия, не стоит на пищу набрасываться, но сил сдержаться у нее не было. Черт с ней, с резью в кишках, как-нибудь справится, не впервой! Но отпустить кусок она не смогла бы, даже если бы ее отгоняли горящим веником!
Катэрина помолчала, давая «сестре» время насытиться, и когда та приостановилась, чтобы хлебнуть травяной воды, продолжила:
— Был там один старикан, матери твоей помог, приходил осматривать слуг на предмет заразы, Чумы все боялись. У моей матушки тоже такой же дедок имелся под рукой, можешь себе вообразить? И он дал матери твоей порошок выпить, из болотной грязи и черт его разберет, чего, до сих пор не пойму, что они туда намешивают, что за порошок бесовых копыт? — Катэрина взяла яблоко, и задумчиво его разглядывая, продолжала: — А хотя, чего я вру! Никакие это не разные дедки, все это — один и тот же старый бес. Сколько себя помню, как есть то ли сорок лет ему, то ли шестьдесят, а все такой же. Видела ты его. Приходит, когда нужен, и растворяется в воздухе, как вороний крик! Так вот, напоил он твою мать порошком, и едва завязавшийся плод, то есть ты, стал ребенком отца нашего, Люцифера. Во мне вот, вообще нет ничего человеческого, меня не человек зачал, ну разве что, кровь от матушки я впитала через пуповину, а вот ты — ты половинка на пополам. Сердце в тебе человечье, но бьется оно только силой Его!
Пока говорила, Катэрина одно за другим переложила яблоки с блюда на стол, и на дне его засверкал алый камень, с кошачью голову размером. Княгиня взяла камень с блюда, и пристально глядя на Ингу, рукой в перчатке его раскрошила. Девчонка только ахнула — как?!
— И теперь, сестра моя, я дарю тебе нечто особенное! — прошептала Катэрина, перегнулась через стол навстречу девочке, и в глаза ей порошком дыхнула. Инга едкой пыли вдохнула, закашлялась, схватилась за грудь, горло ей жгло и царапало. А Катэрина на стол вскочила, и на четвереньках подползла к Инге близко-близко. Взяла «сестру» за лицо, и поцеловала ей веки, как припечатала.
Девочку всю как насквозь прошило троллевой иглой. Она выгнулась, закричала, и осела на пол, трясясь, как в предсмертной лихорадке. Губы ее неумело складывали молитву, пальцы птичьими когтями царапали каменный пол…
Катэрина стояла над ней, и улыбалась, дьяволица довольная! Она махнула рослому слуге, и тот подхватил невесомое птичье тельце, и отнес в спальню, которая шестнадцать лет назад послужила матушке Катэрины родильной комнатой. Да только не знал о том никто, даже старик князь, злосчастный супруг Катэринин, а ранее — законный муж ее матушки… То старая история, и ворошить ее нынче не на что!
Уложил слуга Ингу в ту кровать, где Катэрина на свет появилась, и почтительно кланяясь, попятился вон. А Катэрина легла рядом с сестрой, обняла ее, прижала к себе, как горгулья влюбленная, жестоко и голодно.
— Ничего не бойся, малышка моя! — шептала да искаженный рот ее нацеловывала. — Это Отец говорит с тобой! Принимай же свое крещение с открытым нутром, все отдай ему, все, что попросит он!
И глядели из черных глаз ее злые демоны, и удерживала, она сестру, пока ту разрывал и кромсал, под себя перекраивал Тот, у которого три тысячи триста имен.
Нежный рассвет лился в распахнутые настежь, двухвековые окна, которые никто не открывал с тех самых дней, как умерла от Чумы Маргарета, старая княгиня, вот прямо в этой вот комнате. Боялись, чтоли, что Чума все еще спит на кровати княжеской? Или того опасались, что душа самой Маргареты заперта, разгневанная на Катэрину, что в постель к ее мужу влезла, не успело и тело остыть? Не знает никто, слухи да пересуды одни! А только ясно одно, что окна нараспашку и птичьи первые трели доносятся, да слышно, как псари с кухарками грубо заигрывают на огромном княжеском дворе. Просыпается солнышко, румяное ото сна, глядит в окна спальни княгини. Ему бы ахнуть, да отвернуться, розовому от стыда. Но чем уж Солнце на этом грешном свете удивить? Чего оно еще не видало?.. Равнодушно глядело светило, как задрожали прозрачные веки, как наморщила нос Инга, и слабо приоткрыла глаза. Тело ломило, будто мамка ее встала из могилы и отколотила мокрой простыней, мол, «ты уж меня не забывай!» С трудом выпростала руку из-под тяжелого одеяла, оглядела — она вся чистая, белая, ни царапинки! Только посреди ладони ранка, свежая кровь. А ногти, ногти-то!! Что твои яблоневого цвета лепестки!
— Сплю я! — прошептала девчонка, а язык вдруг о зубки запнулся. Замерла она, опасаясь вдохнуть и проснуться — больно уж сон хорош! Зубы все целые, каждый на своем месте! И… ровные… как это так?! А что там со второй рукой? Потянула на себя, но кто-то на ней лежал, глубоко и сладко посапывая. «Катэрина!!» — испуганно решила Инга. И не ошиблась. «Чего она тут… со мной… чего она… ох, господи…» И вдруг скривилась вся и язык себе прикусила до крови. Так противно показалось ей слово на «Г». Будто гусеницу зажевала, нежареную! Даже слово «гусеница» — и то слаще показалось!
А Катэрина потянулась сладко, замурлыкала, открыла глаза. Смотрят две дикие кошки одна на другую, и молчат. Катэрина молчит, Инга молчит, что делать — не знает. И вдруг, как само вырвалось:
— Это ведь твой голос был! Ты велела мне мыло красть и бежать!
Катэрина только глаза прикрыла — ни да, ни нет. Села на постели, Инга за ней. Соболиное одеяло на пол свалилось, а укрыты они обе бархатным алым мужским плащом. И нет на них больше не единой одежки, совершенно, как новорожденные. Только… липко как-то Ежевике там, внизу. Глаза скосила на тощие бедра, и ахнула: лужа цвета княгининых яблок белую кожу перепачкала. Почему сейчас?! «Я все испортила, я ей постель изгадила, не простит она!» — запаниковала Инга, но Катэрина будто ничего и не заметила. Позвонила в колокольчик и слуга, тот самый, что вчера Ингу в постель отнес, появился, как из-под кровати вынырнул. Собралась было Инга устыдиться и спрятаться — да Катэрина не прикрывается, и она не стала. Не чувствует никакого стыда, и страх весь рассыпался, ну так и быть тому. «А я ведь теперь настоящая девушка!» — с гордостью осознала девочка, украдкой испачкала пальцы в густой крови и в рот себе сунула.
Что повелела слуге княгиня, ни словечка Инга знакомого не разобрала. Птичий щебет, а не разговор! Какие-то это специальные слова, господские, чтоли? Слуга однако, все понял, провалился куда-то вон, а на его место явились девки, проворные и тихие, как две лисы. Одели и прибрали сестер, не успеешь и «раз, два» сосчитать! Подвела Катэрина сестрицу к зеркалу с полу до потолка.
— Ну, что думаешь, Инга-Ежевика?
Инга только и смогла, что головой тряхнуть. Неужто это — она? Огладила всю себя сверху донизу, пальцы тонут в бархате, взгляд — в отражении. Настоящая госпожа глядела на девушку, стройная, тонкая, белокожая, как самый первый снег. Волосы, что твой выбеленый лен, брови и ресницы словно мех белой ласки! А глаза, что твои озера осенние, синие, глубокие! Чуть сама не потонула.
— Господин Люцифер, да я же красавица! — только и ахнула Инга, а Катэрина ее по худому, разряженному плечу похлопала. И так радостно было ей, произнести эти два слова вслух, и знать, чисто и легко знать — Он теперь мой Господь!..
Снова сели Катэрина и Ежевика за накрытые столы, и опять еда была — проще некуда, совершенно крестьянская. Все так же, ни слова княгиня не говорит. Инга тоже рот держит запертым, разве только голод утолить, раскрывает. И нет между сестрами никакой нужды в словах. Понимает девочка — не она это, не прежняя свиная прислуга, а птица небесная, и червь подземельный, и сосна на скале одинокая, и вода в реке — все она!
Потому ничуть не удивилась Ежевика, когда Катэрина поднялась из-за стола, и взяв за руку, проводила ее через долгие коридоры, через княжеский двор, прямиком до ворот. Там сестры остановились. Ежевика подняла голову к небу, чтобы слезы закатились обратно в глаза. Так ей тягостно было от родной души своей единственной отрываться! «Я же только вот к ней притулилась, и…» — и мысль ее оборвалась. В высоком окне, распахнутом, торчал, как сухая береза, сам дряхлый князь! В белом спальном рубище, волосы жидкие, как паутина на черепе, губы чернеют на иссохшем, обтянутом кожей лице. По спине у Ежевики пробежал холодок.
А Катэрина махнула рукой в перчатке, повелевая открыть неприметную калиточку поодаль от главных ворот. Ежевика с трудом от князя оторвалась, повернулась к сестре, и не знает — то ли обнять ее, то ли оттолкнуть. Княгиня сняла с плеч свой теплый алый плащ и на плечи Инге набросила.
— Иди! — велела ей Катэрина, и в глазах ее плескалось теплое, бездонное ласковое озеро, полное яда. — И никогда не возвращайся! Неси свое благословение, и не прогадай!

Ежевика зубы сцепила, чтобы не завыть, и торопливо потопала прочь, прочь от замка, а вслед ей неслось зловещее:
— Князь, госпожа княгиня, князь преставился!
Не обернулась она, уходя все дальше и дальше по узкой тропиночке прямо в лес. За ней бесшумно, бездыханно волочил босые, прозрачные ноги старик в изношенном рубище. На груди его ярко сверкала голова горгульи, держащая в пасти рубиновое яблоко.
Ягода черная, Ягода белая
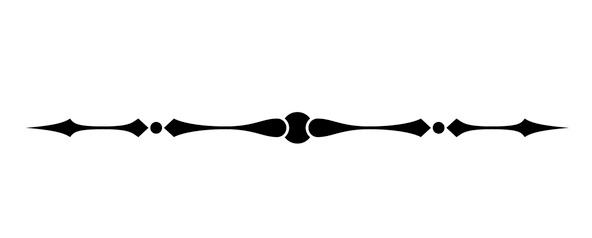
Ежевика наклонилась над ручьем, и зачерпнув воды ладошками, жадно плеснула в разгоряченное долгой дорогой лицо. За спиной ее покачивался, как обглоданный скелет, мертвый старикан.
— Ну, и чего ты ко мне прицепился, мил человек? — проворчала Инга, и швырнула в князеву тень комочек грязи. Тот только головой покачал и сжал почерневшие, прозрачные губы в ниточку.
Девочка покачала головой в ответ, передразнивая его. Непривычно длинные волосы липли к мокрым щекам, лезли в глаза. Ежевика обшарила полянку взглядом, размышляя, чем бы волосы прибрать. Уж думала было, по старинке, просто обмазать грязью, чтобы склеились и не лезли, да жалко стало новенькой одежки! Чудесные подарки сестрички Катэрина, надо бы приберечь! Рассчетливый умишко нищенки подсказал ей, что до ночи всего ничего, и теплое, сухое барахло ей ой, как пригодится! Она от души напилась родниковой ледяной воды, пока зубы новехонькие не заломило, и снова подивилась, каково оно, все зубы во рту носить! То и дело язык спотыкается.
Эх, жалко, нет никакого туеска, кувшинчика… Один только нож небольшой, как раз под тонкую рученку, ей Катэрина в карман положила. А набрать бы с собой водички, когда там новый ручеек встретится? Как знать…
«А того любопытные — куда я вообще иду-то? Что за нужда, что за приказание гонит прочь, прочь через лес, да все окраинами, подлесками?» Вот и снова бредет на усталых, дрожащих ногах она, да так упрямо, точно ее дело неотложное ведет!
Старикан еще этот, как репей на собачьем хвосте! Черт его задери! Как ни оглянешься — вот он, тутова, как пень заиндевелый!
— Отстань ты, Сатаны ради, а? — взмолилась Ежевика. — Ну чего ты, твоя паршивая светлость, прицепился-то?
И захохотала, зашлась гоготом, как умалишенная кликуша, которой уж терять нечего. Ух, как же весело, как заполошно хорошо, ядовито-сладостно было говорить с господином, с самим князем таким вот манером! А тот все молчит, глядит на нее осуждающе, холодно.
— Да сделать-то ты ничерта не можешь, а? Твоя свинячья светлость, Хрюн Высокородие, ахаха! — вопила Инга, и аж хрипела, заходясь от хохота. Хлопала себя по ляжкам, трясла головой. Это все ее мерзотное детство, вся ее тошнотная жизнь, как блевота их нее выходили.
— Сдох ты, сдох, вонючий лысый черт, сдох!! Сам себе теперь приказы отдавай, сам себе и мягеньку постелю стели, с могильными червяками, ахахахаха!! Пусть-ка они теперь тебя обнимают, вот их и имей под хвост, барсук ты помойный, опарыш, цепень свиной!!..
Девчонка орала, пока не охрипла, и не лишилась сил окончательно. Солнце совсем уж на спад ушло, повалилось за черные деревья. Повалилась и Ежевика, где была. Умостилась в корнях иссохшего, мертвого дуба, и равнодушно отвернувшись от призрачного своего провожатого, уснула.
Снилась ей еда. Будто снова за столом она у сестры своей, Катэрины, а прислуживают им катэринина мать, да ее, Ежевики, человечея матушка. А пиршество-то богатое, сладостное!
— Как у настоящих господ положено, а не то жиденькое да завалящее, что ты мне милости ради нашвыряла на стол! — Ежевика сестре выговаривает. А та только усмехается, да свинины куски в мед макает. Инга тянет что пожирней, сало с ладонь толщиной на пушистый хлебушек кладет, кубок подставляет неглядя, и мамашка ее, раболепно скрючившись, горького, наваристого пива своей дочке-госпоже подливает.
Вдруг садится к ним за стол сам брат Адалвалф, добрый наследничек. Рожа топором раскроена пополам, весь в земле и засохшей крови, будто его долго волокли, до самых ворот в Ад.
— Эй, ты! — кричит ему Ежевика. — С какого перепугу еду мою жрешь, кто пустил тебя, драное пугало?
А мертвец только усмехается, да знай в перекошеный, разорваный рот куски пихает.
— Да пускай его, пожрет напоследок! — надменно махнула сестра. — Нескоро-то ему еще жрать придется! Я из-под него трон уже выбила, только он не знает пока!
Ежевика ей в глаза долгим взглядом поглядела, и кивнула согласно. Чтож, если напоследок — то пускай, она не жадина! Отхлебнула еше пива, и драгоценными камнями закусывает. И такие они сладкие, душистые, что твои райские яблочки! Лопаются с нежным хрустом, как губа на морозе, и течет из них ангельская кровь… вкуснее и желаннее в жизни ничего не придумаешь! Дрожит Инга, глотает скорей, скорей, жадно хлюпает, аж горло сжимается! И сжимается так, что дышать больно!
— Не спеши, Ежевика, не спеши, моя сладенькая, некуда нам с тобой торопиться! — приговаривает Катэрина, а сама так странненько пришепетывает! «Не ее это голос-то», смекает Инга, и силится глаза открыть. И не может! Руки, как чугуном облили, еле-еле ворочаются. Силится поднять, не идет! Напрягась изо всех силенок девочка, вот-вот задохнется! «Отец мой, помоги, умоляю Тебя!!» — закричала без слов, отчаянно. И наконец, руки взметнулись и вцепились в чье-то горячее и гладкое тело! Навалился на нее упырь, губы ей своим жадным рылом накрыл и кровь сосет. Чмокает, хлюпает, погань проклятая! Зарычала Инга, ногами задрыгала, изворачивается. А чудовище ее не пускает! Вдруг вспомнила девчонка про нож! Дотянулась до кармашка, дрожащими пальцами ухватила. Только бы не помереть, только б удержаться! Уже туманом весь мир поплыл, и сквозь удушливый морок слышит она, как призрачный князь лебезит и ахает:
— Ох, красавица, осторожнее, у мерзавки нож!
Тут поганый кровосос от Ежевики отлип и она глаза распахнула. На ней верхом сидела девица. Налитая, тугая, писаная красавица, в два раза здоровее самой Инги! Глазищами в черных ресницах хлопает, жертву свою оглядывает, нож ищет!
— Вот тебе, проклятая гадина!! — заорала Ежевика, вся полная ярости, и воткнула в бок поганке лезвие! Та зашипела, как на собаку кот, вскочила, рану прижимает, и с возмущением глядит на убийцу свою.
— Ага, не нравится тебе, гнилушка ты протухшая! — воинственно вопит Инга, и ножом размахивает. Вскочила на ноги, вся в решимости еще разок в упыриху острие воткнуть! Да закружилась земля, как свинья взбесившаяся, и опрокинула девчонку обратно на себя. «Не уплывать, не уплывать!» — твердила себе девочка. «Обморочусь — дожрет она меня!» Но черно-чернильная тьма уже сошлась над ее головой, как котел смолы.
— Ах, как сожалею я, что не удалось вам, милая девушка, падалицу эту гнилую докушать! — завывал сквозь мутную, грязную пелену князь.
Ежевика трясла головой, волокла наверх дубовые веки. Жажда скребла горло сухим, колючим песком. И не было спасения нигде, нигде! Пальцы едва шевелились, словно ленивая озерная трава, да и все. Остальное тело начисто отказалось от своей владелицы.
А князь знай себе, нудит:
— Вы не думайте, моя красавица, я не по собственному разуму за ней потянулся, нет! Никогда князь Анжей Братумит Доминик Лисицкий, прозванный Разящим за славные военные победы, не опустился бы до такого… позорища! Но понимаете, чудесная госпожа, смерть… удивительное состояние, должен вам сказать…
«И бубнит, и бубнит! Куском свиного навоза так бы и швырнула в него, чтоб завалился!» — раздраженно подумала Ежевика, и вдруг поняла, что сумела открыть глаза. Низкое, серое небо вынашивало дождь. «Приплыли, мать вашу через забор!» — зло осклабилась девочка. «А у меня силенок укрыться совсем нет, так и подохну тут, в мокрой грязи! Если раньше меня этот расписной упырь не сожрет!»
Инга с трудом повернула голову, отыскала глазами вражину. Мерзкая упырица на нее поглядывает, нетерпеливо плечиками подергивает. Прозрачный князишко возле нее увивается, аж трясет его. Бу-бу-бу, бу-бу-бу… Девка же на него — ни на поломанный грош внимания. «Да она ж его попросту не видит! Он же привидение!» — дотумкала девочка. К несчастью, она-то его отлично видела и того лучше слышала. Хорошо еще, не обоняла. Не откинь надоедливый дедок свое высокородное тело, вонял бы уже, как ходячий скотомогильник.
— Заткнись ты, ваша дохлая светлость! — хрипло каркнула Ежевика. — Уши мне все проел, кочерыжка…
Вампирша ахнула, подскочила и дернулась к ней. Ежевика села, и едва удерживаясь на границе сознания и забытья, выставила перед собой нож:
— Не подходи, прирежу, тварь! — угрожающе прошипела она. Прозвучало жалко. Но на кровопийцу подействовало. Девка остановилась, глядя на свой обед огромными, наивными глазами. Ни дать, ни взять — прелестная козочка с княжеских выпасов! Встретилась бы ты Проклятому, он быстро бы сам из тебя всю кровь высосал! Уже бы родила ему парочку ублюдков и сковырнулась к чертям! Все согласно судьбе таких вот красоточек.
— Повезло мне, стало быть, что я уродина, — прошептала Инга. По языку расползалось соленое, пряное пятно. Прокушенная губа разошлась.
— Прости меня, сестрица, не признала я! — нежным, певучим голосочком сказала девка, и склонила черноволосую голову.
— Пошла-ка ты! — огрызнулась Ежевика и слабо взмахнула ножом.
— Не признала я тебя за свою, прости меня! — настырно повторила вампирица. — Мне и отроду всего три дня! Для растения много, для человека — сама понимаешь!
— Ты чего несешь, бедовая? — закричала на нее Ежевика: — Заболтать меня хочешь, кривое отродье? Не на ту напала! Я тебе не помоев бадья, не свинья на забой, я Ежевика!!
— Я знаю, знаю, кто ты, потому и прошу прощения! — заторопилась девка. — Мы с тобой одного поля ягоды, я это сразу поняла… ну, не сразу, но как кровь твою пить начала, так и поняла, но чего-то увлеклась, понимаешь, а сама же смекаю — э, говорю себе, да она же дитя Отца, как и я! Но вкусно же, ты уж прости меня, я очень сильно кровь люблю, а Матушка меня не баловала!
— Матушка? Так есть еще и Матушка? — переспросила Ежевика.
— Ну, да, она меня молитвами к Отцу нашему вырастила, а потом…
Девица замолчала, повесила голову и грустно хмыкнула. Ежевика подозрительно ее рассматривала. Рядом охал и маялся призрачный князь. Первая молния разорвала небо. «Вот же пакость, как бы спрятаться?» — с нарастающим отчанияем поглядела в небо Инга.
— Ну, дак чего там с матушкой? — бросила она упырице, стараясь ее заболтать. «Потяну лямочку, глядишь — мысль какая придет!»
— А, так это, убила я ее! — пожала плечами девка. — Она меня сожрать собиралась, ну я нечаянно ее и… как это сказать? Перетянула, в себя. Я выросла в траве лесной, а когда поспела — Матушка плод мой сорвала и хотела юность свою через мой сок вернуть. Но я не хотела, ты не подумай, я не убийца! Я испугалась, и не знаю, как, но всю человечность из матушки вытянула и сама стала человек!
— Понятно, — проскрипела Ежевика. В глазах ее все поплыло, заволоклось, и она упала без сил на спину. Девка дернулась к ней.
— Не смей, паскудина! — прошептала Ежевика. Глаза ее закрывались, не было сил их держать открытыми.
— Я помогу тебе, я отдам тебе твою кровь, не бойся, позволь мне исправить оплошность, пожалуйста! — умоляюще проныла красавица.
— Не подходи… — прошелестела девочка, и потеряла сознание.
Очнулась Ежевика полная сил и свежести. Дождь тяжелыми каплями выстукивал бодрую свою музыку. Кто-то часто дышал девочке в шею, обвивав ее со спины, горячим телом. «Катэрина!» — остро промелькнуло в голове, но это, конечно, была не она. А кто тогда? Ежевика неучтиво чьи-то маленькие руки-ноги с себя скинула, и вскочила. Да так ловко, как в жизни ей это не удавалось! Мимолетно подивившись на незнакомую свою силу, она выхватила нож и уставилась на упырицу. Та лежала изумрудным калачиком, растрепанная и блеклая, будто выжатая. Даже платье полиняло и расползлось, как истлевшее. «Чего это с ней?» — озадаченно подумала Ежевика, и нож не убрала. Девка слабо повернула к ней голову, вороньи глаза ее тускло блеснули.
— А, ты проснулась! Помогло тебе мое лечение…
Голос ее шелестел, как сухая трава.
— Да уж за меня-то не переживай, — хохотнула Инга. — А ты чего разлеглась?
— Я умираю, Ежевика… — снова зашелестела девка. — Ты из меня всю кровь вытянула, я не хотела тебе столько отдавать, а ты жадная оказалась…
— Я? Ты чего порешь, дура? — вытаращилась на нее Ежевика. — Я не упырь, какая, к свиньям, кровь?!
— Я не вру, посмотри на меня, — шептала девка. Ей явно было совсем не до игрушек. Инга потрогала губу. Целая. Идеально ровнехонька! Будто никогда ничего и не трескалось. Посмотрела на упыря. Та еле дышала, и будто стала еще меньше. Кожа ее пошла морщинами, потемнела. Волосы слезали клочьями, платье бледнело и трескалось, как облетевшая листва.
«Точно не врет!» — решила Ежевика, и жалость прошмыгнула юркой мышью ей в грудь. «Кыш ты, дрянь такая!» — шикнула на нее девочка, но проклятое чувство уже угнездилось и с аппетитом принялось грызть ее сердце. Она уже ясно, как день, понимала — поздно спасаться. Теперь чем бы то ей ни грозило, она поможет врагу своему. Как тогда, когда нашла в яме, полной осенней воды и ледяного крошева щенка. Бедняга скулил и отчаянно рвался, а цепкие когти смерти тянули его назад, в самую топь. Четырехлетняя Инга влезла босая в лужищу, схватила щенка, вполовину ее самой, и волоком дотащила до лачуги, где мать ее избила, проклиная, и ушла куда-то, грохнув кривой дырявой дверью. Инга не слезинки не проронила, а щенок попросту потерял сознание. Мать еще на пороге плюнула в их сторону и велела дохлятину эту выбросить. А не то сама «проклятая дрянь» вслед за ним отправится в помойную яму! Инга вцепилась в неживого щенка, и смотрела на родительницу злыми, воспаленными глазами, пока та не исчезла в густой мгле осеннего вечера. Когда мамаша возвратилась под утро, в дымаган пьяная, веселая и растрепанная, ее отчаянная дочь уже выпросила у кухарки молока и хлебушка, а также обьедков каких-то от господского ужина. Неслась во весь опор, стараясь ничего не расплескать и не разбить, мечтала, как щеночек округлится и завалится на бочок, сытенький и довольный! Еды ей дали столько, что она и сама смогла наесться и живот резало во все стороны, но зато вечный голод отпустил, это ли не счастье? Темнота была слишком тихой. Она пыталась найти щенка по дыханию, но ничего не слышала. Наверное, спит! Она шарила и шарила, звала на своем нелепом, лопочущем языке без слов, пока не наткнулась на мягкое, и уже остывающее тельце… нет, нет, он просто спит! Он просто заболел и ему надо поспать! Я его разбужу, он поест, пока молоко не простыло, и мы снова будем спать, вместе! Она уговаривала сама себя, и его, и детского доброго бога, и снова его, и опять себя… но горючие слезы, слезы неумолимой уродливой правды уже застилали глазенки. Она трепала и гладила дохлого пса, пока… пока…
Инга ахнула и глаза ее поползли на лоб:
— Батюшки, распробатюшки… а ведь я же его оживила!
И правда! Тогда, десять лет назад ее слезы намочили лысое пузико-барабан, они впитались досуха в тельце дитеныша, и неживое дернулось, по нему прошла дрожь, и щенок заскулил! Заскулил снова, вывернулся, и стал лизать лицо девочки, визжа и подергиваясь. Она ощутила, как молотит его хвостик по ее животу, как сучат его лапы. Мокрая псина ударила в нос, и горячие собачьи пи-пи полились ей прямо на ноги. Все, как сейчас, встало перед ней. Ужасная и роскошная правда — она обладает волшебным, еретическим могуществом!
— Я умею оживлять дохлых псов… — облалдело прошептала она.
— Ты и не то умеешь, — прошелестела умирающая упыриха. — Но мне это не поможет, поторопись, умоляю!
— С чего знаешь, что не поможет? Вот помрешь — я еще разок проверю свои умения! — хохотнула Ежевика.
— Не проверишь, на мне это не сработает! Я — растение…
— Чего ты?
— Растение я…
На Ингу выцветшими, блеклыми глазами смотрела глубокая старуха. Голос ее дребезжал, как разбитых стекол мешок, волосы клочками повылезли.
— Нашел, нашел, моя красави… — закричал было, и осекся привиденчатый князь. — Ох, опоздал я, похоже?
Он уставился на полумертвую с ужасом и отвращением. Костлявая рука его поднялась в крестном знамении.
— Ну-ка замри! — прикрикнула на него Ежевика: — При мне никаких небес поминать не смей, понял, ваш бродь? Хоть раз перекрестишься — Сатане скормлю!
Призрак испуганно отшатнулся, но кивнул.
— А теперь говори, чего ты там нашел?
Старуха уже хрипела в агонии. Князь опасливо покосился на нее:
— Да не уверен я, что это силу имеет, думаю, вышло ее время!
— Не тебе решать, быстро говори! — гаркнула Инга.
— Там волк оленя дерет, крови много, предостаточно для… для ужина!
— Где? Давай, веди, живо! — крикнула Ежевика, и подхватив старуху на руки, рванула за прозрачным стариком через лес. Он плыл над землей, как облако пара над кастрюлей. А Инга поражалась, какая же бывшая красавица невесомая! Та доверчиво прижалась к ней, положила голову на грудь и затихла.
— Сейчас-сейчас, держись, сеструшка! Не зря же ты меня дочерью Отца назвала, а раз уж обе мы — его отродьюшко, то так тому и быть! Меня сестра Катэрина не бросила, и я тебя не брошу! — утешительно бормотала девочка, ловко перескакивая поваленные березки, и лавируя между скользкими лужами.
«Только что же я буду делать с едва живой старухой на руках, и одним коротеньким ножичком против волка, что оленя задрал?» — продрала хребет ледяная, когтистая птица ужаса. «А ничего, Отец защитит! Если уж Проклятый наследничек меня не достал, то и тут отведет Преисподняя!» — решила она, и теплая, косматая сила, как медвежья шкура, окутала ее.
— Вот он, вот! — торжествующе завопил мертвец-провожатый, вытянув ручку-веточку вперед. Да Инга уже и сама догадалась. Из-за вековой корабельной сосны доносилось хриплое, тяжелое дыхание, удушающее полотно запаха крови висела в воздухе, как туман. Точно, как на свином забое! И псы за решетками псарни вот так же хрипят и бесятся, умоляя забойщиков пустить к ним на пир!
— Да твою же едреную мать… — прошептала Инга, и осторожно прислонила старушку к дереву. Та сползла по сосне, как ветхая тряпка. Инга на всякий случай нож приготовила, и осторожно высунулась из-за дерева. Старик соврал, волков оказалось два, а не один. Огромные серые, с черными хребтами звери терзали бурую от крови оленью тушу, тащили каждый на себя, с треском рвалась горячая плоть, кровь толчками плескалась на траву. «Поторопиться бы, пока они все не слили почем зря!» — тревожно подумала Ежевика, и вдруг вышла из-за дерева. Ноги, как обезумевшие, сами ее вынесли. Она встала прямая и острая, как стрела, намертво не представляя, что собирается делать. Волки на коротенький миг замерли. Черная туча, что лениво ползла по серому небу, наконец повалилась на бок, и открыла Луну. Свет пролился на поляну, и отразился в желтых глазах мощных зверей. И не было в них ничего, одна только горячая, спелая смерть! Оба чудовища напружинились, готовые на белого зайчонка в тоненькой человечей шкурке наброситься, но зайка вдруг обе ручонки подняла, и велела им:
— Оставьте это мне, и уходите домой! Хватит вам на сегодня, знаю я — это не первая ваша добыча, я был добр к вам, время делиться с сестрами вашими!
Волки уши навострили и не веря своим глазам, все-таки развернулись и неохотно побрели в темную чащу. Глаза-то могут и соврать, а вот уши не врут никогда! Когда Отец говорит — не имеет значения, чей голос он использует. Надо подчиняться, даже если звучит он из тела зайчишки на двух ногах!
Ежевика посмотрела им вслед, и выдохнула. Во рту остался горький и острый вкус незнакомых слов. «Благодарю тебя, Отец!» — мысленно прокричала она, всем нутром своим. И он ответил ей, словно легким шелковым лоскутом сквозь все ее тело прошел. Она зажмурилась, с наслаждением вдыхая влажную ночную тьму, как вдруг ледяная капля шлепнулась ей с ветки за шиворот.
«Упырица!!» — вскинулась она, и одним прыжком оказалась рядом со старушкой. Та уже вся рассыпалась в прах, кое-где уже отошла клочками кожа, показался голубоватый от Луны скелет. Как ни странно, но умирающая все еще умирала, едва заметно дыша. Инга подхватила ее и бережно отнесла к растерзанной туше. Едва не оскользнулась в растащеных кишках, чертыхнулась, спугнула какую-то животину. Знать, крысы давно выжидали своей доли на этом пиру. Ничего, родимые, потом полакомитесь! А сейчас она свою ношу осторожно спустила на липкую от крови землю, перевернула и ткнула лицом в разорванный бок. Олень глядел в небо с укоризненным ужасом, неказисто вывалив язык.
— Ты не обижайся, братец, что ж тут поделаешь! Сослужил ты Отцу добротную, святую службу! Он тебя наградит, ты даже не сомневайся! — ласково прошептала ему Ежевика, и по твердой морде погладила. Закрыла глаза, и сама не зная, что делает, сотворила какое-то знамение над ним. Тонкими пальцами ухватила животину за веки в длинных коровьих ресницах, и прикрыла оленьи глаза.
Упырица тем временем справно хлюпала кровавым лекарством, втягивая в себя улетающую оленью самость. Волки успели только по ломтю отхватить, весь сытный, внушительный пирог с жизнью достался ей. Ежевика деликатно отвернулась, будто происходило что-то донельзя сокровенное, не для чьих бы то ни было глаз. Сорвала буздылек, и в рот сунула.
— А не смогу ли я его после этой… трапезы, ну… оживить? — задумчиво пробормотала она. Оленя, ни с того, ни с сего, было жаль. Не имела она права никакого распорядок нарушать, да и уже обещала ему, что о нем Отец позаботится. Но впервые в жизни ощутив себя чьим-то ребенком, настоящим, родным, и даже — если можно так робко сказать, любимым, она захотела предел этой любви испытать. Чтобы по заднице шлепнули, больно, но ласково, как господское дитя! Ведь она же теперь лучше, чем принцесса! Ее Отец — выше чем сам король, да король рядом с ним, тьфу, червь земляной, соринка в башмаке! И потому упрямое и озорное желание взбрыкнуть, побаловаться, сделать, что Отец не велел, так и зудело в ней, так и кололось, как плохой шерсти зимние штаны!
А упырица уже поднялась на ноги и потянулась сладко всем гибким и стройным телом. Волосы ее снова спадали до талии вороновым крылом, щечки налились и зарумянились, кожа сливочным атласом переливается. И платье гладкое, изумрудное! А на пальце колечко, которого не было. Рассматривает его в свете лунном, и смеется, довольная.
— Ох, моя красавица, вы вернулись! — заахал мертвый старикан, и чуть не заплясал. Трясется весь от восторга и вожделения, да куда ему, он и при жизни-то небось уже давно с девками непригоден наглухо был! А та и ухом не ведет, знай, на колечко свое любуется. Где только взяла?.. Уж не у оленя же в распоротом брюхе?
— Только позвольте, милая, у вас платье кхм… не вполне цело, — пролепетал князишко, и потянулся к рваному подолу девицы, сквозь который нежно и призывно светилось бедро.
— Это ерунда, это легко поправить! — отмахнулась девица, и наклонившись к тушке, обмакнула ладонь в густую, стынущую кровь. Облизала пальцы, и прореха сама затянулась, и следа на полотне не оставила!
— Так ты что, видишь его? — подозрительно прищурилась на нее Ежевика.
— Ну, — пожала плечами девица. Князь разинув рот, на нее уставился.
— Ну а ты не смей оленя оживлять, у тебя все равно не получится! — надменно бросила Ежевике девица. — Кстати, я — Вороника!
— Да я и не собиралась! — с деланным равнодушием отвернулась девочка. А сама тревожно вперилась в мертвую тушу, то и дело стреляя глазами в названную Вороникой. Откуда она знает?
— Да чего тут знать, догадалась я! — ответила ей девица. — Смотри лучше, какое у меня колечко выросло!
— Выросло-то выросло, да скажи уже — ты что, в голове у меня шаришься? — гневно вскинулась Ежевика, и тревожно подумала: «Как-так, выросло?»
— Ну что ты за глупая такая, а? — возмущенно, как дитя, топнула Вороника: — Знаю я и все! А ты оленя не оживишь, потому что это не делается запросто так!
— А как делается? — растерянно пробормотала Ежевика и прикусила щеку изнутри. Ну и дела…
— Да так делается, что ты должна искренне захотеть, как тогда с собакой! А про оленя ты ничего такого не хочешь! Вот и князь за тобой шастает, потому что…
— Погоди, погоди, не ломись-ка так! — выставила перед собой руки Ежевика: — Про собаку ты знать никак не могла, и в голову ко мне лазить я тебе запрещаю, запрещаю, ты!!
— Да не лезу я! — взорвалась Вороника, и сжав кулачки, тяжело задышала и надулась.
— А как тогда?! — закричала ей в ответ Ежевика. Обе девушки были точь-в-точь как дети, готовые драться или бежать.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
