
Бесплатный фрагмент - Если из многого взять понемножку…
Вместо предисловия
чистосердечное признание
В мире есть много прекрасных сюжетов:
и у прозаиков, и у поэтов,
и у народных сказителей… — страсть
как же их хочется взять да украсть!
Если из многого взять понемножку
и не взаправду, а так, понарошку,
строчки смешать, то получится он —
не плагиат, а законный центон.
Или не строчки взять, а персонажей —
не насовсем даже, речь не о краже —
и отпустить их гулять в интертекст.
Сами вернутся, когда надоест.
Авторы и не заметят пропажу,
ну, а читатели весело скажут:
«Это не вор, это постмодернист —
хоть без таланта, но в помыслах чист».
Так, безусловно, не станешь поэтом,
но и никто не осудит за это.
И прозаиком таким способом тоже, само собой разумеется, не станешь.
Кстати, некоторые почему-то думают, что в прозе классический центон — то есть, такой, когда отсебятины не вставлено ни единого словечка, практически невозможен.
Но они заблуждаются. Если бы у нас сейчас была дискуссия, я бы доказал.
Берём, к примеру, один известный роман…
Теперь берём другой, не менее известный…
Вуаля! Лёгким движением курсора и клавиш из двух Степанов у нас получается один, несмотря на утверждение о том, что только все счастливые Степаны похожи друг на друга, а каждый несчастный Степан несчастен по-своему.
«…Всё смешалось в доме Облонских. На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Если бы Степе сказали бы так: «Степа! Тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!» — Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною, что хотите, но я не встану».
Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой.
И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что было.
Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаза и застонал… Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости…».
Ну и, чтобы два раза туда не ходить, сразу — кульминационная сцена с катарсисом и очищающими душу слезами, как положено.
«Утихли истерические женские крики, взволнованные люди пробегали мимо, что-то восклицая. В расстроенный мозг вцепилось одно слово: «Аннушка».
Тут он затрясся от слез и начал вскрикивать:
— Горе-то, а? Ведь это что ж такое делается? … одно колесо пудов десять весит… А? Верите — раз! Голова — прочь! Правая нога — хрусть, пополам! Левая — хрусть, пополам! — И, будучи, видимо, не в силах сдержать себя, стал содрогаться в рыданиях.
Алексей Александрович, увидав слезы Вронского, почувствовал прилив того душевного расстройства, которое производил в нем вид страданий других людей, и, отворачивая лицо, он, не дослушав его слов, поспешно пошел к двери.
— Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!
Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз».
Тот, кто, прочитав это, не счел себя оскорбленным в лучших чувствах, не закричал, швыряя эту книжку: «В печку её!», — может без опаски читать её и дальше. Даю честное слово, что там далеко не всё так цинично.
Да и настоящих, по всем правилам, центонов там совсем немного, прямо скажем. Ведь правила гораздо интереснее нарушать, чем соблюдать.


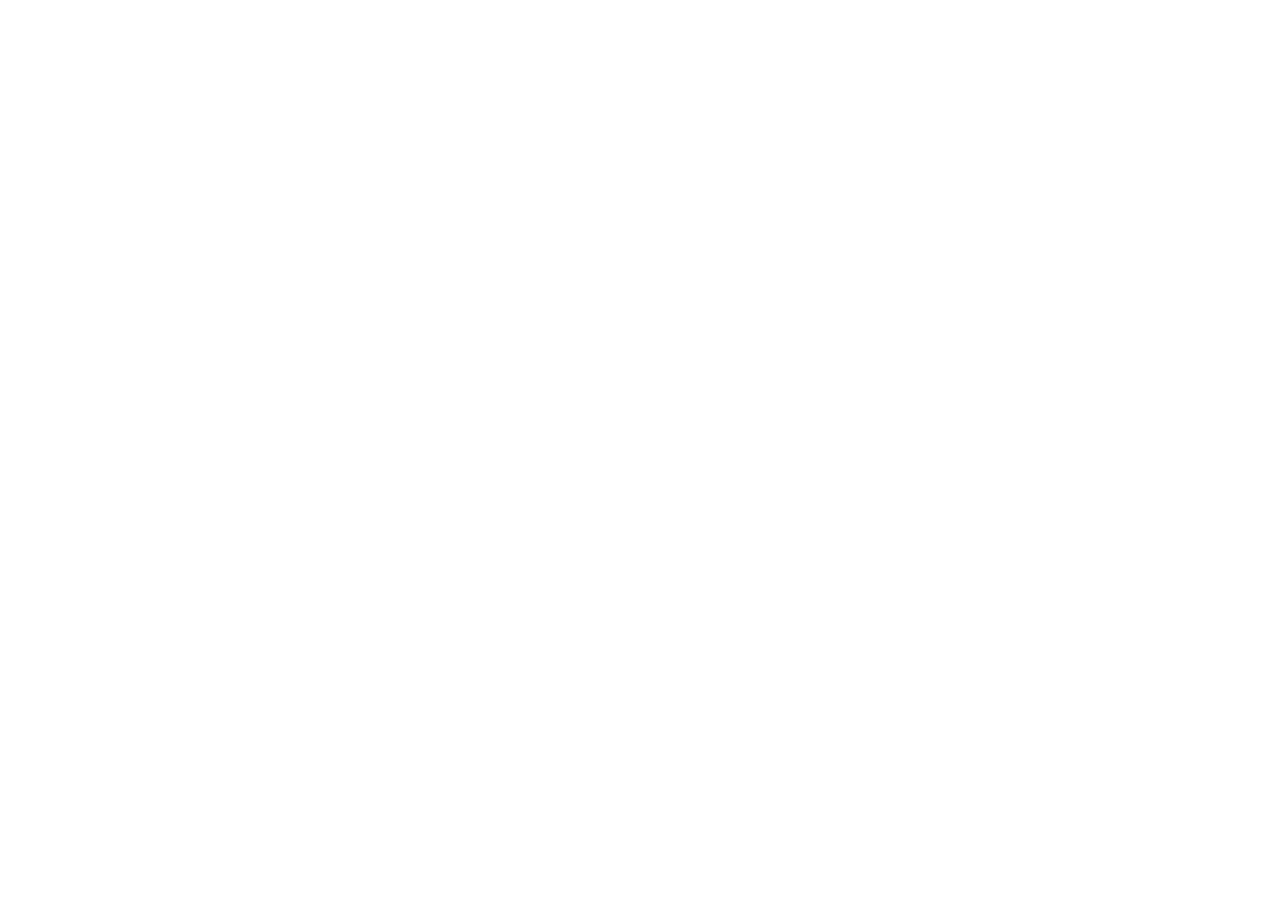
Зимнее
Февраль. Чернила. Слёзы. Слякоть…
И повторится всё, как встарь:
поэт в России должен плакать,
взглянув с утра на календарь.
Мело, мело, несло пургу
во все пределы.
Сидела птичка на лугу,
в снегу сидела.
И всё терялось в снежной мгле.
И снова, снова
к несчастной птице по земле
ползла корова.
Неотвратимая, как рок,
корова кралась.
Взлететь из-за скрещенья ног
не удавалось.
Босые пальцы на снегу
свело тревогой:
сейчас ухватит за ногУ!
Или за нОгу?
Не бойся, птица, всё пройдёт,
тужить нам рано.
До свадьбы рана заживет,
любая рана.
Весеннее
Баллада о внутреннем сурке Финдлее
С моим сурком вчерашний день
мы вышли со двора.
Сказал сурок, увидев тень:
«Весна пришла. Ура!»
— Еще февраль, не вышел срок!
«Ты враль!» — сказал сурок.
— Ступай домой и выспись впрок!
«Не ной!» — сказал сурок.
«Журчат ручьи, кричат скворцы…», —
твердил он, как урок.
«Грачи летят во все концы!», —
присочинил сурок.
Напомнил об апрельском пне…
И я сказал: — Ах, так?
За это не сурок ты мне —
мармот ты и байбак!
А, ну-ка, быстро марш в кровать,
поговорим весной!
И сам отправился поспать,
а мой сурок со мной.
Летнее
(Слова — так себе, зато музыка очень хорошая — Оскара Фельцмана)
Вышла Татьяна на берег Дуная,
бросила мячик в волну
и заревела. Зачем? Я не знаю:
мячик же не утонул!
Мячик в реке увидала собака
со своего бережка.
Вслед ей суровый Герасим не плакал,
разве что всхлипнул слегка.
Дальше видна нам такая картина:
вечером, в дождь и грозу
плюхнулась с берега к ним Катерина,
наспех смахнувши слезу.
Мячик, Муму и Кабанова Катя
плыли недолго втроём,
спьяну рыдая, подбросил им: «Нате!», —
Стенька княжну в водоём.
Плачет Полоний: «Куда же ты, дочка?»
Тише, Полоний, не плачь!
Крепко вцепилась Офелия в бочку —
бочка надежней, чем мяч.
Славный корабль омулёвая бочка!
В бочке — царевич Гвидон.
Здесь ради рифмы поставим мы точку,
Хоть не последним был он.
…… … … … … … … ……
…… … … … … … … ……
…… … … … … … … ……
…… … … … … … … ……
Столько их бестолку падало в реки,
столько бежало к прудам…
Так что тебе я, Татьяна, вовеки
мячика в руки не дам!
Осеннее
Летят перелетные птицы
в осенней дали голубой,
там девушка, песнь распевая,
сидит на вершине крутой:
«Не знаю, что стало со мною,
печалью душа смущена —
не нужно мне солнце чужое,
чужая земля не нужна.
Далеко-далеко, за морем,
стоит золотая стена,
а я остаюся с тобою,
родная моя сторона.
В стене той заветная дверца,
за дверцей большая страна.
Не нужен мне берег турецкий
и Африка мне не нужна!»
И кос ее золото вьется,
и чешет их гребнем она.
Вставай, вставай, кудрявая,
На встречу дня!
Отмороженный малютка
«…или, например, у Н. Некрасова: «Малыш уж отморозил пальцы, ему и больно и смешно…«» (из рецензии на сайте proza.ru)
Вечер был, сверкали звёзды.
На дворе трещал мороз…
По двору, хоть было поздно,
мальчик в санках Жучку вёз.
Вышел из лесу Некрасов,
посинел и весь дрожал.
Он назвал малютку Власом
и к себе в стишок забрал.
Плачет дома мать-старушка
и грозит ему в окно:
«Вот ужо приедет Пушкин —
нас рассудит, всё одно!»
Вечер был, и не на шутку
на дворе трещал мороз.
Шёл по улице малютка
и тащил с дровами воз.
«Ну, а где ж твоя савраска,
почему одна вожжа?»
«Умерла!» — сказал он басом,
посинел и задрожал.
Плакал он, как вырубали
лес, а следом и отца
зарубил жестокий барин,
бросил в дровни мертвеца.
Вдоль дороги стынут ёлки,
Наш сиротка весь продрог,
утащили тятю волки
прямо с похоронных дрог.
Много вынес этот мальчик,
мёрз и мок, плутал в лесу,
даже заморозил пальчик.
ковыряя им в носу.
Сёк его десятник жадный,
голод-царь его морил,
но широкий и громадный
путь малютка проторил.
Милый плут! Малютка этот
уморительно был мал…
Под уздцы рванул поэта
и быстрее зашагал.
Так сказал поэту мальчик:
«Вместе нам судьба теперь.
Как помянет кто мой пальчик —
сразу вспомнит о тебе!»
Вор он
Очень вольное переложение Эдгара По
на музыку Алексея Иващенко
и Георгия Васильева (дуэт ИВАСИ)
Как-то в полночь, в час угрюмый
полон был я страстной думы:
«Приходи ко мне, Глафира,
ненароком, невзначай.
Мы с тобой за самоваром
не потратим время даром,
самовар исходит паром,
будем пить горячий чай.
Приноси кусочек сыра —
в доме нету, выручай!
Ведь без сыра — что за чай!»
Ясно помню ожиданье,
самовара раздуванье,
в самоваре — очертанья
тускло тлеющих углей…
О, как жаждал я рассвета,
как я тщетно ждал ответа
на страданье без привета,
на вопрос о ней, о ней —
о Глафире, что блистала
ярче всех земных огней.
И о сыре, что при ней.
Я хочу напиться чаю,
к самовару подбегаю:
«Приходи скорей, Глафира,
малость рядышком побудь», —
ожидая этой встречи,
повторял я целый вечер.
И когда собрался в чашку
кипятка себе плеснуть,
стук внезапный в двери дома
мне почудился чуть-чуть —
Вот и к чаю что-нибудь!
Но едва лишь дверь открыл я,
вдруг, расправив гордо крылья,
перья черные взъероша
и выпячивая грудь,
вовсе даже не Глафира,
а ворона, хоть и с сыром,
в дом влетела и присела
на минутку отдохнуть.
Позабыв мне даже клювом
в знак приветствия кивнуть.
Или сыра дать куснуть.
Взгромоздясь на бюст Паллады,
что стоял у двери рядом,
этим сыром собралась она
уж было закусить —
то ли поздно пообедать,
то ль позавтракать так рано.
И тогда на всякий случай
я решил ее спросить:
«Уж не ты ль — моя Глафира,
без которой мне не жить,
чаю с сыром не попить?»
Но во всё воронье горло
каркнула ворона гордо
мне в ответ одно лишь слово,
только слово: «Невермор!».
Сыр из клюва тут же выпал,
я схватил его — и выпил
чашку чаю с этим сыром.
Каркнула ворона: «Вор!» —
и с тех пор такого сыра
не встречал я невермор…
Очень вкусный был рокфор!
Руна пятьдесят первая, тайная
Руну эту мне Лонгфелло
пел в тавернах Калевалы,
Гайавата наливал нам,
сам весёлый и хмельной.
Пили горькую из кружки,
за здоровье той старушки
Лоухи и этих лохов,
что рыдали над волной…
Над седой равниной моря
ветер тучи собирает
и кораблик подгоняет
на надутых парусах —
это парни из Суоми
у соседей спёрли Сампо —
ту, что сделал Ильмаринен
из пушинки лебединой,
из кусочка веретенца
и из молока коровы
и из ячменя крупинки… —
там еще есть компоненты,
но перечислять их долго,
надо плыть домой скорей.
Между тучами и морем,
реет Лоухи-колдунья,
редкозубая старуха,
к бедрам крылья прикрепив.
Им летит она вдогонку,
то бедром волны касаясь,
то стрелой взмывая к тучам, —
не освоилась ещё.
Настигает бабка финнов,
Сампо с палубы хватает
и за борт её бросает —
ту, что сделал Ильмаринен
из пушинки лебединой,
из кусочка веретенца
и из молока коровы… —
в набежавшую волну.
Сам могучий Ильмаринен
испугался и заплакал:
«Вот утонет, что я создал
из пушинки лебединой,
из кусочка веретенца —
и так далее по списку,
и тогда у Калевалы
будет очень много бед».
Вяйнямёйнен тоже плачет:
«Утонула в море Сампо —
та, что сделал Ильмаринен
из пушинки лебединой…
В общем, страшный нам урон».
Тут отважный Лемминкяйнен
говорит слова сквозь слёзы:
«Знаю я, друзья, героя,
что поможет нам в беде —
изведёт старуху злую
и со дна достанет Сампо —
ту, что сделал Ильмаринен… —
дальше знаете вы сами.
Про него мне рассказали
руны в очень странной книжке.
Он живёт неподалёку —
там, где наши рыболовы,
словно пасынки природы,
раньше невод свой бросали,
где чернели наши избы,
как приют убого…“ — „Хватит! —
тут промолвил Ильмаринен. —
Лемминкяйнен, ты увлёкся!
Ближе к делу говори!»
«Буду краток, извините, —
согласился Лемминкяйнен,
просморкался, слёзы вытер
и по делу так сказал:
— Есть у этого героя
из старинной русской сказки,
как у бога-громовержца,
удивительный топор —
этим колуном он даже
прорубил окно в Европу,
а потом старух немало
злых и жадных погубил.
Порешит и нашу Лоухи,
а топор закинет в море —
тот топор умеет плавать,
значит, и нырнуть сумеет,
чтобы Сампо отыскать,
ту, что сделал Ильмаринен…»
«Знаем, знаем! — закричали
остальные персонажи. —
Все мы тоже пели руну
про чугуевский топор!»
Перестали финны плакать,
а над ними в туче Лоухи,
веселится и хохочет,
будто кто её щекочет,
что-то сверху им кричит.
В этом крике финны слышат:
«Как же я от вас устала
чёрной молнией метаться
взад-вперёд, туда-сюда!
Прежде чем к специалисту
плыть, мозгами-то раскиньте!
Сампо сделал Ильмаринен
из пушинки лебединой,
из кусочка веретенца,
и из молока коровы,
и из ячменя крупинки…
Верно? Но такое Сампо
не утонет никогда!»
«Когда Ульяновск был морем…»
«Liopleurodon rossicus охотится в прибрежных заводях теплых морей Юрского периода, некогда покрывавших территорию современной Ульяновской области»
(с сайта pterosaurus.paleoimperia.ru)
В воскресный день моя сестра
сидела у костра.
Была моя сестра хитра —
поймала осетра.
И нет моей сестры умней —
не съела осетра:
— Мы поплывем на нём в музей! —
сказала мне сестра.
— В большой, красивый красный дом,
похожий на дворец.
Живет там Лиоплевродон,
он вождь нам и отец!
Из зала в зал переходя,
там плавает планктон,
глаза таращит на вождя:
какой великий он!
Он был рептилией — такой
простой, как мы с тобой,
но с ним воспрянул род морской
в последний смертный бой.
Он с детских лет мечтал о том,
чтобы на всей Земле
кто был нектон, тот стал планктон,
прекрасный, как желе.
И все, кто слушали его,
те шли за ним вперед,
вплоть до ракообразного,
что полз наоборот.
Далась победа нелегко,
и вот мечта сбылась!
До кайнозоя далеко,
но кончился триас.
Из альтернативной истории
(Или, может быть, это про игровые будни реконструкторов)
Мы видим город Петроград
В семнадцатом году.
Бежит матрос, бежит солдат,
Вздыхают на ходу.
Рабочий тащит пулемёт,
Сейчас он упадёт —
Его любой из нас поймёт,
Кто бегал в гололёд.
Скользят отряды и полки,
Не удержав плакат,
Сидят на льду большевики,
И губы шепчут в лад…
Вот так мечта и не сбылась
Рабочих и крестьян.
Поскольку соль не сыпалась,
Был дворник в стельку пьян.
«Чего тебе надобно, старче?»
— Подойди на секундочку, рыбка!
— И чего тебе надобно, старче?
— Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не даёт старику мне покою.
Уж не хочет она быть крестьянкой,
столбовою дворянкой, царицей…
— Ну, купите тогда, дедуля,
для забавы костюм медсестрицы.
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Есть заказ, государыня рыбка…
Помнишь, ты присылала студента
Из строительного отряда?
По корыту к нему нет претензий,
Даже стружку потом прибрал он.
И избу срубил он на совесть,
Сразу видно, что этот парень
Топором владеет отменно.
Да, спасибо, и терем крепкий.
И по царским палатам тоже
У заказчика нет замечаний…
Но неделя-другая проходит,
Пуще прежнего старуха взбесилась…
Не даёт старику мне покоя…
Что мне делать с проклятою бабой?
Может, снова пришлёшь к старухе
Ты какого-нибудь студента?»
Ничего не сказала рыбка,
Лишь кивнула: заказ, мол, принят.
Воротился старик с моря,
А вопрос уж решён радикально.
«Даже слишком…, — старик подумал.
— Но зато я теперь свободен».
Так, куда кривая выплывет…
Ехал Грека через реку
сразу после похорон,
вслед с горы свистели раки:
«Не суй руку в Ахерон!»
***
Ехал Грека через реку.
«Рак?» — спросил его Харон.
«Рак», — ответил грустно Грека,
сунув руку в Ахерон.
***
Ехал Грека через реку,
говорит из речки рак:
— Надо, надо тебе, Грека,
руку мыть перед тем, как!
***
Ехал Грека через реку,
вместе с Грекой ехал рак:
— Ох, и ядовит ты, Грека!
— Отцепись уже, дурак!
Ехал Грека через реку,
сам веселый и хмельной,
сунул Грека руку в реку
и качает головой:
— Надо, надо умываться
по утрам и вечерам…
Здесь, не трудно догадаться:
рак за руку Греку — ам!
Всё в нем страшно онемело,
опустились руки вниз,
и в распухнувшее тело
раки черные впились.
Раки грудь его кусают,
тянут за руки ко дну,
и за борт его бросают
в набежавшую волну.
***
Светит месяц, светит ясный,
невод на песке лежит.
Безобразно труп ужасный
посинел и весь дрожит.
Прибежали в избу дети,
Тянут, тянут мертвеца:
— Тятя, вам подарок в сети
от донского молодца!
Мчатся тучи, вьются тучи,
мутно небо, ночь нежна.
Пригляделись дети лучше:
— Тятя, это не княжна!
Мужику какое дело?
Озираясь, он спешит
и потопленному телу:
— Как фамилия? — кричит.
— Это кто приплыл без спроса?
Кто велел пугать улов?
После каждого вопроса
добавляет крепких слов.
Молвит тот, сверкнув очами
И кусая длинный ус:
— Я не Грека, я — Чапаев!
А тебя я не боюсь!
Поступлю с собой я просто,
Пожалев твоих ребят…
Взял он саблю, взял он востру
И зарезал сам себя.
Есть в народе слух ужасный:
говорят, что каждый год
с той поры мужик несчастный
в ночь урочную поёт.
Ночь тиха, в небесном поле
бродит Веспер золотой,
льется песня на просторе:
«Чёрный ворон, я не твой!»
Жалостная бушменская песня
— Черный ворон, что ты вьешься,
Что ты вьёшься надо мной?
Ты добычи не дождешься…
Ворон крикнул: «Надо мной».
— Что ты когти распускаешь
Над моею головой?
Иль добычу себе чаешь…
Ворон крикнул: «Головой».
— Ты лети к моей любимой,
И скажи, что нет другой.
Ты лети сегодня мимо…
Ворон крикнул: «Нет другой».
— Чёрный ворон, брось глумиться,
Я и так уже в бреду…
«Не могу! — сказала птица, —
Я же чёрный какаду!»
Раз морозною зимой…
«Мужчина отбил жену у медведя» (из газет)
Раз морозною зимой
по тропинке лесной
шёл медведь к себе домой —
не один, а с женой.
Шли они своей дорогой
из деревни в берлогу,
а навстречу им мужик —
грозен, хоть и невелик.
Отдавай, кричит, жену,
достает револьвер.
А не то как пальну!
Хенде хох! Руки вверх!
Тут медведь с испугу вмиг
на сосну большую влез,
и теперь с женой мужик,
а медведь — вовсе без.
С той поры зимой медведь
без жены в берлоге спит.
И доволен он ведь,
что никто не храпит!
Не читайте детям
Да, задумывалось для них, но что-то с самого начала пошло не так…
Старый Мазай запирался в сарайчике.
Чем занимался — не знает никто.
Бабы судачат: «Да были ли зайчики,
может, и не было зайчиков-то..»
***
Если в речке Лимпопо
воду взять во фляжке
и, размазав каплю по
маленькой стекляшке,
положить под микроскоп…
Гляньте, убедиться чтоб:
там живёт нанопотам,
рыжий и румяный.
Я его придумал сам,
не отдам в «Роснано»!
***
Уронили мишку Тедди
гималайские медведи,
повалили прямо на пол,
панды оторвали лапу.
Вместо лапы на дорогу
дали липовую ногу.
Даже добрый Винни-Пух
выдал пару оплеух.
(Прибегал и барибал,
приводил ошкуя,
но таких я в стих не брал —
я их не рифмую!).
Прочитав, запомни, кроха:
Бить игрушку — очень плохо!
Потому что Тедди, дети,
за хозяев не в ответе!
***
На горе Арарат
растет крупный виноград.
На горе Пиренеи —
еще крупнее.
На горе Эльбрус —
слаще на вкус.
На горе Сион
дорогой он.
На Килиманджаро —
почти даром.
На горе Аю-Даг
раздают так.
На горе Эверест
никто его не ест.
А на горе Тибет
винограда нет!
***
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
По горам в Тибете
С йетями гулять!
Станут вас там яки,
Монахи-забияки
И другие всякие
Бить и унижать.
Не помогут мамы.
Будете упрямы —
вас заставят ламы
Мантры повторять.
Не балуй! — прикажут.
За уши накажут —
Шамбалу покажут—
Век бы не видать!
Дети, не ходите!
Слушайтесь родителей!
Там вы угодите
в страшную беду.
Этому рассказу
поверите вы сразу,
подцепив заразу
прямо в Катманду.
***
Десять покемонов
Пошли купаться в море.
Десять покемонов
Резвились на просторе.
Чтобы их поймать,
Толпа детей нырнула.
Одна не плачет мать —
Ей дочь волна вернула.
***
Эй, покемоны! Вас — миллионы!
Объединяйтесь, вместе вы — сила.
Страшен толпой человек со смартфоном
А в одиночку он — лох и терпила!
Пятеро — спереди, пятеро — сзади,
Чтоб не ушел проходными дворами.
«Слышь, а с какого раёна ты, дядя?
Это же ты в нас швырялся шарами?»
Так отжимайте девайс за девайсом
(Гаджеты тоже в карманах у многих).
Эй, покемон! Вооружайся!
Сам превращайся в ловца двуногих.
Считалочка
Десять снегритят взялись сугробы делать.
Сугробов вышло много, но их осталось девять.
Девять снегритят вернуть решили осень,
Один пошел ее искать, а ждать остались восемь.
Восемь снегритят прождали целый день.
Один со скуки помер, и их осталось семь.
Тогда семь снегритят на ужин стали есть
Холодные сосульки, и их осталось шесть.
Потом шесть снегритят устроились поспать.
Один улегся с краю, хватились утром — пять.
С утра пять снегритят, убрав в своей квартире,
Открыли мусоропровод — и стало их четыре.
Четыре снегритенка помчались горку строить.
Крутая вышла слишком — в живых осталось трое.
Трое снегритят пошли в лес по дрова,
Был на троих один топор — вернулись только два.
Двое снегритят слепили вместе бабу.
Остался с ней тот, что сильней. А зачем ей слабый?
И вот вам результат — вновь десять снегритят…
Завтрак при Гастингсе
В день, когда Вильгельм Нормандский
флот привёл свой в графство Суссекс,
он у Гастингса не сразу
англосаксов бить пошёл,
а сначала без дискуссий
он сказал такую фразу:
«Хлеб ячменный мне невкусен,
мне с него нехорошо!»
Про величие момента
и про славу мировую
так сказал нормандский герцог,
почесав рукою бок:
— По амбарам пометите,
поскребите по Суссексу
и сейчас же испеките
мне пшеничный колобок!
— Никто, никто на свете, —
сказал завоеватель
солдатам на корвете
и свите на фрегате:
— Не возразит мне, если я
наделаю здесь бед,
когда вдруг даст мне Англия
ячменный чёрствый брэд!


Ничто не ново под луной
…Луна в вечернем чистом небе висела полная, видная сквозь ветви клена.
Липы и акации разрисовали землю в саду сложным узором пятен. Трехстворчатое окно в фонаре, открытое, но задернутое шторой, светилось бешеным электрическим светом. В спальне Маргариты Николаевны горели все огни и освещали полный беспорядок в комнате.
Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник боком, охватив колено руками. Лунный свет лизнул ее с правого бока. Маргарита подняла голову к луне и сделала задумчивое и поэтическое лицо.
— Отчего люди не летают так, как птицы? Мне иногда кажется, что я птица. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь?
— Да когда же ты спать будешь? — отвечал другой голос.
— Я не буду, я не могу спать, что ж мне делать!
Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. Все затихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться.
— Соня! Соня! — послышался опять первый голос. — Ну, как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, — сказала она почти со слезами в голосе. — Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало. Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки — туже, как можно туже, натужиться надо, — и полетела бы. Вот так!
— Полно, ты упадешь.
С минуту молчали. Потом она приподнялась с неожиданной живостью, охватила руками свои согнутые в коленях ноги и затряслась от приступа беззвучного смеха. Смеялась так, как будто ее щекотали.
— Ты… чему это? — недоумевающе и обиженно спросил Давыдов. Но Лушка так же неожиданно оборвала смех, вытянула ноги и, гладя ладонями бедра и живот, раздумчиво сказала, голосом чуть охрипшим и счастливым:
— То-то и легко же мне зараз!..
— Перо вставить — так полетишь? — озлобился Давыдов.
— Ах, не смейтесь, — проговорила она с живостью, — а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: «Зачем вы смеетесь?» — и, помолчав немного, она прибавила: — Помните, вы вчера говорили о крыльях?… Крылья у меня выросли — да лететь некуда.
И тут в соседней комнате что-то деревянно заковыляло и стало биться в дверь. Половая щетка, щетиной вверх, танцуя, влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь на полу, лягалась и рвалась в окно…
Зелёненький он был
Ипполит Матвеевич с омерзением стал поливать голову и усы «Титаником». По квартире распространилось зловоние. После обеда вонь убавилась, радикальный черный цвет оказался с зеленоватым отливом, но вторично красить было некогда.
— Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.
Вошедший почтительно и смущённо поклонился.
«Вот так фрукт!» — подумал пёс.
На голове у фрукта росли зелёные волосы.
— Как сон, голубчик?
— Пароль дьоннер — двадцать пять лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного…
— А почему вы позеленели?
Лицо пришельца затуманилось.
— Вы не можете себе представить, профессор, что подсунули мне вместо краски…
— Хм, обрейтесь наголо… Но всё-таки прошу вас: будьте осторожны.
— Профессор, будьте совершенно спокойны, — он сладостно хихикнул и пропал.
Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. Остап заснул беззвучным детским сном. А Ипполит Матвеевич, посапывая, полез под одеяло. С внешней стороны было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора.
Грибные истории
Когда я был маленький, меня послали в лес за грибами. Я дошел до лесу, набрал грибов и вдруг стало темно, пошел дождь и загремело. Я испугался и сел под большой дуб. Блеснула молния такая светлая, что глазам больно стало, и я зажмурился. Над моей головой что-то затрещало и загремело; потом что-то ударило меня в голову. Я упал…
Когда я очнулся, на голове была шишка, и было немножко больно.
Я нашел свою шапку, взял грибы и побежал домой. Дома никого не было, я достал в столе хлеба и влез на печку.
Когда я проснулся, я увидал с печки, что грибы мои изжарили, поставили на стол и уже хотят есть.
Я закричал:
— Why are you eating without me?
Они говорят:
— Ой, кто это???
И начали есть.
Тут я понял, что стал для них невидимым, и закричал еще громче:
— Warum essen ohne mich? Pourquoi vous mangez sans moi? Kwa nini wewe kula yangu?..
Они говорят:
— Во шпарит!
И продолжают есть, сколько я ни кричал — и на чистой латыни, и на санскрите, и на шумерском, и даже на языке эльфов квенья.
И всё съели.
Так я понял, что через ту молнию вышли мне сплошные неприятности, и не будет в родной деревне счастья от новых способностей.
Поэтому даже краткую формулу Единой Теории Всего я решил им не говорить, левитировал с печки за порог, да и убрался из деревни, куда глаза глядят. С тех пор скитаюсь.
***
Две девочки шли домой с грибами через железную дорогу.
Вдруг зашумело. Старшая девочка побежала назад, а меньшая — перебежала через дорогу.
Старшая закричала: «Не ходи назад!»
Но меньшая не расслышала; побежала назад, споткнулась, выронила грибы и стала подбирать их.
Машинист свистел что было силы. Старшая девочка кричала: «Брось грибы!», а маленькая девочка думала, что ей велят собрать грибы, и ползала по дороге.
Старшая девочка кричала и плакала…
Когда поезд прошел и остановился, все увидали, что девочка подняла голову, вскочила на колени и собрала грибы.
Все проезжающие прибежали посмотреть на такую девочку. А старшая девочка сказала:
— Ох, и дура же ты, Анька, даром, что из благородных! Гляди, в следующий раз добром не кончится…
Услышав эти слова, один добрый с виду лысенький бородатый старичок из проезжающих задумался и стал что-то быстро-быстро записывать себе в блокнотик.
Тщетная попытка
Перед судебным следователем стоит мужик в рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. Он бос.
— Подойди поближе и отвечай на мои вопросы, — начинает следователь. — Железнодорожный сторож, проходя утром по линии, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?
— Чаво?
— Так ли всё это было?
— Знамо, было.
— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?
— Чаво?
— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос! Для чего тебе понадобилась эта гайка?
— Гайка-то? — мужик переминается с ноги на ногу, оправляет опояску рубахи, запустив под нее ладонь, напряженно думает. Наконец, отвечает, просветлев ликом:
— О! Мы из гаек грузила делаем…
— Кто это — мы? — спрашивает следователь, внимательно вглядываясь в него.
— Мы, народ… Мужики, то есть. Русские народные мужики, кто же еще?
— «Народ… Мужики…» — задумчиво тянет следователь.
И неожиданно резко спрашивает:
— Кто таков шилишпёр? Ну? Отвечать, быстро!
— Шилишпёр?.. Шилишпёр, шилишпёр… Явно что-то из испорченного французского… Или из немецкого?…
Суровость на его лице сменяется растерянностью.
— Нехороший человек, может быть? — неуверенно говорит он, наконец, следователю.
Тот вздыхает:
— Нет-с, не угадали. Да вы присаживайтесь, граф! И послушайте, что я вам скажу: бросьте вы эту затею, толку, всё равно, не будет! Который раз ведь уже вас ловят. Ну, а даже устроили бы вы крушение этому товарному, так ведь другой придёт, всех гаек вам никак не отвинтить. Вы посмотрите только, до какого состояния вы дошли! Не мучайтесь, не вините и не изводите себя так. Что сделано, то сделано. Литература, как и история, сослагательного наклонения не имеет, да-с! Странно, что это мне вам приходится разъяснять. Не спасёте вы Анну, померла так померла…
Красный мешочек
Аннушка вставала чрезвычайно рано, а сегодня что-то подняло ее совсем ни свет ни заря, в начале первого. Повернулся ключ в двери, Аннушкин нос высунулся в нее, а затем высунулась она и вся целиком, захлопнула за собою дверь и уже собиралась тронуться куда — то, как на верхней площадке грохнула дверь, и вниз по лестнице покатилась, с воплем падая ничком и простираясь крестом, растрепанная, нагая, но без всяких признаков хмеля женщина с исступленными глазами.
Аннушка прижалась к стене, пропуская ее, и вежливо сказала:
— Здравствуй, Фрида! Куда ж тебя черт несет голяком?
Женщина, не ответив на ее приветствие, прокричала диким голосом:
— Свободна, свободна! Меня простили, — и через выбитое окно кверху ногами вылетела во двор, пропав из глаз.
— Ишь ты! Простили, стало быть, — вздохнула с завистью Аннушка. — А за меня и попросить некому…
Никто не знал, да, наверное, и никогда не узнает, чем занималась в Москве эта сухонькая женщина с бидоном в руках, и на какие средства она существовала. Болтали о ней всякое. Некоторые завирались даже до того, что она — из бывших, была когда-то знатной дамой, из благородного сословия. Но в это мало кто верил.
Другие говорили, что в молодости служила она горничной у знатной дамы, чуть ли не выросла вместе с ней — даже звали их одинаково, в любви и преданности была неразлучна с барыней, всюду носила за ней любимый красный мешочек… Но что-то там такое промеж них вышло нехорошее. То ли не уберегла барыню от беды, то ли сама эту беду и устроила из ревнивой неразделенной любви к какому-то красавцу-графу.
Тоже ерунда и враньё, конечно.
А сама она о себе ничего не рассказывала, только иногда, выпив совсем уж много самогона, плакала в кухне квартиры номер 48, где проживала, пьяными слезами, и бормотала с трудом разбираемое:
— …Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом…
Совсем уж засыпая, валилась головой на стол, и всем в кухне делалось страшно при взгляде на нее — почему-то виделась на нечистой клеенке голова — будто отрезанная — с тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках, а на лице, с полуоткрытым румяным ртом, застывшее странное, жалкое в губах и ужасное в остановившихся незакрытых глазах, выражение.
«Красный мешочек…, — стонала Аннушка совсем уж непонятное, впадая в забытье. — Не надо, не подавайте больше…»
Но каждый раз, проснувшись ни свет ни заря в тяжелом похмелье, находила его рядом с собой.
Сто старушек
В процессе написания этого текста ни одна старушка не пострадала
В распивочной на ту пору оставалось мало народу. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в пять минут сделаться пьяным.
В темном и грязном углу, за липким столиком разговаривали двое молодых людей.
— Милостивый государь! Да не трогал я её! — говорил один. — Хотел только припугнуть, как мы с вами и договаривались. «Старая ведьма! — говорю, — так я ж заставлю тебя отвечать…» С этими словами вынул топор, а она оказала сильное чувство — закивала головою, подняла руку, как бы заслоняясь… Потом покатилась навзничь… и осталась недвижима. «Перестаньте, — говорю, — ребячиться», трогаю её за руку, а она уже — того… холодная совсем…
— Так ничего и не успела сказать? — нетерпеливо перебил его второй, сверкая черными глазами на бледном лице.
— Ни словечка!
— Ах, как неладно вышло! Зря я с вами связался, надо было самому… Но хорошо хоть, что без крови.
— Ну… не сказать, чтобы совсем уж… Там потом, признаться, накладка получилась… Лизавета вошла, увидала… «Ах, ах!» — слёзы, обморок… Ну, и… пришлось…
— Как? О, майн готт! Вы убили Лизавету Ивановну?
Молодой человек удивился, но не подал виду и отвечал, отведя взгляд и принужденно смеясь:
— Ну, да, взял грех на душу. А и ладно, чай, не первая она у меня Лизавета Ивановна. Семь Лизавет — один ответ, как у нас говорят.
— Вы чудовище! — вскричал его vis-à-vis в ужасе и бросился без памяти вон.
— Сам такой! И нумер твой — семнадцатый, — слегка обидевшись, крикнул ему вслед оставшийся. — Не забудь, кстати, у доктора спросить, что такое mania furibunda.
Он еще посидел, выпил стакан пива, выждал достаточное время, чтобы его обезумевший недавний собеседник успел добежать до приемного покоя Обуховской больницы, потом не спеша поднялся по грязным ступеням из распивочной на улицу.
Смеркалось. В пыли пролетали, бряцая цепями, грузовики. В каждом из открытых окон горел огонь под оранжевым абажуром, и из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывался драматический тенор: «Мертва!.. А тайны не узнал я… Мертва! Мертва!»
Из раскрытых окон высовывались любопытные старухи, падали, приветливо здоровались на лету с молодым человеком и другими прохожими, и он вспомнил, что надобно бы зайти к Даниилу Ивановичу.
«Непорядок это, скажу я ему, — думал он по дороге. — Нехорошо-с, когда старухи сами падают. Эдак, скажу я ему, и вовсе без дела зачахнуть можно. Вы уж прекратите это, будьте так любезны…»
Но ничего такого сказать ему не довелось, потому как Даниил Иванович сам вывернул из двора ему навстречу с чемоданом и, едва поздоровавшись, замахал руками: спешу, мол, очень, после, после… Влез в прицепной вагон трамвая и укатил в сторону вокзала.
Молодой человек понимающе покивал ему вслед. На сегодня и у него самого оставалось еще одно неотложное дело.
Он потянул тяжелую дубовую дверь особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей.
В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка полтора седеньких старушек в платьях из наидешевейшего туальденора мышиного цвета. Напряженно вытянув шеи, старухи пели:
— Слышен звон бубенцов издалека.
Это тройки знакомый разбег…
А вдали простирался широ-о-ко
Белым саваном искристый снег!..
«Это я удачно зашёл…» — подумал молодой человек, расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правою рукой под одеждой.
Старушки сбились с такта, замолчали.
Минуту он находился в сомнении — не знал, откуда начинать. Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, потом, словно лунатик, подошел, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, зверски ударил. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила.
Через минуту все было кончено.
Бросая остолбенелые взгляды на навороченную им гору ножек, спинок и пружин, старухи удалились мелкими радостными шажками.
«А теперь можно и к цыганам, — решил молодой человек. — Кутну, старуху Изергиль послушаю…»
Закон тайги
— Я от бабушки ушёл…, — в который раз уже завёл Колобок свою песенку с начала и осёкся.
Из-за поворота таёжной тропы шагнул встречь ему молодой человек. Был он замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях в лес.
За спиной молодого человека теснилась на дорожке компания совершенно разбойного вида. Один страшно косил на Колобка глазом, второй щерил клыки на заросшей серой морде, третий что-то бурчал, переступая на липовой ноге. Только рыжая смотрела вроде бы ласково, но явно со скрытым подтекстом…
— От бабушки, значит? — переспросил молодой человек и впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, в какое-то забытье.
Видно было, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: явно второй день как уж он почти совсем ничего не ел.
Колобку стало неуютно, он зябко поёжился и судорожно кивнул в ответ, от чего глотнул сухой земли с прелыми иголками и закашлялся.
Молодой человек вздрогнул и пришёл в себя.
— А эти, сударь, тоже с вами?
Колобок обернулся, крутнувшись и взрыв на тропинке ямку. Оказалось, что позади него тоже образовалось уже некоторое скопление: переминался с ноги на ногу запыхавшийся серенький козлик, следом — два гуся разной масти, но оба с глуповато-веселыми ухмылками, дрожал испуганный поросёнок в белой панамке, а дальше сгрудились толпой кастрюли, тарелки, блюдца и прочая кухонная утварь, перепачканная болотной тиной. Позади всех пыхтел самовар, накрытый медным тазом.
Колобок энергично замотал головой, перекатываясь от левой обочины к правой:
— Приблудные… На хвост упали, — добавил он, желая понравиться.
Серый шагнул вперёд:
— На буханку не претендую, но козлик, чур, мой!
Рыжая умильно глянула на гусей, потянулась к ним всем гибким телом.
— Стоять, морды каторжные! — прикрикнул молодой человек, и шайка его послушалась. — Закон помните? «В дебрях не тронул прожорливый зверь…»
Где-то недалеко уже перекликались, приближаясь, старушечьи голоса.
Молодой человек расстегнул пальто, коротко бросил Колобку:
— Тикай, братва, мы прикроем, — и зашагал, на ходу доставая топор.
Из тёмного леса навстречу ему выходили, разворачиваясь в цепь, старушки.
Страшная история
— Я не краснею, — потому что ведь от этого странно же краснеть, не правда ли? — но в обществе я лишний…
Хозяин раскурил трубку с длинным чубуком, запахнул домашний халат и продолжал:
— Вам непременно надобно знать, как это у меня началось? Что ж, извольте!
История, давшая толчок всем последующим событиям, произошла, когда я был совсем юн. Я был студент. Самое торжественное время для нас тогда были летние вакансии — время, когда нас распускали по домам, и всю большую дорогу усеивали грамматики, богословы, философы, юристы…
Один раз во время подобного странствования я и двое моих друзей свернули с большой дороги. Между тем, уже была ночь, и ночь довольно тёмная. Ночевать бы нам в поле, но тут в отдалении почудился лай, а вскоре завиделся и огонёк, показался хуторок в степи.
Три ученые мужа, то есть, мы, яростно ударили в ворота и закричали: «Отвори!» Дверь в хате заскрипела, и минуту спустя появилась старуха. Лицо у нее было темно-коричневое, из сплошной массы морщин выдавался вперед нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза были словно закрыты бельмами.
«Кто там?» — закричала она неожиданно звучным басом. «По здорову ли, баушка! — закричали в ответ и мы. — А пусти-ка переночевать!» «А зубом цыкать не будете?» — тревожно спросила она. «Как же можно!» — сказали мы, и старуха, казалось, смягчилась. «Хорошо, — сказала она, — только положу всех отдельно». И отвела нас по разным комнатам.
«А что, бабуся, — сказал я, идя за старухой, — если бы так, как говорят… ей-богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту…»
Старуха укоризненно ответила: «Нету у меня ничего такого, и печь не топила сегодня». «Коли нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора», — сказал я. «И топора нету!» — отрезала старуха.
«Что же это у вас, баушка, чего ни хватишься, ничего нету…», — начал было я, но тут из каморки направо, из-под лавки что-то блеснуло мне в глаза. Я бросился стремглав на топор — а это был топор — и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами.
«Но-но! — строго сказала старуха. — Не балуй, студент! И думать не моги!»
«Эге! Да это ж ведьма!» — подумал я, повалился на лавку, как убитый, закрыл глаза и нырнул в тёмные воды забвения.
Очнулся я от жажды. Хотелось пить.
Шипящую минералку. Горячий чай с лимоном. Холодный кисленький квас. Нет, это все полумеры… Ртом припасть к трубе, отвернуть холодный кран и глотать прохладную, железом и затхлостью пахнущую воду. Опустить лицо в лужу, глотать стоялую теплую грязную жижу, ногами отпихивая всех конкурирующих братцев Иванушек.
Пить, отдуваясь и удовлетворённо цыкая зубом…
Старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла кружку.
«А что, бабуся, тебе нужно?» — спросил я.
Но она не отвечала, а шла прямо ко мне. Мне стало страшно, особливо, когда я заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. Я хотел оттолкнуть её и вскочить на ноги, но к удивлению заметил, что руки от ужаса не могут приподняться, ноги не двигаются, и даже голос не звучит. Я слышал только, как билось мое сердце.
Тут старуха подошла вплотную, и я увидел, что за кружка у нее в руках.
И, пардон, поставила она мне клистир. Я не сопротивлялся, я решил, что у них в доме так принято… А утром выясняется, что она комнатами ошиблась…
Оба моих спутника — и философ Фома, и будущий юрист Родион — так смеялись, так смеялись, узнав о ночном казусе, что я тут же поссорился с ними и никогда ничего не слышал о том, что сталось с ними.
Сам же я от неимоверного стыда бежал в деревню, в глушь и здесь навеки поселился. Занятия бросил, жизнь моя не сложилась, ибо от пережитого в ту ночь ужаса я теперь совершенно не могу обходиться без клистира…
— Простите, господа, но, вот, опять! — прервал он свой рассказ и закричал:
— Няня! Няня! О, горе моё! Где же кружка?
В комнату, шаркая войлочными туфлями, вбежала старушка с кружкой Эсмарха,
— Не угодно ли ночевать, господа? — предложил любезный хозяин.
Мы с поспешностью отказались и, наскоро попрощавшись, отправились восвояси.
Собачья верность
— Фить-фить! Ступай со мной, Шарик!
«Это я-то — Шарик?», — изумилась она, но пошла за ним в божественное тепло квартиры.
— Где же вы такую взяли?
— Такую? Вздор! — господин говорил отрывисто, точно командовал. — Впрочем… Погоди-ка, не вертись, фить… Гм… Да стой ты смирно! Действительно, не Шарик… Это… форменная Тётка!
Был зимний вечер. Конец января. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем было написано:
«Петь от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается».
За двумя стенами пели:
— Ландыши, ландыши, светлого мая привет…
И — почти без перерыва:
— Фиалочка душистая с весною расцвела…
— Скажи ей, что пять часов, чтобы прекратила. И позови сюда, пожалуйста.
У портьеры, прислонившись к притолоке, стоит молодая женщина в шляпе с тремя страусовыми перьями: оранжевым, небесно-голубым и красным. Передник на ней почти не грязный, истрепанное пальтишко тоже как будто немного почищено. Жалкая фигурка патетична в своей напыщенности и невинном самодовольстве.
— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о шляпе.
— Что ж… «гадость»… шикарная шляпа. Наследственная. От тётки досталась.
— Чепуху говорите! Не забывайте, что вы… э… гм… вы ведь, так сказать, неожиданно появившееся существо, лабораторное. Какая у вас может быть тётка?
— Известное дело, какая! Здоровенная такая была тётка. Говорят, что от инфлюэнцы померла. А я так думаю, просто укокошили старуху!
— Как это — укокошили?
— А и очень просто. Ухватили, к примеру, исполосовали голову ножиком… А шляпа соломенная, новая, мне должна была достаться. Спёрли!
— Это вы, конечно, на меня намекаете?
— Не на себя же. Я не какая-нибудь, я честная девушка! Разве я вас просила мне операцию делать? Хорошенькое дело! Я, может, своего разрешения на операцию не давала. А равно и мои родные. Я иск, может, имею права предъявить! А ежели бы и я у вас померла под ножиком?..
— Это возмутительно!
— Вот и я говорю, кто шляпу спер, тот и тётку укокошил.
***
Двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном.
— Так я и думал. Этого следовало ожидать. Наследственность, ничего не попишешь. Лизавета!
— Вы полагаете?
— Никакого сомнения! «Елизавета Дулина, восемнадцати-двадцати лет, профессия — цветочница с Сухаревки…» Ну и кабак мы с вами сотворили, дорогой мой доктор!..
— И что же теперь, профессор?
— Будем развивать её в высокую психическую личность. Я еще никогда в жизни не брался за такую трудную работу. Мы будем фиксировать каждый этап, сделаем сотни фотографий, десятки граммофонных записей. Свезем ее на Шекспировскую выставку в Эрлс-корт, будем водить на концерты классической музыки, в театр…
Будущая высокая психическая личность вошла в кабинет, держа пару больших стоптанных туфель по привычке в зубах. Она поставила туфли на коврик перед профессором и неприязненно сказала, перекосив рот:
— В театр я не пойду. Дуракаваляние. Разговаривают, разговаривают… Контрреволюция одна.
— А что же мы с вами предпримем сегодня вечером?
— В цирк пойдем лучше всего.
***
Цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями.
Скучая, она навела двойной лорнет на ложи незнакомых дам, потом перевела взгляд на самый верх…
Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое — пухлое, краснощекое и испуганное — ударили ее по глазам, как раньше ударил яркий свет…
Она вспомнила, упала со стула, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком. Она прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе; чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену; прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене.
Тут ее подхватили чьи-то сильные руки, ласковый голос запел:
— Сон приходит на порог.
Крепко, крепко спи ты.
Сто путей, сто дорог
Для тебя открыты….
Её передали в другие руки…
— Тулпарым шункырым,
Инде скла син-тын.
На-ни-на, на-ни-на,
Генацвале патара…
Она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и наконец попала на галерку…
Спустя полчаса она шла уже по улице, и ей казалось, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту.
Лука Александрыч покачивался и инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы.
— В бездне греховней валяюся во утробе моей…, — бормотал он.
«А если он бедный и слабенький, и я нужна ему, то, может быть, я буду с ним счастливее, чем с человеком, который стоит выше меня и которому я не нужна», — думала она.
Чушь собачья
На илистом дне мягко и покойно. Сонно колышутся водоросли, изредка пуская тонкие цепочки воздушных пузырьков туда, где последние лучи солнца слабо пробиваются сквозь толщу воды…
Вдруг и этот последний печальный свет закрыла тень, плеснуло по воде весло.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
