
Бесплатный фрагмент - Дышащий чертёж
Сны о поэтах и поэзии. Том 1
ГЕРОИ ТОМА 1
Часть I
Русская поэтическая речь: персональная азбука
Богдан Агрис
Андрей Анпилов
Алёна Бабанская
Николай Байтов
Александр Банников
Александр Бараш
Вилен Барский
Александр Башлачёв
Регина Бондаренко
Николай Васильев
Марина Гарбер
Михаил Генделев
Елена Генерозова
Анна Грувер
Владимир Губайловский
Николай Данелия
Григорий Дашевский
Николай Звягинцев
Геннадий Каневский
Евгений Карасёв
Алёна Каримова
Виктор Качалин
Бахыт Кенжеев
Тимур Кибиров
Павел Кричевский
Сергей Круглов
Катя Капович
Галина Климова
Григорий Кружков
Денис Ларионов
Станислав Львовский
Вадим Муратханов
Сергей Надеев
Владимир Полетаев
Вера Полозкова
Алексей Порвин
Виталий Пуханов
Илья Риссенберг
Александр Скидан
Алексей Сомов
Мария Степанова
Юрий Стефанов
Андрей Тавров
Карен Тараян
Михаил Фельдман
Людмила Херсонская
Юрий Цветков
Сергей Шестаков
Глеб Шульпяков
ГЕРОИ ТОМА 2
Часть II
О переводах непереводимого
Войцех Венцель
Ян Польковский
Януш Шубер
Антония Поцци
Эдит Сёдергран
Асар Эппель
Часть III
О толкованиях таинственного
Томас Венцлова
Борис Гаспаров
Линор Горалик
Александр Житенёв
Григорий Кружков
Виталий Лехциер
Александр Марков
Ольга Розенблюм
Андрей Тавров
Михаил Яснов
Часть IV
Россыпью. Почти постскриптум:
снова персональная азбука
Михаил Айзенберг
Михаил Бараш
Елена Баянгулова
Александр Беляков
Василий Бородин
Мария Галина
Владимир Гандельсман
Линор Горалик
Алла Горбунова
Анна Глазова
Михаил Гронас
Филипп Дзядко
Ирина Ермакова
Геннадий Каневский
Катя Капович
Михаил Квадратов
Тимур Кибиров
Галина Климова
Алексей Колчев
Владимир Коркунов
Ирина Котова
Инга Кузнецова
Елена Лапшина
Людмила Логинова-Казарян
Чеслав Милош
Василий Нацентов
Лев Оборин
Лесик Панасюк
Ян Пробштейн
Виталий Пуханов
Илья Риссенберг
Галина Рымбу
Илья Семененко-Басин
Андрей Сен-Сеньков
Сергей Соловьёв
Сергей Стратановский
Андрей Тавров
Амарсана Улзытуев
Анна Цветкова
Наталия Черных
Сергей Шестаков
Аркадий Штыпель
Асар Эппель
Лета Югай
Олег Юрьев
Василий Якупов
От автора
Так и хочется сказать: от сновидца. Почему все-таки это двукнижие, составленное по большей части из рецензий на поэтические книги и тексты, а также из предисловий к ним и некоторых колонок в одном сетевом издании на прикосновенные к поэзии темы, последних, примерно, полутора десятилетий, названо «снами о поэтах и поэзии», зачем оно структурировано именно так (простодушно — по алфавиту) и что за цели оно преследует?
Начнем с конца. Алфавитный способ упорядочивания материала — по фамилиям поэтов или, в случае коллективных сборников, по их названиям, — «персональная азбука», был выбран автором-составителем, по некотором размышлении, как наиболее нейтральный и дающий героям максимально возможную свободу; попытка загонять обсуждаемых поэтов, а с ними и читательское их восприятие в как бы то ни было выделенные группы и рубрики довольно скоро обнаружила свою насильственную природу. Всех поэтов, о которых здесь идет речь, безусловно объединяет то, что каждый из них оказался в том или ином отношении (а то и весь целиком) важен и интересен автору на разных этапах его читательской, человеческой, смысловой биографии. Но нет ничего дальше от авторского замысла и чувства, чем забавлять читателя рассказами о собственной жизни, — еще и поэтому потребовался нейтральный алфавитный порядок: для дистанцирования, насколько возможно, от личных пристрастий и интересов (почти невозможно, но стремиться к этому стоит). Чтобы не навязывать цельности структуре (а именно цельность, признаюсь, забегая вперед, составляет тут первейшую заботу автора), в которую та не складывалась бы сама собой. (Ну, наконец, было соображение и совсем утилитарное: чтобы легче было найти искомого поэта. Прежде всего — самому автору, кому ж еще. Можно было упорядочить написанное и хронологически, но алфавитный способ победил именно силой удобства.)
Первый том — рецензии на поэтические сборники и эссе о поэтах (а также об одной поэтической премии), публиковавшиеся в разных бумажных и электронных периодических изданиях в последние полтора десятилетия.
Второй том — рецензии на сборники поэтических переводов, книги о поэзии и микрорецензии: тексты совсем небольшого объема, писавшиеся о поэтических книгах по преимуществу для хроники поэтического книгоиздания журнала «Воздух».
Признаваться так признаваться: собирание своих писаний о поэтах и поэзии, не вошедших в две предыдущие книги, в ту самую искомую цельность автор предпринял поначалу с целями черновыми и внутренними, чтобы иметь под рукой, — спохватившись, как многое из этих текстов, растерянных по бумажному и электронному свету, не помнится ему самому (и по сию минуту не уверен он, что собрал все, того достойное).
Разумеется, тут же стало ясно, что тексты тяготеют к цельности и напрашиваются быть прочитанными одним взглядом, причем не только авторским. Потому что сколько ни будь автор избирателен и пристрастен, уже само количество написанного, несколько даже на вкус автора избыточное, заставляет предположить, что в некую картину современного русского поэтического письма оно все-таки складывается (герои этой книги — в решающем большинстве те, кто пишет сегодня — или писал относительно недавно — по-русски; есть и переводы, но ведь и они тоже — русское поэтическое письмо), некоторые тенденции его все-таки оказываются здесь обозначены.
Итак, цельность: вот она, главная тема всего сказанного и самый настойчивый его внутренний вопрос. Складывая написанное в разное время, в разных форматах как фрагменты одного паззла, автор пытался угадать, что удерживает все книги и тексты, о которых речь, — вместе, независимо от порядка, в котором следуют друг за другом рассуждения о них, и даже от времени написания, — какому подводному материку принадлежат эти острова, какие предположения возможно по ним делать о его очертаниях.
О названии, которое автор заимствовал у одного из своих любимых поэтов (он же — первый герой этого двухтомника): оно, представляется автору, в точности отражает существо дела. Ведь поэзия и есть, с одной стороны, чертеж — обозначение главных черт существования, его несущих конструкций, — а с другой стороны, чертеж дышащий, ибо живой.
И, наконец, почему — сны? Да потому что, как бы ни исхитрялся автор, все написанное им на нижеприлагаемых страницах остается непреодолимо: до своеволия, субъективным. И азбука, никуда не деться, — все-таки персональная. Что, в самом деле (кроме слепого случая — но это не он, — или неразборчивости — но это и не она), способно свести в пределах одного рецензентского взгляда, скажем, Веру Полозкову и Юрия Стефанова, Евгения Карасёва и финалистов Премии Аркадия Драгомощенко? Я подозреваю (скинул автор авторскую маску и начал говорить от допрофессионального и внекоординатного, разнузданного в своей внекоординатности самого себя), что такое под силу исключительно логике сновидения, обнаруживающей связи (и, соответственно, пути к чаемой цельности) там, где дневное сознание их и не предполагает.
Особенно если это сновидчество наяву.
О.Б.
Часть I
Русская поэтическая речь: персональная азбука
Дышащий чертеж
Макробиография Богдана Агриса
Поэт Богдан Агрис стал открытием — и, думаю, не только моим — совсем недавно — в 2019-м. Он явился читающей публике из почти-безвестности сразу сложившимся, готовым, как Афина из Зевесовой головы, когда издал первую небольшую книгу стихов — сильных и зрелых: «Дальний полустанок» (М.: Русский Гулливер, 2019), результат многолетней одинокой работы. До этого он публиковался в журналах «Новый мир», «Плавучий мост», «Волга», «Новая Юность», на онлайн-порталах «Сетевая Словесность», «На Середине мира», но в целом, по всей видимости, находился в стороне от того, что называется актуальной литературной жизнью, и эта невключенность пошла ему, вне всякого сомнения, на пользу. По собственному признанию, серьезно и систематически он, родившийся в 1973-м, пишет вообще с 2015 года, хотя въедливый читатель сумеет разыскать в сети и куда более ранние его тексты: обнаруживается даже сборник «Тело ангела», включающий стихотворения 1992–2016 годов. Из всего прежде написанного в свой первый сборник Агрис включил очень немногое, относя эти тексты, видимо, к своей поэтической предыстории. Теперь он подготовил к изданию вторую — «паутина повилика».
По образованию Агрис — философ (окончил философский факультет МГУ), что не могло не повлиять и на его поэтическую оптику. Другие внепоэтические источники этой образности — естественные науки и европейские мифологии, прежде всего кельтская.
Поэтическая же генеалогия (по меньшей мере, одна из ее линий) восходит через Мандельштама, Заболоцкого, Тютчева (один из корней внятно тянется к Хлебникову) к Державину и Ломоносову; из современников он считает родственным себе — до некоторого ученичества у него — Олега Юрьева. Агрис принадлежит к редкой у нас, редкой вообще породе поэтов-натурфилософов, выговаривающих устройство мироздания в целом, ход пронизывающих его процессов и сил. В его случае, пожалуй, есть основания говорить о персональной мифологии, натурфилософии, онтологии при — одновременно — очень сильном (чем дальше, тем, кажется, сильней) музыкальном начале. Тоже крайне редко соединяющиеся свойства. А еще Агрис очень цельный внутренне: в каком-то смысле через любой его текст можно рассмотреть свойства его поэтической ткани в целом.
Охватывая взглядом — чуть ли не в каждом тексте — мировое целое на разных его уровнях («от морщинок руды до колючек звезды»), Агрис развивает в себе подробнейшее зрение, позволяющее разглядеть структуры вещества вплоть до микроскопических. У него (по крайней мере, в первой книге, изданной на бумаге) что ни текст — то метафизический трактат, притом остро-личностно пережитый. И это по меньшей мере столько же взгляд метафизика и астронома, сколько минералога, зоолога, ботаника — многоликого естествоиспытателя, — естествоиспытанию которого не противоречит, но, напротив, составляет его часть и питающий источник: взволнованная, и притом конструктивная, мифологичность.
Автор одного из небольших предисловий, предпосланных первой книжечке Агриса, Кирилл Анкудинов, писал, что «лирического героя в этих текстах нет». С этим согласиться никак невозможно: тексты Агриса ими буквально перенаселены.
Его лирические герои — время, пространство, воды и почвы, времена суток и года, звери и небесные тела, птицы и минералы, растения и созвездия. Герои именно лирические, потому что обо всех этих предметах для Агриса возможна и необходима речь исключительно личностная, страстная — сразу и адресованная, диалогическая; речь, которая раскаляет и сжигает. «Еще наговоримся добела», «еще наговоримся дочерна», обещает поэт в первом же стихотворении книги — о чем же? — «О сотах времени, об озере вне веса, / О полом тростнике в созвездии Орла <…> О том, что время нам насобирало в соты, / О том, как озеро текло в свои высоты». Оно все живое, дышит, действует, чувствует… — оно все — и в целом, и в каждой своей точке — субъективно и пристрастно. Для поэта возможно «виноватить» миры — «соседние миры в обводе стога» способны быть субъектами этики; осень «вздыхает уклончиво»; вещи «сгибающиеся, сонные и животные»; стена, не хуже растения, способна «вянуть» и «распускаться». В этом мире нет ничего отвлеченного, чисто умозрительного — все чувственно и осязаемо. Речь держится «жилисто и плотно»; время «возводится», «как дышащий <…> чертеж». Раз все живо — то все и смертно. Всему может быть больно. Все оно даже в той или иной степени сакрально — и есть все основания обратиться к встречной птице: «Помилуй мя, о горлица сквозная».
Этот мир еще творится. Он не закончен. Он творится и каждым выговариваемым здесь движением: как двинешься — так и будет. Возводится, как дышащий чертеж.
Человек тут не имеет привилегий, но оказывается точкой особенной чувствительности ко всему мирозданию — чувствительному и без того. Со всем перечисленным и не перечисленным человек образует одно большое сложночувствующее целое, все части которого устроены очень родственным друг другу образом — и не только в смысле подробного человекоподобия, скажем, деревьев: «Сонливых тополей сточились каблуки, / и где им выйти вереску навстречу…». Нет, шире и сложнее: все, что в этом целом происходит, становится телесным событием человека, отражается в нем («…когда пройдет волна по зеркалу руки»).
Проживание всего этого в образах — несомненно, философская практика.
Кроме этого человека-вообще, человека-как-вида, соучаствующего в мировом целом, несомненно присутствует здесь и своевольный, узнаваемый, даже настойчивый голос наблюдателя-созерцателя, его «я» с собственной — с первых же страниц заявляемой — позицией: «Вам нужен лай собачий наизнанку, / Мне — долгий дом у млечного откоса / С дроздами и свечением рябины», с рефлексией: «Мне надо бы пока остановиться <…> Я затаюсь у вянущей стены…» (не говоря уж о том, что есть и не менее настойчиво возникающее «мы», к которому говорящий изнутри этих стихов себя причисляет: «Мы копим имена в укрывищах лесных / И если держим речь — то жилисто и плотно»).
Допустим, это «я» не биографическое (притом что явно обладает темпераментом, норовом, избирательностью, да и вообще сложным душевным устройством: «А вон — не я ли: ломок и в раздвое?» — смотрится повествователь в зеркало мироздания). Кстати, исторического времени у Агриса нет или почти нет: его время — метафизическое.
Но у него несомненно есть — и выговаривается в текстах — то, что хочется начерно назвать макробиографией: жизнь, измеряющая себя тысячелетиями и космическими масштабами. «Уже погибаешь, — а в новую эру шагнешь / И выйдешь живым в незнакомые области мира».
2020
Открыты двери неба
Андрей Анпилов. Воробьиный куст. — СПб.: Вита Нова, 2017
Можно, конечно, сказать, что стихи Андрея Анпилова — «религиозная лирика». Можно сказать и «метафизическая», но это не совсем точно: религиозное отличается от «просто» метафизического интенсивной обращенностью, диалогичностью, восприятием своего существования как реплики в большом и непрерывном диалоге с Собеседником (именно он здесь и происходит). Главное — лирика, страстная и пристрастная: об отношениях человека и бытия. И поскольку в разговоре об этих отношениях всегда помнится — лишь изредка называясь по имени — его Источник, — вот в этом смысле, в этой мере анпиловская лирика религиозна.
Выговоренная в этих стихах религиозность — особенного свойства: она впитана в повседневность, осуществляется всяким повседневным действием. А прежде всего прочего — ясно осознаваемой уязвимостью, иногда попросту катастрофичностью — и драгоценной хрупкостью, хрупкой драгоценностью всего человеческого. Причем особенно такова — это у Анпилова отдельная сильная сквозная тема — уязвимость и катастрофичность детства.
Вся повседневность превращается у него в орган смысла, в чувствилище для восприимчивости к надповседневным — и надчеловеческим — смыслам. Улавливает их, как чуткая антенна, всей собой — включая ее бессмыслие, слепоту, трудности, тупики. Может быть, задворки существования, «времянки мира», «скудный мусор всячины» восприимчивы к основе всего еще более иных его областей.
Вообще-то, всякая повседневность такова, но далеко не каждый это видит. Это даже не принято видеть, обычно человек от этого экранируется: это слишком трудное видение. У человеческого восприятия мира есть, в некоторой общекультурной норме, два режима: «повседневность» и «экстатика» — так сказать, ближнее и дальнее зрение. В «экстатике», понятно, видится то, что в защитные, защищающие пределы повседневности не вмещается. Так вот, у Анпилова два эти режима видения совмещены.
Он (почти) весь — об осязаемости надчувственного, о чувственной его данности, очевидности и безусловности.
Скрипит корабль Великого Поста,
Стоит волны соленая верста,
Друг к другу овны жмутся, вслух псалом
Звучит, солен.
Человеческое тут — все целиком — открытый канал в то, что его превосходит. Только это дано тут в виде не отвлеченного умствования, но чувства, пережитого всем телом. Особенно же важна мне тут прямая соединенность, почти тождественность уязвимости и восприимчивости к истокам бытия, к его питающему, защищающему, творящему корню. Метафизическая проницаемость и распахнутость всего сущего, пронизанность, — трудная, болезненная — духом и смыслом и повседневного, и человеческого вообще, и не только человеческого. Так и летучая рыба морская летит над водами, «как некогда Дух в первый день бытия».
Открыты двери неба, пух и перья
Витают над страною, чудь и меря,
Поляне, вятичи идут за родом род
На землю вспять рекою зыбкой снега,
и на иконе смаргивает веко
Святую каплю, волгу, днепр, онегу,
Не вычерпать шеломом, Бога вброд —
Не перейти.
2017
Блокнот для пауз
Стихи Алены Бабанской стремятся к предельной простоте. Почти устраняют сами себя.
Они — скорее графика, чем живопись: их образуют осторожные (при этом уверенные, твердой рукой наносимые) штрихи, скупо точные, обозначающие только самое главное. Только свет и тень.
«Черное дерево горит, а белое тлеет. / Черное дерево вдали, / А белое рядом…»
Схема, чертеж. Можно было бы сказать — базовые структуры существования, но эти сдержанные, ироничные в своей сдержанности стихи чуждаются пафоса.
Простые, «бедные», почти аскетичные рифмы: «умирал — выбирал», «яблоки — зяблики», «пуст — «куст», иной раз почти тавтологичные «окрест — крест»; просторечия: «пёрушки», «поврозь», «Буратиной», «приколы»… — речь, как бы не принимающая себя вполне всерьез. Приближенная к устной. К проборматыванию, к шепоту.
Почти прозрачная простота оборачивается, однако, плотным — и сложно внутри себя устроенным — сжатием.
Это — мнимая простота притчи, обманчивая простота фольклора, который тут то и дело постукивает узнаваемыми приметами, характерными ритмами, присловьями, почти цитатами из него: «пешком — гребешком», «Там и ты мед пива не пивал»… Внутри этой простоты чуткая и роскошная в своей сложности звукопись, точная, как магнитофонная запись: слышен жесткий шорох, с которым ветер ерошит «веток ершистый веер», слышно, как «огонь с хвостом барсучьим / Ползет по сучьям» — тут слышен треск и ползучий шорох самого огня; «слезной слякотью» мягко взблескивает тающий снег) — стремление совпасть в говорении с самим шепотом мироздания.
Это мир скорее подслушанный, чем выговоренный; позволение говорить миру. Не потому ли и «Акустика»? Основное движение этих стихов — вслушивание.
Поэт вслушивается и в то, что, казалось бы, не имеет голоса — в само течение времени в предметах («А если дерево — дичок, / с тугими, мелкими плодами, / В нем время медленней течет, / Незамутненное садами»). Время вещественно, осязаемо («Бери его, пальцами трогай»), да и не оно одно: сам дух одной из здешних героинь «вязок, плотен, / Как вязаный зимний шарф», а словами можно кормить рыб, и окуньки будут «жиреть». И слух неотделим от осязания, и оба они — от зрения, ясного и чувственного видения, буквально ощупывающего предметы — по большей части, те, что ближе к глазам. Первоначальная, мифическая синкретичность чувств, изначальная их конкретность — как на заре мира.
Потому-то этому взгляду видны вещи невидимые: то, например, как каждый из живущих «висит на своей леске», которую одна «только смерть подходит и подсекает». Можно видеть, как время, большая рыба, «шевеля плавниками в Каме, / Шевеля плавниками в Волге», «медленно утекает». И, разумеется, оно живое. Оно вообще здесь настолько главный персонаж, что все другие насельники этих текстов — по существу, его облики: вот оно в облике грача «беснуется, летит, / брошенную корку волоча», то обернется секундной стрелкой-синицей, то часовой-вороной (и уж не весь ли мир предстает как плоть времени?).
Мифологические персонажи существуют тут на равных правах с прочими живыми существами («За кустами леший бродит, / И тревожно кычет птица…»), неживые на равных же правах с ними — живы (аэроплан «в нас глядит глазами птиц», земля машет кулаками, тучи «ищут свое зерно, / В клюве переминают»); а человек обнаруживает телесное родство со всем сущим, он плоть от плоти мира, и у бедра его «шершавая кора».
(Не об этом ли родстве всего сущего — и звукопись отзывающихся друг в друге вроде бы разносемантичных слов, а через них — и самих явлений: «точно жимолость — одержимость», «зябнут как зяблики»? )
Бестиарий этих стихов вообще вполне фантастичен; однако это фантастичность, так сказать, фоновая, как бы сама собою разумеющаяся, она — ни в коем случае не основной предмет внимания, она почти по умолчанию. Но обнаружиться может в любой момент: так птица, грянув оземь «сизою голубицею», вдруг да «станет / Лебедем, царь-девицею, / Огненными цветами».
Фольклор здесь — корень, уходящий глубоко в прапочву мифа. О ней опять же не говорится специально — ее достаточно чувствовать.
Важно еще, что это — речь почти безличная, с уклоняющимся «я».
«Я» в этих стихах смиренно: оно никоим образом не в центре повествования и не образует его главной темы. Оно и вообще-то не о себе, а если о себе — то как можно более через другое. Оно делает себя незаметным, его почти нет.
(То же касается и совсем ускользающего «мы», в которое это «я» как будто себя включает: «Птицам и агнецам / В нашем саду» — кто тут эти «мы»? Неизвестно — и высказано никогда не будет. Это интуитивная общность.)
Иногда «я» проглядывает очень осторожно («Мой добрый бог с цигаркою в руке / Творил меня на фрезерном станке…»), но в целом по большей части присутствует как угол взгляда, как форма его, как сама его возможность, как направление и повышенная интенсивность внимания: «Звоночки мои, колокольчики, скрипы!», «Сестра моя, проталина…» И здесь важно не «я», но проталина и чувство родства с нею. Важна — и совершенно достаточна — возможность присутствовать в мире и чувствовать его. Это «я» вообще больше и охотнее чувствует мир, чем себя — проникается чувствами всех предметов, ощущает всем своим невидимым телом, как проталина «в снегу лучом продавлена / Легчайшим — до корней», как «больней и глубже ранит легкое», как «млеет под лучом / травы живой пучок».
Здесь нашептывает себя сама жизнь, «я» и не мыслит ее заслонять. В облике слов во внимательное ухо входит ее «дословесный <…> шепоток».
«Я» же почти не обозначает своих качеств (само его возникновение показано как в своем роде минус-процесс, как убирание лишнего: «добрый бог», творя повествователя этих стихов, «лишнее, как стружку, выбирал» — и именно это, что характерно, оказывается условием того, «чтоб божий дух во мне не умирал»). Обозначается оно еще через свои координаты в бытии («я ведь тоже — одна из них, / Перепутавших верх и низ», — говорит лирическая повествовательница, глядя на ходящих в воздухе огненных рыб), через принятие иных обликов: «Обернусь я бумажным змеем, / Полечу голубиной почтой». Да еще — через ускользание из всех координат, через то, что мир ловил, да не поймал: «Не берут меня неводы»; «Даже если минуешь сети, / на поверхность всплываешь реже», через непринадлежность и отсутствие: «Ничего-то тебе не светит. / Ничего-то тебя не держит», «И плывешь в никуда, объясняешься знаками». Ему, кажется, проще, свободнее выговаривать себя во втором лице — или хоть в косвенных формах, но тоже редко: «мой», «моя»… И совсем-совсем редко — впрямую, — но по крайне важным, предельным поводам, когда невозможно иначе: «А я у смерти под пятой. / А я у смерти понятой» — самая честная речь о которых тоже может быть только предельно, до прозрачности простой:
Она отнюдь не праздник,
Хотя манит и дразнит.
Она наступит в семь утра
От совместимых с жизнью трав,
От синевы и елей,
Без всяких важных целей.
Эту по видимости простодушную речь пронизывают внутренние цитаты — полускрытые, вросшие в речь, считываемые почти боковым зрением: «Получи предлинным письмом в конверте, / Погоди, не рви…» — эта цитата из настойчивых, и всплывет еще раз: «Как письмо отверженной, / погоди, не рви»; «пусть утро казалось седым и туманным…», «если яблочко песни на мертвых губах…». Культура здесь бормочет свое заодно с природой, едва отличимая от нее. Или неотличимая вообще.
А вообще-то — возникшая почти как обмолвка — «сестра моя, проталина» — это не только Пастернак с «сестрой моей, жизнью» (хотя и он тоже), это уже сам Франциск Ассизский.
На самом-то деле в этих почти аскетичных стихах свернуты еще и большие пласты мировой культуры. Которая здесь тоже — по умолчанию. Никогда не предмет прямого взгляда.
Бабанская словно бы избегает обобщающих суждений. Она как будто только о том, что перед глазами, только о том, что можно пощупать рукой, что вмещается в единичный акт восприятия. Каждому из небольших стихотворений соответствует не более одного события, одного внутреннего движения: мысли, воображения, чувства. Не истории, а ситуации — точечные. Акты созерцания. И не попытка ли это говорить о жизни прежде смысла ее, в досмысловых ее движениях? Событие не разворачивается, но обозначается как возможность будущего движения — за пределами текста. И не указывает ли в этом смысле каждый текст — за свои пределы?
Вот блокнот для нот.
Осталось
Прикупить блокнот для
Пауз.
Чтоб носить под старость
В сумке
Немоты моей
Рисунки.
Однако за вниманием к малому («и от него всего-то прок / что летом тень и птичий посвист»), к преходящему — как «тень и птичий посвист», неизменно стоит внимание к тому, что «между строк», на что каждый предмет самим собой показывает, к «неписанной повести», к нескАзанному и несказАнному.
В каждом невеликом стихотворении, готовом стянуться в точку, — по формуле мироздания.
2019
Миф, миф и миф
Николай Байтов. Энциклопедия иллюзий / Вступ. ст. И. Гулина. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — (Новая поэзия)
Книга эта — действительно своего рода энциклопедия: в каком-то смысле, конечно, и иллюзий тоже (литературного сознания, сознания вообще), но главным образом — персональных байтовских способов работы с ними. Слово «работа» тут напрашивается настойчиво — и не будем ему сопротивляться; впрочем, еще вернее бы тут было слово «практика» — в том же смысле, в каком мы говорим о духовной практике. Потому что поэзия (как и проза) Байтова — это именно духовная практика. Литературными средствами, да, — однако преодолевающими литературу в ее устоявшемся понимании (преодолевающими любое устоявшееся понимание как таковое).
Книгу составили восемнадцать поэм (точнее сказать — больших текстов; в случае Байтова такая видимая неточность именно точна: этот принципиально ускользающий от определений человек должен же сопротивляться и определениям жанровым), написанных Николаем Байтовым более чем за четверть века, с 1984-го по 2000-й, и расположенных в порядке почти хронологическом. Выбивается из этого порядка разве только текст, имеющий все основания претендовать на роль ключевого и давший книге название — «Энциклопедия иллюзий» — написанный в 1993-м, он стоит в начале, но это и понятно: ключевой же. Да почти декларативный. Практически, обнажающий прием.
Как будто это утро раннее,
на самом деле это утка раненая.
Как будто это автомат,
на самом деле это водопад.
Как будто это мост через овраг,
на самом деле это дуб №500.
Как справедливо пишет Игорь Гулин во вступительной статье к сборнику, «в европейской традиции жанры большой поэтической формы — от баллады до романа в стихах, — это жанры уверенности. Подобные тексты описывают мир». Именно в этом смысле — и тут уже автору вступительной статьи, считающему, что «к поэмам Байтова это разительно не относится», можно возразить — Байтов вписывается в европейскую традицию совершенно. Он тоже описывает мир!
Он вообще о том только и говорит, как мир устроен. Правда, делает он это через демонстрацию разных способов того, как об этом говорить невозможно, каким описаниям основы мира в руки не даются (а никаким не даются). Более того: он говорит об этом — когда вдруг находит нужным — на редкость реалистично, с почти натуралистической точностью.
Ночью снег сквозь воду проступал сыпью:
солью на неверном юном льду в проруби.
Вьюга шелушила чешую рыбью,
мутным комом леденела слизь с кровью.
К сроку я безгласного заклал агнца
(выпучены мертвые глаза, — круглый
рот хватает холод, — плоский хвост в танце
судорожном стынет), — и уже в угли,
солью внутренности окропив, сунул.
Ни огня вокруг на берегу белом.
Только тусклый жар еще не весь умер,
разметаемый в золе сырым ветром.
(«Пасха в декабре», 1989)
Байтов хитер — он дает читателю увидеть, понюхать, пощупать чрезвычайно убедительные слепки с разного рода оболочек и участков мира, и читатель, чувствующий себя почти физически присутствующим при том, о чем идет речь, отождествившийся сочувственно уже и с запекаемой в костре рыбой, и с тем, кто ее запек, — совсем готов поверить, что дело именно в этом.
Иногда Байтов как будто попросту тащит в текст куски наскоро, подручными литературными средствами обработанной реальности, — можно подумать (да, ошибемся), что он просто фиксирует ее в том виде, в каком она подворачивается его наблюдающему взгляду:
Видите ли эти великие кукиши,
бойко друг против друга вздымающиеся? —
Скоро на месте их раскинут пустоши
до горизонта только мусор дымящийся.
На ржавой проволоке цветочки бумажные,
хвоя, хвоя и ленты вылинявшие.
От лени и долгой скуки упавшие,
тлея, блекнут эмблемы пышные…
Протоколирует эту реальность двумя руками сразу, не успевая одной, — левой и правой, в два столбца: два — перебивая друг друга, переходя друг в друга и снова раздваиваясь, оспаривая друг у друга первенство, так и не обретая согласия — параллельных потока наблюдений, две линии событий — внешняя и внутренняя, наблюдения и воспоминания, факты и внутренние голоса, повседневность и история, физика и метафизика, натурализм и апокалиптика.
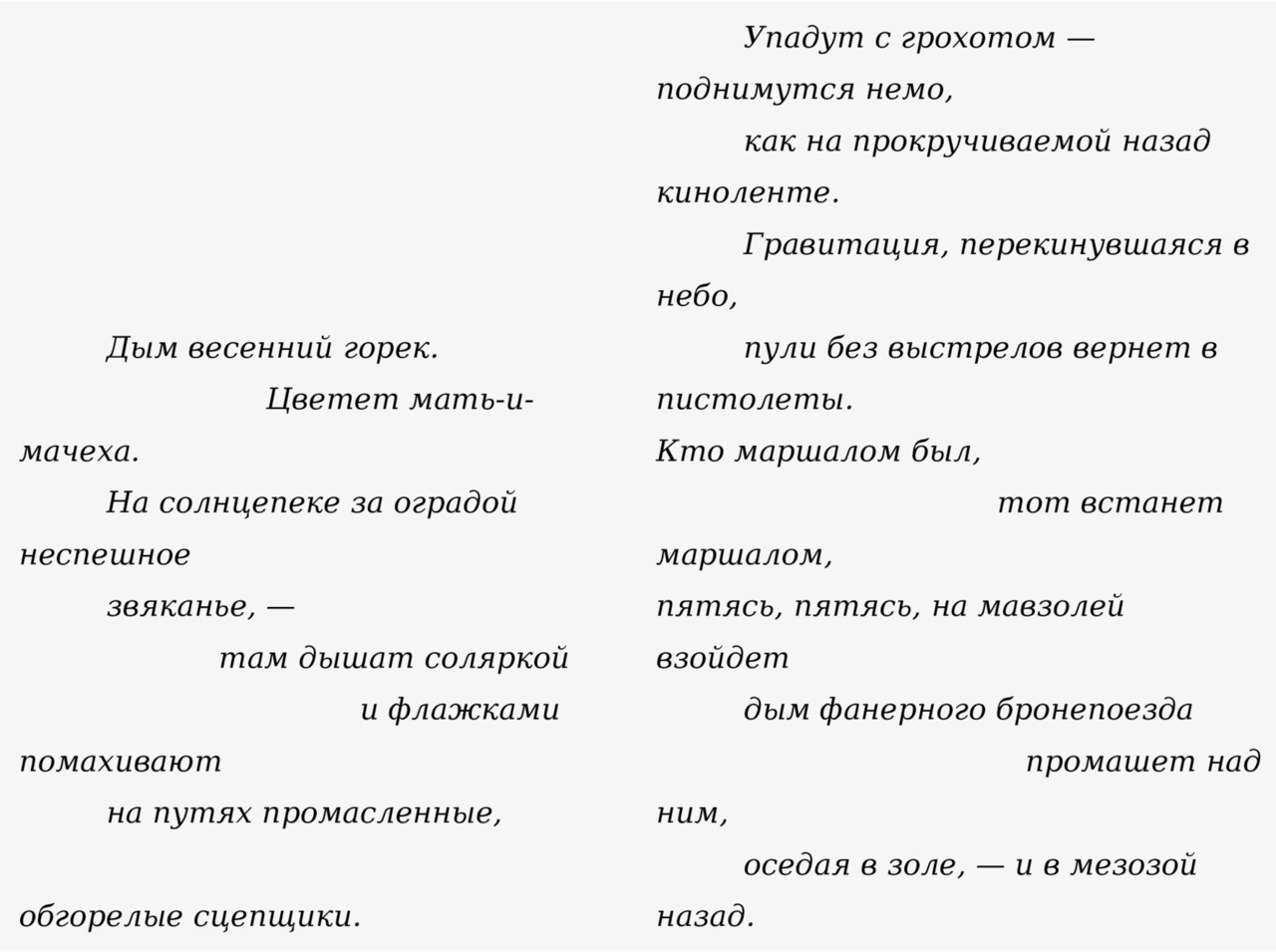
А то и просто — чистое уже протоколирование: реальность сырая, неочищенная, литературно невозделанная — перечень имен на попадающихся навстречу надгробиях:
Шкатуло
Трифон Иванович —
Зоя Евгеньевна Слоновская —
Кормышовы —
Богуш —
Антоновы —
Анна Филипповна Сукозова —
Вьюнов, Вьюнова —
Это «Ваганьково» (1987), один из самых «понятных» текстов в этом сборнике.
Чем, однако, каждое из таких описаний вернее, тем увереннее заявляет оно о собственной недостаточности.
Что до текстов откровенно «непонятных», то они просто заявляют то же самое совсем уж в лоб:
Левая скобка, левая скобка, ротор
синус-два-альфа, дай синих шлейфа, минус —
надо де-эль по де-эф по контуру против
а-угловое-катое… брызнул индекс
белым… и — арфа косить на косинус-флейта…
(«Пустыня. Вторая книга». 1985)
(По датировке, кстати, можно заметить, что эволюция Байтова шла не в направлении убывания или, наоборот, прирастания темноты его речи. Она была какой-то другой, какой — над этим еще следует думать. Мне пока не ясно.)
Для того, что культивирует своими текстами Байтов, напрашивается также название апофатической онтологии.
Здесь речь вот о чем: есть зримое, осязаемое, исследимое разумом — и есть незримое, неосязаемое, разумом не исследимое: собственно, главное, благодаря чему и ради чего вся эта зримая чувственная шелуха и существует.
Байтов показывает различные виды виртуозной, сложноорганизованной растерянности перед миром — и в таком определении одинаково важны обе его части: и то, что это растерянность, и то, что она — сложноорганизованная и виртуозная. Тут принципиальна также и множественность стилей, с которыми по-хозяйски управляется автор, демонстрируя, что все это — не более, чем инструменты из его инвентаря. А версификатор Байтов — блестящий. Он владеет — не говоря уже о тонкой, чуткой звукописи — изрядным разнообразием стилистических регистров, наработанных культурой и хранящихся в литературной памяти способов имитации реальности, и не упускает случая это владение продемонстрировать, — как, например, в насквозь и нарочито «литературном», сшитом из цитат и аллюзий, блестяще имитирующем вторичность тексте «Нескончаемые сетования» (1994–2000).
Уж осень. Зябко на ветру
дрожит засохшая травинка,
склоняясь к твоему бедру.
Кругом холодный дождик сеет,
и нагота твоя белеет
на постаменте средь кустов
полунагого бересклета.
Твои глаза застыли слепо
среди живых его зрачков, —
уперлись окнами пустот
в скелет разрушенного лета,
в его прорехах ты за ним
вплотную следуешь, как эхо…
Когда-нибудь мы вспомним это,
и не поверится самим.
Это — апофатика многоречивая, говорящая обилием разных языков, включая языковидное звукобормотание, возникающее на ходу, куда речь поведет, стремящееся стать языком — вот-вот, кажется, получится! —
В огне схасур я хынше нанов.
Десла не мисьпаю, а тич.
Ой, кабы сою лес в сейсуле…
— и терпящее поражение прямо на наших глазах:
в окно зима, — да на носу ли
мои очки? — одень и виждь!
(Или это выбивается из-под засохшей речевой корки, мгновенно обнажая ее условность и хрупкость, предречевой хаос?)
Во всяком случае, сразу думается о том, что байтовская речь — это речь принципиального, намеренного поражения так называемого здравого смысла.
Да, Байтов описывает мир — однако со стороны его неочевидных движений, которые не ловятся заготовленными шаблонами, видятся как бы боковым зрением, не-зрением, улавливаются такими чувствами, для которых не заготовлено имени. Собранные как будто из узнаваемых сходу элементов принятого в нашей культуре мироописания («Дым и сырость, запах мокрых елок, холод, / в зарослях движенье: тихий шорох капель…»), эти тексты дают понять доверившемуся было всем этим деталям, потерявшему бдительность читателю, что мир ни предлагаемыми элементами, ни хоть даже всей их совокупностью не улавливается. Он сквозит в щелях между ними. И если автор в чем-то совершенно уверен, то именно в этом.
Как будто это звук, фон, дым, речь, фильм, клип, сленг и знак,
на самом деле это миф, миф и миф.
2017
Глагол несбывшегося времени
Поэтическая речь Александра Банникова (1961–1995) натянута между полюсами испытанных поэтом влияний — столь же разных, сколь и характерных для его поколения и времени. Разные голоса, стилистические манеры, модели поэтического поведения, внутренние цитаты, с трудом, если вообще, образующие цельность, не столько взаимодействуют внутри этой речи, сколько конфликтуют друг с другом, спорят, выталкивают друг друга.
Здесь можно расслышать то Маяковского — почти неизбежного для взрослевших в советское время:
Через ущелие боли моей головы
дует сквозняк прегрешений всего человечества,
то фольклор (а вслед за тем и русский рок, как раз начинавшийся в его время):
Тут пятый — темный — угол по-вороньему каркнул,
а валенок спрыгнул с печи — да плясать давай…
Иногда он очень напоминает своего чуть старшего ровесника и тезку Башлачёва:
…закваска вина и любви, убийства и похоти — жажда.
Я впился в нее исподнизу голодною трещиной,
и будто бы кровью чужою губы испачкал,
потом превратился в сплошные жадные губы…
А ночь, перейдя за третью — последнюю — пачку
сухих сигарет, пошла внезапно на убыль.
На другом полюсе явно усвоенных им влияний — «бродская» нарочитая рассудочность (замедляющая стремительное внутреннее движение — не без насилия над ним): «Возраст есть геометрия — измерение пройденного расстояния»; «бродские» длинные строки (в которых он несколько вязнет), переламывающие слово посередине:
Следует, смерть для нее — это предел, нарисованный
мелком берцовой кости — очертание мета-
физической вечности…;
и анжабеманы:
Ответный мой кивок —
есть завершение приветствия знакомцев,
как говорится, шапочных,
«бродский» показной цинизм: «Так, женская нога — всего лишь снятый / с нее чулок — и ничего нет под чулком»; иногда — прямо-таки интонационные цитаты из тогда еще живого и неканонизированного классика «Нет, в наше время папироса значит больше, / чем насыщенье этой папиросой».
Кто и что еще? Может быть, Высоцкий, тоже почти неизбежный для родившихся в шестидесятые; может быть, авторская песня с ее нарочитой, принципиальной неформальностью, как бы неумелостью как гарантиями подлинности и искренности высказывания. (Впрочем, у Банникова неумелость не так уж редко вполне настоящая. Правда, у него она — еще и от стремления поскорее выговорить большие объемы внутреннего движения, и от обилия не вполне подвластной ему самому, недообузданной внутренней силы.)
Следы всего этого способны уживаться иной раз в пределах одного и того же стихотворения. Но из-под всех этих влияний он выбивается.
Когда идут вперед — сгущают грудью, лбом
Пространство…
— говорит он, и в этом, вроде бы совсем не военном, стихотворении мы вдруг отчетливо слышим голос поэта другой войны, Второй мировой: «Когда на смерть идут — поют, / А перед этим можно плакать…» (Семен Гудзенко).
Только Банников — жестче, катастрофичнее, безнадежнее.
Да, Банников — поэт военный. Несмотря на то, что стихи о войне как таковой — а он на ней был — у него как будто не преобладают. Было бы, пожалуй, огрублением выводить его поэзию из травмы афганского опыта целиком, но очень похоже на то, что именно этот опыт (занявший год с небольшим — с августа 1985-го по октябрь 1986-го) стал во многих отношениях решающим и в его поэтической жизни, и в его короткой жизни вообще.
В каком-то смысле на войне он и остался.
Удивительно (ли), но собственно афганские стихи у него — из самых умиротворенных, почти нежных:
Слит с плечом моим ремень Калашникова.
Я есть продолжение курка.
А в России дочь моя калачиком
У жены уснула на руках.
А в России ночь живет для любящих,
свежим ветром затыкает щелочки.
Лягушатами ныряют звезды в лужицы
на обочинах дорог проселочных…
По возвращении в Россию умиротворенность кончилась. Дальше он — сплошная боль и горечь:
Я знаю: мое место в прошлом. И знаю, что занято.
Его битва и тяжба — с самим бытием. Его сквозные темы — одиночество, недопонятость, невозможность понимания, невозможность и недостижимость гармонии, цельности и полноты жизни вообще:
Все то, кем я не смог, кем я не стал,
где не был я и где не рос —
в небудущих — небывших небесах,
где отрицательные числа звезд
не стали звездами — но как пиявки
высасывают кровь дурную — птичью.
Там — в глубине несбывшести, неяви
меня уже не ищут…
Его постоянное чувство — телесно ощущаемая затрудненность и боль существования, которую он иногда выкрикивает, но чаще выговаривает тяжеловесными (не нарочито ли затрудненными?), задыхающимися конструкциями:
Смиренье — место опоздавших. Вновь безраздельное вино
в моем стакане — я второго уж не держу который год.
Как из пращи — твое «прощай» — и даже не само оно,
а представление о нем — мы не прощались. И глагол
теперь так редко в речь мою приходит. И к тому же как
глагол несбывшегося времени — как призрак корабля во мгле
пространства мертвых. Но явил немой закон из-под замка:
«Кто мертвым призрак — тот вдвойне живой. Вдвойне»,
физиологически проживаемые тоска и протест:
А глину лиц людских измяли пальцы
теней предметов — близких и далеких.
Ночь на осколки зрения распалась.
Углы усмешек встречных колют локти,
затылок, спину рвут на полосы.
Я ощущаю липкое и гадостное:
как встречный обернувшимся становится,
и влазит взгляд в меня — как градусник…
Но этот протест — не социален (притом что отношения с социумом у автора — крайне сложные, полные отталкивания: «Из летописи человечества: человечеством движет глупость, / ибо в него сбиваться — это есть глупость первая»). Он шире, глубже и безнадежнее. Банников — метафизик.
Я так научился искать: что раньше казалось щелью
между ночью и днем, сейчас — вход в преисподнюю.
И если бывает болевая, всем телом проживаемая метафизика, то это она. Она — и антропологический ужас:
После того, что случилось с людьми — не надо о жалости,
при них говорить — сами опомнятся скоро,
когда прикоснувшись к себе — собою ужалятся,
а тело рассыплется и — расползется по норам.
Я этим проклятьем уже до кости обглодан,
и меж коренных хрущу — разгрызаюсь тяжко.
Кроме разного уровня отзвуков чужих текстов, в речи Банникова соперничают и собственные внутренние движения, модусы видения: наивность и сложность, страстность и рассудочность. Страстность побеждает безусловно, но рассудочность снова и снова упорно стремится ее обуздать, уложить в логичное русло прямолинейного суждения, — а та разваливает конструкции.
Вот полюс наивный:
Ты любишь — тебе хвала и
все, что захочешь… Но слышишь:
если чего-то целого не хватает —
оно становится лишним,
его становится слишком много —
не удержать и не выдюжить…
Вот так и с любовью, так и с Богом —
лишь усомниться стоит единожды.
Вот сразу же полюс сложный — речь, перехлестывающая за край любого рассудочного суждения; аналитика совершенно вытесняет визионер:
Мухи — прищуры аур, предчувствие плена.
Тужится жилистый глаз в пальцах конвульсий,
чтобы незримое видеть — обыкновенно,
будто к рассыпчатой почве низко нагнуться,
или же сплюнуть в ладонь косточку вишни…
Мухи — летит в никуда плоть по частичкам.
Как в дырочку от зуба молочного — льется и свищет
мертвый двусмысленный свет звезд и чистилищ.
Вряд ли понимая вполне смысл открывающихся ему видений, торопясь записать их изобретаемой на ходу образной скорописью, он очень точно чувствует звук, лепит из него нужную его чувству форму — речь ведет его сама, плотная, упругая, самоценная, на грани глоссолалии: «Тужится жилистый глаз в пальцах конвульсий».
А вот снова наивный полюс: «…делай лишь ту работу, которую ненавидишь. // И она продлит твою жизнь до бесконечности, / до того, что жить тебе станет невмоготу…».
Он вообще очень неровный. И в том смысле, что — иногда прямо-таки неумелый (слово бьется у него в руках и выбивается — но это и потому, что он ловит крупную рыбу), и в смысле характерной для него, если не сказать — принципиальной неровности дыхания. У него постоянно чувствуется сопротивление материала.
Он говорит почти неизменно в модусе сопротивления, преодоления, вызова. Он сбивается с ритма, не укладывается в него:
Когда идут вперед — сгущают грудью, лбом
пространство. Позади — сплетня и гонец…
Но Боже упаси догнать свою любовь,
в пустых глазах прочесть не зрачки — конец.
Слова, как разломанные ледоходом льдины, налезают друг на друга. Скрежещут согласными, захлебываются ими. Им недостает воздуха.
И лишь бы мозг — смозоленной ладонью —
успел б разжаться уронив мысль наземь.
Он как будто все время торопится: ему слишком многое надо успеть сказать.
Эта жалкая жадность: пытаться сказать больше,
чем могут выслушать…
Может быть, именно от этой жадности — черновиковая невольная небрежность, то и дело возникающие неправильности и неточности: «Есть вещь, вернее, мысль, которую, познав, / Тебе становится ничтожной и ненужной жизнь», «чем слякотнее, тем пригоже», «наруже»… Иногда — чуть ли не косноязычие: «Когда становится вокруг трехмерной лужей», — что становится?
То вдруг его влекут тяжеловесные славянизмы — как, видимо, знаки подлинного, сильного и глубокого, судьбоносного и сакрального, — с которыми он вообще-то тоже не всегда справляется, нагромождает их друг на друга, настойчиво употребляет (чем, впрочем, и сам Бродский грешил) форму глагола «быть» третьего лица множественного числа — «суть» — в значении «есть»: «человек — это слякоть / суть необретшее форму, состояние мира», «Жизнь, вообще-то суть задержка / чего-то большего, что не понадобится вскорости» (пунктуация в обоих случаях авторская). То он изобретает ситуативные неологизмы: «вбочь», «подслепые», «смозоленной».
Он не боится (не замечает?) рифм ни, с одной стороны, банальных (гонец — конец, вьют — бьют), ни, с другой — настолько далеких от точности, что их стоило бы назвать скорее созвучиями (жернов — рощеной, животных — Мережковский, назвать — назад, учиться — причины, ежедневно — движение, забылся — события, горизонта — нарисованный, и даже до рожна и — жеребенка). Перед нами тот самый случай, когда — и это при остром-то, до болезненности, чувстве словесной, звуковой плоти! — человеку не до слов, не до формы. У него более важные заботы — может быть, как совсем не парадоксально, не вполне ясные ему самому, но тревожащие постоянно, глубоко и сильно.
Он и не мог быть ровным.
Он идет напролом — поперек и помимо хоженых литературных дорог, поэтических и культурных условностей, его доходящая до наивности прямолинейность — во многом отсюда. Следы влияний, скорее невольных, у него, как мы заметили, есть, но почти нет ни сознательного внутрилитературного диалога, работы ли с традицией, спора ли с нею, ни стремления к ним, — кроме разве упоминания авторов, которых как раз заново открывали в его время, на рубеже восьмидесятых — девяностых, — сразу видно, он вполне разделил со своим временем конвенциональный круг чтения: «Уметь не нравиться — сегодня это кукиш, / а завтра Мандельштам, Платонов, Гроссман». (Мандельштам, кстати, один из тех, чьи дальние отголоски можно у него расслышать: «Да не хватает на улыбку кожи // примерно столько, сколько нужно на перчатку. / К тому ж улыбка — щель, расход тепла…» — Сразу же вспоминается: «У кого под перчаткой не хватит тепла, / чтоб объехать всю курву-Москву?» — Нет, не цитата. Даже не аллюзия. Именно что отголосок, отзвук — может быть, и неосознанный.)
Вообще же его спор и соперничество, как мы уже сказали, — с бытием вообще, с мирозданием, в котором человеку — в силу его собственного устройства — больно и трудно, с самой Вечностью:
И совесть стала небом — бесконечностью бессонниц,
в сравнении с которой Вечность — мелочь.
В целом это речь, куда более тяготеющая к предлитературности, чем, наверное, согласен был признать и принять сам автор. Пробивающаяся к ней сквозь литературность — которая, кажется, так и осталась несколько внешней Банникову: усвоенная (добросовестным, упрямым и неравномерным) усилием, она мешала, сковывала, и он то заковывал себя в нее, как в броню (в битве с Мирозданием), то норовил сбросить. Тем резче у него освобождающие выходы на поверхность речи разговорной, живого, своевольного и трудного сырья.
В нем как будто (не) уживаются несколько разных поэтов, которых объединяет, кажется, один только темперамент и постоянное, неукрощаемое внутреннее напряжение, беспокойство и бунт.
То, что быть может только целым — по частям
я узнаю, не приближаясь к целому ни чуточки.
Быть может, человек с того и начался,
когда придумал имена несуществующему.
Он оказался сильнее и сложнее себя самого; сильнее и сложнее инструментов, которыми пытался справиться с собой и с жизнью.
Начитанность и хтоника, культура и натура не успели срастись в нем в цельность. У него оказалось слишком мало времени на земле.
2020
Память-пространство: об укорененной универсальности
Александр Бараш. Образ жизни. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — (Новая поэзия)
Новая поэтическая книга русского израильтянина Александра Бараша, вобравшая в себя отчасти и стихи, входившие в его предыдущие сборники, упорно прочитывается еще и как акт антропологического мышления (и не отделимого от него антропологического чувствования): мышления о том, как устроена включенность человека в мир.
Поэзия Бараша вообще обнаруживает большое родство с его эссеистикой и, может быть, даже представляет собою ее разновидность — более интенсивную, концентрированную за счет, по меньшей мере, двух родовых признаков поэтического слова: ритмического компонента и необходимости сказать сразу многое на небольшом пространстве. Это последнее, кстати, не лишает слово Бараша его отличительных свойств — медленности и созерцательности, некоторой даже (нарочитой? показной?) рассудочности. Да, скорее всего, нарочитой: не меняя этого рассудочного тона, не повышая голоса, Бараш говорит и о том, что с трудом вмещается в слово и воображение.
Какая-то годовщина, они, сын и дочь, созваниваются,
каждый выкраивает пару часов посреди своих забот,
и приезжают на кладбище, на краю поселка под Иерусалимом <…>
Постояли у белой плиты на солнце, положили по камешку.
Поехали выпить кофе. Посидели, поговорили о детях, о делах…
Все бы ничего — только это о его собственных детях, пришедших на его собственную будущую могилу.
Кажется, только так — отстраненно до почти-равнодушия — невообразимое и позволяет о себе говорить, дается в руки слову. Но Бараш и вообще всегда, даже когда — особенно когда? — говорит о сиюминутном, смотрит немного с точки зрения вечности. Между ним и (тонко чувствуемым) настоящим — всегда заметная дистанция: заполняемая памятью. Причем, как мы видели, памятью не только о прошлом и не только собственной, но и той, которой только предстоит возникнуть в будущем — и уже непонятно, чьей. Памятью вообще.
У Бараша, и не только в этой книге, два главных направления поэтических и смысловых усилий. Это работа с памятью — не только с личной, но и с лично пережитой, включенной в собственный эмоциональный опыт памятью европейского еврейства — и работа с пространством. Впрочем, скорее всего, в случае Бараша это — одно и то же: память-пространство. Пространство он видит как форму памяти, как способ ее собирания и проживания. Это — тот случай, когда осмысление себя и своей человеческой общности — субъективное, пристрастное, избирательное — оборачивается способом понимания мира вообще, а узнавание разных частей этого мира — способом самопрояснения, и одно без другого (если вообще мыслимо) в принципе неполно. Не прочитаешь через себя — вообще по-настоящему не прочитаешь: искра понимания проскакивает только тогда, когда сближаются расхожее общее — и предельно частное. Вот он читает Рим:
Мимо Арки Тита тянется толпа пленников
имперского мифа, как мимо мумии Ленина,
когда нас принимали в пионеры. Там
была инициация лояльности империи, тут —
инициация принадлежности этой культуре.
В первый раз я оказался здесь
четверть века назад, в прошлом столетии,
в потоке беглых рабов из Советского Союза.
С тех пор времена изменились, а Рим нет…
Он не очаровывается. Он медитативно-аналитичен.
Тибр не столь монументален, как
история его упоминаний. Неширок, неглубок,
вода непрозрачна… Впрочем, может быть,
это символ мутного потока истории?
Аутентично мутен.
(В какой-то момент может показаться, что для взгляда этого типа, с высоты этого птичьего полета вообще нет крупного и значительного: и Тибр «не столь монументален», и сам Рим — изветшавшие декорации очередного ритуала. Но все гораздо сложнее — существенное тут иначе распределено. Оно помещено в обыденные предметы и события не в меньшей, а то, пожалуй, и в большей степени, чем в какую-нибудь арку Тита — просто уже потому, что они живые, наполненные пристрастным и сиюминутным человеческим участием.)
А вот какой, лишь по видимости неожиданной, стороной оборачивается к нему сам вечный, соприкасающийся с небом Иерусалим, по которому автор, в режиме ежедневного пешего диалога с городом, идет с собакой:
<…> В целом квартал, построенный в 30-е годы
прошлого века, напоминает Малаховку того же
времени — то есть, собственно, то время.
Его дух держится в этих домах и садах, будто
в пустой бутылке из-под хорошего алкоголя.
Бараш умеет видеть все собравшиеся в пространстве времена сразу, одним взглядом.
«Скорее всего, внимательность к деталям, — замечает он в стихотворении с программным, самопроясняющим названием Homo transitus, — вызвана отсутствием связи с ними.» Вполне вероятно, но в случае самого автора все точно сложнее. Его внимание к деталям, сама тщательно культивируемая дистанция между ними и собой — вид его связи с наблюдаемым.
Тип человеческой позиции, который культивирует Бараш, очень близок к гражданству мира (причем не только в пространстве, но и во времени). Однако это — своеобразно устроенное мировое гражданство. Прежде всего прочего, оно — сложнее, прихотливее, неравномернее, чем сразу же приходящая на ум всепринадлежность и универсальность. Мировое гражданство в случае Бараша внятно структурировано, имеет свой рельеф предпочтений и вполне четко очерченные границы. Кроме того, если это и универсальность, то особенная: укорененная. При всей дистанцированности ему остро необходим компонент почти телесно переживаемого родства с определенными участками пространства и истории. «В прямом, „физическом“ смысле». Это сильнее, убедительнее всех мыслимых очарований Большими Константами мировой истории вроде того же Рима.
<…> Но вдобавок обнаружилось, — ошеломительно, как
разблокированное воспоминание — насколько это
еще одна родина, в прямом, «физическом» смысле.
Я не искал здесь идентификации — она нашла меня.
Очаг ашкеназийских евреев — да, но чтобы
любая стена очередной еврейской улочки — будто
коврик с озером и горами над кроватью в детстве?
Ощущение родства — как с украинскими местечками
и русским языком.
Так пишет Бараш о долине Рейна — в отношениях с которой этому личному родству существенно уступают в значимости традиционные туристские впечатления, адресованные и заметные каждому:
<…> ощерившиеся челюсти
замков, коты в сапогах на мотоциклах,
в байкерской черной коже… Мир братьев Гримм,
средневековья в обложке немецкого романтизма.
В целом получается примерно так: Бараш (или герой-повествователь его стихотворений, но, похоже, этот повествователь все-таки тождествен автору, и стихи здесь — именно личные высказывания, почти дневниковые записи — хроника широко понятого пути, травелог, итинерарий, — так действительно назывался один из предыдущих сборников поэта, частично представленный и в этой книге) воспринимает себя как гражданина распахнутого миру Средиземноморья. Причем миру, предпочтительно, западному, европейскому (земель и народов, расположенных восточнее пределов Израиля, в пространстве внимания Бараша нет), с особенным всматриванием в его античные корни, в позднеантичную завязь нынешнего мира. Вот в этих пределах — да, границы для автора проницаемы вплоть до исчезновения: как географические, так и временные.
Средневековая Европа, кельтские мифы — еще две
родины. Сколько их может быть? Как же мы, бедные,
богаты. Выбирай, что хочешь.
(Правда, из сказанного уже ясно: «что хочешь» — не выберешь, оно выберет тебя само.)
Все то же, одно из ключевых здесь, стихотворение о долине Рейна.
Но главное, думаю, — все-таки средиземноморство. Вот третье, родственное первым двум, направление усилий Бараша: работа со средиземноморским, израильским опытом. Не только с историческим, — важнее, глубже (так и хочется сказать — универсальнее, споря с локальностью, даже точечностью такого опыта): с чувственным, тактильным, эмоциональным. Он систематически делает его событием и формой русского слова.
И это относится не только к его переводам из современной ивритской поэзии — которым Бараш посвящает много усилий и которые в этой, довольно небольшой книге составляют почти половину ее объема: Йегуда Амихай, Дан Пагис, Давид Фогель, Давид Авидан, Натан Зах, Майя Бежерано, Меир Визельтир. (Шесть лет назад, кстати, Бараш издал целый сборник поэтических переводов с иврита под названием «Экология Иерусалима», и продолжает выкладывать новые переводы на Фейсбуке.) Это и смысл — один из важных смыслов — его собственной работы. Израильская земля обладает таким особенным свойством, что расширяет его поэтическое зрение до вечности, позволяет видеть вечность сквозь все прожитые здесь времена.
И облака в зените —
зеркальные следы
всех нас кто шел сквозь эти
висячие сады, —
видит он с иерусалимской улицы Эмек Рефаим — Долины Великанов.
Но у Бараша есть и случаи куда более сложноустроенного зрения. Вот стихотворение-карта Тель-Авива — слепок с «умышленного города, кишащего жизнью», подробный, с последовательной сменой ракурсов, дающей возможность наблюдать весь диапазон свойственных автору типов взгляда, от широко-панорамных до сосредоточенных на единственной детали. Удивительным образом Бараш умудряется сохранять свою аналитичную, исчисляющую дистанцию даже в отношениях с тем, во что он, на самом-то деле, очень вовлечен эмоционально, — а в израильскую жизнь, предмет его пристального внимания, он вовлечен именно так. Он оглядывает жизнь своей страны с высоты полета мысли над временами, видит далеко и на восток, и на запад, и в прошлое, и в будущее, — с такой, не совсем уже человеческой, высоты, с которой его современники вместе с ним самим видятся «лишь эпизодами», — не переставая притом принадлежать этой жизни, быть ее частью:
Современный город равен по территории
государству античного мира,
исторической области средневековья,
помойке-могильнику будущих веков.
И Тель-Авив соединяет эти качества
со свойственным Средиземноморью эксгибиционизмом.
С запада — нильский песок морского побережья,
где филистимляне, евреи и греки — лишь эпизоды,
не говоря уже о крестоносцах и турках. С востока —
тростниковые топи Долины Сауронской…
Проживание израильской жизни — на всех ее уровнях, вплоть до смыслоносной повседневности, особенно вплоть до нее — русскими языковыми средствами оказывается отчасти и созданием таких средств. Вращиванием ее в русскую словесную память — и тем самым существенным расширением этой последней.
2017
Не думайте о рыбах
Вилен Барский. Конкретная поэзия. Почти всё. — Киев: УПП, 2018
Вскоре после того, как Вилен Барский (1930–2012) умер в Дортмунде, поэт Сергей Бирюков в кратком некрологе ему писал: «…все более остро ощущается отсутствие полноценного собрания произведений оригинального поэта и художника».
Действительно, вплоть до сборника, изданного в Киеве поздней весной 2018 года, такого собрания у Барского не было. Он вообще печатался редко, в том числе и в Германии — за пределами родной ему языковой среды, — где жил с 1981 года. Кстати, публиковаться он начал в том же году — незадолго до выезда, сразу за границей, в парижском журнале «Ковчег» (от попыток печататься в официальной советской прессе он, проницательный и категоричный как немногие из его современников, отказался еще в конце 1940-х! — будучи уверен, что это противоречит главному условию поэзии: свободе). В России он долгое время просто не был известен, но эта ситуация несколько изменилась с тех пор, как его стихотворения вошли в несколько знаковых антологий: «У Голубой лагуны», «Самиздат века», «Русские стихи 1950–2000 годов», «Освобожденный Улисс»… То есть, непрочитанным Барского-поэта назвать уже вроде бы нельзя. Но (почти) неотрефлексированным — точно можно: написано о нем, во всяком случае по-русски, исчезающе мало. Как по-украински — не знаю; во всяком случае, когда в 2010 году, к восьмидесятилетию Барского, на сайте Art Ukraine вышло интервью с ним, в предисловии говорилось, что и в Украине его — «классика, которого стыдно не знать», — к тому времени вспоминали все реже.
Между тем, он — соединявший разные типы художественного мышления и действия, открывавший ходы в неосвоенное — был в числе ключевых фигур украинской художественной жизни второй половины XX века; одним из тех, кто создавал неофициальную культуру 1960–1970-х. Художник по образованию и роду основной деятельности (живописец и график), поэт по типу работы со словом… Впрочем, в случае Барского, человека с принципиально объемным восприятием, междисциплинарные перегородки очень условны — и весьма проницаемы. Среди тех, кто повлиял на его видение мира вообще и искусства в частности, Барский называл не только художников — Пауля Клее, Жана Дюбюффе, Марселя Дюшана, Курта Швиттерса — хотя они были для него «очень важны», — но и композиторов: Джона Кейджа, Пьера Булёза, Оливье Мессиана, минималистов — Мортона Фелдмана «и других» и нового — для времен его молодости — джаза («В 1960 г. слушание записей Орнетта Колмэна, — вспоминал он, — было для меня так же важно и необходимо, как если бы я сам был музыкантом, но это помогало-то мне не играть на саксофоне, а писать и рисовать»); французских философов — «структуралистов, постструктуралистов, деконструктивистов». Все — нарушители прежних границ, искатели новых путей восприятия. Он и сам был такой — и искал путей взаимооплодотворения разных видов искусства, включая и те, в которых сам не работал, но к которым был внимателен и восприимчив.
Он вообще был чуток к ограниченности, исчерпываемости заданных культурой форм — любых! — и искал из них выходы: в вошедшем в сборник вместе с циклом «тирады» собственном послесловии к этому циклу (1993) Барский признается, что уже в «самый разгар» своего увлечения визуальной поэзией, во второй половине 1970-х, стал чувствовать «усталость от чистоты жанра» и его «начинающуюся исчерпываемость». Еще с 1970-х, когда основная масса наших сограждан и в глаза не видела электронных вычислительных машин, он интересовался возможностями компьютера — с разных сторон сразу: и как «новым могущественным средством коммуникации, активно воздействующим, наряду с телевидением, на современную жизнь», и как «одним из новых мифов нашего времени», — но интересовался, так сказать, художественно-практически: искал «такую визуальную метафору, такой поэтический код», которые помогли бы ему выразить его личное отношение к связанным с этим проблемам, оставаясь притом «органичной частью текста». Уже в 1970-х он брал тогдашние компьютерные программы за образец для построения — на пишущей машинке — своих визуальных текстов.
Живя в Германии, без «непосредственных контактов» «с русскоязычным миром, а тем более с культурой русской» («т.к. русских тут почти нет»), он до конца дней писал по-русски, чувствуя себя притом, видимо, человеком межкультурным и надкультурным (по-немецки, как ни удивительно, — интересуясь работой немецких коллег — не говорил!), а если все-таки очень надо было говорить об идентичности, тогда — несмотря на тридцать лет эмиграции — «старым киевлянином». Он, кстати, многое сделал для наведения мостов между разными культурами, культурными областями, символическими общностями. В свой киевский период объединял вокруг себя «людей искусства в широком смысле», причем художников — в меньшей степени, по большей же части — поэтов, прозаиков, композиторов, философов, искусствоведов, вообще — всякого рода гуманитариев: создавал среду. (Кстати, в 1960-х он познакомил киевлян с поэзией Геннадия Айги, с которым дружил, в котором уже тогда разглядел «один из немногих истинных фактов современной русской поэзии», и Киев, где сложился круг внимательных читателей чувашского поэта, стал, по позднейшим воспоминаниям Барского, для Айги «даже опорой», тогда как «москвичи многие недолюбливали его поэзию, поэзию „какого-то чуваша, не только пишущего, но и говорящего-то по-русски не вполне правильно“»). Вообще, кажется, «мост» был одной из важных метафор понимания им самого себя и своего поколения: «Наше поколение, — рассказывал он в 1983 году Константину Кузьминскому, — было мостом в западную культуру, в русскую культуру и искусство первой трети нашего века. Думаю, что это и была роль, отпущенная нам Богом. Восстановить связь, но не рухнуть в пропасть, как герой притчи Кафки „Мост“. Это была наша жизнь: осознать себя — то, что ты делаешь в искусстве — в ряду живой культуры, в ряду ее истинных ценностей». Ища общих языков разным искусствам и культурным состояниям, он был переводчиком и в прямом смысле: вместе с женой, Ольгой Денисовой, полностью перевел «Иллюминации» и «Сезон в аду» Артюра Рембо, переводил польскую поэзию XX века — и Хорхе Луиса Борхеса, просто «с листа», «друзьям» — «моду» на Борхеса он создал в Киеве задолго до того, как (в начале 1980-х) появились первые официальные издания, во второй половине 1960-х. В нем и самом явно было нечто борхесовское, что он, кстати, охотно признавал, говоря, что Борхес повлиял на его «внутренний климат».
Он вообще — страшно интересная фигура, которая должна быть проанализирована в своей цельности и в своих многоуровневых, пересекающихся и сливающихся друг с другом связях с европейской культурой своего столетия.
Но помимо всего прочего, в формах всего прочего, с привлечением всего прочего как (собранных в единый комплекс) инструментов Барский был мыслитель (автор короткого предисловия к сборнику, Стас Михновский, в этом смысле совершенно точен. Только он назвал Барского «авангардным мыслителем», но это уточнение — оно же и сужение — видится совершенно лишним: все-таки, либо мыслитель — либо нет. Остальное не так важно).
Он мыслил — и высказывался — об устройстве мира и человеческого восприятия уже самим графическим обликом своих текстов, их структурами (любопытно в этом смысле название небольшой книги его визуальных текстов, вышедшей в 1983 году в Германии, в издательстве Зигенского университета, в серии «Экспериментальные тексты»: «СЛОВА являются мыслят звучат». Задумывался об этом автор или нет, сам порядок слов в этом названии позволяет увидеть, как устроено его представление о слове: прежде всего, оно «является» в чувственно — зрительно? — воспринимаемом облике, потом — мыслят и уж только в третью очередь — звучат. Могут и не звучать, хотя некоторые свои визуальные тексты Барский читал вслух). Его визуальная поэзия, или графопоэзия — изобразительное и словесное искусство одновременно и неразделимо. В маленький — чуть больше полутора сотен страниц — сборничек уместилось действительно «почти все», что Барский успел сделать в словесности, а более того — в пограничной области между словесностью и визуальностью, в разных зонах этой, на самом деле, растянутой, разнородной области: верлибр, «стихотворения в прозе» (так он называл свои «тирады», соглашаясь, впрочем, и на то, чтобы называть их просто «стихами»), «маленькие трагедии» (тексты, имеющие структуру пьес, только действительно маленькие), две одноактные пьесы в полном смысле слова — «Чистая совесть» и «Пушкин, Моцарт и Сальери», и конкретная и визуальная поэзия (эти последние были для Барского, кажется, вполне синонимичны: он так и писал: «…занимался экспериментами в области конкретной (визуальной) поэзии»). А также — приложением — и нетекстовая графика, чтобы читатель мог почувствовать ее родство с графикой текстовой. Та «просто лирика», которую Барский, по собственному признанию, писал до начала своих визуальных экспериментов, в сборник не вошла.
(Еще он писал эссеистику, которая, за исключением очень насыщенного предисловия к «тирадам» и комментария к циклу «зарезервированные слова», в книгу тоже не вошла, — а вот бы почитать, притом именно собранную вместе.)
Включены же сюда стихи начиная с 1958 года, к которому (или к концу 1957-го — сам автор точно не помнил) относится первое визуальное стихотворение «Огурец» — сочиненное еще до того, как в Советском Союзе вообще узнали о том, что такая поэзия существует. Барский об этом явно не знал (узнал только в шестидесятых). Зато он хорошо знал искусство русского футуризма, который и стал для него «одним из вдохновляющих импульсов» — как, впрочем, и для первых конкретистов, начинавших, кстати, точно тогда же (их «первый основополагающий манифест», «Программа конкретной поэзии», появился в 1958 году!). Барский просто рос из того же корня — собственными путями, следуя общей логике художественного чувства своего века.
С одной стороны, он наблюдал за тем, какие зримые облики способно принимать слово — не сводясь к чистому орнаменту, но сохраняя свою словесную природу. Телесный облик слова, его «визуальная знаковость» и семантическая его сторона были для Барского значимы в равной степени. С другой — он был внимателен к рифмам и ритмам, воспринимаемым зрительно, к «орнаментальности структуры». К тому, как слово заглядывает за пределы самого себя — или расширяет эти пределы; как «визуальная структура порождает эстетику», устраивая самому автору «неожиданности», ведущие «свою, независимую от нас, игру» и как вообще незаметно пересекаются в обе стороны границы между серьезной художественной работой и игрой — причем эта последняя, особенно когда речь шла об игре орнаментальной», была для него «глубоко содержательной». На самом-то деле он относился к искусству (как, впрочем, и к игре — называя своей основной темой «жизнь и смерть в свете игры двух начал — природного и культурного») со всей серьезностью, свойственной высокому модернизму, к которому, конечно, всецело принадлежал и который старался укоренять на каменистой советской почве, видел в нем дело едва ли не сакральное, практику сродни религиозной: «самораскрытие правды». Он явно без симпатии относился к размыванию современным искусством «иерархий» и признавался в том, что ему все-таки близок тип «героического художника», бравшего высоты «духовные и интеллектуальные» (к этому типу, соглашаясь, что он ушел в прошлое, Барский относил не только Малевича и Пикассо, но и Марселя Дюшана и даже Энди Уорхола). «Воистину, — писал он в предисловии к «тирадам», — поэт может оправдать себя лишь стихами и готов делать это без конца».
Работа-игра со структурами текста была для него осмыслением структур самого бытия.
Его тексты надо видеть, следовать глазом за их формами. Притом именно в том облике, в каком они создавались, с сохранением всех подробностей — тут важно все, вплоть до пробелов (каждый — «маленькое визуальное событие, момент игры, явление белого»), до их размера, которым, по словам самого автора, задавался характер пауз при возможном чтении (адресуясь глазу, эти слова постоянно помнят, оказывается, о своей звуковой природе). Не исключаю, что особенности шрифта тоже имеют значение. В сборнике они так и воспроизведены: просто сосканированы машинопись — живая, вместе с рукописной авторской правкой, — рукописи и рукописная графика — ручное письмо печатными буквами. (При чтении всего этого теперь в восприятии включается еще одно измерение, которое современникам еще не было ни заметно, ни особенно интересно: и эта машинопись, и, особенно, — следы пишущей руки дают возможность почувствовать телесную фактуру времени, пластику и ритмику его материальной среды. Схлопывается время.)
Очень возможно, в русском литературном сознании до сих пор не было целостного образа Барского-поэта, характера и результатов проделанной им культурной работы. Теперь будет. По крайней мере, уже есть все основания к тому, чтобы он начал складываться — и над ним можно было думать.
А огурец, с которого все началось, — между прочим, кривой, укорененный в земле и облепленный ею, в колючих пупырышках. Хрустящий, если разгрызть. Настоящий.
овощ обдумывает как вести себя в хорошем обществе
и вот что еще говорю я вам недумайте не думайтене
думайтене
о рыбах
2018
Заряжай — поехали!
Вряд ли СашБаш был бы обрадован, услышав, что его стихи читаются и сами по себе, без музыки, голоса и — самое, наверно, главное — помимо его магнетического личного присутствия. Музыка была насущно необходима его слову, она усиливала, катализировала его. О магнетизме же его присутствия, о завораживающей, шаманской силе воздействия Башлачёва на аудиторию свидетельствует едва ли не каждый, кто вспоминает об этом вообще. Кстати, в полной мере не передают этого и видеозаписи, — все съемки, которые сохранились, — довольно посредственного качества. Самое сильное — вживую. Здесь и сейчас, в первый и в последний раз. Из всех инструментов, которыми Башлачёв владел с виртуозностью (а он играл, между прочим, даже на двуручной пиле), самым мощным был именно этот, неповторимый, невосстановимый: личное присутствие, сиюминутный контакт с аудиторией. Недаром он категорически отказывался петь в студии, на запись — «для магнитофона», «в пустоту»: непременно требовались слушатели, их внимание, их реакция (звукорежиссеру оставалось только подчиниться: иначе события поэзии не будет). Да у Башлачёва вообще все работало на это, всякий раз единственное, событие: «Многие околотекстовые элементы, — как выразился ученым языком один исследователь, — у него являются контактоустанавливающими высказываниями». Если же непременно требовалось как-то обозначить свою культурную нишу (занимали ли его, безместного бродягу, такие вопросы в принципе? — ну, собеседников они, во всяком случае, иногда занимали), он говорил: «…Я человек поющий.
Есть человек поющий, рисующий, есть человек летающий, есть плавающий… А я — поющий, с гитарой». И тут же объяснял: «Я, конечно, пою для себя, это помогает мне жить, это делает меня, я расту.»
Это форма жизни, значит, такая. Может быть, даже не совсем искусство, высовывается за его пределы. Он вообще был принципиальным нарушителем границ. Непонятно даже, в какую «рубрику» его вписать.
Рок-поэзия ли это? Рок-движение приняло Башлачёва сразу же, как только его песни только появились, и более того, многому у него, писавшего и певшего совсем недолго, научилось. И Константин Кинчев, и Юрий Шевчук, и Виктор Цой, и Егор Летов, и Дмитрий Ревякин, и «Аквариум» девяностых, и кто еще не припоминается теперь с ходу, — все они так или иначе вышли из Башлачёва, и тексты его, и ритмы, и образы, и метафоры, и интонации присутствуют у них на разных уровнях — от формообразующего влияния, «эстетических образцов» до прямого цитирования. «Быть может, и „Поезд в огне“ „Аквариума“, и „Настало время менять“ „Алисы“, и „Мы ждем перемен“ „Кино“, и „Круговая порука“ „Наутилуса Помпилиуса“, и „Конвейер“ „ДДТ“, и череда альбомов „Гражданской обороны“, — писал Роман Сенчин, — вышли из тех ранних песен Башлачёва.» А Янка Дягилева — и вовсе прямой его продолжатель, взявшая огонь буквально у него из рук. Он задал своим последователям образы, в которых переживается, описывается, выговаривается мир — и, таким образом, само понимание и чувство мира.
И уж не вслед ли за ним — по словам того же Сенчина — почти все рок-группы в свое время «пережили „русский“, „былинный“ период своего творчества»?
Что до его собственных отношений с рок-поэзией, то исследователь Алексей Николаев прямо назвал творчество Башлачёва «преодолением» ее «важнейших законов».
Кстати, вот фольклор. А почему бы и не фольклор, в конце концов? Правда, такой персонифицированный, сгустившийся в одном человеке, вырывающийся через него наружу, — со всеми своими узнаваемыми образами: дороги, коня, птицы-тройки, метели, со всеми первородными, хтоническими силами…. Он «расколдовал, — говорила о нем, как рассказывают, Марина Кулакова, — спящий русский фольклор». Правда, Башлачёва ни в одну жанровую, вообще — нормативную лунку не уложишь: в «Ванюше», скажем, — в одном из самых главных, знаковых башлачёвских текстов — узнаются сразу и частушки, и баллада, и песня, и в самом прямом смысле стихи, в которых, несмотря на явную фольклорность лексики и ритмов (благодаря им — благодаря виртуозному владению ими — узнается скорее поэтическая практика первой половины прошлого века. Чем, например, не Марина Цветаева (тоже многое взявшая от фольклора, чуткая к его слово- и ритмообразующим силам)?
Танцуй от печки! Ходи вприсядку!
Рвани уздечки! И душу — в пятку.
Кто жив, тот знает. Такое дело.
Душа гуляет — заносит тело.
А перепад ритмов, стихотворных размеров, скоростей в пределах одного текста (того же «Ванюши»)? Так в «настоящем» фольклоре не бывает, а у Башлачёва бывает еще и не то. Не говоря уж о чисто романтическом, позднем противопоставлении героя суетному окружающему миру, которого, конечно, нет в фольклоре.
Авторская ли песня? Ведь явно же, отчетливо-авторская, резко-индивидуальная: настолько, что попробуйте-ка петь Башлачёва хором в застолье — ничего не выйдет. Никто, кажется, и не пытается. Галича — можно, Визбора — легко, Высоцкого — у которого, между прочим, Башлачёв взял очень многое, вплоть до отдельных черт исполнительской манеры, чуть ли не до интонационных цитат, до самой степени напряжения (у Башлачёва оно, пожалуй, иной раз еще и повыше) — тем не менее Высоцкого тоже вполне можно, Окуджаву — сколько угодно, а его — нет. Он сопротивляется. Одинокий единственный голос. Может быть, это и вообще-то не песни, не совсем песни: это такая речь — особенная, ритмичная, идущая вслед за мелодией, за сцепками слов, за биением сердца, за дыханием…
Да не вписывается он в ваши «рубрики».
И все-таки он был именно поэтом. Вот это совершенно несомненно. Музыка его в отрыве от слов существовать не смогла бы — об этом свидетельствуют люди, понимающие в музыке поболее автора этих строк. Александр Градский, признавая, что Башлачёв «хороший поэт, прекрасно знающий русскую речь», с явно избыточной категоричностью, характерной для него, добавляет: «То, что ему понадобилось на гитаре себе аккомпанировать, что он никогда не умел делать и музыка его ни в какие ворота не лезла и не может называться музыкой — так это Сашины проблемы. В конце концов Есенин исполнял свои песни под гитару, Клюев под гармошку, Рубцов под баян. Многие стихи русских поэтов стали основами романсов. Это вполне нормально. <…> Стихи хорошие, а с музыкой и исполнением беда. При прочтении его стихи мне были более понятны, чем когда он их исполнял под гитару. Порой он так прикрикивал и верещал, что терялась половина слов и смысла. Я предложил ему поработать над аккомпанементом и артикуляцией, если он собирается исполнять свои песни и дальше».
Но факт есть факт: стихи — освобожденные от всех, таких важных для автора, несловесных контекстов, — читаются.
Правда, поэтом он был в смысле, очень близком к изначальному, архаическому. Он — человек того самого синкретического праискусства, в котором слово не слишком отличало себя от предсловесных восклицаний и жило неотделимо от голоса, музыки, жестов… Человек действа, из которого потом, разделившись, вышли все искусства, само же оно делалось уж точно не для красоты и забавы. Оно создавало и поддерживало мир, сражалось с небытием, а поэт был близок шаману, магу, демиургу и имел дело с мирообразующими — страшными, разрушительными — силами. Был медиумом. Общался с мертвыми и духами.
Сравнения, с одной стороны, с ёрником-скоморохом (с которым у обвешанного колокольчиками Башлачёва было даже внешнее сходство), с другой — с первопоэтом-шаманом всерьез приходят на ум опять-таки едва ли не всем, слышавшим его вживую. Во время пения — экстатической практики — он бредил, камлал, входил в измененное состояние сознания и тела. Он раздирал пальцы в кровь о струны и не чувствовал боли.
«Вот он играет, — вспоминает Рашид Нугманов, — и у него кровь брызжет на гитару. У него двенадцатиструнка, и он не обращает внимания на кончики своих пальцев. Просто кровь брызжет на гитару. Эта гитара, с которой его положили в могилу, вся забрызгана кровью. Это транс.» «По сути, — говорит другой автор, Радиф Кашапов, — это была месса при участии слушателей.» «Это не музыка, — настаивает он, — это скорее обряд вхождения.» «Длиннейшие песни „Егоркина былина“ и „Ванюша“, — полагает Кашапов, — <…> можно классифицировать как наговоры.» «Он воет юродивым пророком в песне „Имя Имен“, — подтверждает Лидия Дмитриевская, — требует, умоляет, клянет, клянется, заклинает, бросает вызов» в «Вечном посте», «Тесте», «Пляши в огне».
«Это съедало людей заживо», — признается Артемий Троицкий.
Совершенно неспроста, как пишет Ирина Минералова, «многие его произведения и для него самого, и для молодого поколения имеют „инициационный“ смысл. <…> эти песни-стихи обладают „ядерной“ <…> энергией, которая „обещает“ дать новую суть жизни».
О да, он именно об этом: о сути жизни. И у слова «инициация» смысл тут должен быть совсем не метафорический.
Мировосприятие Башлачёва — чистая мифология. С классическими дихотомиями земли / неба, верхнего / нижнего и высокого / низкого, чистого / грязного, света / тьмы, космоса / хаоса, добра / зла, жизни / смерти. В точности как в мифе, у него все — живое, вплоть до, например, ленинградской блокады («Слизнула языком шершавая блокада»). Герой (всегда так или иначе «лирический», то есть — представляющий автора) — непременно жертвенная фигура. Но к жертвенности он никак не сводится — он непременно входит в непосредственный контакт с мирообразующими силами, со стихиями, первоэлементами («Как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке»). Не всегда конфликтный, не всегда вызов: то есть, этот контакт может быть и обживающим — все мироздание — дом, потому что человек соразмерен мирозданию: «Мы можем заняться любовью на одной из белых крыш. / А если встать в полный рост, / То можно это сделать на одной из звезд». Но он может быть и бунтом: «Сорвать с неба звезды пречистой рукою». Человек — одно из первоначал мира, собеседник, равный стихиям. Но он — по определению трагическая фигура, потому что уязвим и обречен, он смертен, в отличие от своих партнеров по взаимодействию, и сознает свою смертность: «Мы сгорим на экранах из синего льда».
Причем мифологичен Башлачёв чем дальше, тем больше. Начинал он с текстов довольно простых и прозрачных (многое из написанного до 1983 года, а может быть, и что-то из написанного позже, он добровольно уничтожил, но судить о раннем Башлачёве можно, например, по текстам, писавшимся им для череповецкой группы «Рок-сентябрь»).
И вдруг с ним что-то случилось: он стал другим — известным нам самим собой — как-то сразу. Он вообще, по свидетельству Артемия Троицкого, только «в мае 84-го, во время II Ленинградского рок-фестиваля, купил гитару и стал учиться на ней играть…».
Первая песня, которую он написал, — сразу ключевая, во всем, начиная с названия: «Черные дыры». Еще очень ясная в своей прямолинейности, — чистый «Рок-сентябрь»:
Хорошие парни, но с ними не по пути.
Нет смысла идти, если главное — не упасть.
Я знаю, что я никогда не смогу найти
Все то, что, наверное, можно
легко украсть. Но я с малых лет не умею стоять
в строю. Меня слепит солнце, когда я смотрю
на флаг. И мне надоело протягивать вам свою
Открытую руку, чтоб снова пожать кулак.
Так и представляешь это спетым голосом Виктора Цоя. Но Башлачёв рос в другую сторону.
Сравним с темным, не поддающимся однозначному переводу на язык здравого смысла текстом 1986 года:
Забудь, что будет,
И в ручей мой наудачу брось пятак,
Когда мы вместе —
Все наши вести в том, что есть.
Мы можем многое не так.
Небеса в решете,
Роса на липовом листе
И все русалки о серебряном хвосте
Ведут по кругу нашу честь.
А рос СашБаш стремительно: почти все значительное, что он сделал, возникло с середины 1984-го до весны 1986-го. Затем наступил мучительный, непонятный для него самого, неподвластный ему самому период немоты, в который он не написал почти ничего (в последний год — магическое «Имя имен», «Вечный пост», «Пляши в огне», «Архипелаг гуляк», от которого не осталось даже слов, и «Когда мы вдвоем»), оборвавшийся его смертью.
Я проклят собой.
Осиновым колом — в живое.
Живое восстало в груди —
Все в царапинах да в бубенцах.
Имеющий душу — да дышит.
Гори — не губи…
Сожженной губой я шепчу.
Что, мол, я сгоряча, я в сердцах —
А в сердцах-то я весь!
И каждое бьется об лед.
Но поет.
Так любое бери и люби.
Не держись моя жизнь —
Смертью вряд ли измерить.
И я пропаду ни за грош.
Потому что и мне ближе к телу сума.
Так проще знать честь
И мне пора —
Мне пора уходить следом песни, которой ты веришь.
Увидимся утром.
Тогда ты поймешь все сама.
Это из песни «Когда мы вдвоем», которая, кажется, может претендовать на статус последней.
В эти неполные два года Башлачёв перерастал иронию, которой хватало в его ранних текстах, преодолевал привязки к бытовым, социальным, политическим реалиям. (Например, сатирические песни «Подвиг разведчика» и «Слет-симпозиум» он в 1985-м исполнять почти перестал). «Надоело ерничество.… — говорил он, по воспоминаниям Александра Градского. — Глупость это всё.» Он становился все серьезнее и трагичнее. Его все больше влекла магия слов, их фактура и плоть, их корни, их собственные смыслоносные возможности, игра-всерьез с ними, звукопись и глоссолалия, неявные связи и соответствия. Слово его становилось все темнее и плотнее, превращаясь в скоропись духа, стремясь если и не выговорить неизреченное, то хотя бы коснуться его. Он, пишет Радиф Кашапов, «шел к первому протоязыку». Он дорастал до речи об основах мира — прямым путем к которым были слова обычной — а особенно поэтической — речи, плавившиеся у него в руках от жара. С помощью фольклорных ритмов и образов — бывших у него не орнаментом, но самой структурой — он нащупывал выход: сквозь несовершенную оболочку мира — к доличностному, к тому, что кажется архаическим, а на самом деле всевременно.
«Эволюция Башлачёва, — пишет один исследователь, — это путь от рационального предмета и слова к иррациональному (абсолютному) предмету и слову. В семиотическом аспекте — от конвенционального знака, аллегории и метафоры, к символу и мифу.» Можно сказать прямее: в нем открывались глубинные источники.
Да, новообретаемое видение его захлестывало; он едва за этим поспевал. «…когда Башлачёв писал тексты, — вспоминают знавшие его, — он часто даже не прописывал слова, писал только начальные буквы, поэтическая стихия рвалась из него сплошным потоком, СашБаш только направлял ее в русло ритма.» «Башлачёв говорил, — подтверждает тот же Градский, — что песни буквально „осеняли“ его, да так внезапно подчас, что он едва успевал их записывать на бумагу. Более того: смысл некоторых образов, метафор, аллегорий бывал ему самому не сразу понятен — и он продолжал расшифровывать их для себя спустя месяцы после написания.» Но чем он точно не был, так это чистым пассивным бессознательным медиумом. Даже если он не вполне понимал, что делал, то старался отдавать себе в этом отчет, управлять по крайней мере словесной оболочкой происходящего: по словам дружившей с ним Татьяны Щербины, «Башлачёв десятки раз переписывал отдельные строки и подбирал слова».
Конечно, слова «бунт» и «протест», которые первыми просятся на язык при разговоре о Башлачёве, не лишены оснований, — недаром рок-культура немедленно приняла Башлачёва как своего. «Ощущение удушья, тесноты, обреченности», сквозящие в каждой строке «Мертвого сезона», «Рыбного дня», «Минуты молчания», «Сегодняшний день ничего не меняет…», «Палаты №6», «Черных дыр»…, Роман Сенчин прямо связывает с протестными настроениями молодежи, которая «томилась и перекипала в атмосфере 84-го года», то есть с вещами чисто социального порядка.
О да, бунт и протест многое у него определяют. Только они — существенно шире социального.
Социальное — и вполне прямолинейное — у него, разумеется, есть («Плюю в лицо слуге по имени народ» («Палата №6»), («Мы строили замок / а выстроили сортир» («Черные дыры»)). И вообще, как пишет Илья Смирнов, «на темы политики он высказывался откровеннее, чем большинство соратников (чем <…> БГ, Майк, Кинчев и др.)». Но социальный бунт и протест у Башлачёва — лишь часть этического, антропологического и, в конечном счете, онтологического. Он сам прямо об этом высказался в песне «Случай в Сибири», в которой собеседник героя-повествователя усматривает в нем диссидента:
— Как трудно нам — тебе и мне, — шептал он, —
Жить в такой стране и при социализме.
Эта интерпретация немедленно показалась герою отвратительной и унизительной:
Он истину топил в говне, за клизмой ставил клизму…
и даже оскорблением святынь:
Мне было стыдно, что я пел. За то, что он так понял.
Что смог дорисовать рога,
Что смог дорисовать рога он на моей иконе.
Икона тут неспроста (такая образность у Башлачёва вообще очень настойчивая). В своей поэтической работе он всерьез видел священнодействие.
Бунт и протест у него — с самого начала, еще с тех пор, когда они были как будто вполне социальными — вызывал прежде всего дефицит смысла здесь-и-сейчас («Нет смысла идти, если главное — не упасть», «Не знаю, зачем / Иду по земле» — и именно поэтому «Мне будет легко улетать»), притом смысла не то что понятого, но прочувствованного как нехватка контакта с высшим источником бытия, недостаточность этого контакта («век жуем матюги с молитвою», «нам не отлили колокол», «нам разломали колокол» — и только поэтому «здесь — время колокольчиков», а надо бы — колокола). И эта нехватка смысла переживается как боль («люблю от того, что болит»); как недостаточность насущного, недостаточность самого бытия:
Мы хотим пить. Но в колодцах замерзла вода.
Черные, черные дыры. Из них не напиться.
Земная жизнь скудеет и распадается без высшего смысла:
Купола растеряли золото.
Звонари по миру слоняются.
Колокола сбиты и расколоты.
Разваливается сам предметный мир, не держатся связи:
Но сколько лет лошади не кованы.
Ни одно колесо не мазано.
Плетки нет. Седла разворованы.
И давно все узлы развязаны.
И человек теряет в жизни собственное место:
Что ж теперь ходим круг да около
На своем поле — как подпольщики?
Он отлучен от правды по доброй воле: «Врём испокон…», живет в темноте и глухоте / беззвучии:
Век живем — хоть шары нам выколи.
Спим да пьем сутками и литрами.
Не поем. Петь уже отвыкли.
И из другого текста:
Почему так темно? Я, наверно, ослеп.
Подымите мне веки.
В этом мире невозможно дышать:
Чего-то душно. Чего-то тошно.
Чего-то скушно. И всем тревожно.
Оно тревожно и страшно, братцы!
Да невозможно приподыматься.
И опять — совсем из другого:
В новостройках — ящиках стеклотары
Задыхаемся от угара…
Отсутствие смысла переживается нечистота:
Долго ждем. Все ходили грязные,
Оттого сделались похожие.
Из другого текста:
Не напиться нам, не умыться,
Не продрать колтун на ресницах.
Сама жизнь выходит унизительно мелкой: «Налегке / мы резво плавали в ночном горшке», и цели в ней все — из-за влечения к несвободе — мелкие: «И каждый думал о червячке / На персональном золотом крючке», и вообще она ненастоящая: «Вы все между ложкой и ложью». Отсюда и дезориентированность, и неразборчивость в ценностях: «Кто там — ангелы или призраки? / Мы берем еду из любой руки». Человека поражает аксиологическая и онтологическая слепота, а с нею — и немота, косноязычие: «Так чего ж мы, смешав языки, мутим воду в речах?».
В мире властвует дурное время: «Лихом в омут глядит битый век на мечах»; «А над городом — туман. / Xудое времечко / C корочкой запеклось».
Мир одичал и окоченел:
А не гуляй без ножа! Да дальше носа не ходи без ружья!
Много злого зверья ошалело — аж хвосты себе жрет.
А в народе зимой — ша! — вплоть до марта боевая ничья!
Трудно ямы долбить. Мерзлозем коловорот не берет.
Но этот мир настолько неподлинный, что в нем и умереть по-настоящему нельзя:
Мы вскроем вены торопливо
Надежной бритвою «Жилетт»,
Но вместо крови льется пиво
И только пачкает паркет.
Повреждена сама плоть мира, он весь состоит из низких материй, ведущая его эстетическая категория — безобразное:
Посмотри —
Сырая вата затяжной зари.
Нас атакуют тучи-пузыри.
Тугие мочевые пузыри,
а «мысли, волосы и нервы» сплелись «червями».
Этот мир онтологически поврежден: «Там, где без суда все наказаны, там, где все одним жиром мазаны, там, где все одним миром травлены. Да какой там мир — сплошь окраина, где густую грязь запасают впрок, набивают в рот».
Сквозит небытие. Разверзающиеся перед глазами «черные дыры» («один из сквозных образов поэта», по словам одного исследователя) — это зевы самого хаоса.
Я вижу черные дыры.
Холодный свет.
Черные дыры…
Смотри, от нас остались черные дыры.
Нас больше нет.
Есть только черные дыры.
В эти дыры заглядывает непостижимое Иное:
Время на другой параллели
Сквозняками рвется сквозь щели.
Ледяные черные дыры —
Окна [Другой вариант: Ставни] параллельного мира.
В сущности, его песни — репортажи с пограничья между миром и Иномирьем, между человеческим и нечеловеческим, с ненадежной, рвущейся границы.
Что же касается поврежденности здешнего социума, видимой из этой пограничной области еще острее, то с нею необходимо — но, главное, — возможно! — что-то делать:
Но если есть колокольчик под дугой,
Значит, всё. Заряжай — поехали!
Загремим, засвистим, защелкаем!
Проберет до костей, до кончиков!
Эй, братва! Чуете печенками
Грозный смех русских колокольчиков?
И из другого текста: «Мы пришли, чтоб разбить эти латы из синего льда» («Спроси, Звезда»).
Кстати, он верит в человека как такового, в человеческую природу:
А под дождем оказались разные.
Большинство — честные, хорошие.
Россия же была для него мифическим, сакральным пространством, в котором разворачиваются важнейшие миро- и человекообразующие события.
Выше шаги!
Велика ты, Россия, да наступать некуда.
Имя Имен ищут сбитые с толку волхвы.
В своем роде, Россия со всеми ее трудностями и нелепостями (благодаря им!) — пространство безусловного — или, по меньшей мере, прорыва к нему. На это указывает религиозная лексика, не утратившая семантической заряженности и в пострелигиозном обществе башлачёвских времен. Потребность же в безусловном вопиет у Башлачёва из каждой строчки — даже если это безусловное страшно и губительно:
Вместо икон
Станут Страшным судом — по себе — нас судить зеркала.
Это, конечно, религиозность — хотя очень «собственная», субъективная, — церковным и конфессиональным рамкам тут опять-таки нечего делать, башлачёвское Безусловное — за их пределами:
И куполам не накинуть на Имя Имен золотую горящую шапку.
Стремление к безусловному — и отталкивание от того, что не таково, что ложно, неподлинно, неокончательно — пронизывает его тексты: «С земли по воде сквозь огонь в небеса звон». Христианская лексика и образность врастают в персональную (но переживаемую как НАДперсональную) мифологию этого веселого язычника, становятся ее элементами: «Небо в поклон / До земли обратим тебе, юная девица Маша! / Перекрести нас из проруби да в кипяток»; «Но не слепишь крест, если клином клин…». А надо, необходимо слепить!
Он, конечно, поэт постмифологического и пострелигиозного культурного состояния, но наделенный темпераментом мифологическим (с чуткостью к мирообразующим силам и процессам) и религиозным (со стремлением, в том числе самоуничтожающим, к безусловному, надмирному истоку бытия):
Отпусти мне грехи. Я не помню молитв.
Если хочешь, стихами грехи отмолю…
Самого себя он видел посланником Высшей силы: «Засучи мне, Господи, рукава. / Подари мне посох на верный путь!», вестником: «Мне в доброй вести не пристало врать», своей задачей — служение, непременно жертвенное: «И я готов на любую дыбу», — а песни свои воспринимал как инструменты (преображения мира?), их, как лестницу, можно и нужно, поднявшись по ним, отбросить:
Я хочу дожить, хочу увидеть время,
Когда эти песни станут не нужны.
Но песни для него вообще таковы, любые, если настоящие:
И пусть разбит батюшка Царь-колокол —
Мы пришли с черными гитарами.
Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл
Околдовали нас первыми ударами.
<…>
И в груди — искры электричества.
Шапки в снег — и рваните звонче-ка.
Свистопляс! Славное язычество.
Я люблю время колокольчиков!
Заряжай — поехали!
2018
Ничего для тебя чужого
Перед нами — второй поэтический сборник Регины Бондаренко, русского поэта, живущего в Ирландии (имя этой страны не раз встретится на страницах книги — Эре), поэта, пишущего давно и много, издающегося осторожно и сдержанно. Первая ее книга, «Дожди и зерна», вышла девять лет назад и была лишь немногим — на сорок страниц — меньше по объему нынешнего, «почти полного», по словам автора, собрания ее стихотворений.
Эта, вроде бы монологичная, от первого лица речь напряженно-диалогична. Почти вопросительна. Речь в модусе окликания-вопрошания постоянно имеет в виду адресата — как свое важнейшее условие. Она постоянно чувствует его, обращается к нему («вот, скажешь, пустяки! а ты скажи…», «ну что же ты пой»), спорит с ним, задает ему вопросы («что мерять мне еще на свой аршин, / о чем еще мне говорить и плакать?», «какие мне еще найти слова», «что же царь мой и мир мой / ты не спляшешь со мной?», «какие сны тебя качают, / О чем ты бредишь на лету <…>?» и даже «почему я на ты обращаюсь к пустому пространству?») Вопросы, не так уж и нуждающиеся в ответах, не нуждающиеся в них совсем, — нужные, может быть, единственно затем, чтобы окликать адресата, — разворачиваться в поле его слуха.
Кто же этот вечный собеседник? «Тебе — кому ж еще?» — сразу говорится в начальном, эпиграфическом стихотворении книги, и тут легко подумать: это — тот Адресат, Который единственный с полным правом пишется с большой буквы. С ним разговор — непрерывный и настолько ежедневный, настолько насущный, что можно уже и (почти) на равных:
сегодня я бреду сквозь боль,
а Ты вдали и чем-то занят.
позволь мне говорить с Тобой…
А то и еще более дерзко: «не мешай, я знаю, что делать / с быстротечным чудом Твоим <…> что мне проку в Твоем утешенье <…>?».
Однако все сложнее. Он, «Собеседник мой и Сомолчальник», здесь не один. Есть адресаты вполне конкретные, прямо и названные, даже по имени: дочь Анна, названый сын Сережа, известная лишь автору Елена, есть, наконец, адресат совсем редкий — «когдатошняя девочка», к которой обращено одно из стихотворений, — сама автор в юности (она здесь, правда, — не «ты», а именно «она»: здесь нет напряженного диалога — чистое окликание. Зато с собственной душой — уже на «ты»: «помолчи, душа моя, помолчи…»). Есть — меж ними, помимо и прежде их всех — и другой адресат-собеседник, тоже, кажется, вполне земной, и с ним говорящую связывают сложные отношения, не лишенные внутренней конфликтности, вызова и сопротивления.
молчи, я не желаю знать,
куда в тяжелом сне
мне за твоей спиной скакать
на черном скакуне;
оставь как есть обломок сна,
не предлагай мне ключ —
пусть бродит черная луна
среди слепящих туч,
пускай, пронзая ночь и день
обугленной стрелой,
летит распластанная тень
над белой мостовой.
Этот адресат не менее постоянен и отличим от Того Единственного разве только тем, что соответствующее ему местоимение второго — и ничуть не менее единственного числа пишется с маленькой буквы («а ты скажи…»). В целом, адресат этих стихов — мерцающий: речь, обращенная к о (О) дному из них, непременно так или иначе обращена и к Д (д) ругому. Рискну сказать, что различимы они не всегда.
я вернусь падучей звездой
в теплый август твоих небес
О ком из них это? — Во всяком случае, «ты» для поэта — важнейшее, принципиальнейшее из местоимений, с какой бы буквы ни писалось, и оно — почти в каждом стихотворении. Без него, кажется, не будет никакой речи — и никакого существования.
кто ты? ужас? любовь? мне почудилось, я тебя знаю.
может, ТЫ — это только глубокое вечное эхо
нас, идущих на ощупь, друг друга впотьмах окликая.
Напряженно-диалогична (но тем самым — и напряженно-конфликтна, и насквозь пронизана неразрываемыми связями) для Бондаренко сама жизнь, и это не только о любви, просто в ней это выражено, может быть, наиболее сильно. Во всяком случае — это не только о любви к человеку другого пола (любовь, например, к детям — нисколько не менее драматична). Это о человеческом вообще.
там, внутри оболочки, еще не созревшей, чтоб лопнуть,
мы блуждали на ощупь, впотьмах натыкаясь на стены,
и не знали друг друга, и прикосновение локтя
было катастрофичнее, чем столкновенье вселенных.
мы не властны в себе, нас проводят утком сквозь основу,
нас сплетают в узор, но, пока не исчерпаны числа,
непослушным ростком на губах распускается слово
и ветвится чужим, незнакомым, пугающим смыслом
Будучи вполне традиционной по своей организации, почти избегая радикальных обновляющих поэтику жестов (но не совсем — иногда вдруг встретится индивидуальный, авторский знак препинания: «удаляясь — > уже — > приближаясь ко мне», «так легко отразить -> дописать -> подхватить на лету», а также: «забрось в колодец ключ / до первых петухов»), поэтическая речь Бондаренко сумела как будто уклониться от явных, сильных влияний. Нет, свой контекст эти стихи чувствуют — и это очень широкий контекст: от Библии («сонмищем тьмы меня обступила ночь. / объяли воды») и вплоть до фильмов («я старый солдат, не знающий слов любви») и мультфильмов (безвозмездно то есть даром»), до советских песен («но светит незнакомая звезда / на наши незабытые обиды») и группы «Аквариум» («я слышу музыку серебряных спиц»), до разговорных обыкновений времени, его просторечий и простописи («вот такая грустная лажа», «я типа имею право», «ну как там ваще», «да нивапрос»), до реплик в сетевых разговорах с их характерными приметами: англицизмами и смайликами. Не говоря уже о контексте поэтическом, о поэтической памяти, которую хранят и встроенные, вращенные цитаты — почти неотличимые от памяти вообще: «Нам не дано предугадать — и все же / На каждый звук есть эхо на земле». Вот несколько ироничный отклик Гумилёву: «сегодня особенно ясен тотальный облом, / особенно чист и прозрачен вселенский бедлам», а вот — совсем уже не ироничный — молодому Заболоцкому: «над холодным черным лоном / на краю небес парит / яркий пояс Ориона / меч на поясе горит», но тут же — и самому Александру Сергеевичу: «сквозь волнистые туманы / чутким волком вдоль гумна / по косым путям Самайна / пробирается луна». Стихотворение «Кариатида» явно ведет диалог с «Атлантами» Городницкого, с которыми в точности совпадает ритмически, смотрит на ту же ситуацию с женской точки зрения:
а ей не в тягость ноша
и смена не нужна,
но все ж бывает ночью
мне страшно, что она
один в лесу дитячьих
неслышных голосов
узнает, и заплачет,
и бросится на зов.
Поставив к одному из стихотворений эпиграф из Евгения Лесина, к другому — из Бориса Слуцкого, автор, как будто попадая своим собеседникам в тон и ритм, продолжает их на совсем собственный лад, уходит от намеченного ими направления мысли в собственные стороны. Но следы литературных влияний встречаются здесь разве на уровне отдельных, редких вкраплений, отдаленных отсылок: «есть секунды длиной — века, / есть века протяженьем — час», — тут трудно не узнать цветаевских интонаций (и они не раз еще встретятся), «Сон об уходящем поезде» — одним только названием! — отошлет нас к Юрию Левитанскому, на которого этот текст больше ничем не похож; стихотворение «Путь зерна» — опять же одним только названием — напомнит о Ходасевиче, которому ни в чем больше не следует (хотя с тем же, если не с еще большим, основанием, — и о Евангелии от Иоанна: «12:24. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»). Слышится здесь иногда и Эмили Дикинсон.
когда мы все сойдем с ума
в заумную страну,
к тебе со дна, где только тьма,
я голос протяну,
и я скажу из темноты:
«да здравствуй, ясный свет!» —
и повторю: «да здравствуй — ты!»
а ты ответишь: «нет».
Что же происходит внутри этого вечного разговора-спора с с (С) обеседником?
Собирание в ритмы жизни с ее разнонаправленными, сопротивляющимися друг другу, ее разлитых по всем существам роста и боли, которые говорящая чувствует всей собой:
как больно пробивается трава
зеленым острием сквозь плоть земную
Происходит сама речь, которая притом не перестает чувствует молчание как возможность — может быть, более полного, во всяком случае — более истинного существования: только если «стоять и чуять молча», услышишь, «как течет / густая жизнь смолой и диким медом». Сама она, даже поэтическая — в постоянно же ощущаемом родстве с грехопаденьем: «возвращаюсь из грехо- / из стихо-паденья», и если такое происходит, это — возвращение от сна к яви. Все это сопровождается (и вполне настойчиво) родственной теме молчания и очень важного для автора темой — самоустранения, как будто бессознательной (на самом деле очень даже сознательной и осознанной) саморастраты («так дождь безрассудно сеется…») и самоутраты. Чуть ли даже не самоуничтожения: «так зеркало бьется, падая, и в каждом осколке — мир». Но только не своей волей: тут важна «мудрость руки / что мнет меня и ломает / и раздает голытьбе / по крохам» — хотя «больно, Мастер, глине и нелегко / мяться в ком…». Когда «себя не помня, дням теряя счет» — вот тогда увидишь настоящее. (Хотя:
жизнь моя!
свет мой!
как ты найдешь меня здесь и всюду,
если я имя cвое забуду?)
Во всяком случае, это «я» — не самоутверждающееся, но внимающее, внемлющее, стягивающееся в одну точку внимания — которая сама в центре внимания быть не должна («и я не знаю / кто я сама себе»), — это глубоко продуманная этическая (по существу, религиозная) позиция. Вообще «я» в его эмпирической данности тут скорее (и чаще?) препятствие для полноты восприятия, чем его условие; то, что нужно преодолеть, перерасти, через что нужно прорваться — «сквозь себя самое, / через голос и почерк», через все эти земные приметы. Настоящее существование — даже не смысл, а дальнее его условие — «я» обретает, только будучи исполнено и пронизано чем-то, его превосходящим:
я звонница, пронизанная звоном,
светлица, всклень исполненная светом,
страница, сплошь исписанная словом
единственным, а смысл мне недоступен.
Не то — «ты», какая бы б (Б) уква ни стояла в начале этого важнейшего слова: «ты» как постоянный адресат и цель — как раз условие и полноты восприятия, и вообще собственной подлинности, которая гораздо важнее самоутверждения: «как в себя прихожу, / возвращаюсь к тебе».
думая о себе,
я мыслю.
думая о тебе,
я существую.
Речь — о самой ткани существования («…как бел Твой снег и как зеркален лед…»), о его фактуре — все можно пощупать (к зною — «ладонью прикоснуться»), все осязаемо-конкретно («июньский день крошится под рукой / и теплым хлебом пахнет на изломе») — и все одушевлено («и яблоня спокойствия полна / проходит сквозь ограду с ней не споря / и неотступно ластится волна / к слепому валуну у края моря»), о пронизывающих его таинственных связях, о составе его воздуха: «о том, как воздух жесток, / о том, как свет жесток, о том, как ночь длинна…», об образующих его ритмах: «как во всю мочь трубят, встречаясь-разъезжаясь, / ночные поезда…» О ситуации человека в мире, о лично, телесно и единственно пережитой метафизике. О жизни, смерти и бессмертии — «поскольку там, где закончится время, / словарь раскроется новой страницей», и там «я на минутку потом попрошусь в руках подержать / надмыслимый кубик, вместивший ВСЕ — и еще чуть-чуть». О трудном родстве со всем сущим: «здесь — ничего для тебя чужого».
«…и больше ни о чем» — да ведь это все исчерпывает. Больше этого ничего и нет.
а большего и не надо —
всё уже есть
сейчас и здесь,
всегда и везде.
2019
Понабрел на нешуточный свет
Николай Васильев. Нефть звенит ключами. — М.: Стеклограф, 2020
Это второй поэтический сборник Николая Васильева, уверенно закрепляющий за ним место в современной русской словесности. То, что такое место у него будет, критикам было понятно уже в связи с первой его книгой, «Выматыванием бессмертной души», вышедшей в 2017-м в том же «Стеклографе» (Алексей Мошков назвал тогда дебютный сборник Васильева «весьма серьезной претензией на вхождение в современную поэзию»). Кто только не упрекал тогда Васильева за это название (Марина Кудимова, помнится, усматривала в нем «претенциозность (чтобы не сказать лубочность)», которые, в свою очередь, считала симптомами «прекращения гармонического ряда»; Мошкову казалось, что оно «слишком тяжеловесно, косноязычно, неблагозвучно»). Автору же этих торопливых строк оно с самого начала почувствовалось и по сию пору помнится как чрезвычайно точное — именно в своей нарочитой тяжеловесности, как фотографически-верная формула происходившего с героем книги, — и да, как было сказано в другом месте (в анонсе поэтического вечера Васильева в 2019 году), оно демонстрировало «жесткую экзистенциальную лирику молодого человека, пытающегося адаптироваться в современном мире». (С небольшой поправкой: в мире вообще; современность слишком сиюминутна, чтобы ее можно было делать темой серьезного поэтического высказывания, и Васильев — из тех, кто прекрасно это чувствует). С тех пор и молодой человек повзрослел, перерос юношескую тоску и дезориентированность (Николаю Васильеву в этом году уже тридцать четыре, есть все основания говорить о вхождении в пору поэтической зрелости), и жесткая экзистенциальная лирика — не переставая быть и экзистенциальной, и жесткой — преодолела тему попыток адаптации и окрепла, стала средством осознанной рефлексии человека, который никакой возможностью гармонии с миром уже не обольщается. И названия обоих сборников читаются как ключи к соответствующим этапам развития отношений автора с миром.
Да, название новой книги тоже удачно. Во фразе-формуле «Нефть звенит ключами» очевидны интуиции истоков, недр, питающих сил, глубоких, горючих, темных источников существования; движение, открывающее новые пути, по крайней мере — обещающее открытие и начало.
и еще б я теперь не поэт,
если, столько скитаясь о доме,
понабрел на нешуточный свет
в приотверстом надломе
Юношеской прямолинейности и размашистости в «новом» Васильеве тоже достаточно: в конце концов, его свежеобретенная зрелость сама еще вполне молода, и удивляется себе, и делает себя темой поэтического разговора и поэтического беспокойства:
зачем мы и при чем — за стенкой, при режиме,
в один прекрасный день, в одну прекрасну дрянь
мне выродилось все, чужое и чужие,
и сам себе никто, ни прочая родня
Но юношеское отчаяние, не переставая быть отчаянием (здесь впрямую своим именем и названное), теперь стало зрелым — продуманным, прочувствованным и принятым как позиция: одинокая («на краю у людей существуя вполне едва») — и в этом смысле героическая, лишенная всякого пафоса — и тем более честная.
отчаянный голос в суровом хоре,
безвыходный пир посреди чумы —
раздайся, земля, и смотри-ка, море,
как вечные похороны, шумит
Вообще, Васильев высказывается куда прямее и однозначнее, чем это часто кажется его читателям — даже внимательным (Мария Мельникова, помню, писала, что он относится к «трудным» авторам, чья «текстовая реальность» воспринимается нелегко). Просто у него для этой прямоты вырабатывается свой язык. Он мыслит по-мандельштамовски «опущенными звеньями», максимально — до короткого замыкания — сокращая дорогу от усмотрения к высказыванию, от доречевого — к речи. Имя Мандельштама здесь неслучайно: у Васильева видны следы его внимательного чтения, усвоенность его речевой повадки, причем Мандельштама позднего, «темного» («безымянного неба взрывного»).
И еще: если «Выматывание бессмертной души» не без некоторых оснований относили к «городской лирике» (Сергей Сумин), то на сей раз перед нами — лирика «мировая», имеющая дело — поверх городских стен и крыш, которых и тут немало — с миром в целом.
лишь конец ноября, а над нами решенное небо,
на зарплату делимый одну, три-четыре, и край —
перед чуть ли не Богом, под скровом, покроем и снегом
собирающий вещи февраль
все так быстро истлело, спеклось, пустота — пустотает,
землю корни твои, как бумагу с признанием, рвут
и могила моя — резонатор, и я нарастаю,
дальний грохот копыт, и бужу потихоньку траву
У некоторых поэтов бывает собственное время года, особенно точно соответствующее их восприятию состояние мира, чуемое изнутри всех времен, служащее большой метафорой всего, что происходит в поле их поэтического зрения. У Васильева — по крайней мере, в этой книге — оно точно есть: это размытое пограничье зимы и весны, поздний февраль — ранний март, мучительное разрушение зимних устроенностей, озноб и неуют, сползание снежных защит, черные проталины — и ослепительно-яркое, режущее солнце. Он, не ищущий гармонии (цельности — да, но это другое), набрел на свой нешуточный свет.
2021
Человек — этот свет в проем
Марина Гарбер. Каждый в своем раю. Стихотворения. — М.: Водолей, 2015
«Рецензировать их, — писал уже довольно много лет назад о стихах Марины Гарбер историк и литературовед Василий Молодяков, — вообще невозможно — как невозможно „рецензировать“ закат или пение соловья.» Что бы ни понимал очарованный рецензент под рецензированием, внятной рефлексии эти стихи поддаются прекрасно, более того, предполагают и даже требуют ее — поскольку сами, сплошь, насквозь — тонко и чутко выстроенная, внимательная, пристальная рефлексия. О том, как устроен мир и пути человека в нем.
Когда бы это не звучало так тяжеловесно (а впрочем — пусть звучит!), поэзию Гарбер можно было бы назвать антропологической, — выполняющей работу философского порядка. Она прямо говорит о — чувственно пережитых — основах человеческого, которых не заслоняют от взгляда никакие исторические и культурные, неминуемо преходящие, обстоятельства. И основы эти трудны.
К ним читательское внимание обращает уже стихотворение, открывающее книгу, — ключ ко всему остальному. Оно — о человеке, изъятом из обстоятельств, из биографических координат, оставленном наедине с собственной сущностью — проходящем испытание этой сущностью:
Человек без прошлого лежит на спине,
Веки опущены, взгляд — вовне:
Позывное мигание в потолок.
Сверху-снизу — небесный. Морской ли бог? —
Как пятно на карте, нераспознаваем.
Человек — это остров — необитаем.
В какой-то мере, пожалуй, такому взгляду способствует транскультурность и многоязычность автора. Родившаяся в Киеве, Гарбер уже более четверти века — еще с позднесоветских времен — живет вне пределов отечества: в Соединенных Штатах, в Италии, теперь в Люксембурге, — этот последний, по собственным ее словам, вообще — «страна, на улицах которой можно услышать десять языков одновременно». Закончила факультет иностранных языков и литературы Денверского университета в Колорадо (США). Преподает английский, итальянский и русский. При этом не только читает очень многое из того, что сегодня пишется по-русски, не только сама пишет стихи и эссе (эта книга — уже пятый поэтический сборник Гарбер, при этом — первый, изданный в нашей стране, и вошли сюда стихи, написанные за последние пять лет). Она еще и работает — в зарубежной периодике — как русский литературный критик.
Мне кажется, все это существенно для понимания того, что и как ею написано. Чисто пространственная дистанция между поэтом и территорией, на которой происходят основные события русской культуры и языка, способствует и интересу к этим событиям, и ясности их видения. Избавляет от суеты — и наводит зрение на резкость. Видишь сразу крупное, существенное.
И не потому ли, отчасти, у Гарбер такой чистый и тщательно взвешенный русский язык?
Транскультурность поэта входит не в противоречие, но в интенсивное взаимодействие с тем, что стихи ее на редкость насыщены — опять же хорошо отрефлексированной — русской культурной и поэтической памятью. Они полны цитатами и реминисценциями разной степени явности и узнаваемости — и словесными, и ритмическими, — отсылками не только к сказанному, но к уже не раз и процитированному. Из-под тонкой индивидуальной ткани ее собственного письма то и дело проступают — нет, не чужие слова, но фигуры поэтической мысли, аккумулировавшие в себе очень много значений и сами по себе направляющие читательское внимание в известные русла. Приходится удерживать много (динамических) равновесий одновременно. (Из самого явного, например: «Лицом к стене стены не увидать» — чуть переиначенное, зацитированное едва ли не до потери авторства, вошедшее, так сказать, в состав поэтических очевидностей — из Есенина, «Мы живем, над собою не чуя большого неба…» — понятно, из кого; «Нет, это не блаженные слова — / Нева и Лена, Кальмиус и Днепр», «и не живем и, все-таки, живем», — из того же, явно родственного и важного автору, поэта; а вот — наугад — явно из другого, тоже заворожившего своей речью поздний XX век: «Повторю чужое — в два слова: „Прости меня“». А вот и прямая цитата, даже в кавычках, читатель — собрат по среде не может не узнать — и, разумеется, узнает: «Проходить бесследно — „Лермонтовым по Кавказу“», «Не остается ни щелки, сплошные щепки, как у М.Ц.: „Сивилла: // Выжжена, сивилла: ствол. / Все птицы вымерли, но Бог вошел“». Здесь идет интенсивный разговор со своими, с носителями тех же культурных кодов.)
И это — совсем не то, что нелюбители постмодернизма называют, осуждая, постмодернистской игрой. Если понимать под «игрой» условность и легковесность, то такого тут точно нет, — легкость есть, а легковесности нет, все серьезно и прямо. Таким образом поэт вступает в диалог со всей, в пределе, русской поэтической традицией, на каждом шагу отдавая себе отчет в том, что двигаться приходится в чрезвычайно плотной среде, в густом, многими надышанном воздухе.
Слово «равновесие» представляется мне одним из ключевых к поэзии Гарбер — к разным сторонам ее культурной работы и к самой ее сущности.
Среди поэтов есть те, кто взрывает основы — и те, кто устанавливает с ними связь. Те, кто выбивает слова и вещи из равновесий — и те, кто возвращает их туда. Все это — усилия равно необходимые. Гарбер — из тех, кто равновесия и связи устанавливает. Из тех, кто терпеливо культивирует гармонию и космизирует хаос. Вполне возможно, что предпочтение ею классичных, регулярных, традиционных до узнаваемости, едва ли не до вторичности стихотворных форм (иной раз буквально думаешь, что автор ходит уже пройденными поэтическими тропами, нарочно попадая след в след) — напрямую связано с этим стремлением.
У нее вообще что ни строчка, то формула; явное тяготение к тому, чтобы давать вещам определения, — проявлять их друг через друга: «Человек — это пустая пядь», «Моя родина — это изогнутая река», «Говорят, зима — это лекарь, врачует зренье»… У нее практически нет случайных слов, межсмысловых пустот: все слова плотно пригнаны друг к другу. Каждую строчку с начала до конца сопровождает неспадающее напряжение. Это — поэзия усилия.
И при всем этом Гарбер (как читатель уже, вероятно, давно догадался по приведенным цитатам) ни в малейшей степени не безмятежна. Она прекрасно видит — и ни на минуту не упускает из виду — трагичность удела человеческого и непреодолимое одиночество человека, которое опять же не отменяется — и не создается — никакими внешними обстоятельствами. Само название книги — «Каждый в своем раю», заключительные слова одного вполне безутешного стихотворения — отсылает сразу по меньшей мере к двум гарберовским тематическим константам: к одиночеству и смерти. К этому же постоянно возвращают читателя устойчивые, сквозные образы, возникающие вновь и вновь в разных стихотворениях: дна, реки, зимы (особенно зимы — один из любимых и самых богатых смыслами гарберовских образов), льда, темноты, сна, беззвучности, затрудненного дыхания.
Я живу на самой отчаянной глубине,
Даже редкий камень не долетит ко мне,
А беззвучно канет в подземных ее путях,
В темноте излучин, протершихся на локтях.
Так говорится уже во втором стихотворении книги, а спустя всего несколько страниц снова: «А мы на дне — давно и глубоко, / И нам с тобой не дышится легко». В начале этого текста — зима: «Тогда, я помню, не было зимы, / Она все обещалась и хрипела…», а в начале следующего — снова она: «А мы в беззвучной полегли зиме, / Как в животе раскрашенной матрешки». А вот возвращается мученица-река: «А в эту реку дважды не войти, / В нее, преступницу, с высот летели камни…», а прямо на следующей странице — «…воды, смертельные, как война». «Река» («вода») вообще родственна у Гарбер «смерти» — однако сложно родственна, — так же примерно, как родственна ей и сама жизнь. Они — в отношениях взаимообусловленности, взаимопроникнутости и взаимоборства:
Песчаное и водное родство
Последнее прокладывает русло —
Так смерти безыскусное искусство
Одолевает жизни мастерство.
(Впрочем, у смерти — одной из настойчиво-верных героинь этих стихов, едва ли не в каждом стихотворении так или иначе выглянет! — и у самой лицо неоднозначно.
Капюшон легко и домотканно
Скулы скрыл, коса наперевес, —
И она является нежданно,
Как любовь, как чудо из чудес.
И ее, утешительницу, примирительницу, возможно благодарить:
и к ней всецело, словно к матери, прикипая,
произнесешь: спасибо моя дорогая…).
Гарбер постоянно чувствует боль и разлад не в человеке только — в вещах, в самой жизни, в самой плоти мира. Так больно оловянному солдатику на его игрушечном, казалось бы, посту: «А у него (ах, у него ли?) — лес за спиной, / и горлом олово — от боли — волной, волной», больно «изогнутой реке» с ее «пустыми потугами шершавого плавника», «пробитой лодке», больно и холодно самой зиме (понимание этого читателем достигается уже чисто фонетическими средствами, подбиранием, нанизыванием друг на друга прямо физически воздействующих звуков — холодных и блестяще-твердых: «к», «л», жестко-ворсистых, скрежещущих: «ж», «щ»). Всему больно, потому что все — живое:
Зима, где купола и ни кола,
Жизнь умещает в скважине замочной,
Жизнь — два забытых за спиной крыла —
В лед — траурным контрастом ненарочным.
(Будучи, как сказано в начале, антропологичной, эта поэзия ни в малейшей степени не умозрительна, но, напротив, подробно-чувственна — даже на уровне фонетики.)
Мир, с которым поэтическому слову приходится иметь поэтическое дело, — труден по определению.
Если пойдешь налево, случится ад,
Если направо — ад все равно случится.
Собственно, работа по терпеливой космизации хаоса именно потому и необходима.
Человек без корней ощущает спиной
иллюзорную близость с былой страной,
Что, однажды сгинув, не родилась,
У ворот осела, стопталась в грязь…
Но не гаснет огненный окоем —
Человек — этот свет в проем.
2015
Переводя через тьму
Генделев: Стихи. Проза. Поэтика. Текстология / Сост. и подгот. текстов Е. Сошкина и С. Шаргородского; коммент. П. Криксунова, Е. Сошкина и С. Шаргородского. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — (Художественная серия)
На то, что необходимость комплексного изучения литературного наследия Михаила Генделева (1950–2009) назрела давно, составители сборника, Евгений Сошкин и Сергей Шаргородский, обращают читательское внимание в первых же строках предисловия. Со времени смерти поэта не прошло еще и десятилетия, но дистанция, образовавшаяся с тех пор между ним и нами, уже дает возможность оценить, что Генделев — одно из самых ярких, резко-индивидуальных и мощных явлений в истории русского слова.
Настало время, говорят Сошкин и Шаргородский, приступить к «реконструкции его парадоксальной и протеичной поэтической мифологии», а кроме того — канонизировать (используя близкую герою сборника формалистскую лексику) «младшие жанры» его творчества: эпиграммы, псевдоэпитафии, стихи на случай, тексты песен, дружеские послания и шуточные стихотворения, всякого рода малую прозу — газетные фельетоны, очерки, эссеистику… Включить все это, рассеянное по рукописям и страницам разных израильских изданий и до сей поры воедино не собиравшееся, в общую систему его поэтики, проследить неслучайность всех этих случайностей. Тем более, что, по свидетельству составителей, «высокие» и «низкие» жанры Генделев чем дальше, тем все менее друг от друга отделял, и черновики его ясно показывают: «шуточные стихи подчас могли отпочковаться от серьезного замысла или, наоборот, оказаться поглощенными таковым».
Подступы к реконструкции целого, к которому все это принадлежало, в представляемой книге и делаются. Перед нами — первый шаг к систематическому осмыслению литературной личности Генделева, даже несколько первых шагов.
Это, скорее всего, не то издание, с которого знакомство с Генделевым стоит начинать, тем более, что, к счастью, он у нас очень неплохо издавался в последние полтора десятилетия, в том числе еще при жизни: в 2003 году в московском издательстве «Время» вышло его «Неполное собрание сочинений», в 2006-м там же — «Из русской поэзии», стихотворения и поэмы 2004–2005 годов, еще через два там же — «Любовь война и смерть в воспоминаниях современника», стихотворения и поэмы 1996–2008 годов, в 2004-м в московско-иерусалимском издательстве «Гешарим / Мосты культуры» — сборник стихотворений и поэм 1996–2004 годов «Легкая музыка»; еще в 1993-м издательством «Текст» был опубликован его роман «Великое русское путешествие», а три года назад «Книжниками» — сборник «Великое (не) русское путешествие», включивший в себя переиздание романа, путевые очерки и прозу о ливанской войне 1982 года. Можно еще вспомнить «Книгу о вкусной и нездоровой пище, или Еду русских в Израиле», выпущенную «Временем» в 2006-м.
Зато если это все (или хотя бы отчасти) уже прочитано, — собранные здесь обширные примечания к Генделеву становятся незаменимы. (И, само собой, оказываются стимулами к тому, чтобы прежде читанное — перечитать и перепродумать.) Тем более, что предваряется книга кратким, но содержательным очерком жизни поэта, «составленным, — как говорят издатели, — по различным печатным, архивным и изустным источникам», — он способен задать прочитанному биографическую матрицу.
Стихи 1980–2000-х годов, не включавшиеся самим Генделевым в его авторские книги или вовсе не публиковавшиеся прежде — хранившиеся в его архиве и в собраниях его рукописей в разных частных архивах, занимают в книге первую, но не самую большую часть. Некоторые из них вызваны к жизни его переводческой практикой и дают представление о том, как он ее видел: а видел он ее, уточняют комментаторы, «как „продолжение“ исходного стихотворения другим автором в ином времени и культуре».
Переводя Гвироля через тьму,
за известковое держа его запястье —
и нам уже
— не одному —
переходить течение несчастья.
В тумане берег твой, нельзя назад,
а впереди дымы сошли на воды
и — потому —
идем, мой страшный брат!
Плевать, что поводырь не помнит брода.
[1983]
Это — о выдающемся еврейском поэте и философе средневековой Испании Шломо ибн Гвироле (ок. 1021/22 — ок. 1053–58), влияние которого на собственную поэзию Генделева, как пишут комментаторы, стало «одним из определяющих». (Девять стихотворений Гвироля с предисловием переводчика читатель найдет в этом же томе ниже — и поразится мощи их звучания, уничтожающей временны́е расстояния:
Молний пером, ливней тушь расплескав,
осень писала, туч откинув рукав,
письмо по саду небес, и немыслим сам
был сад лазури и пурпура в небесах.
Тогда земля, небесный ревнуя сад,
расшила звездáми покровы дерев и трав.)
Не включены сюда — Генделев бы одобрил — неопубликованные, «по преимуществу незрелые», как говорят составители, стихи ленинградского (то есть — до 1977 года) периода, — кроме поэмы «Свидетель», которая была написана около 1975 года, но в конце 1980-х — в начале 1990-х текст ее был радикально переработан автором и теперь несет на себе узнаваемые признаки его поэтики тех лет, включая характерное оформление строфы «бабочкой»:
Очевидно в вишневой крови моей переизбыток азота.
Очевидно —
вкус побега
железо отчизны
менять на отчизну
другой позолоты
за корнями все глубже врастая в железные руды
— назад.
Зато мы получим (хотя и тоже неполное, но по крайней мере) разнообразное впечатление о Генделеве как авторе шуточных стихотворений и «малой прозы», рассыпанной доселе в неизвестной у нас израильской периодике.
В текстологическом разделе — краткое описание основных архивных собраний рукописей и других бумаг Генделева (Сергей Шаргородский) и обзор ряда стихотворных отрывков и черновых вариантов, которые впоследствии разошлись по разным законченным стихотворениям (Евгений Сошкин).
Большой раздел «Переводы» представляет работу Генделева-переводчика — не очень большую по объему, но значительную по уровню поэтического напряжения. Переводил он, прежде всего, средневековых еврейских поэтов. Из них здесь, кроме Гвироля, Иегуда Галеви (ок. 1075–1141), врач, философ и «величайший поэт так называемого „золотого века“ испанского еврейства», и раввин, поэт и путешественник Иегуда аль-Харизи (ок. 1165–1234). Каждый представлен единственным стихотворением, как и живший в XVIII веке Леви Ицхак из Бердичева (ок. 1740–1810) — цадик, выдающийся деятель хасидизма, много сделавший для его распространения в Польше, Литве и Украине. Далее — современные Генделеву израильские поэты, которыми он занялся позже, хотя вообще израильскую поэзию не жаловал и был, как пишут составители, знаком с нею по преимуществу в подстрочниках и чужих переводах. Это — Иосиф Паперников (1899–1993), Дан Цалка (1936–2005), «самый знаменитый поэт современного Израиля» Иегуда Амихай (1924–2000) и особенно значимый для Генделева «живой классик живой поэзии Израиля» Хаим Гури (р. 1923), с которым он даже дружил лично. Некоторые тексты снабжены собственным пристрастным предисловием переводчика, выговаривающего здесь свои ценности, — в частности, в предисловии к Амихаю не упускает случая лишний раз ущипнуть Бродского, с которым соперничал: «По-моему, Амихай не рискует в стихе. Поэтический темперамент не понуждает его к прогулкам по канату, не чреватым падением лишь при полной вере в наличие этого волоска над бездной. В этом смысле Амихай похож на Бродского — прочностью и безрисковостью поэтики, традиционализмом». Сюда же составители включили переложение первого действия (дальше работа почему-то не пошла) мольеровского «Тартюфа» «современным, обиходным и лексически сниженным языком, предпринятое по заказу тель-авивского театра „Гешер“».
Очень интересна — и вполне была достойна быть изданной отдельным томом и в существенно расширенном составе — теоретическая часть. Это — раздел «Поэтика», вобравший в себя некоторые из написанных о Генделеве аналитических текстов. Можно спорить, почему отобраны именно эти (о Генделеве по-русски написано изрядно качественных текстов, в чем читатель может убедиться, например, на сайте поэта, в рубрике «Исследования»); можно сожалеть, что сюда не в полном составе вошел посвященный Генделеву мемориальный блок «Нового литературного обозрения» №98 (4) за 2009 год (оттуда взяты только работы Майи Каганской и Михаила Вайскопфа), но отобранные, безусловно, — хороши и содержательны. В «Каменных водах» Вайскопф прослеживает характерные для Генделева приемы работы со словом и их эволюцию, вообще — особенности его словесных и образных стратегий, взаимоотношения его с русскими поэтическими традициями, рассматривает его историософию, а также связь его мироощущения с Израилем и укорененность его в еврейской традиции и образности; реконструируя поэтику Генделева, выявляет существенную ее связь с его онтологией — и даже с его демиургией, поскольку находит возможным говорить о претензиях поэта на (пере) создание мира и о принципах этого (пере) создания. Давид Паттерсон представляет Генделева как поэта изгнания, а сознательный выбор им израильской идентичности — как источник его внутреннего разлада; подчеркивая глубокую связь поэта с еврейским — то есть, изгнанническим — мировосприятием, Паттерсон говорит, что изгнанничество для него не только не прекратилось с «въездом в Иерусалим», а, скорее, даже усугубилось, усложнилось. Евгений Сошкин рассматривает Генделева в связи с «русскоязычной литературой Израиля» как проектом, приходя к выводу, что этот несостоявшийся проект в своем роде состоялся, только единственным представителем этой литературы стал сам Генделев. Сергей Шаргородский выявляет единство поэтики Генделева несмотря на все метаморфозы и настойчиво подчеркивавшийся поэтом разрыв с его ленинградским прошлым; представляет Генделева как поэта-сновидца, визионера, мистика, метафизика. Майя Каганская анализирует одну из линий поэтической родословной Генделева, восходящую к Лермонтову. Ту же тему продолжает Елена Толстая, усматривая в Лермонтове «ролевого прототипа, близнеца» израильского поэта. «Пунктир о Генделеве» Петра Криксунова — собрание заметок автора о совместной с его героем переводческой работе над средневековыми еврейскими поэтами, а также о текстах и поэтике самого Генделева, в частности, о влиянии на него Т.-С. Элиота.
Перед исследователями стоит и более крупная задача, чем реконструкция поэтической системы Генделева (и шаги к ней в сборнике тоже делаются): понять место Генделева в русской словесности, которое составители называют уникальным и даже «в чем-то диковинным».
«Диковинность» этого положения — в том, что поэт сам, намеренно, себя за рамки этой словесности вынес. И до конца дней — даже подолгу живя в последние годы в России — настаивал на том, что он к ней не относится.
Он всячески отказывался и отталкивался от усвоенных в России (из которой уехал в Израиль 27-летним) литературных влияний и собственных, к моменту отъезда уже десятилетних, литературных опытов. Настолько, что не соглашался признавать вполне своей первую изданную им (кстати — уже в Израиле, только написанную в Ленинграде) книгу «Въезд в Иерусалим» и не включал текстов из нее в переиздания.
Отчасти (но лишь отчасти) непринадлежность Генделева русскому контексту подтверждают и авторы «теоретической» части сборника. «<…> в современной русской поэзии, — пишет Майя Каганская, — он ни с кем не перезванивается — не с кем». Впрочем, тут же опровергает она и надежды поэта на принадлежность контексту израильскому: «Об ивритоязычной и говорить не приходится: это настолько разные ветви культурной эволюции, что даже не оспаривают одно экологическое пространство».
Никогда ни на каком языке, кроме родного русского, художественных текстов не писавший (знающие свидетельствуют, будто в освоении иврита поэт не продвинулся далее повседневного разговорного уровня), Генделев видел цель своей жизни в том, чтобы — собственными силами и при участии единомышленников — впрочем, довольно немногих, — создать новую литературу: израильскую литературу на русском языке, если и имеющую отношение к России, то разве только такое, какое, например, литература нигерийская, пишущаяся на английском языке, имеет к Великобритании. То есть такую, которая занималась бы всецело израильской жизнью и культивировала бы исключительно израильские смыслы — всеми средствами, от содержания до эстетики, которая, следовательно, тоже должна быть собственной и укореняться в израильском культурном опыте. И это — в случае Генделева — была не просто идея, но продуманный проект.
«Русскоязычная литература Израиля, — объяснял поэт в одном из вошедших в книгу, написанном в 1986 году эссе, — литература не русская не потому (или — не только потому), что авторы ее — евреи и израильтяне, но потому, что:
— она описывает израильскую действительность (или исходит из израильской действительности);
— рассчитана первоочередно на израильского читателя (русскочитающего, а, в призрачной перспективе, и ивритоязычного);
— ориентирована — не только и не исключительно — на русскую культуру, не единственно на российскую ментальность и опирается не только на российский опыт.»
«Все вышеперечисленное, — признавал он, — дает основание предположить, что русскоязычная литература Израиля н е с у щ е с т в у е т. Зато в Израиле существуют русскоязычные писатели, что само по себе означает, что русскоязычная литература Израиля с у щ е с т в о в а т ь м о ж е т.»
Он даже усматривал у литератур такого типа серьезные традиции.
«Современная литература Нигерии англоязычна по форме — но глубоко нигерийна по содержанию. Не только язык — показатель обособленности литератур. Вдали своих лингвистических прародин жируют англоязычные, испаноязычные, франкоязычные литературы. И страна проживания не определяет писательского подданства — Ф. Кафка и Г. Мейринк — пражане, но уж никак не чешские немецкоязычные беллетристы».
От всех названных прецедентов замысленная израильская русскоязычная литература отличалась в одном принципиальном отношении: она не возникала стихийно, не складывалась как система. Ее надлежало именно создавать, и именно усилием.
Одинок, как уже было замечено, Генделев с этой идеей не был: он не раз обсуждал ее в разговорах с переселившимися в Израиль русскоязычными литераторами: с поэтом Анри Волохонским (сильное влияние которого, к слову сказать, испытал в пору работы над своей второй книгой, вышедшей в 1981 году, — «Послание к лемурам»), с прозаиками Юрием Милославским и Львом Меламидом, с эссеисткой Майей Каганской… Но, пожалуй, только он проводил ее в жизнь так настойчиво, так последовательно и продуманно. (Не говоря уже о том, что многие из тех, в ком он видел соратников по проекту и на кого возлагал надежды, из Израиля в конце концов уехали: и Анри Волохонский, и Юрий Милославский, и Леонид Гиршович, и Кирилл Тынтарев, и Юлия Шмуклер… Как пишут составители книги в «Кратком биографическом очерке» своего героя, «с 1979 г. еврейская эмиграция из СССР была фактически пресечена советскими властями, приехавшие в Израиль варились в собственном соку, читателей становилось все меньше. Иллюзии культурного взаимообмена развеялись: за вычетом людей, нашедших пропитание у официозных кормушек, Израиль отторгал „русский“ культурный анклав и не желал поддерживать его существование, предлагая на выбор абсорбцию или изоляцию». Но даже позже, после того, как «в 1993 г. Генделев получил премию фонда Р. Эттингер за достижения в области литературы, а в 1995 г. премию Я. Цабана (премия министерства абсорбции) в номинации „поэзия“ — в те годы высшие израильские литературные премии для литераторов-репатриантов, пишущих на родных языках», он не видел себя в достаточной мере признанным за пределами «русского» анклава. А важным чувствовалось именно признание за пределами: то есть, обретение израильской русскоязычной литературой статуса универсальной.
Только Генделев (кстати, независимо от того, что в последние годы и сам жил по преимуществу за пределами Израиля) — считая это своей миссией — вырабатывал для русскоязычной литературы своей страны не одну лишь идеологию, объясняющую читающим и пишущим, чем именно должна быть такая литература, но и образность, поэтику, совокупность приемов, характерные черты которой были замечены уже при жизни Генделева — по крайней мере, были проговорены сразу же после его смерти. В одном из тех текстов о поэте, об отсутствии которых в сборнике остается только жалеть, — в статье Александра Бараша «Смерть и бессмертье — два близнеца», опубликованной в мемориальном блоке о Генделеве в №4 (98) «Нового литературного обозрения» за 2009 год, уже, по горячим следам, сказано об этом кое-что принципиальное. Бараш говорил тогда о том, что поэтической речи Генделева свойствен «минимализм, подвижническая аскеза в выборе средств. Минимализм без редукции. Без редукции чувств, мыслей, связей с внешним миром. Более того — с их конденсацией и переходом в другое качество. Пафос очищается и возгоняется в лабораторных условиях диалога с высшим», — вплоть даже до того, что некоторые его стихи производят впечатление написанных «как будто на некоем праязыке: максимально-простом, исходно-общем». (Кстати, эта же статья прекрасно вписывает поэзию Генделева в контекст многовековых, идущих еще с XVIII столетия традиций именно русской литературы — не отказывая ей притом, что важно, в универсальности, понимая ее пути к этой универсальности: «<…> может ли, — задается вопросом Бараш, — стихотворение, написанное на русском языке, отражать опыт, не связанный с русским опытом?». Ответ его таков: «Тексты Михаила Генделева — из тех, которые отвечают: может, в той мере, в какой данный язык способен представить универсальную картину мира. Для этого поэт, пишущий иное стихотворение, должен быть, с одной стороны, естественным носителем другого опыта, изнутри другой жизни, и в то же время — естественным носителем, переносчиком русского языка в новом контексте. Эта задача сродни художественному переводу, но перевод осуществляется не на уровне слов, а на уровне, если так можно выразиться, ментального синтаксиса, коммуникативной практики словосочетания и предложения».
Аскетический минимализм и диалог напрямую с высшим — не единственные, но весьма существенные черты несостоявшейся русскоязычной литературы Израиля, — а что она так и не состоялась и, по всей вероятности, не могла состояться (для нее все-таки не нашлось достаточной по объему среды и аудитории), признавал ближе к концу жизни и сам поэт.
Но эта утопия — по крайней мере, в одном, отдельно взятом случае Генделева — оказалась исключительно плодотворной. Настолько, что даже не поворачивается язык говорить о «крахе» этой утопии.
Истинно ведь так — «страна проживания не определяет писательского подданства». Именно уехав из Советского Союза и живя в Израиле, систематически создавая себя как писателя израильского, а свои тексты — как часть будущей израильской русскоязычной литературы, именно отталкиваясь от русского опыта и жадно осваивая опыт израильский, Михаил Генделев чрезвычайно расширил возможности русского слова, нарастил его пластику, увеличил объем его памяти: и переводами из еврейских поэтов, и собственной поэтической работой. Добавил русскому слову универсальности (которая, по моему тайному, но глубокому убеждению, составляет одну из важнейших задач всякой национальной литературы — если не важнейшую вообще, и более того — достижима в полной мере исключительно национальными средствами). И достаточная по объему среда и аудитория у этой, воплощенной в одном человеке, израильской-русской литературы как раз есть: это, в пределе, — все, кто читает по-русски и восприимчив к русской поэзии, независимо от этнической принадлежности и географической локализации. Хотя бы вот и мы с вами.
2017
Припоминая свойства древних рыб
Первочувство и способы его передачи
Елена Генерозова. Австралия. — М.: Воймега, 2012
Если искать общего названия для стихов Елены Генерозовой — наконец-то собранных в один небольшую и очень точную по внутренней динамике книгу, — их можно было бы, пожалуй, назвать метафизической лирикой. Когда бы только не было так тяжеловесно и умозрительно — в совершенном противоречии с духом этих стихов — слово «метафизический».
Ну, скажем, так. Это — стихи о человеческих отношениях с тем, что привычно называть громоздким, медленным, обремененным множеством подтекстов словом «метафизическое»: с просвечивающей через все видимое — невидимой и тайной основой мира. О человеческом, непосредственном, не защищенном никакими умственными построениями переживании этой основы — никогда не называемой по ее прямому имени. Из особенной ли деликатности, оттого ли, что ее, если быть совсем честным, никогда нельзя ни увидеть, ни выговорить прямо? Только косвенно, угадывая, чуткой зрячей ощупью.
Если еще искать ключевых слов к этой лирике, среди них непременно должны быть слова «прозрачность» и «движение», «сквозняк» и «озноб» — зябко человеку на этом ветру —
Вдоль да по Питерской вновь временной сквозняк…
— и «замирание»: на пороге неизвестного.
Этот мартовский ветер, звенящий в ночных проводах,
Переулкам сырым разносящий молву о простуде…
Так открывается книга — сразу обещая читателю и автору на ее путях всю полноту незащищенности. На календаре этих стихов — ранняя весна: гулкое время вновь раскрывающихся пустот, время вытаивания из-под снега черной сырой основы существования. Время начал, время принципиальной растерянности перед вечно начинающимся, трудно брезжущим — и неизменно превосходящим человека — миром:
Что же делать тебе, проездной человек-инвалид?
А ничего с этим — с уделом человеческим — не сделаешь. Его можно только принять, только прожить изо всех сил:
…вдохни глубоко и почувствуй, как это болит,
Перемену ветров сопрягая с другой переменой.
Сразу вслед за вступлением — стихотворение, давшее название всей книге, — «Австралия»:
Ключ повернуть в замке, защелку вниз.
Когда мне снился этот коридор —
Свет редких ламп, и хоровод теней,
И дверь в конце — я знала, что за ней
Австралия…
Нет, это не об одном из континентов. Это — о распахивании неизвестного: об Австралии сновидческой, служащей тайным именем всего, чему еще предстоит — всегда только предстоит! — быть открытым; отважное проживание чего — одна из коренных задач «проездного», проходящего, преходящего человека:
…Все плыть на свет, вдыхая сырость стен,
Припоминая свойства древних рыб —
Спинным пространство ощущать, рекой
Воспринимая долгие пути…
При всем этом стихи Генерозовой — очень «здешние», посюсторонние, внимательные к обитаемой повседневности, к ее чувственным подробностям. Они готовы работать с любым материалом. В них запросто, на правах полноценных инструментов, вводится шершавая фактура этой повседневности, ее запахи и звуки («Тепло ли тебе, девица-зима, / Стоять у Ленинградского вокзала / Вдыхая запах чая, балыка, / Плохого спирта, хлеба, табака, / Приправленного паровозным паром?»), ее угловатые просторечия («всех замумукал вдрызг»), скрытые цитаты из старых советских песен — уже слившиеся до почти-неразличимости с массовым сознанием («А добрая и пьяная Москва, / Как в те года, когда броня крепка / Была и танки наши быстры, / Выходит из подъездов поплясать…», «…Что встретиться — сомнительно весьма, / Когда друзей по жизни разбросало…»), даже из современной массовой литературы (как заметил в предисловия к книге — кстати, интонационно очень родственный автору — Бахыт Кенжеев, Генерозова едва ли не первой ввела в русский поэтический обиход слово «дементор» из «Гарри Поттера»).
Под всеми этими защитными слоями, однако, не перестает быть и настойчиво пробиваться на поверхность одно — встревоженное первоизумление перед миром, даже, может быть, первострах перед ним:
…я боюсь, ей-богу,
Зыбких этих границ, колыбельных горьких
Для уходящих во тьму, никогда обратно…
Словом, чувство неокончательности данного нам в осязаемом опыте существования. Кстати, не случайно среди ведущих, настойчиво повторяющихся мотивов книги — сквозное и сквозящее движение, ветер, дующий едва ли не в каждом ее стихотворении, начиная с самого первого:
…Дрожит на ветру, продуваемое сквозным…
…Полны карманы / Прошлогоднего снега, и ветер сквозит за ворот…
…В тот мир, где сквозняки замели / Листьями сад…
…В те времена, где беглый ветер знакомый / запоет в кронах…
…И по комнате кружевом кружит, необъясним, / Ветер верный, попутный…
…тело мое ветер, дело табак…
На передачу этого чувства работает все, вплоть до неровного, задыхающегося ритма:
Мама, цветной ветер, покоя нет!..
…Рытвины сердца, швы берегов нервных…
Собственно, это то самое чувство — даже не понимание, а предпонимание мира и ситуации человека в нем, — с которым, как со своим первичным сырьем, работают, на свой лад его преодолевая — уже тем, что делают из него какие-то выводы, придают им вид рациональных формулировок — различные виды философской, психологической, религиозной мысли. Но вся эта работа разума и рассудка начинается уже потом, на следующем шаге — с неминуемым упрощением и огрублением, в угоду избираемым концепциям — исходного первочувства. Само оно — дословесное, почти докультурное. На этот уровень из всех культурных форм способна проникнуть, — глубоко, глубоко нырнуть, как та самая, спинным мозгом припоминаемая «древняя рыба», — воспринять его и передать как есть — без существенных искажений — может быть, только поэзия. Поэт имеет особенное мужество оставаться свидетелем при этих корнях речи, на «драгоценной грани» возможного и сущего:
Если бываешь оправдан, играющий homo,
Только тогда, когда, вот как сейчас, на мели,
То есть когда под пятой ощущаешь, немея,
Грань драгоценную жизни или земли,
Осознавая неведомое за нею.
2012
Неуязвимых нет
Донбасские чудовища и демиурги Анны Грувер
Анна Грувер. Демиурги в фальшивых найках / Пер. с украинского Владимира Коркунова. — М.: UGAR, 2020
Книга украинского поэта Анны Грувер — почти (или даже не почти) подростковая в своей нескрываемой уязвимости, отважной и категоричной ранимости. На это указывает и внешний облик сборника; не дело рецензента говорить об оформлении книг, но на сей раз перед нами тот редкий случай, когда есть все основания сделать исключение, когда дизайнерское высказывание вровень поэтическому (художник — Сергей Ивкин, сам поэт, прекрасно понимал, что он делает). Книга выглядит как человеческий документ, она почти рукописная: набросок, черновик, как бы на оберточной бумаге, мятой, заляпанной кляксами, — на том, что под руку подвернулось: главное — записать скорей, чтобы не пропало, — с угловатыми, как будто не вполне умелыми рисунками, очень похожими на те, что делают школьники на уроках в своих тетрадях, вымещая в них не находящую слов тревогу, а среди рисунков и клякс вдруг — пятна крови… И понимаешь: тут все смертельно всерьез. И звучащие со страниц книги голоса — а их много — кажутся чуть ли не записями реальной речи, сырой, со всеми ее шероховатостями и грубостями, неправильностями и просторечиями — как бы предшествующей литературной обработке — (на самом деле нет, здесь все очень продумано эстетически):
мы на заборе сидели она вешала белье
цепляла воробьев на тонкие провода под напряжением
на вопрос _когда это произошло отвечай когда_
я отвечаю: не знаю приблизительно в десять
ну примерно
а он отвечает
а он ничего не отвечает
на него даже не смотрите
он и раньше был задротом — ну чего от него ждать
«Демиурги в фальшивых найках» — это собратья автора по судьбе и поколению, подростки страшных провинциальных окраин предвоенного и военного времени, — создатели собственного мира из материала, который, казалось бы, ни к какому созданию не пригоден: из обожженных, окровавленных обломков. А другого-то и нет: единственная, жгучая юность пришлась на катастрофическое время.
а потом мы нарисуем так много тушканчиков
что они заполнят всю землю
и не останется места для долбовзрослых и зла
полная земля тушканчиков и два демиурга в фальшивых найках
Анна Грувер, человек разрушенного мира, знает этот опыт изнутри. Выросшая в Донецке и теперь живущая в Киеве, она из тех, чью юность — и таким образом жизнь в целом — перерубило войной. То, что она делает сейчас в поэзии, в решающей степени растет из этого опыта как стремление его освоить — понять то, что освоению и пониманию не поддается. «Думаю, нам самим пока что не понять своих чувств в полной мере», — сказала Анна в одном из интервью.
улицы нет города моего нет
Об ее стихах уже писали — и совершенно справедливо — что в них происходит поиск языка для мира насилия и боли, что они дают голос угнетенным и жертвам. Это правда, и именно потому стихи Грувер так многоголосы, многоинтонационны, полистилистичны, вбирают в себя чуть ли не весь шум времени (диапазон: от молодежного жаргона донецких окраин и языка поиска в Гугле — «очистить хистори да я хочу очистить хистори» — до лексикона философской статьи): единственного авторского голоса им недостаточно; свой голос и опыт поэт рассматривает как частный случай, один из множества.
Он скажет: нам некуда ехать
все пути закрыты
нас расстреляют на блокпостах
Они защищают край света
только внутренняя экзистенция
Она скажет: ты хотел сказать эмиграция
Он скажет: я хотел сказать то что сказал
В этих стихах много физически ощутимой боли, которую автор не намерен ни смягчать, ни скрывать. Тут больно не одному только человеку, больно самой плоти (человеком искореженного) мира, — потому что мир живой. Мир болеет человеком:
нарыв сухой земли воспаление в области пустыря
<…>
…дерево из костей животных растет вниз как зуб в десну
и уже скоро прорежет щеку
Грувер постоянно приходится изобретать способы говорить о том, о чем говорить невозможно: этого не позволяют (воспитанные обычным, довоенным образом жизни) защитные механизмы, от этого — в норме — отворачивается сознание, но на сей раз перед нами речь изнутри не-нормы. Грувер не отводит взгляда ни от чего. Читать эти тексты иной раз просто мучительно:
…Неизвестный повесился на проводе в телефонной будке
<…>
…опухшее тело
вздрагивает трясется
корчится извивается вьется
мнет себя касается сифилитических папул
Но я бы категорически не сводила ни опыт Грувер — к травме, ни ее поэтическую работу — к выговариванию (и тем самым — преодолению) пережитой, переживаемой катастрофы, к внимательной рефлексии опыта страха, унижения и отчаяния, к выведению на свет сознания его хтонических внутренних чудовищ (одним из них сборник — сразу обозначая свои предстоящие темы и интонации — и открывается: «хтоническое чудовище / из-под бурой воды / чью-то смерть поджидает <…> донбасское чудовище / не спит / бьет хвостом»). — Да, на всем этом ее работа во многом строится и, действительно, терапевтические интенции для нее очень важны. Однако по существу это — работа (названия книг не бывают же случайными) в буквальном смысле демиургическая: создания, собирания жизнеспособного мира в условиях его невозможности.
Субъект этих стихов (сколь бы ни был многоголос, он — один) категорически не намерен сдаваться. Он упрям, витален и пронизан чувством безусловной ценности жизни.
Важно: Грувер не нормализирует не-норму. От всего выговариваемого здесь так непрерывно больно именно потому, что оно вызывает протест, должно его вызывать и будет вызывать, пока человек не придумает, что с этим делать.
Писавшая о книге в «Артикуляции» Нина Александрова сказала о ней очень важные слова — обратив внимание на этическое значение всего, что тут сказано: «в мире, основанном на насилии, — справедливо говорит Александрова, — где оно — движущая сила всего происходящего, никто не в безопасности, неуязвимых нет, „все одинаково лишние“», — из чего для рецензента напрямую следует, что «в этом — сила. Одинаково слабые, маленькие, но — одинаково живые», что «солидаризация, объединение, срастание в коллективное тело — это закономерный выход и спасение».
Истинная правда: многоголосие и полистилистика текстов Грувер — прямое следствие сочувствия, эмпатии, принятия на себя чужой боли, понимания того, что никакой «чужой» боли не бывает, она вся — своя, хотя бы уже потому, что может случиться с каждым. Эта эстетика — этика в своем предельном выражении — таком, какое очень немногим по силам.
Но я бы тут поспорила с необходимостью срастания в коллективное до неразличимости тело как единственного спасения. Мне, напротив, видится тут острое и непреходящее чувство ценности индивидуального. Авторское «я» у Грувер никуда не исчезает, не растворяется ни в каком коллективном «мы» — и только потому и может говорить многими голосами: оно их все прекрасно различает. Тем более, что, как цитирует она в другом месте Примо Леви, «разные страдания, испытываемые одновременно, не соединяются в одно общее страдание». И для Грувер это важно.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
