
Бесплатный фрагмент - Два билета на Париж
Воспоминания о будущем
Часть I
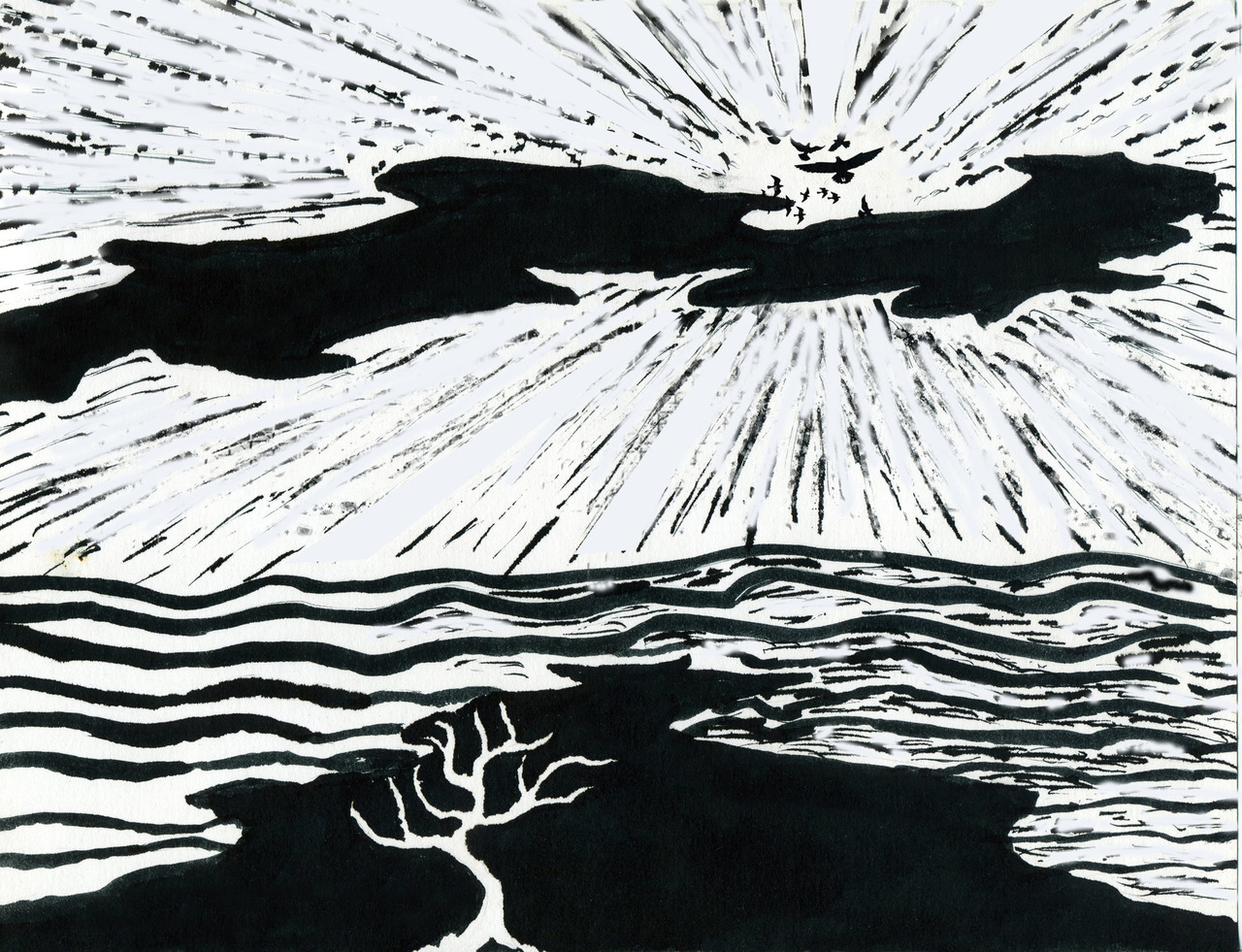
ПОЛУОСТРОВ
«Две области — сияния
и тьмы —
Исследовать равно
стремимся мы…»
Е. Баратынский.
ПРОЛОГ
Когда я родился, первое, что я услышал от тех, кто принимал роды: зачем тебе это нужно? Этот вопрос сначала меня напугал, а потом озадачил. Девять месяцев, находясь в невесомости, я летал в космическом пространстве, приобретая все больше и больше сил. Изучая телом пространство вокруг себя, я однажды пришел к мысли, что это не космос, а всего лишь временное жилище, что в этом жилище тесно, и чтобы получать новые наслаждения от познания и снова летать, необходимо приобрести нечто необычное, не похожее на черный океан. Мне захотелось открыть глаза, ухватиться за что-нибудь руками, выпрямить спину и разогнуть колени. Мне уже не нравилось хаотичное движение в ограниченном пространстве, но хотелось ощущения определенности в движении, чтобы это движение было осмысленным и направленным, чтобы построенная кем-то конструкция моего тела как разумное целое, перемещаясь в пространстве и во времени, являлась бы частью еще большей жизни.
Когда я родился, мир напугал меня обилием белого цвета. Там, в абсолютной темноте, мне виделось такое многообразие света и цвета, что первый день пребывания на земле меня страшно разочаровал. Мне было трудно дышать от огромного количества воздуха. Я ощущал свой вес и то, с какой невероятной силой меня давило к земле. Я старался освободиться от этой тяжести, размахивая руками и ногами, и успокоился лишь тогда, когда белое пятно обернулось вокруг меня, сжало со всех сторон, распределив тяжесть земли по всему телу. Потом я с жадностью припал к чему-то теплому и сладкому. Тогда я почувствовал, что мир, который покинул я, снова со мной, что познания его мною продолжаются. Что именно этот мир откроет мне значение происходящего вокруг меня, чтобы я с неутомимым упорством и постоянством, любопытством и удивлением тянулся к величию звуков, радости красок, тонкости запахов и постижению истины.
АРГАМАКОВО
Пятеро детей было у Максима и Аксиньи Акалёсновых. Две дочки — Ганя и Дарья, и трое сыновей — Егор, Митя и третий, о котором Акалёсновы никогда никому не рассказывали, не вспоминали даже его имени. До Октябрьского переворота семнадцатого года он работал у помещиков Шибаевых и в Великую смуту исчез вместе со своими хозяевами. Дарья — моя бабушка по матери — младшей была. Все родом из Аргамакова, что в десяти километрах от поселка Лермонтово Пензенской области.
Акалёсновы из зажиточных крестьян. Два дома было у них. Две лошади. Большое подворье. Небольшая мельница на запруженной речке. Ту речку до сих пор Акалёсновой зовут.
В начале двадцатых годов прошлого столетия, спасаясь от голода и террора, подались на юг в Баку сначала Егор, а следом за ним и Дарья. Егор был кузнецом. Профессия по тем временам и почетная, и престижная. Веселым он был. Большого роста, белокурый. Чисто российский парень. Моя мать любила его.
Дмитрий всю жизнь лесником проработал. И с белыми, и с красными мог найти общий язык. Но больше дружил с татарами, за что не любили его в деревне.
В двадцать восьмом году Егор написал Дмитрию письмо, чтоб тот приехал погостить, а если, мол, понравится, то, может, и остался бы. Сутки поездом добирался Дмитрий от Чембара (Белинского) до Москвы, и трое от Москвы до Баку. Егор жил в двадцати километрах от Баку. В Сабунчах. Там работал он на механическом заводе. В год, когда приехал Дмитрий, только пустили электричку. Она ходила от Баку до Сабунчей. Так и называлась она — Сабунчинка. То ли не было денег у Дмитрия, то ли от своей природной скупости, только решил он от Баку до Сабунчей пешком добираться. По дороге его ограбили и раздели. Пришел к брату в одних подштанниках.
Всю жизнь потом вспоминал Дмитрий эту поездку, и сколько Егор ни звал его, так больше в Баку ни разу и не приехал.
Я держу фотографию, на которой Дмитрий и Дарья сидят на лавочке у плетня. Разглядываю Дмитрия. Пытаюсь представить его молодым, но не получается. Коротко остриженные седые волосы цвета талька, злые с прищуром глаза, крепко сжатые узкие губы. В конце пятидесятых мы всей семьей — я, мать, бабушка, сестры Эмма и Севиль — приезжали к нему в Аргамаково погостить. Видели мы его редко, жил он все время на кордоне. Домой приходил взять хлеба да патронов для ружья. Ходил по комнате насупившись, опустив голову, что-то бубнил под нос. Вроде вертятся тут под ногами. Больше от него не слышал я ни слова.
Часто рассказывала мне мать, как в начале Великой отечественной войны приехали они вместе с бабой Дарьей в Аргамаково. Бабушка устроилась работать на ферму дояркой, а мать пасла колхозное стадо. В Великую Отечественную в деревне люди пухли от голоду, а у Дмитрия и мед, и хлеб, и брага по праздникам. Дмитрий жить в дом не пустил. Жили в старом сарае, где хранились сено, разбитая телега, упряжь для лошади и все то, что обычно там хранится, когда выбросить жалко, а дома лишь место занимает.
Но скоро наступили холода. Теплой одежды не было, там, на юге, ее обменяли на хлеб. Все, что валялось в сарае из тряпок, напяливали на себя. Видя их бедственное положение, председатель колхоза разрешил открыть покинутый заколоченный дом. Но топить было нечем. Дрова стоили больших денег, а их в колхозе не давали. Работали за трудодни, а когда их получишь? Только на следующий год. Есть нечего. Изредка Дмитрий давал миску муки. Смешивали ее с лебедой, добавляли жмых. Напечешь лепешек, посыплешь их конопляными семечками — вкуснее, кажется, и нет ничего.
Вспоминала мать: как-то летом, когда пасла стадо, объелась зерном зеленой ржи. Погоняя коров на ферму, упала возле дома Дмитрия вся зеленая. Живот набух, стал твердым, будто чурбан проглотила. Увидал такое Дмитрий, испугался: что люди подумают? Сам в достатке живет, а племянница с голоду померла. В дом принес. Стал по полу катать, словно куль, дерьмом набитый. Лежала мать потом в жиже и охала. Ничего, выжила.
До трудодней так и не дотянули. Весной вернулись в Баку.
Бабу Дарью по приезде посадили в тюрьму за прогулы. Мать же вернулась в заводское училище. Дали ей там новое обмундирование. Башмаки тоже дали. Только на левую ногу советский, а на правую, на два размера больше, — американский.
В ФЗУ (фабрично-заводское училище) было хорошо. Хоть учиться приходилось, стоя за станком по двенадцать часов, но зато кормили. Супы всякие давали. То, что оставалось на столах, мать собирала и носила Дарье в тюрьму.
Работала моя мать тогда на Кишлинском машиностроительном заводе. Было ей двенадцать лет. На этом же заводе после окончания техникума и я работал. Сначала газорезчиком, потом инженером инструментального хозяйства. В войну это был завод по ремонту танков. Здесь же выпускали снаряды для минометов и пушек. На токарном станке мама вытачивала корпуса для этих снарядов.
Этот завод сыграл в моей судьбе не последнюю роль. Двор наш находился напротив, через дорогу. Много наших пацанов начинало свой трудовой путь на этом заводе.
МАРДАКЯНЫ
В сорока километрах от Баку, на побережье Каспийского моря, в старом дворянском особняке был военный госпиталь. Мать и баба Дарья работали здесь. Здесь же они и жили. В сорок восьмом году после землетрясения в Ашхабаде оттуда в Мардакяны переправили партию раненых участников Великой Отечественной войны. Среди них был и мой будущий отец. Ходить он не мог после полученного в войну ранения. Привезли его на носилках. Дом, в котором он жил в Ашхабаде, рухнул после первого же толчка. Был он старой кирпичной постройки. Дед мой и отец не получили даже царапины. Из Ашхабада в Баку после землетрясения прибыло много пострадавших. Размещали их в госпиталях и больницах. Детей — в интернатах и детских садах.
Историю моего рождения мать всю жизнь от меня скрывала. Ни об отце, ни о его ближайших родственниках, как бы я ни просил ее, она ничего не рассказывала. Знаю только, что пролежал отец в госпитале год. Через год за ним приехали его мать и двое старших братьев. Мой отец и его мать умоляли ехать с ними. Обещали, что будет у них хорошо. А братья обещали построить дом для молодых. Но баба Дарья наотрез отказалась ехать. А бросить ее мать не смогла. Уезжая, отец плакал, а потом еще долго писал матери письма. Это было в сорок восьмом, а в сорок девятом родился я. В этом же году мать, Дарья и маленький я перебрались из Мардакян в Баку в общежитие Кишлинского завода, потому что жить с ребенком в госпитале не разрешили.
В пятьдесят втором мать вышла замуж за Алишку, осужденного и «вольнохожденца», который работал в гараже, что находился рядом с нашим домом. Через год родилась моя сестра Эмма. В том же году мать получила из Ашхабада письмо, из которого узнала, что отец мой умер в госпитале в городе Куйбышеве. Его похоронили на городском кладбище в одном ряду с солдатами, которые умирали здесь от ран, полученных на фронте в 41–45 годах.
Мать говорила мне, что всегда жалела о своем отказе тогда ехать с отцом на его родину. Но я ей не верил. Быть молодой женой лежачего больного — вряд ли это было ей под силу, хотя она у нас не слабая женщина.
ДЕЛОВОЙ ДВОР
Мое детство началось с того, что, играя в песочнице, я обидел мальчика, которому было столько же, сколько и мне. Я ударил его детской лопаткой. Ударил так сильно, что у того над бровью потекла кровь. Мне до сих пор жаль его. Я не помню его лица. Я никогда его в своей жизни больше не видел, но тот проступок помню всю жизнь.
Было мне тогда три года, и я никогда бы не вспомнил о нем и не знал бы, с чего началось мое детство, если бы тот мальчик не бросил мне песок в глаза.
В то время мы жили в Баку на Московском проспекте (Балаханское шоссе), дом 90, в Деловом дворе.
Это была заводская окраина. Два длинных барака с плоскими в южном стиле крышами, покрытыми киром (смесь гудрона, песка и мазута), стояли друг против друга. Окна одного барака смотрели на территорию овощной базы, а другого — на территорию гаража стройуправления. Оба барака торцами выходили на оживленную трассу, которая соединяла центр города с Апшеронским полуостровом. Через дорогу — Кишлинский машиностроительный завод. Изготавливали на нем оборудование для нефтяных промыслов. Наш дом в войну был конюшней гужевого транспорта, принадлежащей заводу. Потом бараки переделали в заводское общежитие, а после отдали ЖЭКу.
Шоссе напоминало «дорогу жизни». Что только ни везли в ту и другую сторону! В сторону полуострова везли станки, сельхозоборудование, цемент, качалки для нефтяных промыслов, яхты без мачт, катера, лес. Обратно — овощи, коров на мясокомбинат, тюки шерсти, хлопок.
В разгар курортного сезона автобусы вывозили из города на полуостров детвору в пионерские лагеря, отдыхающих в санатории и дома отдыха.
Иногда движение на дороге перекрывали. Тогда почти все с нашего двора, и стар и млад, выбегали к дороге посмотреть на чудо: автомобили черные «Чайки» в сопровождении эскорта мотоциклистов везли на встречу руководителей страны всех рангов. Кортеж проносился стремительно, а мы с сожалением, что никого не сумели разглядеть, понуро возвращались во двор. А какое счастье было бы дотронуться хотя бы раз до крыла этой удивительной «Чайки»!
Противоположными торцами бараки примыкали к забору бисквитной фабрики.
Двор наш со всех сторон окружали предприятия. Если забраться на крышу и, встав лицом к северу, медленно поворачиваться вокруг своей оси, можно увидеть: Кишлинский машиностроительный, завод Мусабекова, винный завод, завод фаянсовой посуды, бисквитную фабрику, маргариновый завод, мясокомбинат, овощную базу, завод счетных машин и опять Кишлинский.
Не было ни одного предприятия, которого бы мы, мальчишки, не облазили. Мы видели, как льется из ковша расплавленный металл, как лепят тарелки, как разливают вино в бутылки. Как пекутся торты и пирожные, как в огромных чанах, врытых в землю, солят пикули, и еще многое из того, что другим мальчишкам, живущим в центре города, даже в кино не показывали.
Но более всего нас манили запахи бисквитной фабрики. Запахи тортов, печенья, сгущенного молока, крема, шоколада и кофе. Этот букет запахов не давал нам ночью спать спокойно. Особенно когда легкий ветерок гнал эти запахи в сторону двора. Тогда фабрика казалась нам огромным тортом величиной с футбольное поле.
Был на этой фабрике нами любимый таинственный уголок. Лежали здесь горы десятилитровых оцинкованных банок из-под сгущенного молока и меланжа, отработанные транспортерные ленты, металлические сетки, старые электрокары и много другого добра в этом роде. Среди этой груды утиля стояло небольшое здание, в торце которого была большая двухстворчатая деревянная дверь. Дверь эта никогда не запиралась. Она вела в помещение, напоминающее бакалейную лавку с лабазами. Вдоль стен стояли деревянные ящики, которые до самого верха были заполнены обломками печений. Комната эта была как бы нашей бесплатной кондитерской.
По бетонному полу комнаты бегали здоровенные крысы, которые не боялись нас, когда мы в нее входили, а завидя нас, лениво расползались по щелям. Мы, прогнав их палками, подымали крышки ящиков и наедались обломками печений до тошноты. Наевшись, брали банку из-под сгущенного молока величиной с ведро, наполняли ее до краев и несли угощение во двор своим младшим товарищам. Но сначала нужно было по груде металлолома взобраться на крышу гаража, по ней пройти до забора, который отделял гараж от фабрики, потом босиком по каменному забору, утыканному стеклами, преодолеть путь до крыши нашего дома и, сбросив банки вниз, спуститься по сараюшкам во двор. Я с гордостью признаюсь, что за все время наших вылазок никто ни с крыши, ни с забора ни разу не свалился.
Из взрослых, кто работал поблизости от «нашей кондитерской», никто нас не гонял, наоборот, поймав кого-то за руку, совали за пазуху еще не остывшую пачку печенья. Пачка приятно грела живот, отчего есть ее почему-то не хотелось.
Было это в начале шестидесятых, когда в стране было много космических летательных аппаратов и мало хлеба в магазинах.
Среди заводов и фабрик наш двор не был одинок. Через шоссе, слева от Кишлинского завода, — двор моей юности Старый парк. Рядом с шинным заводом — поселок Двести пятый. Напротив фаянсового — Сорок резервуаров, за овощной базой — Кирпичный двор и Больничный двор. Нет предела человеческой фантазии. У нашего двора было особое название: Деловой двор. А интеллигентный Старый парк дразнил нас «деловушниками». Было у него и другое название — «сучий двор», которое дали ему те, кто приходил сюда к «женщинам лёгкого поведения», коих в нашем дворе было немало. Это обидное клеймо тяжелым бременем поселилось в моей душе. Когда меня спрашивали, где я живу, я уклонялся от прямого ответа и говорил, что живу либо в Старом парке, либо в поселке Двести пятом.
Между дворами особой вражды не было. Жили относительно дружно. Вместе играли целыми днями в футбол, строили плоты на озере из старых железнодорожных шпал, таскали бракованные тарелки с фаянсового завода, когда они были в стране в дефиците, и совершали «экскурсии» по близлежащим производственным объектам.
В нашем дворе проживали в основном русские. Из Краснодара, Саратова, Читы, Уфы. Кто-то бежал от немца, кто-то от голодухи. В войну в Закавказье можно было выжить. Жили дружно, почти без драк и скандалов. Всем двором справляли христианские праздники: Пасху, Родительское. По праздникам собирались в доме то у одного, то у другого. Пели российские застольные песни.
В двух бараках было семьдесят две квартиры. Наша была шестьдесят седьмая. По вечерам, когда раскаленное солнце пряталось за крыши овощной базы, а горячий, словно сковорода на плите, асфальт начинал остывать, во двор со своими стульчиками, скамейками, табуретками выползало взрослое население и рассаживалось кучками, чтобы поиграть в лото, домино, покер и другие азартные игры. «Элита» собиралась под виноградной лозой Изотовых. Мальчишки носились на деревянных самокатах, которые страшно гремели, и старики гоняли детвору из одного конца двора в другой.
Трудно сейчас понять, как такое количество народа умещалось во дворе, площадь которого была чуть больше площади волейбольной площадки. Старики со стульями, дети с самокатами, взрослые с мотоциклами. Умудрялись еще натягивать волейбольную сетку между домами от одного зарешеченного окна до другого. А если мяч попадал в кучку стариков, то обратно, как правило, долго не возвращался.
Были и танцы под радиолу, и песни блатные под гитару. А мы, малышня, сидели притихшие в сторонке и с завистью поглядывали на парней и девчонок, что были старше нас по возрасту. Они были взрослыми.
Женька Евтеев, кучерявый красавец, тот, который на гитаре играл, уже водил машину. Генка Чичков и Вовка Тришкин работали на Кишлинском. Витьке Шибаеву в армию скоро. Витька Волков, круглый, как булка, сосед, устроился столяром на стройбазу. Юрка Изотов, широкоплечий, похожий на цыгана задира-парень, и зимой и летом ходивший с обнаженным торсом, как будто нарочно выставляя свои мускулы напоказ, уже отслужил. Были еще два брата-погодки: Лева и Вова Федоровичи. Скромные евреи. Оба страстные охотники и рыболовы.
Среди девчонок поколения сороковых я помню только Шуру Тришкину. Сестру Володи Тришкина. Стройная и красивая девушка. В детстве я был влюблен в ее младшую сестру Любу. Голубоглазую и курносую, с веснушчатым лицом и двумя косичками-хвостиками. Мы учились с ней в одной школе и сидели за одной партой до третьего класса. В четвертом я стал стесняться своих чувств и пересел на последнюю.
То поколение сороковых жило своей жизнью и нас в свой мир не пускало. Но какие-то светлые чувства от мимолетного общения с ними покоятся во мне до сих пор. Мы, следующее поколение, во многом старались быть похожими на них. Их игры доставались нам по наследству. Их умение держаться с достоинством, не хныкать приводило нас в восторг.
В нашем заводском захолустье не было писателей, художников или летчиков. Это были дворы обыкновенных работяг, вдов и одиноких женщин. Много всякого сброда ходило к нам. Много камней летело в их сторону.
Жили в нашем дворе, как и во всех, наверное, люди добрые и злые, тихие и шутники, открытые и хитрые. Одни носили имена, другие просто «кликухи». К примеру: Колька Тряпичные Ноги. Невысокого роста мужичок с кривыми ногами, как у кавалериста. Редко ходил трезвым, но часто с гармошкой, распевая похабные частушки. Правда, жена его не давала муженьку разгуляться в полную силу. Колька не упирался, когда жена тащила его за шиворот домой, держа в одной руке мужа, в другой его гармонь. Казалось, другой ласки от жены он и не видал никогда. А дома он садился на табурет возле открытого во двор окна и продолжал горланить дальше.
Галя Шалман, соседка его по подъезду, мужеподобная женщина, если ходила за водой, ведра в ее руках казались игрушечными. В эту же компанию входила Ленка Походудела. Была еще Ленка Расписная. Это прозвище она получила за «шедевры», которыми было разукрашено ее тело. Лидка Зубатая — ее подруга, любовная женщина с огромным бюстом и тонкими ногами. У нее было столько мужей, что по именам она всех уж и не помнила. Хоть они и позорили «наш советский образ жизни», однако зла во дворе никому не чинили.
По части зла у нас была Лошадиная Голова, тощая, словно Яга, армянка с длинным носом и выпученными глазами. Вытянутое лицо ее действительно напоминало лошадиную голову. Все знали, что она была внештатным сотрудником ОБХСС. Возле ее дверей и окон народ не собирался. Старики никогда не садились в тень, которая падала от ее стены.
Был и свой весельчак дядя Павел. Вернулся он с фронта без ноги. Ходил вприпрыжку, опираясь на один костыль. Любил поболтать, побалагурить. Пьяным бывал редко, только по праздникам. Пел частушки, приплясывая на одной ноге и размахивая костылем. Мальчишки любили его за рассказы о войне. О себе он рассказывал редко. Никто никогда не видел его наград. Он их не носил ни в будни, ни в праздники. Лишь однажды сын его Борька принес большую коробку из-под конфет, раскрыл и показал нам потускневшие награды своего отца. Их было много, и все разные. Мы даже не успели в руках подержать. Борис захлопнул коробку и помчался домой, чтобы побыстрей спрятать ее. В то время многие фронтовики не носили наград. Самой большой наградой для них было то, что они вернулись живыми. «Настоящие герои остались там, на поле боя, — говорил дядя Павел. — А мы — самые великие должники на земле».
Судьба его сложилась трагично. Получил он машину от райсобеса. Инвалидную коляску с мотором. Взрослые ребята помогли построить для нее во дворе небольшой сарай. Через год, когда он выезжал со двора на шоссе, на него налетел грузовик. Хоронили дядю Павла всем двором от мала до велика. Четыре года войны. Прошел он от Сталинграда до Праги, а погиб дома.
Этот путь от ворот двора через шоссе для многих наших жильцов был последним. Четверо детей и трое взрослых погибло под колесами автомашин, трамвая, грузового поезда, пути которых пересекались недалеко от наших ворот.
Лидером среди нас был средний сын дяди Павла Вовка, по прозвищу Манюня. Во всех наших военных играх он был командиром. Ни умом, ни силой он от нас не отличался, но все тянулись к нему. Учился в школе он плохо и первым из нас пошел работать. Влияние его на ребят особенно укрепилось, когда он в поле за бисквитной фабрикой нашел револьвер. Наган был ржавым и барабан не вращался, но находка произвела на нас, пацанов, ошеломляющий эффект. Иногда Манюня давал нам его подержать, но за это просил несколько печений или конфет, у кого они имелись. На худой конец хлеба или вареной картошки. Мы с радостью отдавали ему все, что у нас было, и с трепетом принимали из его рук оружие. Когда я впервые взял в руки наган, я удивился, каким он был тяжелым.
Однажды Манюня принес наган в школу. Учитель его увидел и отнял наган. В кабинете директора школы уже имелась коллекция из предметов, которые Манюня приносил в класс, но оружие — это было уж слишком. Собрали экстренное заседание педсовета. Затем классное собрание. По школе поползли слухи, что Володька Изотов хотел застрелить учителя по физике Евгения Федоровича.
Гарник Самсонович, директор школы, высокого роста отставной майор, требовал исключения Изотова из школы. Но окончилось все еще одним «последним» предупреждением.
О потере оружия мы долго горевали. Даже строили планы, как забраться в кабинет директора и выкрасть из шкафа наган. Осуществить планы так и не удалось. Директора школы все боялись.
АРГУН
Где-то я читал, что память о детстве состоит из определенных запахов. Я помню запахи спелой айвы, преющей сливы на земле. Запахи мяты и крапивы по берегам арыков, которые протекали сквозь старые заросшие сады.
Это было в селе Предгорном в двадцати километрах от Грозного. Деревня стояла в пойме реки Аргун и напоминала райский уголок. Была она когда-то чечено-ингушской, но в войну аборигенов выслали, и теперь в их домах поселились русские семьи. Жили они с опаской и по ночам запирались на несколько засовов. В Предгорном Аргун разливался на многочисленные рукава. Село было сплошь изрезано арыками, ручьями и небольшими речушками. Они текли, огибая дома и пробиваясь или подныривая под хозяйские заборы и плетни. Текли сквозь старые фруктовые сады, наполняя их влагой и прохладой.
Мы строили на речушках деревянные игрушечные мельницы и с упоением наблюдали, как они вертятся. В жару, плавая в ручье, подныривали под забор, переплывая из одного сада в другой. Посинев от холода, выползали на травку, где сквозь кроны фруктовых деревьев пробивались столбы горячего солнечного света. Ползая по траве, подбирали переспевшие сливы, яблоки, терн и ели до боли в животе. Потом садились на край зеленого ковра и, свесив ноги в прохладную воду, смотрели, как спелые яблоки, словно корабли, проплывали мимо, прятались под склонившимися над речушкой кустами.
Аргун — своенравная река. Словно масло в жару, таял на ее излучинах высокий берег. Пологий берег был усыпан галькой и валунами, принесенными весенними селями. Пройдя вверх по течению, мы бросались в воды Аргуна, и тот бережно, словно пушинки, нес нас мимо деревни. Сейчас я с содроганием вспоминаю это, ведь плавать я тогда совсем не умел. Было это так давно, что оторопь берет. Но эта светлая картинка навсегда сохранилась в моем сознании.
Мы с бабой Дарьей жили в сельском клубе в помещении кассы, откуда раньше продавали билеты в кино или на концерт. Это была длинная узкая комната с высоким потолком. Стояли одна кровать, шкаф для белья и тумбочка. Единственное окно, которое было чуть меньше ширины комнаты, выходило в сад. Пузо печки-голландки выпячивалось из стены и занимало значительную часть помещения. Вход был со стороны фойе, где перед праздниками на больших красных полотнищах художники писали лозунги. Иногда оттуда просачивались запахи свежей гуаши и масляных красок.
Дарья работала уборщицей в клубе. Была она и строгой, и грубой. Но меня любила. Я ее тоже, как мог. Вместе с ней по берегу Аргуна мы собирали перья и пух домашних птиц. Дарья мыла пух, высушивала его на солнце и делала подушки, которые по воскресеньям возила продавать на рынок в Грозный. Иногда среди камней мы находили утиные или гусиные яйца. Это добавляло радости в наш пуховой промысел.
В конце лета приехала мама. Начались хождения по гостям. Одно из таких хождений мне хорошо запомнилось.
Во дворе дома, куда мы пришли, паслась стреноженная лошадь. Подойдя к ней сзади, я хлестнул ее прутиком по ногам, сказав: «Но-о!». Лошадь дернулась и лягнула копытами, которые просвистели слева и справа от моих ушей. Мать, увидев эту сцену, чуть не упала в обморок. Меня не била. Подбежав, схватила на руки и тихо заплакала.
Гостила она недолго и вскоре уехала.
Зима в Предгорном была теплая, мягкая. Почти до января не замерзали протоки.
Бегали с мальчишками за розвальнями. Примостившись сзади на концах полозьев, катались из одного конца деревни в другой. Тридцать первого декабря в клубе было организовано большое новогоднее представление. Огромная разукрашенная елка стояла посреди зала. На сцене выступала местная художественная самодеятельность. Показывали спектакль. А затем пел хор. Пели русские народные песни. Показывали народные танцы. Один танцор так растанцевался, кружась на одной ноге, что от него пыль столбом поднялась. После концерта кресла сдвинули, и начался новогодний бал для взрослых.
Засыпал я в нашей коморке под грохот духового оркестра. Было тепло и сладко. Под моей подушкой лежала картонная позолоченная звезда, подаренная мне Дедом Морозом.
Друзей той поры я помню только силуэты. Было их много. Носились мы по клубу, как оглашенные. Когда же я оставался один, смотрел, как художник старательно выписывал огромные буквы на красном полотнище.
Играя однажды в прятки, я спрятался за пожарным щитом. Щит был только прислонен к стене. Огнетушители, только что покрашенные, висели на нем. Выползая из своего укрытия, я его уронил. Огнетушители сработали и начали поливать фойе клуба отвратительной рыжей пеной. Попало же мне за это от Дарьи.
Эта зима была недолгой. В мае мы уже бегали по садам босиком. Но в это лето погулять вволю мне не удалось. Проткнул себе ногу насквозь ржавой проволокой. Целый месяц бабушка носила меня на себе в больницу на уколы.
Приехала мама с сестрой Эммой. Сестре только исполнилось два года. Была она маленькая, смуглая, с черными кучеряшками. Я ее сразу полюбил.
Мама прожила в Предгорном почти все лето. Работала на строительстве новой дороги, которую прокладывали в горы. Когда зажила нога, я стал носить ей в обед молоко и свежий хлеб из пекарни. В селе была своя пекарня, и мне нравилось ходить туда потому, что на все село от нее шел запах свежей выпечки, дрожжей и цветущих подсолнухов. Попросту говоря, потому, что она вкусно пахла, особенно зимой, когда эти запахи смешивались с запахом свежих колотых дров и угля.
Это лето в Предгорном пролетело быстро. Мама уговорила Дарью вернуться в Баку. Через год я должен был идти в школу.
Детство мое не было беззаботным и радостным. Четыре года я тяжело болел, и Предгорное для меня было тем уголком, в который, как мне казалось, я попал по счастливому билету.
Последний запах, который остался как воспоминание о Предгорном, это запах мазута и пыльной дороги. Грунтовые дороги там посыпали щебенкой и поливали мазутом. В смеси с пылью и дробленым камнем получалось своеобразное покрытие. По такой дороге мы ехали в Грозный на железнодорожный вокзал. Шины «газика» долго шлепали по липкому покрытию, словно мы переезжали вброд речку и никак не могли переехать.
ПОСЕЛОК МОНТИНА
Посреди нашей комнаты мама поставила белый табурет. Водрузив меня на него, стала наряжать в школу. Школьная форма, которую она привезла из Москвы, шуршала и дыбилась, словно картон. Вдобавок ко всему она еще и кололась, и все тело мое не хотело принимать эту амуницию. Нахлобучив мне на голову форменную фуражку и всучив в руки новенький портфель, в котором лежал один-единственный букварь, мама стала меня разглядывать. Похоже, она была недовольна моим внешним видом. Форма была куплена на вырост и сидела на мне, как на колу.
Выйдя в общий коридор, постучались в квартиру Тришкиных. Мое детское сердечко екнуло, когда я услышал легкие шаги. В дверях стояла девочка-ромашка. Белый фартучек и два огромных банта в косичках светились в темном дверном проеме. Родители вручили нам первоклассницу, и мы помчались на автобусную остановку.
Заводской автобус, который стоял на площадке у административного здания КМЗ, забирал детвору нашего двора, чтобы отвезти в школу. Ждали только нас. Усевшись у окна, я уже забыл и про свою форму, и про девочку-ромашку — Любу Тришкину.
За окном мелькали деревья. Огромный самолет, прогудев над нами, шел на посадку. Остановились у железнодорожного переезда. Тяжело отстучав колесами, прошел нефтеналивной состав. На переезде нас слегка потрясло, и детская компания оживилась. Железнодорожных путей на переезде было много, и все весело гоготали, когда наш автобус переваливался с боку на бок, преодолевая очередное препятствие.
Вот и поселок Монтина. Отсюда начинался город. Здесь ходили трамваи, а высокие дома времен первых послевоенных пятилеток подчеркивали относительное благополучие горожан. Мне всегда казалось, что в этих домах живут особенные, не доступные моему детскому воображению люди. Казалось, что живут они другой, более интересной, чем наше бытие, жизнью. Что они выше нас ростом, никогда не болеют. Что это те, которых показывают в кино, про которых пишут книжки.
Автобус остановился возле металлического забора нашей школы. Старое серое каменное четырехэтажное здание вводило меня в трепет своей строгостью.
Обойдя его с левой стороны, мы очутились в просторном школьном дворе. Детвору разбили по классам, построили парами. Когда из репродуктора зазвучал Гимн Советского Союза, все смолкли. Кто-то из учителей произнес торжественную речь. Стали разводить по классам. Началась суета. Мама где-то затерялась. Я держал Любу за руку, боясь, что нас разведут по разным кабинетам. Какая-то учительница уговаривала меня отпустить руку, но я держал ее так крепко, что на глазах девчонки выступили слезы. Нас посадили втроем за одну парту. А на следующий день мы уже сидели с Любой вдвоем в другом классе.
Для меня поселок Монтина был началом большой новой жизни. Не столько школа, сколько сам поселок, его жители. Я уже чувствовал себя причастным к той жизни, которая протекала в понравившемся поселке. Мне нравилось быть участником происходивших в нем событий. И я понемногу уже стал стыдиться своего убогого жилища, своего двора.
Школа №193 была лучшей в нашем районе, и когда построили новую в поселке Двести пятом, нашу ребятню начали насильно в нее переводить. Это началось после третьего класса. Остались только я и Люба Тришкина. Мать упорно боролась с администрацией школы, не желая переводить меня в другое учебное заведение. Закончилось тем, что, не доучившись, я бросил дневную школу и пошел в вечернюю, устроившись на работу.
Из всех учителей школы №193 я больше запомнил учительницу по математике. Вызывая к доске, она шлепала меня по макушке рукой, на которой было широкое обручальное кольцо, приговаривая: «Околёснов! Учи, учи, учи». После чего, поставив мне очередную двойку, со злорадством усаживала на место. Что интересно, когда я поступал в Ленинградское арктическое училище, алгебру и геометрию я сдал на «отлично», хотя именно по этим предметам я оставался дважды на второй год.
Но не все так мрачно было в дневной. Были и любимые предметы, и любимые учителя. И одноклассники толпой за мной ходили, особенно после того, как мы вечером залезли на Кишлинский завод, где случайно наткнулись на окна женской душевой.
Дух бродяжничества зарождался во мне в то время. А дружба со школьным товарищем Володей Дудником потихоньку перерастала в страсть к путешествиям. Он был на год старше меня, намного выше ростом, атлетически сложен. Мы быстро подружились еще и потому, что жил он недалеко от нас, в соседнем дворе в Старом парке. Он знал много романтичных песен, которых я никогда раньше не слышал. Читал стихи не из школьной программы. Много лет спустя я узнал, что эти песни назывались бардовскими.
Убегая со школьных занятий, мы шли с ним смотреть, как взрывали скальный грунт во время разбивки сквера в поселке Монтина. Ходили в музеи, мотались по городским свалкам. Ездили на электричке на остров Артем, и даже однажды он затащил меня в общество «Знание» на лекцию по физике.
Наши массовые гуляния закончились тем, что нас чуть не отчислили из школы за прогулы, и они прекратились так же внезапно, как и начинались. Мы схватились за учебники, но для меня вопрос был уже решен: я остался на второй год, а он перешел в девятый. Дружба наша на этом не заканчивалась. Наоборот, она перерастала в братство, которое помогало нам в познании себя и того взрослого мира, на пороге которого мы стояли. Мы понемногу мужали.
АЛИШКА
За поселком Двести пятым на пустыре, рядом с нефтехранилищем, которое находилось за высоким каменным забором, был большой бассейн. В нем хранили воду «на всякий пожарный случай» в прямом смысле этого слова. Вода была такой соленой, что глоток ее мог отрезвить любого ныряльщика. Сюда ребята, что постарше, ходили купаться. Нас, малышню, с собой не брали.
Алишка, мой отчим, был примерно лет на десять старше них. Многим он был симпатичен. Многие его уважали, а некоторые побаивались за его «криминальное прошлое». Однажды ребята уговорили Алишку пойти с ними купаться. Отчим взял и меня с собой. Плавать я не умел, и он решил научить меня этому. Просто взял за руки, поднял над водой и плюхнул в бассейн. Вмиг я очутился в темном тягучем пространстве, пугающем своей зыбкостью, не похожем ни на воду, которая текла с неба или из крана, ни на ту, в которой купала меня мать. Выныривая из-под воды, я ощутил такой страх, что остервенело заработал всем своим телом и конечностями. Воды нахлебался много. Отхаркивался и отплевывался долго. Но за три подобных сеанса, которые мне преподал отчим, научился плавать.
Али Алиева я никогда не называл отчимом. Для меня он всегда был отцом.
Был он страстным голубятником. И я, и мать ревновали его к голубям. Чувства свои ко мне он никогда не показывал. Ни разу не взял меня на руки, не погладил по голове, не говоря уже о ласковых словах, и это порой доводило меня до отчаяния. Шалил я много, и мать часто бегала за мной вокруг стола с половой тряпкой, но он относился к моим шалостям так, словно не замечал их. Я не мог понять: кто я ему? Дарья порой тихо нашептывала, что он мне не отец. Это причиняло боль, но другого отца я и знать не хотел. Да и не нужен мне был другой.
Он был точь-в-точь похож на индийского актера Раджа Капура, а после всенародно любимого фильма «Бродяга» популярность отца в нашем дворе умножилась. Он даже пытался петь песни из индийских кинофильмов, но пением вызывал только хохот у окружающих: слуха у него совсем не было.
Когда отец ушел от нас, мать все время внушала нам, что он злой, вредный и жадный. Но был он человеком мягким и беззлобным. Во дворе ни с кем никогда не ругался, пытался споры улаживать мирными переговорами, хотя его криминальное прошлое вызывало у многих трепет и сомнения. Но больше всех во дворе его боялась баба Дарья. Его напускную строгость никто не принимал всерьез, а Дарью она приводила в трепет.
Наши резкие внешние отличия с отцом настороженно принимались его друзьями-азербайджанцами. Я видел, как он переживал из-за этого, я и сам тоже переживал. Был я светловолосым, белокожим, он был черным, как смоль.
Одиннадцать лет мы прожили вместе. Для меня это была целая эпоха. Мать от него родила двух дочерей — Эмму и Севиль. Уходя, Севильку он забрал с собой.
Многим я ему обязан, и благодарен в первую очередь за то, что Али не пытался делать из меня мусульманина, хотя жили мы в мусульманской стране, по мусульманским законам. Даже с дворовыми азербайджанцами он говорил только на русском языке, так как этот язык для него был больше, чем способ общения. Для многих Али был своим: близким и понятным, независимо от возраста и национальности, только для матери он был чужим.
Пить он не пил, но курил много. Воспитанием детей почти не занимался. Жил как-то поодаль от семьи. Деньги приносил исправно, и все вечера напролет возился со своими голубями. Его внутренняя свобода приводила мать в раздражение. Когда он собрался переезжать из Баку в свое родовое гнездо в поселок Маштаги, мать с ним ехать отказалась. Так они и расстались.
Потом он еще четыре раза был женат, «настругал» кучу детей, но до самой кончины говорил, что любил только Тоньку — мою мать.
СТАРЫЙ ПАРК
Прямо напротив нашего двора, через дорогу стояло двухэтажное административное здание Кишлинского машиностроительного завода (КМЗ). Когда-то на первом этаже здесь были почта, заводская библиотека и небольшой кинотеатр мест на пятьдесят. Можно сказать, что для нашей округи это был единственный своеобразный культурный центр. Отсюда начинался мой путь к культуре. Первые серьезные книги и фильмы — все отсюда.
Перед зданием — небольшой скверик: посадки олеандра, маслин, приморских сосен и тутовника. В этом уютном уголке проходило мое босоногое детство. Наши игры и первые свидания с девчонками. Здесь же, на краю скверика у дороги, стоял киоск «Соки — воды», хозяйкой которого, сколько я себя помню, была грузная розовощекая еврейка Сара. На лето она нанимала наших пацанов продавать мороженое. Продавал мороженое и я. Утепленный деревянный ящик на подшипниках, доверху набитый ценным грузом и засыпанный сухим льдом, мы возили по нашей округе. Когда торговля шла совсем плохо, приходилось тащить ящик в поселок Монтина.
Путь в Старый парк лежал через сквер влево, вдоль забора КМЗ. Пройдя мимо здания литейного цеха, нужно было свернуть направо за угол летнего кинотеатра. Здесь было заводское футбольное поле. За ним три одноэтажных здания с косыми крышами, окруженные палисадниками и огородами. Почерневший от времени деревянный забор, огораживающий садики и огороды, говорил о том, что здесь умеют бережно относиться к земле. Насколько я знаю, никто из ребятни других дворов никогда даже не пытался лазить по здешним садам, хотя таковыми их можно назвать с большой натяжкой.
Старый парк был центром «спортивных состязаний». По периметру футбольного поля росла густая трава, что было большой редкостью для здешнего климата. В футбол мы играли с азартом ярых фанатов: с раннего утра и до заката солнца. Вообще, этот вид спорта на юге имеет массовый характер. Играют в него все возрасты, кто более-менее держится на ногах.
Никакого парка здесь никогда не было. Жили здесь когда-то люди военные; рядом был военный аэродром и части ПВО. Когда же аэродром перебазировали на новое место подальше от города, уехали и те из военных, которые жили в Старом парке. Но элитарный дух двора каким-то образом сохранился. Ребята здешние, в основном, были выше нас ростом, образованней и начитанней, с какой-то врожденной внутренней культурой. Это притягивало меня к ним, хотя подружиться по-настоящему я смог только с Володей Дудником.
Старый парк был островком моей юности. В начале шестидесятых в стране происходили большие перемены. Это время совпало со временем моего взросления. Менялись жизненные ориентиры, жизненные интересы. Менялось мое отношение к женскому полу. Наши уже не детские игры провоцировали не только желание смотреть на девчонок, а случайно прикоснуться к какой-нибудь из них, вдохнуть запах волос. Мечты и фантазии, страсть и разочарование — все здесь было впервые.
Желание быть наравне с другими и тайное желание в чем-то быть лидером. С трудом и со скрипом, но все-таки дворовые ребята Старого парка приняли меня в свой круг. Может быть, не так, как бы мне хотелось, но то, что я был уже не чужим в Старом парке, меня уже радовало.
Это произошло еще и потому, что многие из ребят этого двора учились в вечерней школе при КМЗ, там, где учился и я. Наши жизненные интересы пересекались, а желания совпадали.
Деловой двор все меньше стал меня интересовать. Я буквально рвался со двора. Мне хотелось бывать там, где, как мне казалось, происходили и еще произойдут самые важные в моей жизни события.
А события развивались стремительным образом. В начале семидесятых жильцов стали выселять в новые районы, Старый парк списали на слом. А за год до этих событий уехал в Россию Володя Дудник. Островок юности растаял на глазах.
Осталось грустное воспоминание о том, как в походе в Набрани разбила нашу группу горная река, как плутали по лесу и добирались домой, кто как мог. Почему грустное? Потому что ребята отвернулись от меня, а жизнь не дала мне шанса и времени реабилитироваться, оправдаться благородными поступками, хотя вины за собой я не чувствую. Виновата была наша молодость и бесшабашность, с которой отнеслись ребята к походу. Из всех лишь Володя Дудник понял меня и поддержал.
Но сегодняшняя жизнь покруче той горной речки. Так разметала нас по разным частям света, что и рады бы сейчас увидеться, да не получится.
Единственное, о чем сейчас я жалею, так это о том, что сам разорвал дружеские отношения с Дудником. Не стал писать ему, посчитав его отъезд в Россию предательством.
АПШЕРОН
Западный берег азербайджанского Каспия, что вдается в море на шестьдесят километров в виде орлиного клюва, называется Апшеронским полуостровом. Здесь множество грязевых сопок, бессточных котловин, имеющих солончаки и соленые озера. Пустынные барханы с подвижными песками, которые, плавно сползая в море, переходят в прекрасные песчаные пляжи. Временами эти пляжи удивляют своей безлюдностью в разгар курортного сезона. Крупными оазисами разбросаны по полуострову курорты, лечебницы и пионерские лагеря. Триста дней в году здесь дуют сильные северные ветры, которые разносят пески по городу и селениям.
По полуострову кольцом проложена электрифицированная железная дорога. Она связывает поселки в живой единый организм, который существует непонятно по каким законам. В электричках в летнюю жару мальчишки разносят и продают воду, а предприимчивые крестьяне возят на рынок овец. Азербайджанцы — народ ушлый. Даже в расцвете социализма они умели добывать деньги, не работая в госструктурах, а живя, в основном, за счет торговли. Помню, как отец привез из горного селения неизвестно каким образом добытого живого дикого кабана. А перед тем как застрелить, его во дворе развязали. Кабан метался по двору, а отец бегал за ним, бабахая из ружья. Было смеху потом.
Мальчишкой я исходил и изъездил полуостров вдоль и поперек. Лазил по грязевым вулканам, собирал дикий инжир и ежевику, купался в соленых озерах. Прошел пешком всю береговую линию полуострова. Ловил морских раков и бычков. Собирал по берегу морскую траву для матраца, ракушки. Море всегда притягивало меня буйством своей стихии. Ему я посвятил первое в своей жизни стихотворение.
В шестьдесят втором году, когда я бросил дневную школу, мать устроила меня к себе на работу, на железную дорогу. Это дало мне возможность бесплатного проезда в электричке. Поэтому каждое свободное воскресенье я пытался использовать максимально.
Особых достопримечательностей на полуострове нет. В основном, многие районы утыканы нефтяными вышками с качалками, а земля вокруг них залита нефтью. Между вышками по узкоколейной железной дороге снуют маленькие паровозики, развозя по нефтяным промыслам нефтяные цистерны и рабочую смену. Такие паровозики в народе назывались «кукушками». В них было что-то детское, и детвора, убегая из школы, каталась в них. Для меня это было что-то вроде детской железной дороги. Двигалась «кукушка» медленно, словно везла народ на экскурсию. Многие пассажиры выпрыгивали на ходу у нужного места, не дожидаясь остановки. Но иногда под горку неслась она так быстро, что дух захватывало. Вагончики мотало из стороны в сторону, они словно готовы были выпрыгнуть из виляющей колеи. После таких «экскурсий» я приходил домой весь измазанный нефтью и долго оттирал керосином портфель, обувь и одежду.
Самым любимым моим местом бродяжничества был остров Артем. Сюда два раза в сутки ходила электричка. Само слово «остров» приводило меня в трепет. Когда я впервые ступил на его землю, мне казалось, что я очутился на острове сокровищ. С большой землей он был связан двухкилометровой дамбой. Здесь была хорошей рыбалка. Но лучше всего ловились раки. Однажды к дамбе величиной со шкаф прибило огромную голову белуги. Когда я перевернул ее, увидел, что она сплошь увешана раками. Я сразу собрал полную сумку и авоську. Раков я потом раздал во дворе, потому что знал: в этот раз мне от матери обязательно попадет за путешествия.
Свободы у меня было предостаточно. Алишка бросил нас, когда мне было одиннадцать лет. Мать работала на железной дороге по двенадцать часов. Сестра Эмма всю неделю была в интернате. Школа меня упорно вытесняла из своей среды. И за двойки, и за мою несговорчивость с учителями, и за прогулы. А тут еще у матери приключился роман с Женей Евтеевым, который был на десять лет моложе нее, и ей было не до нас с сестрой. В общем, свободный гражданин свободной страны. Единственное, от чего я страдал, так это от нехватки дома еды. Зарабатывала мать мало, а я рос быстро, питался плохо, и вечно был голодным.
Гуляния мои прекратились в пятнадцать лет, когда мать устроила меня к себе на работу, и я пошел учиться в вечернюю школу при КМЗ. Точнее, мои похождения приобрели организованный характер. Я всерьез занялся туризмом.
ЛЕНИНГРАД
Свою первую получку я потратил на подарки сестре и матери. А в свой первый рабочий отпуск мы решили всей семьей поехать в Ленинград. Билеты на поезд у нас с матерью были бесплатные, так как мы работали на железной дороге.
Мать купила четыре ящика отборных помидоров, уложила их в два чемодана. Взяв немного вещей в дорогу, мы отправились в путь в прицепном вагоне через Москву. Ни родственников, ни знакомых в Ленинграде у нас не было.
Дорога долгой не показалась. Через три дня мы были на месте.
С вокзала с помидорами мы сразу отправились на рынок. Надели фартуки, встали за прилавок и, чтобы быстрей избавиться от них, стали продавать по госцене. Здесь мать разговорилась с соседкой по прилавку — Галей. Познакомились. Так как ночевать нам было негде, тетя Галя предложила нам остановиться у них. Жила она в деревне Торики у станции Горелово, что в двадцати пяти километрах от Ленинграда по Гатчинской ветке.
Аккуратный деревянный дом с резными наличниками стоял, как игрушечный. Крашеный штакетник окружал дом и небольшое приусадебное хозяйство. Хозяин, дядя Вася, с порога пригласил нас в дом. Рукава его рубашки были засучены по локоть, и я обратил внимание на его жилистые натруженные руки.
Первым делом он стал показывать нам свое произведение — дом, который построил собственными руками. Мать, всю жизнь мечтавшая о таком жилье, только ходила ахала да охала. Большая стеклянная веранда была залита лучами заходящего солнца. На веранде тюлевые занавески. Три комнаты отапливались одной печкой-голландкой. Добротные крашеные деревянные полы. Все сделано с душой, с любовью.
Жили мы у них неделю, не более. Всего лишь раз сходили в Эрмитаж. Все остальное же время таскались за матерью по магазинам.
На следующий год летом дядя Вася, тетя Галя и двое их детей приехали к нам в Баку погреться на солнышке и поплескаться в море.
В тот год, закончив восьмилетку, я решил поступать в Ленинградское арктическое училище на геофизическое отделение. Романтика дальних дорог не давала мне покоя. Я много читал об Амундсене, о его полярных экспедициях, и книги эти еще больше подогревали мой интерес к путешествиям.
Ленинградские гости уехали, а следом за ними в Ленинград поехал и я, взяв с собой полчемодана учебников и гитару.
В приемной комиссии, куда я сдавал свои документы, долго разглядывали мое свидетельство об окончании восьми классов. Один из преподавателей сказал мне, что за все существование училища это первый случай, когда абитуриент из южной республики.
Поселился я у тети Гали и дяди Васи. Мне выделили отдельную комнату с голубыми обоями, письменным столом и с видом во внутренний дворик. Потянулись долгие дни волнений и подготовки к экзаменам.
За это время я успел познакомиться и подружиться с соседями: братом и сестрой Шутовыми. Оля была на год старше меня. Светловолосая, сероглазая, похожая на прибалтку, стройная девушка. Ее же брат, Анатолий, на два года младше меня, был темноволос. Мы быстро подружились. Моя затворническая жизнь закончилась. Вместе мы ходили в Горелове на озеро купаться, в лес по грибы, лазили по местным садам и огородам.
Экзамены я провалил. По физике и математике получил по пятерке, а по русскому двойку. Не смог написать диктант. Мне даже пошли навстречу: разрешили пересдать экзамен по русскому, но и во второй раз написать диктант я не смог. Все мои планы и мечты растаяли как дым.
Я не знал, что делать. Ехать в Баку было стыдно, да и денег уже не было, потратил их все. Написал матери письмо, что хочу остаться, и чтобы выслала она денег. Стал ждать ответа.
Тетя Галя, видя, что дело с моим пребыванием у них может затянуться на неопределенное время, договорилась с Шутовыми, чтобы я пожил некоторое время у них. Тетя Катя — мама Толика и Оли — согласилась. Взяв мои нехитрые пожитки вместе с гитарой, тетя Галя отнесла их в дом Шутовых. Так я у них и поселился.
Вскоре пришли из Баку посылка с теплыми вещами и почтовый перевод на сумму сто пятьдесят рублей. Надо было решать: оставаться или ехать домой, и я решил остаться.
Потом я поступал в профессиональное училище, но не прошел собеседование. Устраивался на работу и не мог устроиться: нигде не хотели иметь дело с семнадцатилетним пацаном. По лимиту не брали потому, что не было еще восемнадцати. Получался заколдованный круг.
В поисках работы я добрался до захолустного городка Капорье, что в семидесяти километрах от Ленинграда. Взяли меня рабочим скотного двора. Дали общежитие. Маленькая комнатушка на два человека, печь дровяная, от которой было больше дыма, чем тепла. Денег не было, питался полмесяца тети Катиными варениями с хлебом да морковью, что собирали в поле. Когда приезжал по воскресеньям к Шутовым, в доме стоял хохот. Ко мне невозможно было подойти: от меня несло крепким запахом навоза. Тетя Катя тут же отправляла меня в баню. Своей в доме у них не было, и я ходил в Горелово.
К тому времени наши с Юлей отношения далеко зашли. В доме Шутовых заметно похолодало. Оля то подпускала меня к себе, то резко отталкивала. Делать предложение ей я не собирался. Сначала мне надо было поступить в Арктическое училище или хотя бы найти путевую работу, но дела мои в этом плане совсем не клеились. К тому же я был просто не готов к жизненным трудностям, и это меня угнетало, а российские холода меня совсем доконали. Одет я был не по сезону и постоянно мерз и простужался.
Проработал я скотником недолго. До декабря. Была еще одна попытка «встать на ноги». В январе я устроился учеником матроса на судно, но меня не прописали в общежитии, так как я уже был однажды прописан по лимиту, а дважды не прописывали. Я опять остался без работы. Еще два месяца тетя Катя помогала мне в поиске работы, но закон по прописке звучал как приговор: дважды по лимиту не прописывать.
В марте приехала мама. В разговоре с ней я не удержался и расплакался от отчаяния. Решил возвращаться в Баку.
Я часто думаю о том, как повернулась бы моя жизнь, если бы я сумел набрать всего три балла по русскому языку. Мне не хватило всего одного балла, чтобы жизнь моя изменилась коренным образом.
Ленинградская история оставила незаживающую рану в моей душе, чтобы никогда более я не смог приехать в северную столицу. Меня сдерживал от этого страх отчаяния и беспомощности, которые охватили меня тогда, когда я преодолевал сопротивление судьбы. Мне больше не хотелось показывать свою слабость Оле — человеку, который был для меня ближе всех родных. Мы были слишком молоды тогда, чтобы суметь нести груз ответственности друг перед другом. В этом возрасте нам еще хотелось, чтобы большие проблемы за нас решали наши родители, хотя родителям, наверное, казалось, что мы уже взрослые и сами можем со многим справиться.
Но иногда хочется увидеть ее и спросить: «Как ты жила все эти годы?»
ДОМ
Жили мы в квартире 67 впятером. Я, мать, баба Дарья, сестры Эмма и Севиль, которая, повзрослев, не захотела жить с отцом в поселке Маштаги, и мать ее забрала.
Ни в нашем дворе, ни в Старом парке не знали, что я провалился на экзаменах. Мать всем говорила, что я учусь в мореходке, а мое возвращение я объяснил как «отпуск с последующим прохождением практики на Каспийском море». Пришлось подстраивать свою дальнейшую жизнь под это вранье.
Устроился я в «Каспнефтефлот» учеником матроса на самое большое в Европе крановое судно «Кёр-Оглы». После получения звания матроса второй категории мне выдали форменное обмундирование. Под этой формой я пытался скрыть все свои ленинградские неудачи. Но морской волк из меня явно не получался. Капитан судна не раз мне говорил: «Околёснов, моряк из тебя никогда не получится», хотя вождение судна мне доверял. Я и сам знал это, но оттягивал то время, когда все тайное наконец станет явным. Из-за этого вранья я перестал ходить в Старый парк.
С возвращением в Баку жизнь моя приобрела какую-то стройность и порядок. Не нужно было думать о хлебе насущном, о тепле. Мать и накормит, и обогреет. Все как будто бы получалось. Со временем я начал понимать: многим, оказывается, все равно, учусь я в Арктическом училище в Ленинграде или хожу по Каспию на судне моряком.
Через год после моего возвращения к нам в гости приехала Оля с подругой. Гордая и красивая. Сердце екнуло от неожиданности. Нагрянули щемящие душу воспоминания. Общалась она, в основном, с моей матерью. Я же ходил по комнате угрюмый, с чувством собственной вины и оскорбленного самолюбия.
Оля побыла у нас всего три дня, и так же, как появилась, неожиданно уехала.
Я сделал еще одну попытку поступить в училище. Из моего письма Оля знала, что я должен был приехать в Ленинград. Встретила меня тетя Катя и рассказала, что Оля устроилась на работу на завод, что она уехала с сослуживцами на все лето на сельхоз работы.
Экзамены я, конечно, опять завалил. И опять по русскому. Но, взяв у тети Кати адрес, помчался разыскивать деревню на Юго-западе Ленинградской области, где работала Ольга.
С пересадкой доехал на электричке до Ораниенбаума, оттуда поездом до Усть-Луги. Затем пешком ночью мимо пограничной заставы до центральной усадьбы колхоза. Но на заставе меня сцапали пограничники. Выслушав мою душевную исповедь, сержант улыбнулся и предложил заночевать в сторожке.
Утром, перейдя вброд две речки, я добрался до нужной деревни.
На сельхоз работы завод отправлял, в основном, молодежь. Нашел старшего, который показал на группу девушек, занимающихся прополкой моркови.
Я подошел к Ольге и поздоровался. Она не подняла головы. Дергала невозмутимо сорняки, как будто меня рядом и не было. Постояв немного, я вернулся ошарашенный под навес, где стояли бидоны с молоком. Целый год я ждал этой встречи, и вот такой «теплый» прием.
Подошел старший группы. Предложил влиться в их дружную компанию, поработать. Возить утром и вечером молоко на молокозавод.
Десять дней я исправно трудился. За все это время мы так и не подошли друг к другу, не сказали друг другу ни слова. С тем я и уехал.
Только потом я понял, что она просто стеснялась меня и наших чувств. Мы никогда не бывали с ней на людях. Все прятались от кого-то, хотя всем все было давно известно. Мы, два маленьких грешника, которые обманывали и себя, и своих близких, и тех, кто нас окружал, были наказаны тем, что не один год искали потом друг друга, но так и не смогли найти.
А мне хватило потом воспоминаний не на один год. Было и стыдно, и больно, и обидно. По сей день в моем мозгу крутятся картины питерской жизни. С какой страстью, позабыв все на свете, недосыпая, голодным я летел к ней, первой в своей жизни женщине. Сколько сил я потратил ради того, чтобы никогда с ней не разлучаться.
В этом же году, когда приезжала Оля, и у моей матери тоже все пошло наперекосяк. Подралась с соседкой, надев ей кастрюлю на голову, да так сильно, что кастрюлю потом снимали хирурги.
Следователь, который вел дело, предложил матери: либо она уедет из города, либо ее посадят в тюрьму. Мать собиралась недолго. Загрузив контейнер домашними вещами, забрав с собой сестру Севиль и слепую бабу Дарью, уехала жить в Казахстан в Карагандинскую область. Сестра Эмма и я ехать с матерью отказались.
Ни я, ни сестра не переживали по этому поводу. Почему-то были уверены: проживем, не пропадем, хотя мне было в ту пору девятнадцать, а Эмме — пятнадцать. Я уже сам зарабатывал себе на жизнь, работая на заводе холодильников. Работал по вечерам, а днем учился в техникуме, в который поступил без особых проблем. Вскоре и Эмма устроилась на работу на бисквитную фабрику.
К Эмме приходило много подруг, но самой близкой из всех была Вера Анисимова. Романтичная, не по годам сложившаяся девушка. Она была небольшого роста, а ее высокая грудь выходила за рамки ее возраста. Ей было всего пятнадцать лет. Иногда, засидевшись, она оставалась ночевать у нас. Спала она вместе с Эммой в ее комнате. У Веры не было ни отца, ни матери. Жила она с бабушкой и сестрой. Во дворе ее все жалели и со снисхождением относились к ее романтичной натуре. Я тоже жалел и, понимая ее возраст, старался ее не замечать.
Жителей нашего двора уже в то время заметно поубавилось. Многие получили новые квартиры в новых микрорайонах и переехали жить туда. Из ребят моего поколения и чуть младше остались Сашка Бабайчик (Бабаев), Люба Тришкина, Светка Армянка (Григорян), Женька Чичкова (Прибок), да брат с сестрой — Шурик и Вера Анисимовы. Все мы были разные. У каждого был свой круг общения, но, похоже, объединяло нас уже время — жизнь, прожитая в старом дворе. Те игры, в которые мы когда-то вместе играли, та школа, в которую когда-то вместе ходили.
В основном мы держались втроем: Сашка Бабайчик — этакий щеголеватый франт, похожий на французского актера Алена Делона, Люба Тришкина и я. Люба была влюблена в Сашку. Некоторое время они даже встречались. Но на большее, как говорил Бабайчик, у него духу не хватало. Люба к нам заходила часто. Мы подолгу болтали. Она была и строгой и грустной одновременно. Перелистывая страницы книги, которую брала из моей библиотеки, смотрела куда-то сквозь нее. Наши отношения давно сложились как дружеские, но мне всегда казалось, что она хотела поговорить со мной о чем-то важном, но не решалась. Осенью она неожиданно для всех вышла замуж за военного из Красноярска и уехала жить к нему.
Бабайчик был «битломаном». Первый магнитофон в нашем дворе появился у него. Он километрами записывал пленки и перезаписывал песни ансамбля «Битлз». Смастерил несколько электрогитар, каждую из которых приносил мне на пробу.
Не хочу кривить душой, но гитары его мне не нравились. Об этом я ему, конечно, никогда не говорил. Его заветной мечтой было создание вокально-инструментального ансамбля. Он мог часами мечтательно говорить об этом, а я, слушая его, со своими мечтами уносился совсем в другом направлении.
Любимым времяпрепровождением у нас с Бабайчиком был поход в кино. Выход в город — важное мероприятие. Мы наглаживали брюки клеш, начищали башмаки. До центра города от нас недалеко, полчаса автобусом. Несмотря на то, что остановка была под носом, мы отправлялись на станцию метро, мимо Старого парка к заводу «Бакэлектромаш». Метро «Улдуз» в переводе с азербайджанского — звезда. Обычно мы ехали до станции «26 бакинских комиссаров». В этом районе сразу три кинотеатра: «Низами», «Ветен» и «Азербайджан».
После просмотра фильма заходили в гастроном. Покупали палочки копченой охотничьей колбасы, еще теплые французские булочки и две бутылки пива. С продуктами шли на Приморский бульвар. Там на парковой скамейке под старинным чугунным фонарем в стиле ампир и оливами мы организовывали «праздник живота», одновременно наблюдая, с каким изяществом и грациозностью проплывали мимо стайки красивых девушек. Передать словами невозможно, с каким аппетитом мы все это уплетали. Никогда, ни до, ни после, ни в какие другие времена я так вкусно не проводил время. Девчонок на такие мероприятия мы никогда не брали. Для них у нас была отдельная программа: кафе-мороженое, кино. Мы были счастливы. Мы ничем не были связаны, и у нас все было впереди.
Бакинский бульвар был любимым местом отдыха горожан. Здесь было много различных аттракционов, кафе, импровизированный летний кинотеатр, где бесплатно крутили документальные фильмы. В воскресные дни и праздники играл духовой оркестр. Живописная иллюминация придавала бульвару праздничный вид. Более всего мне нравилась его старая часть, где возвышались сосны, а огромные кусты маслин каскадом свисали над аллеями. Самая большая достопримечательность бульвара — это «Венецианские каналы» со своими островками и мостиками. Бульвар, протяженностью более километра, описывал дугу Бакинской бухты. Достаточно было прогуляться в ту и другую сторону, чтобы не заметить, как быстро пролетело время.
Возвращались мы домой последней электричкой метро. После блеска центра столичного города наш двор казался темной пещерой. Во дворе никогда не зажигали ни одной электрической лампочки. Освещался он светом квартирных окон. Часть света падала со стороны Московского проспекта.
Наш подъезд — это, собственно, коридор четырех квартир. Полы его всегда были отмыты до желтизны. Старалась соседка Анжела. Слева жили Волковы, справа — двери квартир Шуры Голубь и Анжелы. Наша была прямо. Начиналась она с маленькой кухни, в которой стоял старинный буфет. Слева на стене висел рукомойник. Были две комнаты, одну из которых мы пристроили с матерью, прорубив в нее окошко до размера двери. В большой комнате стояли круглый стол посередине и металлическая кровать в углу. На стене висела полка с книгами. В комнате-пристройке — металлическая кровать и тумбочка. Это все, что нам оставила мать. Отсутствия мебели после ее отъезда мы как-то и не замечали.
ВЕРОЧКА
На ночь, зная, что я возвращался поздно, в большой комнате Эмма оставляла включенным свет. В этот раз я не мог не заметить некоторую перемену в зале. На столе лежал томик стихов Пушкина, листок из тетради, исписанный детским красивым почерком, стояла чернильница с ученической ручкой. Взяв в руки листок, я с интересом стал читать.
«Чаадаеву.
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман»…
Перевернул листок:
«Признание.
Я вас люблю — хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам…
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей»…
Мне стало немного жарко…
«Без вас мне скучно, — я зеваю;
При вас мне грустно, — я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!»…
Вначале я размечтался: кто это мог мне написать? Потом догадался: Вера готовила домашнее задание. Я подошел к дверному проему комнаты пристройки, слегка отодвинул край занавески. Она спала с Эммой с краю на спине, укрытая тонкой простыней. Далекий свет прожектора с бисквитной фабрики, ослабленный пространством, проникая в комнату сквозь окно, освещал ее профиль. Мое сердце забилось в грудной клетке так, словно хотело выпрыгнуть из нее.
В эту ночь я плохо спал. Голова была тяжелой то ли от выпитого пива, то ли от мечтаний, которые носились в ней. Встал поздно. В доме уже никого не было. Я машинально глянул на стол. На белой скатерти остался нетронутым лишь листок бумаги.
Не скажу, что у меня было много девчонок в юности, но тем немногим, что у меня были, я достаточно покружил голову. Все потому, что в каждой из них я искал «светлый образ», «идеал той единственной и неповторимой», которую мысленно сам для себя создавал. Образ этот властвовал мною. Я чувствовал его каждой клеткой своего организма. Я пытался воссоединить любовь земную и небесную в некое неповторимое существо и, страдая от разочарований, то приближался к девчонке в пылкой страсти, то приносил ей душевные страдания.
Так было и с Верой, роман с которой у меня продолжался целых четыре года. Я держал ее рядом с собой на тот случай, пока другой, «той, единственной», у меня не было и, страдая от этого сам, приносил страдания ей.
Вера много читала. Особенно она любила Купера и Стивенсона. Была она родом из Читы. Черты ее лица напоминали о востоке. Раскосые глаза, темные волосы. Но в самих глазах была так и не понятая мной какая-то тайна.
Отчего С…
«Мне грустно, потому что я тебя люблю
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно… потому что весело тебе».
Твой преданный друг
Д`Артаньян.
Мне казалось, что она умело прятала свои чувства за высокой поэзией, и это меня порой раздражало.
Жила она очень бедно. Так бедно, пожалуй, среди моих знакомых никто уже не жил. Эта бедность была и в ее внешнем виде, из-за чего в город я ее никогда с собой не брал. Несмотря на то, что жили мы в одном дворе, мы писали друг другу письма. Эта игра порой увлекала меня. Мои письма относила ей Эмма. Свои же Вита приносила к нам домой сама. Когда я ушел служить в армию, она мне часто писала. Некоторые из ее писем у меня сохранились.
Здравствуй, Саша!
В чем провинилась я, что ты так жестоко наказываешь меня, не отвечая на мои письма? Каждый день я хожу на почту и каждый день возвращаюсь с пустыми руками и пустым сердцем.
Разве я виновата, что для меня твои письма все равно, что хлеб? Они мне необходимы. Ими я живу. Вернее, жила. А сейчас пустота. Может, тебе стало обидно за свое некоторое недоверие ко мне?..
Но войди в мое положение. Сопоставь свое обращение со мной, когда ты был здесь, близко, и письма. Две противоположности. Перечитываю и думаю: «Неужели это мне?» Мне, которую ты ненавидел. И всем своим существом старался показать это. Ты мне сказал однажды, что никогда не напишешь мне любовного письма. А эти несколько писем? Они взбудоражили во мне все снова.
О чем же говорит твое молчание? Не о том ли, что на этом кончилась наша переписка? Если ты не ответишь на это письмо, значит, это так. Я тогда не напишу тебе больше, если ты не ответишь.
До свидания.
Вероника.
13-1-71 г.
Наши прошлые отношения порой казались мне нехорошей игрой. Она была умнее меня, и это меня настораживало. Я зацеловывал ее грудь, пытаясь добиться взаимного расположения, на что она холодно отвечала: «Делай, что хочешь, но только не это». Однажды я сказал Эмме, что хочу жениться на Вере, на что сестра ответила: «Я бы этого не хотела». Когда я комиссовался из армии, мы встретились с ней не сразу. А когда я подошел, понял: она стала еще более холодной, чем была.
У меня сохранилась часть взволнованного письма, которое Вера отослала моей матери в Казахстан, когда я только познакомился со своей будущей женой Валентиной.
…армии письмо последнее: «Между нами все, ищи себе другого».
Даже когда приехал из армии, чтобы ознаменовать свой приезд, собрался в город. Взял с собой Эмму, квартирантку и др., а со мной только поздоровался. И вечером по старой привычке постучался к нам. Значит, я не достойна была идти с ним рядом. И хорошее отношение не для меня. Я стала его избегать. Потом все высказала ему. Только после этого он стал ходить со мной в город и к друзьям. Я думала: он изменился тоже, я повзрослела и изменилась, стала серьезней и лучше узнала жизнь, но есть люди, которые не меняются. Ваш сын как раз такой. У него на всю жизнь действительно (вы правы) останутся друзья и много подруг, а одна, настоящая — вряд ли. Уже после армии, когда мы помирились, по старой привычке ходил ко мне и домой приводил невесту, а мне представил как сестру. Как вы все хотели, так я и поступила. Когда Эмма послала вам телеграмму и вы срочно вызвали Сашу к себе, даже когда вы не ответили на мое письмо, я все взвесила: какая это будет жизнь. И отказала ему. За это он меня отблагодарил оплеухой. Он никто мне, и уже показал, что такое муж и любовь.
В свою очередь я благодарна вам всем за то, что помогли избавиться от «хорошего мужа». Он тащил меня в ЗАГС, а не подумал, что он не работает, и на что мы будем жить? И действительно, меня винить не за что, я ни перед кем не виновата. И тетя Алла (мать Бабайчика) тут ни при чем. Просто это было глупое детство и слепая юность. Все прошло, все стало на свои места, я жалею только, что самые заветные 17–18 лет прошли в ожидании и я ничего не получила в ответ на свою любовь. Слава богу, я от него независима осталась, и у каждого из нас найдется своя судьба.
Я написала вам правду, не обижайтесь, если что не так.
Желаю всего хорошего.
Вера.
26.10.71.
В семьдесят шестом году, когда я приезжал из Челнов в отпуск в Баку к сестре, она подарила мне письмо, которое прислала когда-то ей Вера в Казахстан.
Здравствуй, Эммочка!
Давно уже не имели мы с тобой понятия друг о друге. А жаль, когда-то мы были лучшими подругами. Правда ведь?
Как твои дела? Чем сейчас занимаешься? Учиться не думаешь? Как тетя Тоня? Севиль? Двадцать первого ноября тебе будет 20 лет, да? Сколько мы не виделись? Год, два? Многое изменилось за эти годы. Допекли меня родственнички, стала злая, как черт. Так и не училась больше нигде, о чем жалею. А старость не за горами. Уже на третий десяток лет перевалило. Так и не успели ничего. А главное событие в моей жизни — я вышла замуж. Теперь я не живу в Баку. Мой адрес: Краснодарский край, …………………………………
Пушкаревой Вере. Пиши.
Вышла замуж я по любви. Встретились и полюбили. Теперь твоя очередь, Алиева, «счастью». Твоему (другу) ты не написала? И все, что нового у тебя, все пиши. Мне очень интересно будет знать. В Баку скоро собираешься? Не прерывай нашей переписки. Ну, до свидания. Целую.
Вера.
21.10.72.
P. S. В следующем письме вышлю свою свадебную карточку. Пиши.
После того, как мы с Валентиной стали жить вместе, я встречался с Витой несколько раз. Мне было жаль расставаться с ней навсегда. Я хотел объяснить ей это, но так и не сумел. Только еще больше боли причинил всем нам троим.
«СПУТНИК»
Поступать вместе в электротехнический техникум меня уговорил Саша Бабаев (Бабайчик). Экзамены я сдавал с холодком. Мне было все равно, поступлю я или нет. Как ни странно, но я набрал четырнадцать баллов. Одна четверка была у меня, по русскому. Санек трясся и не сдал. Но в группу меня не зачислили, так как я не работал по специальности. Это меня зацепило, и я разругался с приемной комиссией не на шутку. Забрал документы и отнес в политехнический. Там были много удивлены, что я не прошел по конкурсу, и предложили мне сварочное производство, дневное отделение. Я почему-то вспомнил, что мой отец Алишка тоже работал сварщиком, и согласился. Пришлось задуматься: как жить? Стипендия всего двадцать рублей. Решил не бросать работу, а договориться с начальством работать только во вторую смену.
Студенты нашего курса были на три года младше меня. За парту я садился с чувством второгодника. Учился на первом курсе хорошо. Даже ходил в любимчиках у преподавателя по черчению. Но на втором курсе стали раздражать поборы, которые чинили некоторые преподаватели. Я взяток не давал (давать было нечего), поэтому успеваемость моя заметно снизилась. Взяточников терпеть не мог.
Когда мои дела в чем-то не клеились, меня всегда тянуло к бродяжничеству. На этот раз я решил серьезно заняться туризмом. Зима у нас не суровая, ходить в походы можно круглый год. Стал искать людей, для которых поездки на природу были больше, чем отдых. И я их нашел.
Они собирались на «паперти» у Азербайджанской государственной консерватории, что в центре города. Все разные: по возрасту, темпераменту и национальности. Собирались группами. Обсуждали пройденные маршруты. Намечали планы новых походов. Среди них были и те, кто ходили на Урал, Кавказ, Памир. Но основная масса состояла из любителей просто провести выходные дни на природе, где-нибудь поблизости. К этой основной группе я и примкнул. Вся эта самоорганизованная публика называлась «Спутник».
Люди здесь были доступны в общении, сходились легко, и так же легко доверяли свои судьбы почти незнакомым, всего лишь потому, что те прошли больше километров.
Мне сразу же повезло. Со «Спутника» я попал на слет организаторов похода выходного дня. Проходил он в предгорьях Большого Кавказского хребта в ста пятидесяти километрах от Баку, и, что самое важное, — мероприятие это оплачивал профсоюз какой-то организации. Никто из участников здесь не потратил ни рубля. В то время я уже неплохо пел и играл на гитаре. Тогда вышел фильм «Вертикаль», который был популярен особенно среди туристов. Исполняя песни из этого фильма, я копировал Высоцкого, за что получил прозвище — Высоцкий. Но носил я его недолго.
На слете я со многими подружился и стал ездить с ними на природу. Стоило это удовольствие всего два рубля (килограмм мяса): рубль дорога и рубль общий котел.
Я заново для себя открывал природный мир Азербайджана. Купался под водопадом в Афурдже, взбирался на древнюю, пережившую осаду Александра Македонского крепость Чарых-Кала (Крепость-Башмак), бродил по заповедным лесам Набрани, где в арыках руками ловил форель и встречался нос к носу с красавцем-изюбрем. В стране, где никогда не бывает снега зимой, катался на лыжах в Пиркулях. Но самое большое впечатление у меня осталось от восхождения на гору Аль-Чапан (Порезанный Палец), когда на одном из привалов на нашу полянку со стороны чащи вышел огромный бурый медведь. Мы чуть не обк… от страха, когда он поднялся во весь рост. Мы знали, что этого зверя можно испугать, и дружно заорали во всю мощь своих голосовых связок. Медведь бросился обратно в чащу. Он так перепугался, что описался от страха. А мы потом так гоготали весь оставшийся путь, вспоминая и себя, и медведя, что не хватило сил подняться на вершину. В таком настроении и вернулись в лагерь, хотя исход нашей встречи со зверем мог быть совсем иным.
Мне все больше нравилась природа Азербайджана. Живя в апшеронской пустыне, я и не подозревал, какие красоты скрываются всего за сотню километров от нас.
В таких поездках, когда приходилось тесно общаться с людьми, происходил как бы естественный отбор. Каждый из нас тянулся к тому, кто подходил ему по определенным душевным, интеллектуальным или каким другим качествам. Так у нас образовалась постоянная группа, которой мы стали ездить. В нее входили: Виталий Иванищев, Ильгам Мирзоев, Валя и Лариса Карташовы, Юра Перепелов, Женя Францев по кличке Узбек, Дима Маркарян; Толик Грузинцев со Старого парка, Слава Власов — однокашник по техникуму; Алла Скалкина, Мила — ее подруга, Седа и еще несколько человек, которые то примыкали к нашей основной компании, то куда-то пропадали.
Ездили мы автобусом «ГАЗ», который в народе назывался «алабашка» (собачка). Стелили спальники и загружались вповалку так, что не вздохнуть. Весь путь от его начала и до конца горланили песни и травили анекдоты. Хохот стоял невообразимый.
Заводилой и как бы старшей группы была Валя Карташова. Она была не только хорошим организатором, но шутила, пела и болтала всякую всячину больше всех. Полноватая, но подвижная, она успевала везде. Круглолицая, черноволосая, невысокого роста, похожая на добрую цыганку. Она постоянно подтрунивала над Ильгамом, худым, похожим на молодого, умудренного жизненным опытом старичка. После очередного «укола» он отстреливался двумя-тремя фразами, но потом хохотал вместе со всеми. Более всего он заводился, когда о чем-то с кем-то спорил. Размахивая руками, с присущим южному человеку темпераментом он отстаивал свои убеждения так, словно вел спор не на жизнь, а на смерть. Переспорить его было невозможно.
Лариса — сестра Вали — была абсолютная ее противоположность. Большеглазая, с красивой фигурой. Движения ее были плавными. Она редко пела. У нее не было слуха. На фоне своей сестры она выглядела скромной девочкой. Из всех девчонок она мне нравилась больше всех. Ухаживал за ней Юра Перепелов, усатый красавец с волнистыми темными волосами. Но сердце Ларисы томилось по Жене Францеву — интеллигентному, с хорошими манерами еврейчику. Он всегда ходил в темных очках.
Вообще, ухаживания в нашем коллективе были не приняты. Ухажеров девчонки быстро отшивали. Мы жили как бы коммуной и были только друзьями. Но сердце не обманешь. Мы дружили не один год и уже научились разбираться в чувствах каждого.
Наша дружба еще более окрепла после трагического случая, который произошел с нами в походе. Но об этом мне бы хотелось рассказать особо.
ОН И ОНА
Как-то на «Спутнике» ко мне подошел Виталька Иванищев, крепкий парень с волнистыми золотистыми волосами и бездонными голубыми глазами. Девчонки его обожали. Красивый, на гитаре играет.
— Я набираю группу, поедешь со мной на Кавказ?
Мы всего раз были с ним в походе. В Алыче. Участвовали в восхождении на Аль-Чапан, когда с медведем повстречались.
— А сколько человек едут? — спросил я.
— Пока трое: я, одна девушка и ты.
«Да… — подумал я. — Не густо. Значит, охранником палатки».
Отпуск у нас с ним по времени не совпадал, и я начал отказываться. Но уговорить меня можно легко. Когда он сказал, что на маршруте можно присоединиться к какой-нибудь группе (туристы народ компанейский), я согласился.
Условились встретиться на Солнечной поляне в Домбае.
Я садился в поезд пятью днями позже их отъезда. Меня провожала мама. От Баку до Невинномысской всего четырнадцать часов езды. Ехал всю ночь. В Невинке был в десять утра. Взял билет на автобус Ставрополь — Теберда. Попутчики сказали, что повезло. Но в Карачаевске фирменный «Икарус» сломался, и в Теберду я приехал только ночью.
В гостинице мест не было. Мне показали тропинку, которая шла через туристский лагерь в сторону гор. Я пошел по ней. Мимо освещенной волейбольной площадки, на которой несколько человек играли в волейбол, танцплощадки, где гремела музыка (здесь народу было больше), пробрался сквозь кусты к деревянному забору, в котором было выломано несколько досок. За забором тропа уходила в гору. После ослепительного света турбазы сразу стало темно. Вынул фонарик из рюкзака. Посветил. Слева и справа от тропинки стояли палатки. Площадка ровная, но приткнуться некуда. Прошел дальше. Здесь, на небольшом склоне, на самом краю лагеря «дикарей» горел небольшой костер. У костра никого не было. Наверное, все ушли на танцы. Кое-как впотьмах поставил палатку и стал укладываться. Уснул не сразу.
Утром пешком по хорошей асфальтированной дороге отправился в сторону Домбая.
Когда асфальт закончился, грунтовая дорога вильнула круто вправо в густые заросли. Пошла лесом. Но неожиданно полоска леса кончилась, и ослепительно засияло восходящее солнце. Это и была знаменитая «Долина убитого зубра» — Домбай. Слева внизу кипела горная река, возле которой стояли деревянные домики-коробочки. Справа на огромной поляне у подножия заснеженных гор — палатки. Народу, как на Черноморском побережье Кавказа. Кругом загорелые тела в плавках и купальниках. Виталька появился неожиданно.
— Привет! А мы тебя еще вчера ждали, — радостно сказал он, хлопнув меня по плечу.
— Пришлось заночевать в Теберде, — ответил я.
Подошла девушка. Худенькая, ростом чуть выше Виталия. Черные прямые волосы коротко острижены.
— Знакомься. Это Валя. — Она подала мне свою бледную руку. Рука была холодной.
— Саша, — поздоровался я, задержав ее руку в своей.
— Ну что, пойдем, покажу тебе, где мы расположились, — сказал Виталий и быстрым шагом направился в сторону палаток, что стояли у опушки.
На ходу он сунул мне в руки тюбик со сгущенным молоком. Я не завтракал и с удовольствием смаковал по пути это туристское лакомство. Не прошло и пяти минут, как мы были уже на месте. Нас встретили еще две девушки. Лена — Валина сестра, лет четырнадцати, и Галя — круглолицая и чернобровая, чуть ниже меня ростом. «То ничего, то сразу все. Откуда он их набрал столько?» — подумал я. Познакомились.
Скинув рюкзак, стал снимать ботинки. Огляделся. Ровная площадка среди кочек на краю леса, который круто под гору уходил к реке.
— Ты сходи, умойся, — сказал он мне, — а мы сварим что-нибудь поесть. Давайте, девчонки, организуйте, — уже к девушкам обратился он.
К реке я почти скатился. Здесь стоял невообразимый грохот. Река ревела и металась меж огромных валунов. Какая-то невероятная сила разбросала их тут. Что-то было в этой реке и от бушующего моря, когда оно набрасывается в бурю на скалы, и от грохочущего водопада. Один из валунов был у самого берега. Я обошел его, пройдя вниз по течению. Зачерпнув котелком воду, стал умываться. Неожиданно сверху по откосу скатился Виталька.
— Пришел показать тебе. Смотри, — прокричал он мне в ухо, показывая на середину реки.
Посреди реки громоздился огромный валун, похожий на мягкое кресло. В его пазухе лежал труп бурого медведя. Волны захлестывали жертву, как будто хотели сбросить ее в реку, но камень упорно не желал отдавать беднягу. Что-то тревожное шевельнулось в моей душе.
Наверх к палатке с котелком воды по сыпучей листве взбирались, помогая друг другу. На поляне было тише. За гущей деревьев шум реки был почти не слышен. Сияло ослепительное солнце. Палаточный городок жил своей туристической жизнью: кто-то укладывал рюкзаки, кто-то готовился к трапезе.
Девчонки нас уже заждались. На земле у входа в палатку была расстелена скатерть, на которой краснели помидоры, сверкали янтарем гроздья винограда, аппетитно плавилась копченая колбаса.
— Ого! Вот это да! Откуда это у вас? — с удивлением спросил я.
— А здесь деревня недалеко, — улыбаясь, ответила Валя. — Да вы присаживайтесь, хватит стоять и любоваться, — приглашала нас она.
Виталька нырнул в палатку. Через минуту выскочил и торжественно водрузил в центре импровизированного стола бутылку шампанского. Настроение было праздничное. Много шутили. Строили планы на предстоящее путешествие. В разгар нашего пира Виталька встал и, показывая на огромный камень прямо за палаткой, в шутку произнес:
— А это мой обелиск славы… Или надгробие, — мрачно пошутил он.
— Да ну тебя, Виталька, — махнула рукой Галя. — Болтаешь ерунду всякую.
Наше тихое веселье продолжалось. Пели песни, а Виталий бегал вокруг нас, щелкая затвором фотоаппарата. Потом он взял гитару, а я фотоаппарат. В разгар веселья Валя и ее сестренка стали с нами прощаться. Они работали в местной туристической столовой и надо было идти готовиться к обеду. Виталий пошел их провожать.
Отложив гитару в сторону, я взял собранную Галей посуду и отправился к реке. Когда вернулся, у палатки никого не было. Я сидел на траве и перебирал струны гитары, когда появился Виталий.
— А где Галка? — спросил он.
Я пожал плечами.
— Ладно, пошли поищем… Заодно покажу тебе достопримечательности Солнечной поляны.
В том месте, где поляна поднималась в гору, окруженный высокими деревьями, стоял двухэтажный деревянный терем. Оказалось, что это краеведческий музей. Мы поднялись на второй этаж. Один из его залов рассказывал о прославленных советских альпинистах: Хергиани, Абалакове и других. Музей показался нам скучным, и Виталий повел меня к источнику нарзана. Я никогда не мог себе представить, что можно пить нарзан, черпая его кружкой, не выходя из палатки. Такой вкусной воды я не пил ни разу. Нарзан в бутылках, оказывается, просто суррогат.
Все это время, пока мы осматривали достопримечательности Солнечной поляны, Виталий рассказывал мне о Валентине. О том, как в прошлом году здесь он с ней познакомился, что она влюбилась в него, глупенькая, а он не знает, что делать: ведь он любит Галю Сарафанову.
— Галка хорошая девушка, но отец ее против нашей дружбы. Она учится в институте, а я кто?.. Простой рабочий… Ее отец ректор Азербайджанского университета… А мой — слесарь, — изливал он мне душу.
Галю мы встретили, когда возвращались к своей палатке. Я оставил их одних, сказав, что хочу побродить по окрестностям с фотоаппаратом.
В горах темнеет быстро. Солнце тухнет, словно люстра в Большом театре. К ужину я опоздал. Они ждали меня в палатке. Горела свеча.
— А мы все сидим и гадаем: куда ты пропал?.. На, поешь каши перловой… Остыла, правда, — Галя подала мне солдатский котелок.
— Хоть и холодная, но с тушенкой, — пробубнил я, пережевывая пищу.
Где-то совсем рядом гремела танцевальная музыка. Решили пойти посмотреть на местную молодежь. Не успели ступить на танцплощадку, как к Гале стал приставать местный абориген. Виталий заступился. Началась потасовка. Я стал разнимать. Абориген стал звать друзей на помощь.
Я подтолкнул Виталия к Гале, сказав:
— Бери ее, и бегите.
Виталий схватил Галю за руку, и они скрылись. За себя я почему-то не боялся. Может, потому, что сам был похож на аборигена.
Напирая на меня грудью, сверкая глазами и шевеля усами, высокий смуглый красавец страстно говорил мне о чем-то на черкесском языке. Я извинился за незнание языка и за своего друга и попросил забыть об этом плохом вечере.
— Если ми его найтем, ми ему зарежимь, — объяснял усатый красавец грозя указательным пальцем. — А ти можешь читать, что ти мой брат.
На этом все и закончилось.
Кое-как в темноте, пробираясь сквозь кусты, разыскал нашу палатку. Ни Галя, ни Виталий ни о чем меня не спросили, когда я заполз в наше жилище. Они сидели молча, надутые оба. Я влез в спальник и лег на спину, заложив руки за голову. Но уже через пять минут мы смеялись над собой и травили анекдоты. Ночью сквозь сон я слышал, как она плакала, а он ее успокаивал.
Утром меня разбудил Виталий. Чайник на «шмеле» уже закипел. Наскоро позавтракав, стали укладывать рюкзаки. Через Алибек решили идти на Марухский перевал. А там в Грузию. Всего десять дней пути. Накупили в лавке турбазы продукты. Рассовали по рюкзакам и двинулись в путь. По дороге на Алибек сделали привал у кладбища альпинистов.
Он и она шли впереди. Всю дорогу о чем-то спорили. Ругались. Шли по Домбайской долине вверх по течению реки Алибек. Мимо стройных голубых елей, потом по широким альпийским лугам. На одном из таких лугов сделали привал.
— Вы тут располагайтесь, а я сейчас, — бросил он на ходу и пошел вниз к реке.
Я помог Гале снять рюкзак и, скинув свой, упал в душистую траву.
— Куда это он? — спросил я, немного отдышавшись.
— На гору хочет забраться… Вон на ту, — показала она на Белалакая.
Я понял, что надо за ним бежать. Догнал я его почти у реки. Он был недоволен моим порывом.
— Идите… Я вас завтра догоню, — совсем без злобы сказал он.
— Не болтай чепухи… За группу отвечаешь ты, — стал я давить на него.
Я лег в траву, а он, не сказав больше ни слова, пошел обратно.
В альплагерь «Алибек» пришли в полдень. Немного передохнув, пошли к Турьему озеру. Здесь и решили стать на первую ночевку.
Из Турьего озера брала свое начало река Алибек, вверх по которой мы сюда пришли. Озеро было плотно-голубого цвета и гладкое, как стекло. Пополнялось оно за счет таяния Алибекского ледника, языки которого спускались прямо в воду. Решили искупаться. Температура воды в озере была плюс четыре градуса. Об этом я узнал слишком поздно. Виталий хохотал, захлебываясь от смеха, когда увидел, как я, словно ошпаренный, вылетел из воды. В холодной воде я не смог сделать даже вздоха. Это развеселило моих друзей. Я дрожал от холода, словно побывал на Северном полюсе. Шлепнулся на разогретые солнцем камни и разомлел от счастья.
На следующий день они опять поссорились.
Тропу, которая вела на Марух, мы так и не нашли. Никто из туристов, у которых мы спрашивали, дальше ледника не ходил. Решили вернуться в Домбай. Переночевав на Солнечной поляне, после обеда отправились в Теберду. Пришли к вечеру. На развилке трех дорог, Теберда — Домбай — Клухорский перевал, у местных крестьян, которые организовали здесь импровизированный рынок, купили себе войлочные шапочки сванетки. Здесь же на обочине стоял бортовой «газик». Водитель собирал желающих с комфортом (всего за трояк) добраться до Северного приюта. Набралось желающих полный кузов. Мы вытаскивали из рюкзаков спальники, бросали на дно кузова, ложились вповалку, прижимаясь плотно друг к другу.
В кузове трясло так, что было слышно, как печенка стучала о селезенку. Но лучше трястись в грузовике, чем бежать бегом за Виталием. Он ходит с рюкзаком так, как я налегке. Было уже темно, когда мы высаживались у Северного приюта. Пока ехали, Виталий уже успел познакомиться с парнем по имени Виктор. Позже у костра он показывал нам кусок камня, в который были вкраплены зерна граната. Рассказывал о своем восхождении на Белалакая, показывая свое снаряжение.
На следующий день на Клухорский перевал шли уже вчетвером. Было жарко. Высота две с половиной тысячи метров. Не хватало воздуха. На привале Виталий потащил нас купаться на Клухорское озеро. Вода оказалась в нем теплее, чем в Турьем. На перевал поднялись примерно часа за три. На самой его седловине множество обелисков и памятников воинам-героям, сражавшимся здесь в Великую Отечественную войну, закрывшим собой путь в Закавказье.
Перед условной линией, разделяющей Россию и Грузию, выстроились в линейку. Немного постояли молча, р-р-раз — и мы уже в другой республике.
Спускались вниз почти бегом. Я уже успел натереть себе мозоли и поэтому шел последним. Впереди Виктор. За ним Виталий и Галя. Виктор был старше нас лет на шесть. Отслужил в армии. Шел он с тяжелым рюкзаком по крутому склону, а казалось, что спускается вприпрыжку к реке с полотенцем на плече. Я все больше отставал. Виталий и Галя чаще останавливались, поджидая меня. Вскоре Виктор так от нас оторвался, что мы потеряли его из виду.
К Южному приюту подходили в сумерках. Шли по каменистому ущелью, узкой тропой, где двоим не разойтись. Внизу приток реки Кодори с каждым метром набирал силу. Упадешь в такую реку — обратно не выберешься. Затем тропа пошла по леднику, под который подныривал приток.
Но вот ущелье раздвинулось, и тропа стала шире. Мы входили в темную гущу леса. Еще полчаса ходу — и мы на Южном приюте. Эти полчаса мы шли, освещая себе дорогу фонариками. Сквозь деревья нам весело подмигивали огоньки цивилизации.
Большой деревянный дом Южного приюта стоял на сваях. Хозяйка приюта, высокая молодая грузинка в национальной одежде, показала нам свободное место на полу. У входа сняли обувь. Отдали три рубля за троих и стали стелить на полу свои пыльные спальники. Сруб, очевидно, был поставлен недавно: пахло сосновой хвоей. Полы чисто вымыты. Народу разместилось на полу человек сорок. Кроме стен, в этом доме больше ничего не было. От усталости мы не ощущали голода, хотя позавтракали всего лишь утром, поэтому уснули мгновенно.
Утром, как ни странно, проснулся первым я. Стал будить своих друзей. Сбегали вниз к реке, ополоснулись по пояс. Галя в этой процедуре участия, конечно же, не принимала. Наблюдала за нами, сидя на пригорке.
Настроение было прекрасное. Болтали всякую чепуху, шутили. Позавтракать решили попозже. Вернулись в приют. Собрали рюкзаки и отправились вниз в деревню, которая стояла в трёх километрах в слиянии двух рек. Шли по широкой грунтовой хорошо наезженной дороге. Неожиданно слева из леса на дорогу выскочил полосатый поросёнок. Виталий скинул рюкзак и бросился за ним вдогонку. Поросёнок, пробежав несколько метров по дороге, юркнул вправо вниз к реке, по берегу которой рос невысокий камыш. На мгновение Виталий скрылся в камышах. Раздался громкий поросячий визг.
— Поймал… Поймал! — кричал Виталий, поднимаясь к нам на дорогу. — Вот будет славный шашлык!
— Деревня близко… Нас за этого поросёнка самих на шашлыки пустят, — полушутя сказал я.
— Если ты его зарежешь, я с тобой до конца похода разговаривать не буду, — обиженно произнесла Галя.
— Ну ладно, отпущу. Вот глупые, от такого завтрака отказываются, — отпуская поросенка на волю, сказал он.
Поросенок кинулся опять к реке в камыши и долго еще визжал, улепетывая.
Дальше шли молча. Пройдя с километр, у обочины дороги в леске разглядели целое поросячье семейство. Когда разглядели, поняли, что это не поросята, а молодые дикие кабанчики пасутся. А рядом секач с самкой. Бежали от того места до самой деревни. Вот было смеху потом.
На автобусной остановке, сидя на рюкзаках, завтракали. Ели колбасу с хлебом. К нам подошла девочка-сванка лет десяти, с корзиной в руках. В корзине глиняный кувшин, глиняный стаканчик величиной со стопку, деревенские лепешки. Из того, что она нам сказала, поняли лишь одно слово: чача.
— Ну что, отметим, что ли, наши полпути? — спросил Виталий. — Всего-то рубль с полтиной на троих.
Девочка поставила корзину на землю, вынула из глубины корзины блюдце, поставила стаканчик и налила в него из кувшина мутной жидкости. Разломив на четыре части лепешку, на каждую положила по кусочку сулугуни.
Лепешка с сыром нам больше понравились. Попросили было еще, да без чачи, оказывается, не продается.
Автобус отходил отсюда в Сухуми только через три часа. Чтобы сэкономить деньги, решили прогуляться до следующей деревни. По деревянному мосту перешли речку и зашагали, навеселе философствуя на тему: «чача — друг наш, товарищ и брат».
Через два часа пути грунтовая дорога привела нас к каменному мосту. В этом месте берег был круче, река шире и полноводней. Другой конец моста примыкал к оживленной асфальтированной трассе. Дорога была врезана в высокий скалистый берег. Здесь, на слиянии двух рек и двух дорог, нас подобрал курортный «газик», автобус без стекол с брезентовой крышей.
С этой минуты предчувствие надвигающейся беды поселилось в моей душе, а красота, окружавшая нас, все меньше приносила радости. Возможно, я устал от дороги, от того, что на каждом шагу мне приходилось постоянно удерживать Виталия от очередного выпада против себя самого и нас. Вот и на Клухорском перевале он пытался идти короткой дорогой по леднику Хакель. И меня, и Галю он держал в постоянном напряжении и страхе за его жизнь, за его судьбу.
Они сидели впереди меня. Счастливые и молодые. Ее голова покоилась на его плече. Его неукротимая энергия сейчас как бы дремала.
Доехали до слияния рек Гвадры и Сакени. Отсюда река меняла свой облик и название. Теперь она называлась Кодори, а ущелье, по которому мы ехали, Кодорским. Дорога была настолько узкой, что два автомобиля не могли на ней разъехаться. Для этого в скале были вырублены специальные площадки.
Вниз на реку было страшно смотреть. Я даже не предполагал, что река, которую не на каждой карте можно отыскать, может быть такой бурной и зловещей. Текла она несколько десятков километров в огромном каменистом желобе. Нырнули в тоннель, а когда вынырнули из него, почему-то оказались на равнине. Реку потеряли из виду. Потом видели мы ее с высоты плоскогорья, но только раз или два и, переехав по мосту ее правый приток Амткел, потеряли совсем из виду. Только здесь я расслабился и задремал.
Очнулся я, когда почувствовал знакомый мне с детства соленый запах моря. Оно лежало тихо и сверкало от приближающегося к нему солнца, словно миллионы форелей косяками ходили по водной глади. Мы въезжали в город Сухуми.
Автобус остановился у турбазы. Пройдя у дежурной определенные формальности, пошли ставить палатки на ее территории. Было около четырех часов вечера.
— В общем, так, — оживился Виталий, — идем на рынок… Свежие фрукты, овощи и все такое прочее… Затариваемся… Обедаем — и на море.
Южный рынок — это красочный гобелен и театральное представление одновременно. Больше часа ходили по нему не столько покупателями, сколько зрителями. Нагруженные, мы вернулись на турбазу в свою палатку. Часть продуктов разложили по рюкзакам. Свежие фрукты и овощи взяли с собой на пляж.
Я впервые был на Черноморском побережье, и оно меня несколько разочаровало. На таком берегу только йогой заниматься. Ни стоять, ни ходить, ни лежать невозможно. Кое-как нашли приличный песчаный бугорок. Постелили одеяло. Разложили на бумаге скромный натюрморт: персики, помидоры, лук зеленый, огурцы малосольные, вареную картошку. Галя уже стояла по колено в воде и махала нам рукой. Виталий побежал к ней.
— А как же ужин? — бросил я ему вдогонку.
— Ты ешь, не стесняйся… Сытым плавать вредно, — ответил он и пошел к ней.
Купаться мне хотелось, но я за ним не пошел. Раскрыл местную газету и стал читать. Плескались они долго. Когда Виталий вернулся, я спросил:
— А что Галя?
— Никак не хочет вылезать из воды. Посинела уже. Сходи, позови. Может, тебя послушает.
Как только собрались все вместе, я набросился на еду, только хруст за ушами стоял. Они ели без аппетита, не глядя друг на друга. «Наверное, опять поссорились», — подумал я, теряя постепенно интерес к еде.
— Пойду поплаваю, — я поднялся и пошел к морю. Плюхнулся в воду и поплыл в сторону волнолома.
Когда выходил на берег, она сидела одна, подобрав к подбородку колени. Я бы не сказал, что она красива. За ним бегали куда более интересные девчонки. Я не мог понять их отношений.
Разговор, который произошел на этом берегу тогда между мной и Галей, я сейчас никак не могу вспомнить. Все, как в немом кино. Я все это вижу, но ничего не слышу. Какой-то провал в памяти. Картинка есть, а голосов нет. Кажется, она рассказывала о себе… об институте… она перешла на третий курс… Вот, пожалуй, и все.
Жаркое солнце тонуло в море. Повеяло прохладой.
— Он, наверное, ушел на турбазу, — сказала она тихо, когда я подошел к ней.
— Ну что ж, пойдем и мы, — сказал я и подал ей руку.
Турбаза была рядом. Только перейти железнодорожное полотно и шоссе, шедшие вдоль берега. Завернули в газету остатки еды. Одеяло, которое брали с собой, закинул на плечо.
Когда мы подходили к палатке, Виталий был при параде. Выстиранные им брюки цвета хаки досыхали прямо на нем. Белая трикотажная майка с эмблемой на груди. Я ее раньше на нем не видел.
— Через час танцы, ребята. Наводите марафет, — произнес он, когда мы подходили.
Галя юркнула в палатку. Пока мы болтали, она успела переодеться и выскочила из палатки в ярком цветастом сарафанчике. Бесконечная смена картин, мелькание красот в дороге утомили меня, и я решил остаться. Тем более что завтра рано вставать.
Не знаю почему, но, укладывая спальники и рюкзаки, он всегда отводил мне место у правого борта палатки. Вот и сейчас свой рюкзак я нашел в правом углу. Вынув из бокового клапана тетрадь и ручку, решил набросать несколько строчек в дневнике. Так с ним и уснул.
Народу в вагоне электрички почти не было. Ехали вдоль побережья, ныряя в темноту тоннелей. Вот и Гагры. На привокзальной площади узнали, что на Рицу, куда мы собрались ехать, автобусы ходят только с плановыми туристами. Надо было сначала поехать на побережье в Пицунду, а там, на турбазе записаться на экскурсию. Это сорок километров от города Гагры. Почти в ту сторону, откуда мы приехали. Посовещались и решили: на побережье будет наш базовый лагерь.
В Пицунду ехали по пыльной грунтовой дороге. Она виляла то в одну, то в другую сторону. Иногда казалось, что мы кружим на одном месте. Наконец между редкими островками сосен мелькнула синева моря. Ехали более часа. Выходили из «пазика», словно с рыболовецкого сейнера после очередной болтанки. У остановки — столовая с просторной открытой верандой. Сразу заурчало в животе. Решили приходить сюда на обед. Взвалили рюкзаки и зашагали в сторону моря. Справа высотные здания пансионатов. Дорога уходила влево под острым углом к морю. Вдоль дороги, почти до самого моря, аккуратные сельского типа домики, окруженные зеленью садов. Поселок закончился, и дорога врезалась в крутой песчаный берег. Вдоль береговой линии, плотно прижимаясь друг к другу, стояли палатки. Крутой берег теснил грунтовую дорогу к палаткам, а дорога теснила палатки к морю. Прошли около пятисот метров, но места для палатки так и не нашли. Дорога слегка пошла в гору. Здесь она поворачивала влево. На этом повороте увидели освободившееся место. Выложенный на песке из гальки прямоугольник.
— Как будто знали, что мы сегодня приедем… Для нас освободили, — спрыгнув с дороги с рюкзаком, с радостью произнес Виталий.
Мы с Галей сняли рюкзаки и, скинув их вниз, спрыгнули сами. Он уже энергично доставал палатку, снимал обувь. Я тоже стал снимать свои купленные перед самым походом ботинки. Эта фирменная обувь после каждого пройденного километра натирала мозоли.
Палатки на берегу плотно друг к другу стояли в ту и другую сторону. «А по нужде в гору лезть придется», — подумал я.
— Пойду пройдусь… Может, найду что получше, — сказал я и отправился дальше вдоль берега.
Дорога, что шла рядом, свернув в расщелину, закончилась площадкой, на которой стояли два деревянных домика. На площадке валялись в беспорядке бревна, сложенные штабелем доски. В этом месте путь мне преградила огромная песчаная гряда, которая, словно нос корабля, разрезала накатывающие на нее волны. Дальше идти было бесполезно. Пройдя босиком по гальке около километра, я избил о нее ступни ног.
К нашему месту я подходил в полной темноте, опираясь на палку.
— Ну что? Нашел что-нибудь? Что у тебя с ногой? — засыпал меня вопросами Виталий.
— Пустяки… Мозоли долбаные, — я плюхнулся на песок. — Придется заночевать здесь, а завтра вместе сходим. Перелезем через гору, вон ту, — я показал на мерцающие огоньки костров. — Думаю, на той стороне места получше.
— Чего тебе здесь не нравится? Деревня рядом. Столовка там. Три раза кормят, — удивился Виталий.
— Правда, Сань. Здесь же просто здорово. А главное — песок. И соседи отличные: четверо девчонок из Уральского пединститута. Двое ребят из Москвы, — уговаривала меня Галя.
— Ладно, — с улыбкой посмотрел я на нее. — Завтра все решим.
— Чаю сегодня не будет, — открывая банку тушенки, сказал Виталий. — Бензин в «Шмеле» кончился. Нечем заправить. У соседей тоже нет, а по нашей штрассе одни коровы ходят, — сказал он, кивнув в сторону дороги, по которой несколько коров возвращались в село.
— Суббота, суббота — хороший вечерок, — дергая струны, невпопад пропела Галя, стоя на коленях перед гитарой.
За импровизированным столом как всегда болтали ни о чем. Виталий рассказывал байки, а мы с Галей покатывались со смеху. Он умел держать публику в струе. Незаметно перешли на лирику. Перебирая струны гитары, я спел подряд несколько песен.
— Что-то Санька наш затосковал сегодня, — тихо произнесла, словно пропела, Галя. — Песни поет такие, что плакать хочется. А на «Спутнике» говорили, что ты только Высоцкого поешь.
С моря подул легкий ветерок. Здесь, у самой воды, воздух был влажным. Стало как-то неуютно у этой морской бездны без веселого костра, без согревающего чая.
Недалеко от берега светились огнями два военных корабля. Один из них мигал семафором, другой, вызывая ощущение тревоги, шарил по нашей дороге мощным лучом прожектора. Виталий и Галя были уже в палатке. Наверное, они уже спали. Я ползком забрался в брезентовый домик, зашнуровал клапан и лег на отведенное мне место, у правой боковой стенки. Покой и сладкая истома уносили мои мысли в край удивительных запахов и сказочных красок. Где-то по соседству раздавались звуки гитары, был слышен голос радио. Увязая в тягучем сне, я попытался вслушаться в нарастающее урчание автомобиля, но это, казалось, уже было в другом измерении. Сползая с надувной подушки, я уткнулся носом в спальный мешок и еще больше свернулся калачиком.
И вот, когда сон почти увлек меня в свои объятия, а картины его все отчетливей виделись и начали овладевать мной, я почувствовал тяжелый, всколыхнувший землю удар. Словно метеорит, столкнувшись с землей, потряс ее. Я еще не проснулся и не мог понять, что произошло, а ужасающие крики, истерические рыдания женщин, мольба о помощи, словно ураганный вихрь, смешивали и превращали в серую пыль краски моего сновидения. Между кошмарным сном и ужасной явью я открыл глаза, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Страх ледяным дыханием сковал мой разум. Мне показалось, что я, словно забинтованная мумия, лежу в саркофаге, и пролежал здесь уже две тысячи лет. Пошевелив рукой, наткнулся на большой холодный металлический предмет. Вспомнил, что на этом месте должен был лежать Виталий. Мне вдруг показалось, что он превратился в огромный кусок железа. Охватил ужас, какого я не знал в своей жизни. Не я, а кто-то другой неистово закричал во мне. Я раздвоился на вопль и тело и не мог понять, кто это кричит. Казалось, огромное чудовище заглотило меня, и лежал я в его животе. Неожиданно живот распоролся, и я из него вывалился. Здесь передо мной предстало лохматое существо в образе человека. Я мысленно попросил помощи у Виталия: «Помоги, ведь я столько раз уводил тебя от опасностей». «Ви-и-та-а-ля!» — закричал я из последних сил. Но оказалось, что я не кричал, а шептал или даже просто шевелил губами.
Я ползал вокруг груды металла, пытаясь поднять хоть одну из ее частей. Просил о помощи, скулил от отчаяния и, откидывая песок попавшейся под руку алюминиевой чашкой, пытался освободить тех, кто лежал под металлическим монстром. Чьи-то руки оттаскивали меня от опрокинутой на бок автомашины, вливали в рот противный спирт, от которого я слабел с каждой минутой. Когда же я совсем обессилел, сел на землю и затих.
Постепенно мне начало казаться, что я просыпаюсь, возвращаюсь на землю из далекого дикого мира. На секунду меня охватила радость, но, вздрогнув от озноба, я начал приходить в себя…
Их освободили из плена последними. Погрузили в самосвал. Но Виталий умер в больнице. Меня всегда охватывает ужас, когда я мысленно представляю, какие мучения испытывал он, когда его везли в железном кузове. Но я никогда не верил, что они погибли. Мне всегда казалось, что их кто-то забрал в другие миры, в другую галактику, а меня оставили на этой земле ради какого-то эксперимента, поэтому и отвели мне в палатке место справа. И потом всю жизнь казалось, что я не живу, а выполняю чью-то волю, что я — это не я, что меня подменили там, в палатке. Я улетел вместе с ними, а в палатке родился кто-то, кто никогда не был на этой земле.
Уже дома, спустя некоторое время, ребята поговаривали между собой, показывая на меня кивком головы: «Счастливчик». Но какое, оказывается, мучение родиться в рубашке и нести эту тяжелую ношу всю жизнь!
ДРУЗЬЯ
Больше года я не мог прийти в себя. Чувство вины не покидало меня ни на секунду. Словно страшное кино прокручивал я одну и ту же картину: берег моря, приезд, поиск места. Какая-то злая сила все просчитала за нас и подстроила так: поворот дороги, единственное свободное место на всем побережье, единственная машина, которая никогда здесь раньше не ездила, луч света, который ослепил водителя.
Но было и другое чувство: чувство обиды за все, что произошло, за то, что Виталий искал трагический финал и нашел его, сделав меня и Галину участниками этой ужасной трагедии. Мне хотелось сказать ему об этом, не сказать, а выкрикнуть, выплеснуть свое негодование ему в лицо, но глупо было обижаться на того, кого уже нет. Еще была радость. Я заново родился, и мне хотелось праздновать свой новый день рождения, но я тщательно скрывал это чувство. Собираясь с ребятами по праздникам, я напивался до потери сознания и сквозь туманный бред впадал в истерику, кричал, что это я во всем виноват. Ребята возились со мной, как с тяжелобольным или блаженным. Вызывали «скорую». Поили лекарствами, укладывали в постель и остужали мой пыл полотенцем со льдом.
Страшная и нелепая случайность. Почему именно мы, а не кто-то другой? Кто-то ведь был до нас на этом месте. Почему они снялись и ушли? Что они чувствовали, уходя? Почему не остались? Тогда мы поневоле отыскали бы себе безопасное пристанище хоть на краю обрыва.
С этими мыслями я приходил на «Спутник». С этой тяжелой думой я засыпал и просыпался. Ребята, видя мое состояние, отвлекали меня и развлекали, оказывая мне психологическую помощь. Но меня ничто не радовало. Мысленно я еще и еще раз пытался уйти оттуда. Прилагая усилия, заставлял ее и его идти дальше вдоль берега, но всегда натыкался на крутой высокий мыс, который вставал преградой на нашем пути.
Я был в ужасном состоянии. Мне казалось, что ребята не до конца осознали трагизма той ситуации, в которой мы оказались. Они шутили и смеялись, рассказывали анекдоты и байки, а мне хотелось видеть на их лицах скорбь и страдания. Но похороны прошли, а жизнь продолжалась. Молодость быстро излечила нас от трагедии, хотя мне до полного выздоровления было еще далеко.
Горе сроднило нас. Мы стали чаще видеться. Встречались не только в поездках, но и у кого-нибудь на квартире. Чаще всего мы собирались по воскресеньям у Карташовых в поселке Разина. Ездили туда обычно втроем: я, Юра Перепелов и Ильгам Мирзоев. Пели туристические песни и спорили до хрипоты о жизни, о политике. В течение дня подходили остальные. Под вечер все вместе садились в электричку и ехали в город. Маршрут был один: «Спутник», бульвар, кафе-мороженое, кинотеатр «Знание», где без перерыва крутили мультики и документальные фильмы. Самым состоятельным из нас был Ильгам. Он работал на «Бакэлектромаше» шлифовщиком и хорошо зарабатывал. Как правило, он расплачивался за билеты в кино и за мороженое.
В кинотеатр мы обычно приходили погреться. Зима в Баку — унылая пора. Листва на деревьях темнеет до черноты. Дуют пронизывающие ветры. Идут холодные дожди. Поездки на природу прекращаются. Туристы ждут, когда в Пиркулях выпадет хороший снег и можно будет походить на лыжах и покататься с гор на санях.
Но если выпадал снег, в Баку приходил настоящий праздник. Общественный транспорт не ходил, потому что водители не могли завести двигатель, хлеба не было, потому что прекращалась подача газа. Очереди у хлебных магазинов стремительно росли. Выдавали по буханке в одни руки, а рук в семье было много, так что с излишками ходили в гости или делились ими с соседями.
Все мужское население высыпало тогда на улицу, чтобы популять снежки в проходивший мимо транспорт или в убегавших от «обстрела» женщин. Откуда-то появлялись самодельные лыжи и санки, а наиболее смелые решались опробовать лед на озерах. Как правило, такие эксперименты заканчивались освежающим купанием.
На зиму в доме мы ставили печку-буржуйку. Дрова, где придется, собирали еще с лета. Крыша протекала, электрические провода на столбах, не выдерживая нагрузки, плавились, и мы подолгу сидели без света. От керосиновых ламп и керосинок в доме стоял деревенский дух. В такие вечера мне почему-то хотелось почитать книгу или написать кому-нибудь письмо, но по ночам приходилось заниматься черчением, готовить домашнее задание в техникум.
Этой осенью меня хотели призвать в армию в подводный флот. Я уволился с завода и оставил, как приказано было в повестке, техникум. Устроили пышные проводы, но из-за моего поломанного носа во флот меня не взяли, предупредив, что возьмут весной в сухопутные войска. В техникум я восстановился, а вот на работу нигде брать не хотели. Возникли проблемы с сестрой. Жили мы в крайней нужде на ее шестьдесят рублей и на мои двадцать. Теперь в гости к друзьям я ходил не только пообщаться, но и в надежде, что меня чем-нибудь накормят. На юге накормить гостя, можно сказать, почетная обязанность. Чаще всего ходил к Мирзоевым и Карташовым. Некоторое время жил у родителей Виталия, поругавшись с сестрой. Южное гостеприимство помогло мне продержаться до весны, когда меня снова призвали.
То, что я в детстве страдал эпилепсией, из-за чего меня должны были комиссовать, я скрыл от военных врачей. Мне вручили повестку явиться на сборный пункт, и я стал готовиться к службе в армии.
Учебный год еще не закончился, поэтому пришлось сдавать экзамены экстерном. Помог в этом преподаватель по черчению Самуил Михайлович. Он ходил со мной по кабинетам, держа в руках мою зачетку, подсовывал ее очередному преподавателю, уговаривая того поставить не ниже «четверки». Самуил Михайлович пользовался большим авторитетом и среди учителей, и среди студентов, так что сдача экстерном оказалось простым хождением по кабинетам.
Второй раз меня скромно провожала в армию только сестра Эмма. Из дома мы отправились в Наримановский военкомат. Там нас, новобранцев, рассадили по автобусам и отправили на сборный пункт в Баладжары. Это пригород Баку, поэтому основная масса провожающих добиралась туда своим ходом. Проводы вылились там в массовое гуляние. Собралась огромная разношерстная толпа, среди которой трудно было определить, кто провожающий, а кто уходит служить.
Наконец была дана команда «по вагонам», и новобранцы вместе со своими родственниками, друзьями, близкими и знакомыми живым потоком хлынули к поезду. Здесь нас пересчитали и рассадили по своим вагонам и местам. Мне повезло: досталась нижняя полка. После посадки поезд еще долго стоял на путях. Провожающие уже начали расходиться, когда, наконец, он тронулся. Эмма долго вслед махала мне рукой.
До станции назначения ехали три дня. Все это время питался котлетами с хлебом, которые мне в дорогу нажарила Эмма. В вагоне было не продохнуть. На третьи сутки котлеты испортились, и я ими отравился. Блевал и падал в обморок несколько раз. Пришел санитарный врач, дал мне какие-то таблетки и ушел.
Из вагона не выпускали. Когда немного пришел в себя, на одной из станций попросил человека, глазеющего на наш состав, купить что-нибудь из еды. Взяв у меня через окошко последние пять рублей, тот ушел с ними и не вернулся.
АРМИЯ
Привезли нас на станцию Колодищи Минской области. Там разбили на группы примерно по сто человек и развели по гарнизону. До своей части дошли недружным шагом. Был конец мая. Стояла прекрасная погода.
В казарме мне показали койку и тумбочку и повели в туалет стричься. Я сильно оброс, поэтому каждому «старику» хотелось сделать из меня лысого новобранца. Когда после процедуры я пришел на свое место, моих туалетных принадлежностей в тумбочке уже не было. С этого и началась моя служба в артиллерии.
Определили меня на должность радиотелефониста к командиру батареи капитану Копенкину. До принятия присяги ни «старики», ни командиры взводов нас не трогали. Ходили мы где хотели и как хотели. Однажды я с кем-то из новобранцев, перепрыгнув через забор части, отправился в военный городок ради «спортивного интереса», просто прогуляться. По дороге в городок остановил нас какой-то майор и стал объяснять нам как детям, что нехорошо начинать свою службу с «самоволки». По возвращении в часть на КПП нас никто не остановил.
К службе в армии я был физически не подготовлен. Не мог ни бегать, ни подтягиваться на перекладине. «Старики», видя мою немощность на спортивных снарядах, заставляли еще и еще раз проделывать одни и те же упражнения. Тяжелее всего давался мне кросс. Я постоянно натирал мозоли на ногах и за каждую мозоль получал по наряду вне очереди. Из нарядов я не вылезал. Только отрабатывал один — как получал новый. Мыл после отбоя казарму, драил туалет, ночью чистил картошку на кухне. По ночам после наряда я еще умудрялся играть на гитаре.
Повезло только в одном — в одной казарме с нами располагался музыкальный взвод. Я подружился с тромбонистом Валерой. С ним после отбоя часами болтали о музыке, пели песни под гитару. Он даже предлагал мне после службы в армии остаться в Белоруссии. Мечтали создать свой ансамбль.
Полк, в котором я служил, был пехотным, но наша батарея ПТУРС была на колесах. На полковых учениях я со своей рацией ездил на БТРе капитана Копенкина. Только на учениях я и отдыхал. Ни бегать, ни прыгать не нужно было. Знай катайся на машине да болтай по рации всякую ерунду. Перед завершением учений капитан вручал мне вещевой мешок, чтобы я набрал ему белых грибов. А грибов в здешних лесах было хоть косой коси. Я ходил по лесу, восторгаясь его убранством, опьяненный запахами осени.
Зима пришла неожиданно. Уже выпал снег, а мы по утрам все бегали по военному городку в одних трусах да в сапогах. Мороз обжигал тело, и в такие минуты мечталось о теплой постели и дровяной печке.
На зимних учениях мы жили в палатках. Каждая палатка была на метр врыта в землю. Отапливалась печкой-буржуйкой. По ночам у печки дежурил новобранец. Остальные спали. Однажды, дежуря у печки, я заснул. Печь потухла. Взбешенные «старики», проснувшись от холода, надавали мне таких оплеух, что у меня целую неделю в ушах звенело. Спать я хотел всегда. Засыпал и в тепле, и прямо на снегу, и стоя в карауле. Вся служба моя проходила в полусне. Самой большой мечтой для меня было выспаться в теплой постели после службы в армии.
Из армии домой я писал по два письма в неделю. Чаще всех отвечали мне Лариса Карташова и Вера Анисимова. Эмма почти не писала. Но к моему дню рождения прислала целую посылку шоколадных конфет. Я спрятал их от старослужащих в БТРе командира батареи. Целый месяц мы с водителем Полищуком ходили в бокс и тайком уплетали пропахшие соляркой и машинным маслом конфеты. Прятал я конфеты не от жадности и не от ненависти к старослужащим, а от обиды, которую к ним испытывал. В поедании конфет в одиночку я получал некую моральную компенсацию. Этим и был доволен.
Больше всех изгалялся надо мной сержант Измайлов. Однажды он так заорал на меня, что я потерял сознание. Очнулся через двенадцать дней на больничной койке в Минском военном госпитале. Старые болячки, которые я скрыл от военных врачей, дали о себе знать. Военный врач в госпитале, капитан, которого я увидел на своей больничной койке после того, как пришел в сознание, пообещал скоро поднять меня на ноги. Меня водили по разным кабинетам, показывали разным врачам, и все это происходило со мной в полусознательном состоянии.
В госпитале пролежал я больше месяца. Врачи дали мне понять, что домой вернусь я инвалидом. Стало немного грустно. В отчаянии я написал письмо Вере, в котором говорил, что ее больше не люблю, чтобы она меня не ждала и искала себе другого парня.
Пока оформляли документы о моей демобилизации, я находился в своей части. Отношение сослуживцев ко мне заметно изменилось. В столовой мне выделяли кормежку наравне со старослужащими. А в один из светлых майских дней мы всей батареей сфотографировались на прощание. Мне оставили на память парадный мундир, а «старики», которые должны были уволиться через полгода, выделили нагрудные знаки для того, чтобы домой я вернулся при полном параде.
Из Минска в Баку летел самолетом. В госпитале я вволю отоспался, и теперь единственным желанием было поскорее встретиться с друзьями. Самолет приземлился в аэропорту Бина. Отсюда в Баку автобусы ходили часто. Около четырех вечера я выходил из автобуса на остановке у КМЗ. По двору шел с чемоданчиком в руке гордой походкой, кивая налево и направо, здоровался с дворовым людом. Из подъезда, в котором жил Сашка Бабайчик, вышла Вера. Сердце екнуло от неожиданности. Проходя мимо, я поздоровался и с ней, но она мне не ответила, а, опустив голову, прошла мимо.
На нашей двери висел замок. Эмма должна была вот-вот прийти с работы. Только я вышел во двор из своего подъезда, как нос к носу столкнулся с сестрой. Та бросилась мне на шею с криком: «Брательник! А орденов-то сколько!»
Она знала, что я должен был сегодня приехать. Наготовила, настряпала. Стала суетиться, накрывать на стол. Скинув обувь и свой парадный мундир, я стал умываться.
За столом Эмма рассказывала последние дворовые новости. Рассказала, что Вера живет сейчас у Аллочки — матери Сашки Бабайчика.
Неожиданно без стука распахнулась дверь в прихожей. Не вошли, а буквально влетели в нее Лариса и Ильгам. Лариса с визгом кинулась мне на шею, по-мужски обнялись с Ильгамом.
— Проезжали мимо, решили заглянуть, — затараторила Лариса, — а вдруг ты уже дома.
— Мы прямо с соревнований. Хотели всей толпой к тебе завалить, да в последний момент передумали. Ты, наверное, устал с дороги, — сказал Ильгам.
— Да нет, не устал. В госпитале хорошо отдохнул, — бодро ответил я. — Как вы тут? Что нового на «Спутнике»?
Я почти ничего не рассказывал. Все больше слушал. Ларисино щебетание — что бальзам на душу.
— Ты знаешь, в наших рядах пополнение, — торопилась высказаться она. — Валя Захарова.
— Классная девчонка, — перебивал ее Ильгам. — Я уверен, она тебе понравится.
— Сколько девок к нам в компанию набивалось, всех отшили. А эта с первых дней стала своей.
За разговорами просидели допоздна. Заканчивался воскресный день. Расставаясь, договорились в среду встретиться на «Спутнике».
ВАЛЯ
Месяц май в Баку — это уже лето. Вовсю светит солнце, зеленеет трава, а деревья стоят в пышном наряде. Уже отцвели яблони и груши, и на базаре идет бойкая торговля зеленью, черешней, алычой и грунтовой редиской. Вечером еще прохладно, но днем можно ходить в одной рубашке.
В понедельник, став на учет в военкомате и сдав в ЖЭК документы на прописку, я отправился в техникум восстанавливаться. На проспект Нариманова, куда мне надо было ехать, от поселка Монтина ходил «пазик». До поселка Монтина от нас одна остановка на метро. В техникум приехал около двух часов дня. Поднялся на второй этаж в кабинет черчения. Самуил Михайлович поздоровался со мной за руку.
— Ну, здравствуй, служивый. В отпуск, что ли? — держа меня за руку, спросил он.
— Нет. Комиссовали, — без грусти ответил я.
— Ерунда. До свадьбы все заживет. Восстанавливаться собираешься?
— Да. Решил с этого начать на «гражданке». Поэтому сразу к вам, — сказал я и почувствовал, как у меня покраснели уши.
— Давай зачетку.
Меньше чем за час обошли всех преподавателей. Больше тройки никто не поставил. Зато год не пропал даром. Получилось так, что, прослужив в армии, я в то же время год отучился в техникуме.
Я поблагодарил учителя и радостный помчался домой.
Учиться мне нравилось, но служба в армии спутала все мои планы. Эти дармовые «тройки» сказались на моей дальнейшей учебе. Я с трудом потом наверстывал упущенное. Но это было потом. А пока ярко светило солнце, «пазик» шустро катил по проспекту, и обретение свободы было похоже на обретение маленького счастья.
Дома, немного перекусив, стал перебирать свои вещи. Вынул палатку из рюкзака и повесил ее во дворе сушиться. Из «дембельского» чемоданчика достал армейские фотографии и пересмотрел. Пачку писем, перевязанную ниткой крест-накрест, положил на книжную полку.
Стал искать свои конспекты и учебные принадлежности, но не мог найти, в голове мелькали письма Веры. Развязав пачку, отложил ее письма отдельной стопкой. Я знал, что встреча наша неизбежна. Меня тянуло к ней. Я просто к ней привык. Надо было вернуть ей ее письма, но как это сделать, я не знал. Я хотел было уже идти к ней, но пришла Эмма и сообщила, что Вера работает на железной дороге проводницей и сейчас она в отъезде.
В среду я пришел на «Спутник». Народу собралось немного. Стояли кучками, переговариваясь. Из наших не было никого, и я в ожидании прохаживался взад и вперед. Ильгама увидел издалека. Он шел вразвалочку, не торопясь.
— Здорово, Санек, — он улыбнулся, крепко пожав мою руку. — Что, никого нет?
Я отрицательно помотал головой.
— Ну, Лариса Васильевна, обещалкина. Раз вовремя не пришла, значит, уже не придет. Ладно, мы с тобой еще в одно место сходим.
— Давай сходим, — без энтузиазма ответил я.
— Я тебя с Валюхой познакомлю. Тут недалеко. Общество «Спартак».
Мы пошли в сторону Дворца Ленина. Там свернули влево на проспект Кирова. Дойдя до кинотеатра «Низами», перешли на другую сторону улицы. Отсюда дворами вышли на Первомайскую. Здесь, недалеко от Дома моделей, собирались туристы из общества «Спартак». Небольшая группа молодых людей, среди которых была всего одна девушка, бойко вела разговор. «Наверное, это и есть та самая Валя», — подумал я.
Знакомясь, мы оценивали друг друга. Было видно, что Валя была от меня не в восторге, мягко говоря. Показалось, что она без особого энтузиазма приняла предложение Ильгама прогуляться. Мне она вначале показалась то ли ветреной, то ли легкодоступной. Но это была первая девушка в моей жизни, на которую я смотрел мужским оценивающим взглядом. С такой фигуры художники эпохи Возрождения писали шедевры. Ее изящные движения ласкали взгляд. А бездонно голубые глаза были полны таинственной открытости. Голубизна глаз, волосы цвета спелой ржи, сплетенные в толстую косу, навевали мысли о России. Вся она казалась теплой и доверчивой. Она была и женщиной, и ребенком. И страстной, и холодной, и с пугающей властной силой, от которой оторопь брала. На нее хотелось долго смотреть. Ее хотелось долго слушать. Не все в ней я разглядел в тот вечер, но того, что успел разглядеть, хватило потом на многие дни раздумий.
Когда я впервые увидел ее, у меня защемило в груди. Я понял, что это та самая, которую я себе представлял, когда писал стихи девчонкам. Только легче от этого не стало: я и представить себе не мог, что эта неприступная с виду девушка станет когда-то моей женой.
Мы гуляли в ночном парке. Она шла по краю бассейна в короткой облегающей юбке и белой кофте, стуча каблучками о мраморные плиты. Нас разделяли кусты недавно распустившихся роз. Хотелось нарвать цветов и подарить их ей, но она сама сделала это за нас. Потом мы еще долго сидели втроем на парковой скамейке и о чем-то болтали. Была среда, двадцать третьего мая тысяча девятьсот семьдесят первого года.
Около полуночи мы расставались на автобусной остановке у Сабунчинского вокзала. Она жила в поселке Кирова. С Ильгамом нам было по пути. Он жил в поселке Монтина и вышел из метро одной остановкой ранее — на станции «Нариманов».
Прохождение ВТЭК и оформление инвалидности на время отрезвили меня. Точнее сказать: вернули мне мою вечную ношу — комплекс неполноценности. Я пытался не думать о Валентине, но запретить себе встречаться со старыми друзьями — не ходить на «Спутник» — я не мог. Одно время мне показалось, что я выдумал для себя эту девушку с косичкой в своем воображении; просто той, о которой я думал, в природе быть не должно. Но тот теплый весенний вечер в парке и она в запахе цветущих роз не давали мне покоя. Ильгаму она должна была нравиться. Возможно, он имел какие-то виды на нее. Да мало ли кому она нравилась. У меня даже возникло желание увидеть своих соперников. Я пытался вообразить: кто бы мог ей нравиться? Даже подыскивал ей мысленно пару. Хватило воображения только на Толика Грузинцева — высокого русого парня. Они даже чем-то были похожи друг на друга.
С такими мыслями я бродил по комнате, когда неожиданно без стука в дверь вошла Вера.
— Эмка дома? — резко спросила она.
От неожиданности я потерял дар речи. Помотал отрицательно головой. Она исчезла внезапно, так же, как и появилась.
Вечером пришел Ильгам. Предупредил, что девятого июня у Вали Карташовой день рождения. Собираются все наши.
— Да, на нашем бульваре американцы выставку открыли. «Домашнее жилище» называется. Сходим втроем? — предложил он.
— Давай сходим, — сказал я, но кто третий, почему-то не спросил.
Условились встретиться девятого в пять вечера у входа в павильон. А после выставки — к Карташовым.
Она опаздывала. Я был уверен, что придет именно она. Было около шести, когда Валя пришла, улыбающаяся и цветущая, как майский день. В платье кирпичного цвета с жабо, приколотым к нему самодельной брошью. Она умела одеваться. Недорогие, но красивые наряды шила себе сама, а мне казалось, что она заказывала их в ателье. Такие заказы стоили определенных денег, и я поначалу думал, что она из хорошо обеспеченной семьи, а дом, в котором живет, должен быть непременно большим и красивым.
На выставке я меньше смотрел на стенды и проспекты, а больше на Валю. Вообще, она в любой ситуации вела себя раскованно, непренужденно, и в любом месте чувствовала себя комфортно, а в нашей одноликой толпе заметно выделялась. Ее заметил какой-то американец и подарил значок выставки.
С каждой минутой она мне все больше нравилась, но ее внутренняя свобода меня пугала. Я боялся влюбиться в нее по уши.
На дне рождения у Карташовой я уже откровенно ухаживал за Валей.
— Санек, смотри, какое у Вали красивое платье, — с намеком, улыбаясь, сказала именинница.
— Да, красивое, — с волнением ответил я, посмотрев на Валину грудь.
Карташова это заметила и искренне рассмеялась. Валя, поняв ситуацию, залилась краской.
После дня рождения не думать о ней я уже не мог. Лариса и Валя Карташовы заметили мои сердечные стенания. Подшучивали надо мной. Я как мог старался скрыть свои чувства, но у меня это плохо получалось. Некоторое время я внушал себе, что из этого ничего хорошего не получится. Что более чем другом стать ей не смогу потому, что в нашей компании ухаживания и амурные дела были не приняты. В конце концов, я так устал от своих бесплодных страданий и размышлений, что решил: уж лучше синица в руке, чем журавль в небе. Я написал записку Вере, в которой предлагал ей встретиться и поговорить. Записку отнесла ей Светка Армянка.
В ответ Вера прислала целое письмо. Трогательное, в котором высказала мне все свои обиды. Больше недели мы переписывались. Мои чувства к Валентине все более казались мне плодом романтических фантазий. К чему мечтания, когда Вера тут, рядом. Столько откровений в письмах и страстных поцелуев. И все это только мое и ничье более. Мне показалось, что я уже сделал выбор, и я решил познакомить Веру со своими друзьями. Решил, так сказать, вывести ее в свет.
В ближайшую среду я, Эмма и Вера отправились на «Спутник». Компания собралась небольшая: Ильгам, Седа, Валя Карташова, Валя Захарова и нас трое. Со «Спутника» отправились на бульвар в кафе «Наргиз». На веранде шумно сдвинули столики и стулья, соорудив один большой праздничный стол.
— Карташова, выходи за меня замуж, — полушутя сказал Ильгам, двигая стол в ее сторону. — Прямо тут свадьбу и сыграем.
— Ты что, Мирзоев, с ума сошел? Когда тебе будет тридцать, я уже буду годжашкой (старухой, аз), — рассмеялась она.
За столом, как всегда, больше всех говорила Валя Карташова. Подначивала Ильгама. Тот отбивался как мог. Эмма тоже шутила и смеялась. Только Вера не проронила ни слова. Было видно, что компания наша ей не нравится. Я тоже чувствовал себя неловко, скованно и больше молчал.
Нашим девчонкам Вера не понравилась. Об этом мне прямо сказала Валя Карташова.
— Я должен на ней жениться, — многозначительно сказал я ей.
После этого разговор о Вере больше никто не затевал.
В начале лета мама мне прислала письмо из Казахстана. Просила меня приехать к ней помочь по хозяйству. Паспорт я уже получил. Эмма дала денег на дорогу, и я полетел к матери самолетом. Добирался до Киевки больше суток. Была пересадка в Ташкенте и Караганде. Из Караганды летел на «кукурузнике». Его так мотало, что все пассажиры в салоне всю дорогу держали пакеты у рта. Выходил из самолета, словно прокатился на сумасшедшей карусели. Из Киевки до совхоза «Киевского» добирался на попутке. Мама встретила меня на улице. Услышав шум подъезжающей машины, она выбежала во двор.
— Я как будто знала, что это ты приехал, — на ходу проговорила она.
Расцеловались.
Она сильно похудела, поэтому ее шевелюра показалась мне огромной папахой. Жила мама в многоквартирном двухэтажном деревянном доме. Поднимались на второй этаж по шаткой лестнице. На пороге встретила нас сестра Севиль. Она сильно изменилась и повзрослела.
Квартира была прибрана по-деревенски: занавесочки с рюшечками, абажур, металлическая кровать с огромными подушками и тюлевой накидкой. Все так было непохоже на наш дом, когда мы вместе жили в Баку. Готовя ужин, мать вдохновенно рассказывала, как хорошо ей тут живется, какие тут прекрасные и отзывчивые люди.
— Есть, конечно, всякие, — продолжала она, накрывая на стол, — но больше хороших, чем плохих. И заработать здесь можно. Держат коров, свиней на мясо. В год по два раза сдают на мясокомбинат. У многих мотоциклы, машины собственные. А дома какие выстраивают! Были бы только руки мужские.
— Мне техникум надо закончить, — понимая ее намеки, ответил я.
— А девчонок сколько! Одна краше другой, — продолжала она, как будто меня не расслышав. — Это сейчас темно. А завтра в клуб сходишь, сам увидишь.
Говорили долго. Я рассказывал о службе в армии, о родном Деловом дворе. Проболтали допоздна. Спать ложились глубокой ночью.
Ее хозяйство состояло из крытого соломой сарая, в котором стояли по уши в грязи два кастрированных борова. Необходимо было прорезать в стене окно, чтобы выбрасывать вонючую жижу на улицу, да соорудить стойло для коровы, которую мать собиралась купить. Сарай был весь насквозь дырявый, а боров, который был поменьше, постоянно кашлял. Мать намеревалась его зарезать и предложила это сделать мне. Я, конечно, отказался.
С сараем я провозился больше недели. Проблемой было достать строительный материал. Гвозди мать привезла с собой еще из Баку. На пилораме выпросила старых горбылей, которые и пошли в дело.
Вторую часть моего пребывания я посвятил знакомству с местными достопримечательностями. Надо было как-то подготовиться к крупному разговору, который предстоял с матерью. Да и дел особых в ее хозяйстве вроде бы уже не было. Вечерами мать водила меня по гостям, знакомя со своими друзьями, а днем я бродил по поселку и его окрестностям.
Жили в поселке в основном сосланные сюда в годы Великой Отечественной войны немцы и чеченцы. Добротные дома. Ухоженные сады и огороды. Разбитые цветники под окнами. Глядя на все это, не верилось, что зимой в этих краях морозы за сорок. Здесь на совхозных полях корейцы все лето выращивали арбузы. Знойное лето, пыльные дороги напоминали южное Ставрополье. Невдалеке от поселка протекала извилистая речка Нура. Растительности вокруг никакой, только в пойме реки густые заросли ольхи и чернотала.
Отдыхать здесь можно, но жить в совхозе мне почему-то не хотелось. Время подходило к отъезду. Играть в футбол с местной ребятней и ходить на рыбалку уже наскучило. Да и не за этим я, собственно, сюда приехал. Самого главного я матери так и не сказал. Я собирался сделать предложение Вере, и не знал, как сообщить об этом матери.
Вначале я попросил у нее денег на обратную дорогу, а когда она мне их дала, рассказал о своем намерении жениться. Это известие не застало ее врасплох. Она уже знала об этом из письма, которое ей прислала сестра Эмма. Но все равно мать сильно расстроилась и говорила со мной на повышенных тонах.
— Ты же сама приручила ее, — с упреком говорил я. — Сколько она к нам ходила… Почти жила у нас… В Москву ее возила…
— Дружить дружите, но жениться… Я не для нее тебя вырастила. Что, мало девчонок хороших? Нашел… нищенку.
Обстановка накалялась. Я понял, что доказывать ей что-то больше бесполезно.
— Или я, или твоя Верка, — сказала она в конце нашего разговора.
На этом мы и расстались.
Дорога домой показалась мне короче. Приехал поздним вечером. Эмма еще не спала и принялась накрывать на стол. Из саквояжа я достал куклу, одетую как невеста, и поставил ее на подоконник.
— А это кому? — спросила сестра.
— Для Веры купил, в подарок, — ответил я, рассматривая куклу.
— Ты что, на ней жениться собрался? — тихо спросила она.
Я, ничего ей не сказав, пошел к рукомойнику.
— Она дома или в поездке? — спросил я.
— Дома. Вчера приходила. Спрашивала, когда ты приедешь.
За ужином рассказал, как отреагировала мать на мое желание жениться на Вере.
— А ты что на это скажешь? — спросил я у сестры.
— Я бы не хотела, чтобы ты взял ее в жены, — сказала она в раздумье.
— Вас не поймешь, — возмутился я. — То вы ее расхваливаете, то хаете.
Эмма промолчала. Больше мы на эту тему с ней не говорили.
Проснулся я поздно. Посмотрел на будильник. Было около одиннадцати. На столе стоял кофейник и лежала пачка печенья. На печенье я уже смотреть не мог. Поискал хлеба, но не нашел. Решил сходить в магазин, но вспомнил, что последние сорок копеек потратил в аэропорту на автобус. «Что-то день с самого начала не складывается», — подумал я. Посмотрел на подоконник, на котором стояла кукла, и остался недовольным своим подарком.
Зашла Светка Армянка. Как всегда, без стука.
— Ну, ты и спишь! Три раза к тебе приходила, а ты все дрыхнешь, — произнесла она нараспев.
— Слушай, у тебя хлеба нет? — без настроения спросил я.
— Есть. Хочешь, я тебе огурцов малосольных принесу? Мать уже сорок банок накрутила. Целую батарею, — сказала она низким грудным голосом.
— Тащи, только побыстрей, — обрадовался я.
Ее словно ветром сдуло. Через минут пять она влетела в дверь. Поставила на стол трехлитровую банку огурцов и полбулки серого хлеба.
Было ей пятнадцать лет. В этом возрасте в девчонках появляется женственность, но она, худая и высокая, больше напоминала озорного мальчишку.
— Ты что, с Веркой не разговариваешь? — начала она издалека.
— С чего ты взяла? — хрустя огурцом, спросил я.
— Я тебе кучу записок от нее принесла, а ты написал ей только одну.
Я знал, что Светка читает мои послания.
— Не знаешь, она дома? — спросил я, не ответив на ее вопрос.
— Она у Аллочки. Теперь они друзья, — многозначительно сказала она. — Аллочка даже подарила ей черные импортные туфли.
Эти туфли Вера надевала, когда мы ходили с ней на «Спутник». Они были на размер больше и на ее маленькой ноге казались галошами.
— Отнесешь ей записку? — я поискал бумагу и ручку.
— Давай, — с напускной ленью произнесла она.
Сложив записку вчетверо, я отдал ее Светке. Она медленно поднялась со стула и картинно пошла к двери.
Найдя старую газету, я завернул в нее куклу. Стал ждать. Светка долго не возвращалась. Наконец она появилась, сказав, что Вера дома, и ушла к себе.
В этот день мне просто хотелось ее увидеть. О том, чтобы сделать ей предложение, я не думал. Мысленно перенес это мероприятие на осень. А лучше было бы сделать это после окончания техникума. Надо было сначала устроиться хоть на какую-то работу. Подсознательно я оттягивал время, когда должен был предложить ей свои руку и сердце. Что-то удерживало меня от этого. Мне казалось, что мы еще не совсем хорошо знаем друг друга, хотя прошло четыре года со дня нашего знакомства.
Она сидела за письменным столом у окна и что-то писала, когда я вошел.
— Привет. Это тебе, — сказал я, протягивая сверток прямо с порога.
Развернув газету, она подошла и поцеловала меня в щеку. Со мной она была сдержанной в своих чувствах. Всю страсть ко мне изливала в своих письмах и записках. Иногда мне казалось, что это не она, а какая-то другая девушка пишет мне эти любовные послания, и это меня разочаровывало. Она сильно изменилась. Сделала короткую стрижку и покрасила свои черные волосы в темно русый цвет.
— Знаешь, — начала она после нашего долгого молчания, — я хочу, чтобы ты об этом узнал от меня, — она сделала длинную паузу. — Мы спали с Сашей в одной постели, когда нас застукала тетя Даша Киречучка. Но ты не думай, у нас с ним ничего не было.
Мое молодое самолюбие не оставило в голове места для размышления. Я ударил ее по лицу и, шумно раскрывая двери перед собой, ушел.
Вначале мне показалось, что с моих плеч свалился тяжелый камень. Я даже как будто бы обрадовался такому повороту событий, но задетое честолюбие горечью обожгло душу. Я не знал, что делать дальше. Придя домой, я тут же рванулся с места, чтобы вернуться и попросить у нее прощения: впервые в жизни я ударил девчонку по лицу, но, дойдя до своей двери, остановился.
На следующий день я вернул ей все ее письма и записки. Забрав свои, порвал их и сжег. А еще через день я попросил у нее прощения, и мы помирились. Но отношения наши хорошими назвать было трудно. До того замкнутая и малоразговорчивая, она стала холодной и скрытной. Письма друг другу мы уже не писали, и от моих предложений съездить в город или на «Спутник» она резко отказывалась. Но однажды сама предложила мне прокатиться с ней в поезде Баку — Ереван в качестве проводника. Ее напарница заболела, и Вера попросила меня, чтобы я ей помог.
Она хотела близости со мной, а я, дурак, сразу этого не понял. Спустя год, когда мы с Валентиной жили уже как супруги, Вера сказала мне как-то при встрече: «Об одном я только жалею, что у нас тогда ничего не получилось». После этой поездки пламя нашего костра стало потихоньку угасать, а на мое предложение выйти за меня замуж она ответила отказом.
Какой-то рок висел тогда над нами. Какие бы мы ни принимали шаги навстречу друг другу, наши отношения только ухудшались. Вырастала стена между нами, мы ее разрушали, но тут же появлялись новые преграды. Не думаю, что мы жили бы с ней счастливо, только и делали, что выясняли бы отношения друг с другом.
Своими переживаниями тогда я ни с кем не делился. Друзья мои Веру не приняли, а Эмма о ней и слышать не хотела. От всего этого я страшно устал. Устал от безденежья, от того, что нет рядом родителей. Чувство одиночества не покидало меня ни на минуту. Не радовали даже поездки на природу. С моим «волчьим» военным билетом меня никто не брал на работу, и я глубоко пожалел, что оформил инвалидность.
Валентина тогда казалась далекой маленькой звездочкой во Вселенной. Одно ее присутствие в нашем кругу было счастьем для меня. Как маленькая собачка, потерявшаяся среди городской толпы, разыскивая своих родителей, смотрит в глаза каждому прохожему, так и я смотрел на Валю. Я был унижен, подавлен и никак не мог выбраться из затяжной хандры.
Но время лечит душевные травмы. А в молодости оно несется стремительно, сменяя на лету картины жизни. Друзья, которые меня окружали, были молоды и энергичны, веселы и откровенны. Их энергия заряжала меня положительно. Их душевное состояние вселяло в меня надежду. Да и сам я прилагал определенные усилия, пытаясь повернуть свою судьбу в нужное русло. Шаг за шагом я отвоевывал у судьбы жизненное пространство, чтобы делать эту самую судьбу собственными руками.
Мои нежные чувства к Валентине крепли день ото дня. Я старался бывать везде, где намечалось ее присутствие. Наша компания приняла ее как родную. Она была не дополнением к ней, а большей ее частью. Порой наш «капитан» — Валя Карташова — ревновала ее по этому поводу. Ревновала еще и потому, что Валя Захарова могла проявить волю и характер. Она была без комплексов, умела спорить, отстаивая свои интересы. Эта напористость в ней отрезвляла меня, но делала активным. Мне нравилось, как она своим энергичным характером тормошила нашу компанию, изменяя ее качественно. В то же время она была душевным человеком. Мне казалось, в ней нет недостатков, что она сплошь состоит из достоинств.
Я не писал ей любовных записок, не говорил нежных слов: я просто всегда и везде старался быть с ней рядом, а все мои нежные чувства к ней были написаны у меня на физиономии.
Среди моих друзей всем все было ясно и понятно. Все всё понимали.
— Околеснов! Давай мы вас поженим, — шутила Валя Карташова. — В палатке вместе спали? Теперь не отвертишься, — говорила она.
На пляже в Бильгя, куда мы ездили летом, я украдкой, но с упоением смотрел на нее. Такой откровенный купальник мало кто носил в то время. Она сшила его сама. Я удивлялся: как он держится на ее теле? Казалось, одно неосторожное движение — и она предстанет обнаженной. Полоска материи еле держалась на ее упругой молодой груди, а очертание бедер говорило о том, что она уже готова взрастить в своем лоне желанного ребенка. Она предстала во всем своем откровенном великолепии: все ее зрелое тело говорило, что она уже готова и хочет стать любящей женой и хорошей матерью. Оставалось только выяснить — кто же этот счастливчик, который будет обладать всем этим совершенством? Я был счастлив только оттого, что был свидетелем, как природа готовила девушку стать женщиной.
В одну из поездок на пляж в нашей компании появился Коля — интеллигентного вида бородач из Москвы. Он был намного взрослее нас. Валя Карташова познакомилась с ним на «Спутнике». В Баку он был, как сам говорил, в длительной командировке. Карташова (рассказывала мне позже Валя Захарова) была по уши влюблена в него. Как-то после обеда Колю отправили на родник за водой. Он взял с собой за компанию Валю. Родник был недалеко. В десяти минутах ходьбы, но задержались они там на целых два часа. Собирали тутовник с дерева, которое росло рядом с родником. Карташова приревновала тогда Колю к Захаровой. Да и я тоже немало поволновался. Тогда между двумя Валентинами чуть не произошел раскол. Карташова долго потом язвила Захаровой. Вплоть до своего отъезда в Москву. Коля не был женат, и Карташова имела виды на него.
В конце лета на своем предприятии Карташова взяла две путевки на экскурсию в Красноводск. Себе и Коле. Предложила и мне с Захаровой поехать вместе с ними.
— Возьмете билет на верхнюю палубу, и вчетвером доплывем в одной каюте. Будет у вас с Валюхой свадебное путешествие, — шутила она.
В Красноводск, на противоположный берег Каспия, ходил паром. Огромный лайнер белого цвета. В его трюме в два ряда помещался целый грузовой состав. Наверное, это было единственное судно на Каспии, которое своим внушительным видом напоминало о том, что в мире, кроме Каспийского моря, есть еще бескрайние океаны и сказочные острова. Не было ни одного прохожего на бульваре, который не обратил бы внимание на то, как, подав низкий протяжный гудок, огромный белый корабль, сверкая бортовыми огнями на фоне гаснущего неба, уходит в дальнее плавание. Я не ошибся, сказав «в дальнее», потому что такому кораблю слишком уж тесно было в нашем море.
За билетом на морской вокзал мы с Захаровой отправились вместе. Пришли, когда касса была закрыта на перерыв. Приглашать ее куда-то прогуляться мне не хотелось. Хотелось просто посидеть с ней рядом и послушать ее наполненную внутренней положительной энергией речь. Она без труда находила темы для разговора, а я, будучи хорошим слушателем, смотрел на нее, «разинув варежку». Сидели в морском порту на скамейке вдвоем в огромном зале ожидания, облицованном белым мрамором. Мне казалось, что в эту поездку в наших отношениях должно было произойти что-то очень важное для нас обоих, что, возможно, сблизило бы нас. Но она, как будто читая мои мысли, внутренне сопротивлялась этому.
Паром отходил в пятницу вечером. Мы поселились в двухместной каюте вчетвером. Карташова выделила нам с Валей диван слева. Иллюминатор был открыт, и легкий ветерок доносил с моря запахи нефтяных промыслов. Тусклый свет падал с потолка. Девчонки готовили легкий ужин, когда паром проходил мимо маяка острова Наргин. Сноп света, рыская по Бакинской бухте, на мгновение залетал к нам в каюту. Было уютно и романтично.
Тон общего разговора, как всегда, задавала Валя Карташова. Она все посмеивалась над моей жиденькой бородкой, которую я отращивал, сам не зная для чего.
— Санек, ну ты прям кОзел настоящий, — она заливалась звонким смехом. — Слушай, когда ты уберешь свой позорный вид?
Я, поглядывая на густую бороду Николая, краснел и ерзал на своем сидении.
Ее Коля оказался не очень разговорчивым парнем. Мне он даже показался тихим и смирным, если не скрытным. Некоторые слова его, произносимые сквозь бороду, я не мог разобрать. Его интеллигентно-интеллектуальный вид как бы говорил: Валя Карташова тут ни при чем. Она просто работает у меня мастером. Они совсем не подходили друг другу. «Тебе бы, Валентина Васильевна, что-нибудь попроще», — думал я про себя.
Паром шел по морю, словно утюг по гладильной доске. Шум машин где-то в глубине под нами был почти не слышен. В открытый иллюминатор долетал шелест волн.
— Ты там Валюху сильно не зажимай, — не унималась Карташова, когда мы улеглись парами, каждая на своем диване.
— А для чего же ты нас вместе положила? — тоном мужчины, повидавшего жизнь, старался отшучиваться я.
— Ой, ха-ха-ха, ты на него посмотри! Валюха, блюди себя… Не давайся ему.
— Блюдю… Блюдю, — тихо отвечала она в сторону перегородки.
Почти всю ночь я не сомкнул глаз. Она лежала ко мне спиной, ни разу не шелохнувшись. Всего лишь раз я провел ладонью по ее бедру, а показалось, что по шершавому бревну. Она была в джинсах.
Мы подходили к Красноводску утром. Был полнейший штиль. Море светилось одним большим солнечным бликом. Вся каюта была залита светом. На пирсе Карташова и Коля присоединились к экскурсионной группе, и мы на время расстались. Не зная с чего начать, я предложил Валентине просто прогуляться, а дальше будет видно. Она согласилась.
Красноводск оказался тихим городишком среднеазиатского типа, лежащим на краю пустыни. Его печальная слава — расстрел двадцати шести Бакинских комиссаров. Если бы не резервуары у морского причала, можно было бы сказать, что время здесь остановилось очень давно. Узкие извилистые улицы меж одноэтажных домов с плоскими крышами — это его центр. Чем дальше от центра, тем выше дома. А где-то совсем на окраине — новый микрорайон пятиэтажек.
Мы плутали по узким улицам, разглядывая местные достопримечательности, когда неожиданно набрели на группу экскурсантов. Женщина-гид рассказывала об историческом значении этой части города. Решили примкнуть к этой группе, узнав, что она направляется в краеведческий музей.
Выйдя из музея, Валя сказала, что хочет пройтись по магазинам. Расставаясь, мы условились встретиться в пять вечера у причала.
На одном из перекрестков я купил себе два чебурека и отправился в сторону моря. Бродить по городу без Валентины мне почему-то не хотелось. Этот берег Каспия не был похож на наш. Только здесь, глядя на бледно-голубое море, можно было сказать: это действительно озеро. Даже чаек почему-то не было видно. Но, может быть, во всем была виновата погода. Так тихо у воды бывает только у горного озера. Я снял башмаки и пошел босиком по воде.
Прождал я ее более двух часов. Солнце уже клонилось к закату. Наконец увидел ее, неспешной походкой приближающуюся ко мне. В руках в сетке-авоське она несла две дыни. Пошел ей навстречу.
— Ну как прогулка? — спросил я ее еще издалека.
— Полдня рынок искала. Хотела купить четыре дыни, но передумала. Не донесла бы. Тяжелые.
— Может, искупнемся? — принимая ее ношу, предложил я. — Зря, что ли, на этот берег приплыли?
— Пошли, — после небольшой паузы сказала она.
Перешагивая через трубы, которые тянулись от резервуаров к пирсу, мы направились вдоль берега, подальше от запаха нефти. Прошли метров триста. Здесь берег был чистым. Ни волн, ни легкой ряби. Сбросили одежду на берегу, придавив ее дыней.
Мы долго шли по воде, поглядывая на свои вещи, и уже порядочно отошли от берега, но море было не выше колен. Впервые мы были одни, и я, до этого строя различные планы, не знал, как себя вести. Наконец дошли до того места, когда стало по пояс. Купаться что-то расхотелось. Окунувшись два раза, стали выходить. Мои планы относительно того, что здесь я ее должен был поцеловать, рассыпались в прах. Она как будто знала наперед, что я собирался предпринять, и каждый раз взъерошивалась, как котенок, которого старается обнюхать дворовый песик. В такие минуты она резко менялась в лице и выглядела намного старше своих лет. Боясь испортить наши отношения, я каждый раз откладывал на потом свое желание ей во всем признаться. Мне казалось, что ближе того, что есть между нами, — быть не может. Я впадал в уныние, и приходило на ум, что у нее наверняка кто-то есть, что она по ком-то сохнет и страдает.
На этом и закончилось наше «свадебное путешествие». В воскресенье рано утром наш паром подходил к Бакинскому причалу. Общественный транспорт еще не ходил, и мы решили пройтись пешком до станции метро «28-е апреля». Это место в городе — перекресток множества дорог. Трамваи, автобусы, электричка, метро здесь сходятся и затем расходятся по разным направлениям. Здесь назначают встречу влюбленные, но это также и место деловых встреч. Отсюда и «Спутник» недалеко.
Утро было облачным. Поливальные машины, ползая, словно божьи коровки, освежали городские улицы. Карташова с Колей пошли на электричку. Расставаясь с Валентиной, я пожал ее руку и пригласил к себе в гости.
В конце августа я получил свою первую пенсию. Шестнадцать рублей сорок копеек. На эти деньги в магазине можно было купить семь килограммов мяса или восемьдесят буханок хлеба. Или один раз сходить на рынок. Деньги по тем временам мизерные.
В то время я по этому поводу особо не задумывался, предлагая Вере свою руку и сердце. Видя перспективу дальнейшей семейной жизни, она поступала разумно, отказывая мне. Но мы не стали врагами. Шутили и улыбались друг другу при встрече. Она по-прежнему ходила к нам, только больше общалась с Эммой в ее комнате.
Нельзя сказать, что я не думал о своем будущем. Оставался один год учебы в техникуме. После его окончания я собирался уехать в Россию на какую-нибудь стройку. Жить в Баку я совсем не хотел. Будущее свое я видел только в России. Поэтому уговаривал себя потерпеть всего один год.
К моим шестнадцати рублям прибавлялись еще двадцать рублей стипендии. Тридцать шесть рублей — это уже кое-что, хотя не так уж и много. Была еще плодоовощная база, где можно было на погрузке и выгрузке овощей заработать наличными, что мы иногда и делали с дворовыми ребятами. Но в этом плане была острая конкуренция и переизбыток рабочей силы, говоря сегодняшним языком.
Эмма меня понимала. По крайней мере, мне так казалось. Она не упрекала меня в том, что я не могу устроиться на работу. А я никогда не брал у нее денег на карманные расходы. Жили мы дружно. Выращивали кроликов в своем дворике, который располагался за нашим окном между стеной нашего дома и каменным забором гаража стройуправления. Кроликов сами не резали, а носили на базар продавать. По пять рублей за живого ушастика. На вырученные деньги там же покупали фрукты и овощи.
Иногда нас навещал Алишка. Приезжал на своих новеньких «Жигулях». На склоне лет наконец сбылась его мечта приобрести автомобиль. На Новруз-Байрам и Пасху привозил печеное и сладости. Летом же — виноград и помидоры со своей дачи. Эмма выпрашивала у него деньги, и он всегда давал ей по десять рублей. Навестив нас, отправлялся к Аллочке. Та родила девчонку от него, оказывается. Надо было и ей выделить какой-то гостинец.
В августе у въезда на овощную базу скапливалось в очередь до сотни автомашин с помидорами и огурцами. Можно было за рубль купить у водителя ящик помидоров. В это время весь двор занимался консервированием. Закатывали банки и мы с Эммой.
В Баку на малую зарплату можно было протянуть. Весь год можно проходить в пиджаке или легком плаще. Летом в одной рубашке. Зимы практически не бывает. Проблемой было купить хорошую обувь. Одной пенсии на нее не хватало.
Наши с Эммой финансовые проблемы потихоньку как-то решались сами собой. Мы привыкли жить менее чем скромно и не роптали на судьбу. По праздникам накрывали стол. Принимая гостей, всегда находили, чем их угостить. Угощали даже шоколадом. Сашка Бабайчик таскал его с бисквитной фабрики, где он работал, по старой дружбе и нам перепадало. Ели шоколад килограммами. Таскал он его огромным куском величиной со строительный кирпич. Эмма работала там же и приносила домой то маргарин, то сливочное масло. Это напоминало воровство, но тогда каждый со своей работы что-то приносил домой. Иначе было не прожить. Зарплата у всех была мизерной, а жить достойно хотелось каждому.
Вот и на этот раз, приглашая Валентину в гости, я знал, что встретим мы ее достойно. Пришла она около одиннадцати утра в субботу. Я только собирался мыть полы и встретил ее на пороге с ведром в руке.
— Привет! А ты что, одна? — от неожиданности я не сразу пригласил ее в дом.
— Ильгам сегодня работает… Пройти-то можно?
— Конечно… Проходи, — засуетился я. — Знакомься, это моя сестра Эмма.
Пожимая руку, Эмма посмотрела в мою сторону и улыбнулась одобрительной улыбкой.
— Вы тут поболтайте пока, а я сбегаю за водой, — сказал я и помчался к крану. Водопроводный кран находился в другом конце двора у ворот. Минут через десять я был уже дома. Валя с Эммой сидели на моей кровати в конце комнаты и мирно беседовали.
— Я сейчас… Быстро… Только протру полы… Вы только ноги поднимите, — сказал я, начиная мыть полы от кровати.
— В такие дни его не заставишь, а сегодня прямо такой хозяйственный, — с улыбкой подметила Эмма.
Заканчивая мытье, я думал: с чего начать разговор? Начал со своей библиотеки, затем перешел на поделки из коряжек, которые привозил из поездок. Мне было приятно наблюдать за тем, как Валя разглядывала каждую пустяковую вещицу в нашем доме. Потом полезли через окно в прихожей в наш дворик посмотреть на кроликов. Валя и Эмма разговаривали друг с другом так, будто были знакомы целую вечность. Это меня немало удивило: Эмма с новыми людьми сходилась трудно, и я был рад, что Валентина сестре понравилась. Валентина вела себя так, будто была в нашем доме уже сто раз. Завершалась встреча чаепитием, когда неожиданно, как всегда без стука, вошла Вера.
— Саша, я тебе книгу принесла, которую брала почитать, — она с волнением положила книгу на стол и, сделав паузу, будто хотела еще что-то сказать, резко повернулась и ушла.
Я посмотрел на Валю. Она слегка покраснела. Но через минуту все встало на свои места.
— Ну что, к Карташовым на Разино поедем? — спросил я Валю.
— Да… Надо ехать… А то поздно будет, — ответила она, вставая из-за стола.
Собирались недолго. Эмма ехать с нами не захотела.
Прошли по двору сквозь строй пытливых глаз. Летними вечерами, особенно по субботам, жильцы нашего дома выползают из своих раскаленных квартир во двор. Многим было, конечно, интересно: что это за девочка с косичкой, которую привел в дом Сашка Алишкин?
В конце августа скверы и парки в Баку выглядят уныло. За лето накопившаяся на деревьях пыль окрашивала листву в мрачные тона. Выгоревшая трава превращалась в серую пыль, которую разносили по городу как напоминание о приближении осени надоедливые ветры. Только клены и тополя, спрятавшиеся меж акаций и приморских сосен, говорили своим пожаром о том, какой красочной может быть осень. Унылая пора и на юге тоже бывает унылой.
За неделю до начала занятий я стал готовиться к новому учебному году. Перебрал старые конспекты, съездил в поселок Монтина за письменными принадлежностями. Там же зашел к своему однокурснику Славе Власову. Узнал от него много интересного о группе, в которой я учился до службы в армии, о преподавателях. Теперь они за каждую курсовую работу брали мзду по семьдесят пять рублей.
— Это еще что, — продолжал Слава, — в этом году, помимо курсовой, придется еще заплатить сто пятьдесят рублей за дипломную работу.
— Ни хрена они от меня не получат, — возмущенно говорил я.
— Отчислят, и все дела. Сам я еще не решил: давать или не давать. Если мать поможет, за дипломную отдадим, но за курсовую не дам ни копейки. В прошлом году не давал и в этом не дам.
Жили они вдвоем с матерью в бывшем военном городке в одноэтажном финском домике. Имели небольшой садик, разводили кур. Отец Славы был военным и умер, когда сыну было десять лет. Из всех моих однокашников Власов был для меня наиболее интересным. В группе он был молчуном, но со мной открытым и откровенным. Он часто бывал у нас. Одно время ему нравилась моя сестра Эмма. Он даже пытался за ней ухаживать. Но сестра подшучивала над ним, а иногда без злобы смеялась.
— Деревенский он какой-то, — говорила она мне, — неинтересный.
— Может, и деревенский, — как будто уговаривал я ее, — зато хозяйственный.
Несколько раз Слава был с нами в поездках, но заядлым туристом так и не стал. Похоже, что из близких друзей, кроме меня, у него никого не было. По крайней мере, со своими друзьями меня он не знакомил.
Был я у Власова почти полдня. Выпросил у него на время конспекты за прошлый год по электротехнике и сопромату. Год я пропустил, и надо было хотя бы познакомиться с пройденным материалом. До начала занятий оставалось меньше недели.
К первому сентября я окончательно понял, что в этом году придется мне несладко. А в первые дни занятий я просто «плавал» по всем предметам. Я уже было опустил руки, но тут Слава предложил мне свою помощь. Надо откровенно признаться, что если бы не его могучее терпение, я бы, наверное, бросил техникум, но первый семестр я закончил с хорошими отметками. Троек было не так много.
С Валентиной в этот период мы виделись редко. А в ноябре она уехала к своему отцу который жил в Молдавии. Освободившееся в голове место я усиленно заполнял знаниями и к концу полугодия вошел во вкус. Единственной проблемой у меня была электротехника. Преподаватель ее, узбек по национальности, абсолютно не владел русским языком. На своих уроках он откровенно тянул волынку. Этот самый педагог и был главным сборщиком «подати». Староста нашей группы собирал с каждого студента перед каждым зачетом по двадцать пять рублей. Оплата шла по трем основным предметам: сопромату, электротехнике и теоретической механике. Двадцать пять — зачет, семьдесят пять — курсовая, сто пятьдесят — дипломная. В то время сто пятьдесят рублей платили рабочему высокой квалификации. Платить мне было нечем. Приходилось пересдавать у них по пять раз. Скрипя зубами, я переносил это унижение. В декабре наша группа ушла на преддипломную практику.
В конце декабря, как всегда в среду, я пошел на «Спутник». Стояла пасмурная, но теплая погода. Собралось непривычно для этого времени года много народу. Группировались, в основном, вокруг тех, кто этим летом участвовал в серьезных походах. Им было что рассказать.
В одной из таких групп я увидел Валентину. Она пришла раньше нас с Ильгамом и долго к нам не подходила. Я не видел ее почти два месяца, и мне показалось, что она сильно изменилась за это время. Похудела и похорошела. Ильгам о чем-то рассказывал мне, а я, смутно понимая, о чем идет речь, смотрел на нее, боясь упустить ее малейшее движение. Именно тогда я понял, что не видеть ее я больше никогда не смогу, а расставание с ней принесет мне большую муку. Наконец она быстрым шагом подошла к нам и, хлопнув Ильгама по плечу, с улыбкой произнесла:
— Привет, Мирзоев!
— Здорово, Валюха! Ну, ты такая стала! — растягивая слова от удовольствия, произнес он.
— Какая? — напрашиваясь на комплимент, спросила она.
— Классная! Ну как съездила? Ты когда приехала?
— Позавчера… Съездила нормально… Познакомилась со своей сестрой по отцу… Теперь у меня есть родственники в Молдавии. Карташова в Москву еще не уехала?
— Собирается. Говорит, теперь меня никакими силами здесь не удержишь.
Валя была одета в пальто темно синего цвета, приталенное и короткое, чуть выше колен. На ногах — сапожки. Голова покрыта шелковым платком. В этом одеянии она была похожа на стюардессу. Когда Ильгам ей об этом сказал, она заулыбалась.
— Меня наши чушки в автобусе заколебали, — сетовала она, — только и слышишь: «Девушка, а девушка! Вы с какого рейса прибыли?»
— А ты бы сказала им: из Сан-Франциско, — пошутил Ильгам.
Они еще долго болтали, а я только слушал и смотрел на нее.
— Санек! А ты что молчишь? — спросил меня Ильгам, когда вволю наговорился.
— У меня восьмого января день рождения… Приглашаю тебя… Ты придешь? — спросил я ее.
— Приду… Конечно. Все придут, и я приду, — сказала она.
Подошли Женя Францев, Валя и Лариса Карташовы, Седа. Начался беспорядочный галдеж. Поступило предложение прогуляться. Шумной толпой отправились в сторону бульвара.
На моем дне рождения мы сидели вместе. Эмма попыталась сесть рядом с Валей, но я так «культурно» отодвинул сестру, что она отлетела в сторону. Моя неуклюжая шутка Валентине не понравилась. Я уже давно никого, кроме нее, не видел вокруг себя. Она позволяла мне ухаживать за ней, и это негласное разрешение еще более подогревало мой интерес к ней. Мне захотелось увидеть Валю в ее собственном доме. Окунуться в мир ее вещей. Увидеть другую сторону ее жизни.
Несколько дней спустя над городом пронесся снежный буран. Автобусы не ходили, магазины не работали. Жизнь города на время замерла. Я уговорил Ильгама сходить в этот день в гости к Валентине.
От станции метро «28-е апреля» до поселка Кирова отправились пешком. Вереницы людей шли в ту и другую сторону. Настроение было приподнятое, и все это шествие напоминало праздничную демонстрацию.
Ее дом мы нашли сразу. Стоял он в гуще самостроек. Выстроенный на болоте у завода железобетонных конструкций, поселок Стройдеталь напоминал шанхайские трущобы. Такие постройки назывались еще «нахалстроем». Строились они в послевоенные годы из любого подручного материала. Чаще всего из того, что обычно выбрасывали на свалку.
Дом Валентины — это каменное строение, к которому была пристроена с одной стороны большая прихожая, с другой — еще одна комната, в которой обитали Валя и ее сестра Лена. Жили они вчетвером: мать Мария со своим старичком Федей и их двое. Был у них и небольшой дворик, окруженный деревянным забором, в котором рядом с сарайчиком торчал из-под земли водопроводный кран.
Их жилье показалось мне еще более убогим, чем наше. Низкие потолки в доме и запах сырости наводили на грустные размышления. В центральной комнате большое место занимала каменная печь, которая отапливалась газом. Газ и вода — единственное неоспоримое преимущество перед нашим жильем, радовали глаз, а все остальное меня страшно разочаровало: такая же бедность и унылость. Валя, увидев нас в окошко, умчалась к себе в комнату. Хозяйка дома Мария встретила нас приветливо. Накрыла стол, на который поставила огромную сковороду с яичницей. От рюмочки, которую предложил нам дядя Федя, мы с Ильгамом отказались. Но и мы пришли не с пустыми руками. Еще в городе купили большую плитку шоколада.
Из своей комнаты Валя вышла в оранжевом больничном халате с платком на голове. Несколько дней назад, когда она собиралась на молодежный вечер в кафе, мать со злости остригла ей косу. Сидела Валя за столом без настроения, чуть не плача. Я никогда не видел ее такой. Мне даже показалось, что она была недовольна нашим приходом. За разговором со временем она приободрилась. Показала нам свой альбом с фотографиями, из которого я стащил ее любимую фотокарточку. Впоследствии пропажа обнаружилась, и Валя сильно разнервничалась, а я, впервые увидев ее в гневе, страшно перепугался.
Побывав в ее доме, я почувствовал равенство положения, в котором находились мы с ней в житие-бытие. Я подумал, что для меня было бы хуже, если бы она жила в хорошем красивом доме в центре города. Этим она стояла бы дальше от меня. С другой стороны, образ девушки из хорошо обеспеченной семьи мне почему-то нравился больше. Может быть, потому, что она, умевшая подать себя и держаться в обществе красиво и независимо, заслуживала большего.
Несмотря на то, что я не только ни разу ее не поцеловал, а даже за руку не держал, я решил сделать ей предложение. Свои намерения я не скрывал и всем видом своим показывал это. И ей, и нашим друзьям были видны и понятны мои чувства к Валентине, хотя ни с кем открыто я по этому поводу не объяснялся.
Я искал удобного случая для торжественного момента. И чтобы непременно мы были одни. Вдвоем мы почти никогда не гуляли. Ее умение притягивать к себе людей постоянно мешало мне общаться с ней. Но вот однажды, в феврале, мы появились на «Спутнике» вдвоем. Я решил объясниться с ней и добиться наконец определенности в наших отношениях. Далее продолжать целомудренное ухаживание не было смысла.
Было ветрено. Моросил мелкий дождик. Я предложил ей прогуляться. Мы шли по бульвару у самого парапета. За ним волновалось крупной рябью серое море. Она что-то говорила, а я, комок пламенных чувств, словно шаровая молния, висел над землей, готовый выпалить важное и взорваться от переполнявшей меня страсти. Наша прогулка заканчивалась. Мы подошли к конечной остановке ее автобуса. И тут я произнес: «Валя! Выходи за меня замуж».
Она переменилась в лице. Испуганно и сбивчиво, жестикулируя руками, произнесла:
— Нет… Нет… Я не собираюсь замуж… До свидания… Мне надо идти, — бросила она, как отрезала, и почти бегом направилась к своему автобусу.
Я, еще не до конца поняв, что произошло, словно каменное изваяние, остался стоять посреди темного города.
Второе «нет» для меня было ударом, но не таким, из-за которого мне хотелось бы повеситься. Я переживал, но в то же время чувствовал в душе облегчение. Все встало на свои места, теперь ей все ясно и понятно. Теперь я открыт полностью. В моей голове немного прояснилось. Я даже почувствовал тягу к учебе, чем наконец и занялся.
Но через неделю, словно гром среди ясного неба, словно просвет меж облаков, появилась она в нашем доме. И прямо с порога, испугав меня не меньше, чем испугал ее тогда я, произнесла:
— Я согласна!
А у меня надолго закралось сомнение: с чего это она вначале сказала «нет», а потом — «да». Но в конце концов я понял, что слово «нет», сказанное женщиной, не всегда имеет прямой смысл.
«ЖЕНАТИК»
В начале марта я занял у Ильгама восемьдесят рублей и купил обручальное кольцо своей невесте. В одну из суббот, набравшись мужества, я, Ильгам и Лариса отправились к Валентине свататься. В доме уже было полно народу. Стоял оживленный гомон. О нашем решении пожениться знала половина «Спутника». Почти столько же пришло на торжество. Говорили все, кроме жениха и невесты. Валя краснела и терялась. Не знала, как себя вести. Ребята усиленно развлекали нас байками, анекдотами и туристическими песнями. Вечером никто не ушел. Улеглись спать вповалку прямо на полу.
После обручения Валя перебралась жить к нам. Ее мать, а моя теща — Мария — все охала да ахала:
— Ох, бросит он тебя! Не дам тебе никакого приданого, пока вы не распишитесь.
Валентина сразу с головой окунулась в семейную жизнь. Как будто она уже сто лет была моей женой. Ходила на рынок, стирала белье в ручную, наводила порядок в доме. Работала она на обувной фабрике недалеко от своего поселка Стройдеталь. Почти каждый день я встречал ее у проходной.
Летом семьдесят второго года мы расписались. Свадьбу справляли прямо во дворе. Из Казахстана приехала моя мать. Это она дала денег на свадьбу и все организовала. Побелила стены в доме, повесила новые занавески.
С завода Мусабекова, где я играл в вокально-инструментальном ансамбле, привезли аппаратуру. За всю свою историю Деловой двор не видел подобного мероприятия. Пели и плясали до утра.
Валя была уже на третьем месяце беременности. Ей было не до того. Дядя Ваня, отец погибшего Виталия, никого к Валентине не подпускал, оберегал ее от лишних движений и волнений.
Начинали мы семейную жизнь, как говорится, с нуля. Не было элементарного: посуды, постельного белья, мебели. После свадьбы теща Мария привезла целую грузовую машину приданого: стол, диван, шифоньер, перину и множество вещей, которых нам недоставало в хозяйстве. Надо отметить, что теща мне попалась не жадная. Временами подкармливала нас. Она держала кур и уток. Из ее хозяйства кое-что и нам перепадало.
Этим летом я проходил производственную практику на заводе Мусабекова. Работа была оплачиваемой. Сто рублей — не весть какие деньги, но я был рад и этому. Чуть больше получала Валя. В это лето мы даже купили холодильник «Орск». В Баку без этого агрегата жить невозможно. Летом продукты пропадают мгновенно. Это была наша первая серьезная покупка.
Как и все молодые семьи, наша семья зарождалась не скажу что в муках, но в трудных родах. Сейчас я понимаю, что мало помогал в этом Вале. Семьянин из меня был никудышный. Я мог часами сидеть с гитарой, не обращая внимания на молодую жену. Это ее раздражало, и мы ссорились. Она уходила к матери, а я следом за ней ехал просить прощения. Наши ссоры длились недолго. Я отмечал про себя, что с Верой мы ссорились гораздо чаще.
Когда мы с Валей конфликтовали, я думал о Вере. Меня по привычке тянуло к ней. Почему-то о наболевшем хотелось поделиться именно с ней. Ни с Ильгамом, ни даже с Ларисой. И когда у нас с Валей все хорошо складывалось, меня тянуло к Вере. Мне казалось, что это был единственный человек в то время, который мог бы понять меня в новом качестве.
Последний раз я виделся с Верой за несколько дней до свадьбы. Я никогда не искал с ней встречи. Но не скажу, что эта встреча была случайной.
Как-то вечером после ужина я вышел за ворота нашего двора. Справа от ворот росло большое тутовое дерево. Здесь, на лавочке, собиралась местная молодежь. Увидев среди них Веру, я хотел было вернуться домой.
— Привет, женатик, — с ехидством произнесла Женька Чичкова, близкая подруга Веры. — Что-то тебя последнее время за воротами совсем не видно.
— Да он жену свою молодую боится, — продолжила в том же духе Светка Армянка, — поэтому к нам и не подходит.
Было темно. Фонари Московского проспекта бледным светом высвечивали лица. Я выпрямил спину и с чувством собственного достоинства направился на голоса. Подойдя к ним, поздоровался с Сашкой Бабайчиком за руку.
— Привет! Что за собрание? — спросил я у него.
— Собираемся в пятницу вечером на пляж, — ответила за него Светка, — хотим тебя пригласить… Без жены, конечно.
— Да он в жизни не поедет… Побоится, — ухмылялась Женька.
— Чего мне бояться? — хорохорился я. — Могу и без жены. Она все равно не сможет… Во вторую смену работает, — стараясь показать свою независимость, отвечал я.
Где-то глубоко внутри у меня что-то защемило. Я уже было пожалел о сказанном, но отступать уже было поздно.
— Если ты такой смелый, чего ж ты к нам за все лето так ни разу и не подошел? — Женька посмотрела на Веру. Та опустила голову. Мне даже показалось, что она хотела встать и уйти.
— Дел много.
Хотел сказать: «дела семейные», но передумал.
Все было похоже на начало какой-то игры. На мгновение мне показалось, что Вера ищет со мной встречи, что она собирается сказать мне что-то важное. Может быть, такое, чего не говорила мне, когда мы были с ней в близких отношениях.
Неожиданно разговор перешел в другое русло. Ударились в воспоминания: как в детстве играли в казаки-разбойники, кто за кем бегал, как застукали Розу со Старого парка, когда та подглядывала, как мужики в бане моются.
— Давайте в города сыграем, — предложила Светка.
На мгновение мы окунулись в мир детства. Спорили, перебивая друг друга, вспоминали сюжеты из старых кинофильмов. Только сейчас, когда мы наконец становились взрослыми, нам захотелось вернуться назад в прошлое. Казалось, что-то важное осталось там. Важное и ценное, чего нам сейчас так не хватает.
В пятницу около пяти я был на платформе электрички «8-й километр» одним из первых. Здесь уже стояли Сашка Бабайчик и Светка.
— О! И ты тоже едешь? — с удивлением обратился я к ней.
— Конечно… Кто-то же должен тебя охранять… Вдруг потеряешься где-нибудь, — с улыбкой сказала она.
Через некоторое время подошли Женя и Вера. Бабайчик, как самый богатый из нас, взял билеты на всех. Я предложил ему разделить финансовые расходы на двоих. Он немного поупирался, но, в конце концов, согласился. Электричка в Бузовны должна была подойти с минуты на минуту. Стояли в ожидании молча, изредка поглядывая друг на друга.
В вагоне электрички компания немного оживилась. Бабайчик развлекал девчонок. Те заливались хохотом. Особенно Светка. Смеялась она от души. Вера сидела молча, глядя в окно, о чем-то думала.
Она сильно изменилась в последнее время. Короткая стрижка и крашеные волосы делали ее чужой и далекой. Какая-то мучительная мысль переменила до неузнаваемости ее лицо. В этой перемене в худшую сторону была, наверное, и моя вина. Но тогда я об этом старался не думать. В тот момент мне хотелось что-то сделать для нее, чтобы она хотя бы на время стала такой, какой я знал ее четыре года.
Выходя из электрички на станции Приморская, я подал ей руку. В моей руке рука ее задрожала, как пойманная птичка, но высвободиться от некрепкого рукопожатия она не попыталась. Сойдя на перрон, ускорила шаг, догоняя девчонок, что шли впереди.
На берегу она долго не раздевалась. На ней была мужская рубашка в голубую клетку и черная юбка. В море она пошла только тогда, когда все, вдоволь накупавшись, стали выходить. Она сняла только юбку, а рубашку завязала узлом, скрывая свою большую грудь. Она всегда стеснялась ее, поэтому на пляж почти никогда не ездила.
Угасающее солнце висело низко над землей, когда мы сели немного перекусить. Бабайчик все так же развлекал девчонок. Те все так же смеялись и визжали. После перекуса, окунувшись еще раз в бархатном море, решили прогуляться по берегу до станции Бузовны.
Саша шел с девчонками впереди. Мы с Верой сзади. Она уже не пыталась, как тогда, на перроне, догонять группу. Тяжелые мысли сошли с ее лица. Она как-то посвежела и наполнилась внутренней добротой. Мы шли молча босиком вдоль берега, погруженные каждый в свои собственные мысли. Возможно, она была в том времени, когда всего лишь раз мы были с ней вдвоем на море. Я положил руку ей на плечо. Она не отстранила ее, но вся наполнилась внутренним укором.
В вагоне электрички мы сидели с ней вдвоем. Саша с девчонками в другом конце. Я искал важные и нужные слова, но не находил. Пора уже было что-то говорить, а мы все молчали. Все это было похоже на сцену расставания. Я вдруг понял, что и Валя, и Вера мне одинаково дороги, а расставание с кем-то из них будет для меня невыносимой мукой. В одну я был по уши влюблен, но чувство это пленило меня, обязывало быть взрослым и ответственным. Расставание же с Верой — как прощание со своей бесшабашной юностью и свободой, которую я только теперь вдруг оценил и вкусил здесь, на берегу ласкового моря.
От платформы «8-й километр» до дома мы шли пешком по Московскому проспекту. Было около полуночи, и машины почти не ходили. Непривычно было видеть эту оживленную днем широкую трассу свободной и пустынной.
Она все так же молчала, но не спешила примкнуть к основной компании, что шла впереди. О чем она думала? Я вспомнил, как зимой в ее холодном подъезде я грел ей ладони пламенем спички, как летом мы ходили с ней на озеро встречать рассвет, и моя мать, встретив нас утром, отдубасила меня за это по спине. Как еще пятнадцатилетней девчонкой, когда приходила к нам почти каждый день, на вопрос моей матери: «Ты любишь нашего Сашу?», ответила: «Да, люблю», как мать брала ее с собой в Москву. «Мы в ответе за тех, кого приручаем», вспомнил я, и мне стало больно и стыдно за себя, за то, что лучшие годы держал ее возле себя, словно собачонку на привязи. Мне захотелось как-то оправдаться перед ней, утешить, наполнить ее душу словами надежды и добра, еще раз приласкать и обогреть ее.
— Ты знаешь, у нас с Валей будет ребенок, — наконец выдавил я из себя.
Она застыла на месте от неожиданности.
— Хочешь, давай уедем… В Набрань… К твоим родственникам, — быстро заговорил я, понимая, что плету ерунду, но остановиться уже не мог. Я попытался прижать ее к себе, но она вырвалась и бросилась от меня, как от прокаженного.
Остаток пути я шел один с тяжелыми думами. Впервые в жизни я обманывал сразу троих: Веру, Валю и себя. Больше мы с ней никогда не встречались. Через три недели мы с Валей сыграли свадьбу. После свадьбы Вера неожиданно исчезла из нашего двора. На целых тридцать лет она ушла из моей жизни.
А с Женькой Чичковой мы как-то встретились на свадьбе моей сестры Севили, спустя лет пять, когда я уже жил в Набережных Челнах. Женьку я не узнал, даже когда пригласил ее на танец.
— Ты хоть знаешь, с кем ты танцуешь? — спросила она меня, перебивая мою болтовню.
— Женька? Ну ты даешь! Такая стала… Красивая!
— А Веру ты хоть помнишь? — спросила она меня с укором.
— Вера в моем сердце всегда, — ответил я игривым тоном.
— И ни о чем не жалеешь?
— Жалею только о том, что оставил ее девочкой для другого.
— Ты изменился… Раньше ты был гораздо скромнее.
— Раньше я был молодой и красивый, а теперь — только красивый, — отшучивался я.
— Но болтуном ты был и раньше.
— Для некоторых это профессия. Ладно, пошли за столом поболтаем, — сказал я, прервав танец, и потащил ее за руку к столу.
Женя вела переписку с Верой, но толком о ней так ничего и не рассказала. Хвалила мужа ее да сказала, что со свекровью Вера не ладит. Вера умела прятать свои чувства, хоть и жила в мире грез. Поэтому я не удивился, что Женя ничего существенного не знала о своей близкой подруге.
Об истории моего похождения «налево» спустя два года Светка Армянка рассказала моей Валентине. При каждом удобном случае, вот уже тридцать лет, Валя напоминает мне: какой я был коварный изменщик и бл… н. Меня почему-то это всегда веселит. Мне нравится, когда она ревнует меня к Вере. Значит, было в Вере что-то такое, за что можно всю жизнь к ней ревновать.
Эта нелепая история почти не омрачила наших с Валентиной семейных отношений, тем более что узнала Валя об этом тогда, когда нашему сыну Виталию был уже год.
Но чувство вины перед женой не покидало меня много лет. Особенно в первый год нашей совместной жизни, когда Валентина обихаживала меня, как маленького ребенка. Даже ее родная сестра Лена, глядя на то, как Валя с материнской нежностью относилась ко мне, с укором иногда восклицала: «Валя, ты посмотри на себя, какая ты стала! Где твоя гордость?»
Все семейные хлопоты Валя с первых дней взвалила на себя, а я принимал это как должное, потому что жил до того, как стать семьянином, исключительно среди женщин. Я чувствовал себя этаким маленьким ханом, как и все в основном мужчины на Востоке. Я еще не закончил учебу в техникуме, и Валентина давала мне возможность заниматься, не загружая особо семейными проблемами.
Главная задача, которую я поставил перед собой, — сделать карьеру после окончания техникума и заработать квартиру. Здесь, в Азербайджане, решить эту проблему — все равно, что слетать в космос. Уже тогда, в начале семидесятых, за многие годы до межнациональных конфликтов, здесь ковали национальные кадры почти во всех учебных заведениях и на производствах. Этим моя черномазая Родина доводила меня до уныния, а иногда просто раздражала.
В Россию, только в Россию. Это решение зрело у меня еще тогда, когда я учился в дневной школе. Но куда именно? Выбор был ограничен. Проблема с жильем — общесоюзная проблема.
На последнем курсе техникума я написал письмо на КамАЗ и стал ждать вызова. Валентина должна была уже вот-вот родить. Чтобы не обременять меня рождением ребенка, она собралась ехать рожать к моей матери в Казахстан. Я так привык к жене, что с трудом мог представить себя без нее. Я уговаривал ее не ехать, но Валентина настояла на своем. В Баку в роддоме за рождение ребенка надо было давать взятку врачам, а давать было нечего. Когда она была на седьмом месяце, в конце ноября мы с Эммой проводили ее в аэропорт. Валя улетела, и мы с сестрой на всю зиму остались одни.
В доме стало тихо и неуютно. Так же протекала крыша над головой, так же заунывно выли штормовые ветра, рвались электрические провода, а мы, греясь у печки-буржуйки, сидели при свете керосиновой лампы, слушая мугам, который ветер рвал на части и доносил до нас обрывками мелодий с Кишлинского завода.
После Нового года от Вали пришло письмо.
Привет из «Киевского»!
Здравствуй, мой миленький мужинёча!
Вот я и доехала. Место мое в самолете было около крыла, и я, как ни поднималась, не могла вас увидеть. В полете хотелось спать. Задремлю, ноги щекочет гул мотора. Начинаю вязать. Так прилетела в Ташкент. В Ташкенте выпал снег, как и у нас, мокрый с морозцем. Рейс в Караганду задерживался, я хожу, двигаюсь. Попросила уборщицу дать лопату и скребок, снег со ступенек убирать. Мне же надо двигаться.
Если бы со мной полетела Эмма, мы бы в Ташкенте купили арбузы. 6–7 кг — два рубля. У нас летом за такую цену не возьмешь. Помидоры свежие дешевые. Только все на базаре. А тащиться туда мне трудно.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
