
Собеседник: дорогами Пьера Менара
Интервьюер — профессия штучная. Он не просто «вытягивает» из собеседника мысли, заставляет его раскрыться перед публикой или резко ставит в тупик. Он через собеседника, его устами говорит с людьми. Я не имею в виду, что интервьюер навязывает собеседнику свои идеи, использует его в качестве рупора. Так профессионал не поступает. Но в конечном счете интервью — это его высказывание, которое проявляется в интонации, формулировке вопросов, в построении текста. Так режиссер «актерского» театра работает с артистом. Не выпячивая себя, живя при тексте драматурга и при игре исполнителя. Но через них, на основе созданного ими — ведя свой диалог со зрителем.
Тут вспоминается герой новеллы Борхеса «Пьер Менар, автор Дон Кихота», который ставит перед собой непосильную задачу. Он хочет написать сервантовского «Дон Кихота» теми же самыми словами и получить в итоге другое произведение. Другое — потому что меняется время, меняются люди, а в итоге меняется изначальный смысл старых слов. В них не только проявляется спрятанное автором, зашифрованное содержание, но и рождается новое. Время продолжает говорить устами автора.
Нет ничего более сложного, чем замысел Пьера Менара. Нет ничего более сложного, чем работа интервьюера. Нужно избежать множества соблазнов: не подмять под себя собеседника и не раствориться в нем без остатка, сыграть подчиненную роль и быть на самом деле сценаристом и продюсером беседы. А если журналист еще и держит в голове обширный замысел, намереваясь через годы собрать эти интервью в книгу, задача его становится почти неисполнимой. Необходимо выбирать такие темы, чтобы они цепляли читателя газеты и/или журнала и при этом не «сгорали» через день, неделю, год. Необходимо искать таких собеседников, которые сейчас на пике, но не потеряют значимости завтра, останутся интересны публике. Необходимо выводить беседу на существенное обобщение, однако не допуская занудства.
Поэтому книги избранных интервью так редки. Их можно пересчитать по пальцам. В каждую эпоху, в любом поколении. А Валерий Выжутович выпускает далеко не первое собрание своих диалогов. Он не просто признанный мастер жанра и не просто мыслит драматургически, выстраивая интервью как некое интеллектуальное действо. Он, говоря профессиональным языком, тянет линию, выкладывает из множества осколков цельную мозаику. Он говорит с читателем, а не просто «поставляет» ему собеседников.
Поэтому новая его книга — это тоже высказывание. О границах свободы и драме «особого пути». О судьбе библиотек и о судьбе империй. Об одиночестве и социальной группе. В конечном счете, о том, как жить. Не случайно заголовки бесед всегда завершаются знаком вопроса. Это позиция автора, в каком-то смысле противопоставленная позиции героя. Публичные люди (с другими разговаривать бессмысленно) всегда норовят объяснить, как надо; интервьюер неизбежно подводит читателя к необходимости сомнения. Даже если герой разговора Выжутовичу близок, он все равно слушает его с сочувственным скепсисом: так ли? то ли? затем ли? Только так можно разговаривать на равных с противником политкорректности — и носителем ее идеалов, сторонником технологического переоборудования главной библиотеки страны и поэтом, чьи образы подсказаны пушкинским XIX веком, или с писателем, чья проза растет из древнерусской корневой системы.
В результате получается именно книга. Сложная, противоречивая, цельная. Автор ее — Выжутович, а не Юрий Пивоваров, Симон Кордонский, Гасан Гусейнов или Лев Аннинский. Пьер Менар написал «Дон Кихота». Это их слова. Это его текст.
Александр Архангельский
От автора
Есть вещи, которые на первый взгляд кажутся очевидными. Старость не радость. Не в деньгах счастье. Гений и злодейство несовместны. Все как будто бы так. Но начнешь разбираться…
Я не задумывал эту книгу как собрание особых мнений, нарочито отличных от тех, что сегодня находятся в массовом обращении. Говорю «массовом», имея в виду ходовые сентенции как житейского («слезами горю не поможешь», «в здоровом теле здоровый дух»), так и общественно-политического («у России особый путь», «нам не нужны европейские ценности») свойства. Собеседников, думающих иначе, чем ныне думает (или приучено думать) российское большинство, я тоже специально не выбирал. Все получалось естественным образом. Я приходил брать интервью у людей, чья точка зрения на события и явления нашей жизни представлялась мне интересной и заслуживающей общественного внимания. Среди интервьюируемых были известные экономисты, историки, философы, деятели культуры. И как-то так выходило, что, размышляя об отечественных реалиях, мои собеседники вступали в нечаянную полемику с главным в наших широтах носителем абсолютной истины, имя которому телевизор. И у нас получался ДРУГОЙ разговор. Другой — по отношению к пропагандистским установкам, укоренившимся стереотипам, распространенным заблуждениям. Отсюда и название книги.
Не знаю, как, не впадая в упрощение, неизбежное при использовании плоских ярлыков типа «либералы» и «консерваторы», «промаркировать» Льва Аннинского и Николая Досталя, Ирину Прохорову и Руслана Гринберга, Евгения Водолазкина и Юрия Пивоварова, и других героев книги. Пожалуй, подойдет — «критически мыслящая интеллигенция». Обладатели независимого взгляда. Трезвые комментаторы происходящего. В наступившие времена ползучей фундаментализации всех сфер общественной и культурной жизни, времена директивного патриотизма, неумолчных рассуждений о национальных интересах и моды на «позитивность» присутствие таких людей в публичном пространстве, хотя и ограниченном отдельными радиостанциями и газетами, восполняет в атмосфере страны, все более пропитываемой абсурдом, дефицит здравого смысла.
Своими суждениями о важных вещах герои книги никому и ничему не бросают вызов, просто спокойно высказываются. И, уж само собой, никакие они не оппозиционеры. Все ровно наоборот: это к ним оппозиция. Агрессивная оппозиция в лице всяческих неугомонных «активистов», вторгающихся со своими уставами в чужие монастыри и стремящихся всюду навести свои порядки. Обычное дело. Глупость всегда в оппозиции к уму, пропагандистские мантры — к свободной мысли, мракобесие — к просветительству.
Я говорю спасибо умным моим собеседникам. Их профессиональный и человеческий опыт в чем-то опровергает, наполняет нюансами или как минимум делает более диалектичными массовые представления о сущем. Там, где уверенное в своей нерассуждающей правоте большинство ставит безапелляционную точку, они водружают вопросительный знак, подвергая сомнению расхожие истины.
Автор благодарит А. Пржевальскую и Е. Яковец за организационную поддержку
I. В политике

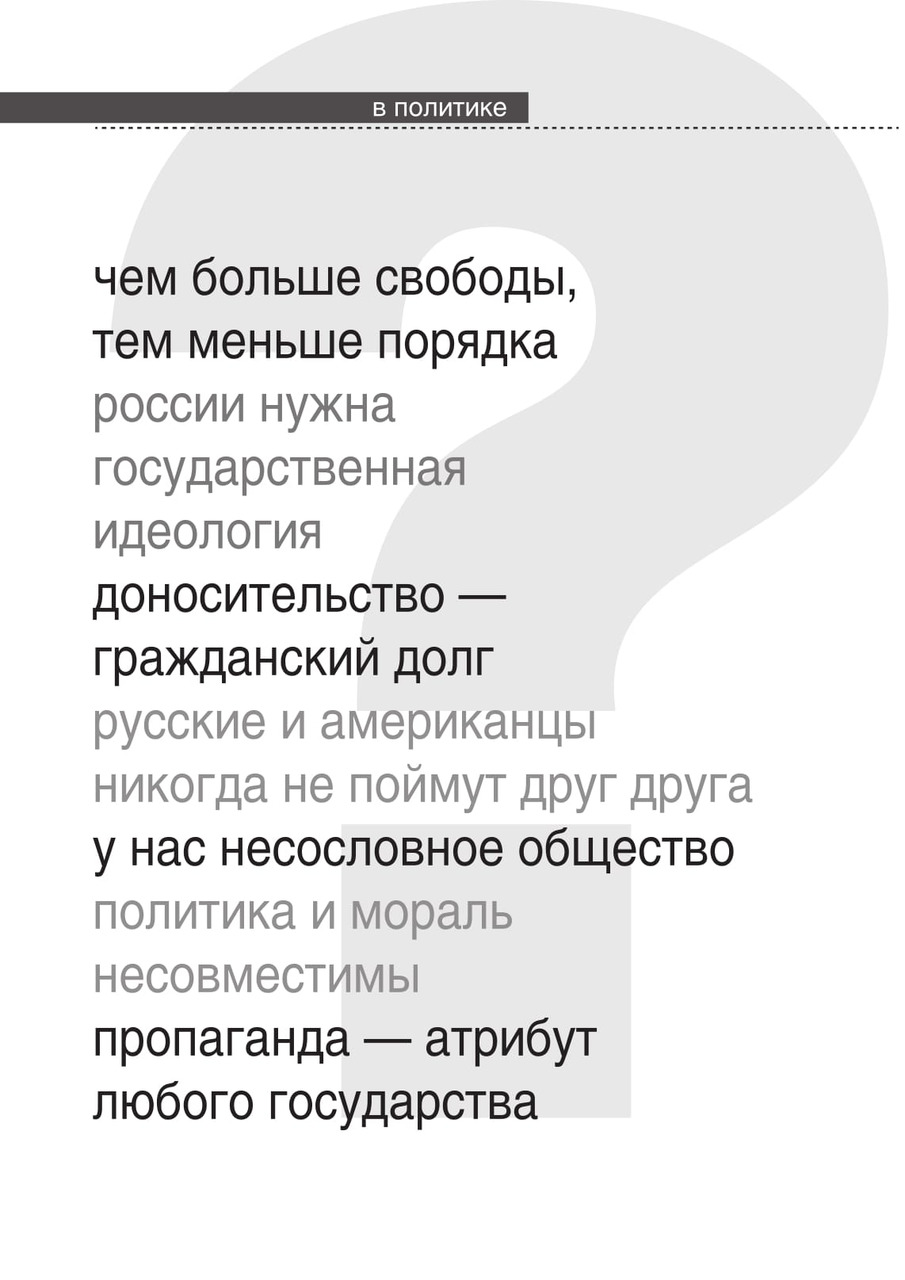
У России особый путь?
Диалог с академиком РАН Юрием Пивоваровым
Слушая наших политиков, рассуждающих о том, куда должна идти Россия, невольно проникаешься ощущением исторического перепутья. Между тем страна как-то живет, за почти тридцать лет после распада СССР в ней произошли и продолжают происходить серьезные перемены. Так, может, пора завершить вековечную эту дискуссию о выборе пути? Или как минимум прекратить разговоры о каком-то особом пути для России?
Пушкин не вписывался в уваровскую триаду
— Владимир Путин обнаружил в современном российском обществе «дефицит духовных скреп». В советские времена такие скрепы были, на ваш взгляд?
— С формальной точки зрения были. И назывались они — марксистско-ленинская идеология. Но ни офицер госбезопасности Путин, ни научный сотрудник Пивоваров, ни журналист Выжутович — все трое люди одного поколения — всерьез в это не верили. Поэтому говорить, будто раньше было нечто, скреплявшее нацию, я бы не стал.
— А общий враг?
— К восьмидесятым годам никто из образованных, думающих людей не верил, что страна — в кольце врагов. Другое дело, что большинство играло в эти игры. Но вообще-то мне кажется, что забота о духовном здоровье нации не относится к компетенции государства. Для этого есть общественные организации, Церковь в конце концов. Ну какие духовные скрепы? Мы — страна по большей части христианского, по меньшей — мусульманского мира, остальные конфессии представлены несколько слабее. Но в принципе-то почему государство должно этим заниматься? Конечно, президент может выражать беспокойство по поводу морального состояния общества. Но что из этого следует? Министерство культуры получит задание какую-то духовную скрепу создать? Или Церкви это будет поручено? Понимаете, мне не совсем ясно, к чему этот разговор.
— Хотите вы того или нет, но некая общая идеология, претендующая называться государственной, в сегодняшней России появилась. Это патриотизм.
— Не может быть государственной идеологии. Конституцией запрещено. Когда Николай I заказал графу Уварову государственную идеологию и тот изобрел знаменитую триаду «православие, самодержавие, народность», ничего хорошего русской культуре это не принесло. Пушкин не вписывался в уваровскую триаду. Глинка, Брюллов, Лермонтов тоже в нее не вмещались. Словом, здесь надо быть осторожным. Это очень деликатная сфера.
Как можно национальное духовное богатство свести к одной идее?
— Как бы то ни было, сегодня в нации нет единения. Наоборот, все глубже линии раскола — между обществом и властью, бедными и богатыми, верующими и неверующими. Солженицын считал, что это все имеет исторические корни. Что без церковного раскола в XVII веке не было бы трагедии в 1917 году. И что раскол русского народа, случившийся более трехсот лет назад, дал трещины, дошедшие до наших дней. Вы того же мнения?
— На мой взгляд, настоящий, серьезный раскол возник в России после реформ Петра Великого. Тогда Россия раскололась на европеизированную и традиционалистскую. Бердяев еще задолго до революции предупреждал, что размежевание на эти две России — бомба с часовым механизмом, которая в какой-то момент сработает. Хотя это и до Бердяева многим было ясно. В советский период европеизированная часть общества была уничтожена либо вышвырнута за границу. Но некий раскол и сегодня заметен. Есть современные западники и современные славянофилы.
— В таком случае что понимать под словами «русская нация»?
— Когда простые люди у нас говорят про нацию, они имеют в виду пятую графу в паспорте. Да, нация связана с этносом, но не равна ему. Русская нация — это гражданство. Это все те, кто говорит и думает по-русски. И если уж речь идет о скрепах, то они имеются. Это русская культура. Русская история. Русские природно-климатические условия. Русский тип хозяйствования. Отчасти и русское политическое устройство. Общая память. Общие трагедии. То есть масса вещей. А до революции такой стяжкой была религия. Тогда вообще не имело значения, какого ты этноса. Никто не спрашивал, русский ты или татарин. На смену конфессиональному делению пришла марксистско-ленинская идеология, которая на излете советского строя уже никого и ни с кем не скрепляла, и в итоге все рассыпалось. И вот впервые в своей многовековой истории Россия пытается создать общество без какой бы то ни было официальной стяжки. Без нее ведь спокойно обходятся большинство европейских народов. Какая у французов идеология? Какая идеология у немцев или у итальянцев? Конституция. Вот и у нас должно быть так же. Мечтать сегодня о единой духовно скрепляющей — вещь очень опасная.
— А упорные, неутомимые поиски национальной идеи?
— Ну, понимаете, это, как говорил Мандельштам: «Давай еще раз поговорим ни о чем». Как можно российское национальное духовное богатство свести к одной идее? И к какой? «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны»? У русского мира миллион идей, и все они важны. Эти идеи воплощены в русской культуре, русской литературе, русской мысли, русском искусстве, русской политической, правовой, хозяйственной традиции. Но свести все идейное многообразие к какой-то одной главенствующей идее значило бы обкорнать, обеднить русский мир. Мы это уже проходили.
— Что такое загадочная русская душа? Она загадочна только для чужестранцев? Или русский человек и сам себя понять не в силах?
— Честно говоря, меня смешит это словосочетание. А польская душа не загадочна? А немецкая? А французская или армянская? Господи, сколько их, этих загадочных душ! Примерно то же касается и хрестоматийного «умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Очень красиво сказано. Но если вдуматься… Я всю жизнь работаю в институте, задача которого — анализировать западную общественную науку. И вот многие ученые, в том числе и я, пришли к выводу, что есть немало категорий и понятий, не применимых к обществу незападного типа. Вот физика — она везде физика. Химия — везде химия. Физиология — везде физиология. А, скажем, экономика, межличностные отношения, стратификация общества — они всюду разнятся. Между тем в мире господствуют западная социология, западное правоведение, западная философия. Потому что именно Запад создал современную социальную науку, и она стала универсальной для всего мира. Что такое социальная наука? Это способ самопознания мира. Но, когда этот способ самопознания переносится на китайское, индийское, арабское или русское общество, он не всегда работает. И в этом смысле «загадочная русская душа», «умом Россию не понять» и прочие поэтические метафоры действительно отражают непостижимость европейцами некоторых наших реалий. Я в своей докторской диссертации исследовал одну из американских концепций с точки зрения того, подходит ли она к анализу русского общества. И пришел к выводу, что не подходит. Причем автор этой концепции, американец, подтвердил: да, не подходит. И признал, что ошибся в универсальности своей модели.
Ленин — большой и ужасный продукт русской культуры
— Владимир Мединский написал серию книг, развенчивающих мифы о всяческих пороках: лени, пьянстве, воровстве, якобы присущих русскому человеку. Вы тоже считаете, что это мифы?
— Русским действительно «инкриминируют» несусветное пьянство, особую склонность к воровству и т. п. Но в этих своих проявлениях русские ничем не отличаются от других народов. Мы такие же, как все.
— Тогда что такое русский национальный характер?
— Современная наука утверждает, что нигде нет единого национального характера, а в каждом народе есть несколько модальных типов личности. И для общества очень важно, какие модальные типы личности в нем господствуют. Например, часто говорят, что милитаризм и нацизм победили в Германии потому, что там в какой-то момент стал господствовать военно-авторитарный тип личности. А нашей стране немало бед принес ленинский тип личности.
— Что вы подразумеваете под ленинским типом?
— Плеханов называл Ленина «гением упрощения». Есть плохие буржуи и хорошие рабочие. Плохие буржуи должны быть уничтожены. Вот и всё. Это упрощение, после которого следует насилие, или, как любил говорить сам вождь мирового пролетариата, «массовидный террор». Но Ленин — это не только упрощение сложного. Это еще и умение нажать на слабое, и эксплуатация болезненного ради достижения каких-то целей. Это отказ от мировой культуры, религии, семьи, частной собственности, государства. Это абсолютно аморальные действия по отношению даже к очень близким людям. В целом это модальный тип личности. Я и в своем поколении, и среди тех, кто моложе, встречал таких «ленинов».
— Вы считаете, этот тип личности преобладает в России?
— Этот тип личности нигде не преобладает, но есть он везде. Ленин был человек дьявольской энергии, дьявольской воли. Это большой и ужасный продукт русской культуры. У многих христианских, католических богословов прошлого века фотография Ленина висела в кабинетах, и, когда я спрашивал, зачем, они мне отвечали: «Врага надо знать в лицо». Если Россия хочет окончательно выздороветь, стать нормальной страной, она должна изжить из себя Ленина. Изжить — не значит вычеркнуть из истории. Это фигура грандиозная, страшная, и ее нельзя свести к анекдоту. Я не демонизирую Ленина, но отношусь к нему как к очень серьезной и все еще живой угрозе.
Нам пора уходить от советскости
— Правильнее всего, наверное, будет сказать, что в современной России доминирует советский тип личности, пресловутый homo soveticus.
— Да, все мы до сих пор советские люди. Поразительно, но даже родившиеся в конце восьмидесятых — начале девяностых годов, они тоже советские люди. Советский человек — это продукт грандиозной социальной трансформации, которая произошла у нас. Это продукт тех городов, в которых мы живем. Тех домов, которые мы сейчас видим. Это ведь не дореволюционная Россия и не сегодняшняя. Это Россия послевоенная или предвоенная. Советский город — это не город в традиционном смысле. Он по-другому возник. А советский человек — это человек, которого воспитывали на внерелигиозном отношении к жизни. Это когда не я греховен, не я виноват, а виноваты вредители, империалисты, масоны, инородцы, кто угодно. Советский человек — это человек, глубоко убежденный в своем превосходстве и одновременно глубоко ощущающий свою неполноценность. Я это не понаслышке знаю — я с себя портрет пишу. Я в любом аэропорту мира могу с первого взгляда узнать советского человека, какой бы национальности он ни был. Точно так же и во мне моментально опознают советского, хотя я довольно много жил на Западе. Советский человек — это человек, потерявший даже свою этничность: он уже как бы не русский, не украинец, не узбек… Я не ругаю советского человека. Мы действительно продукт нашего социального развития. Жившие в эмиграции русские, украинцы, татары, евреи — они другие.
— Есть ли какая-то перспектива у советского человека?
— Уверен, что нет. Нам пора уходить от советскости. Как представители западного сообщества уходили от своей буржуазности, как передовая российская аристократия — от спеси дворянской, сословных различий, так и нам от нашей советскости надо уходить. Нужен другой тип личности. Личности с религиозным сознанием. Личности более толерантной. Личности более современной. Для советского человека мир делится на «они» и «мы». Советский человек — это стремление что-то решить насилием, а не договоренностью (Ленин ненавидел слово «компромисс»). Советский человек — это: «Кто не с нами, тот против нас». А вот лидер венгерской Компартии Янош Кадар когда-то прекрасно сказал: «Кто не против нас, тот с нами». Что говорить, удалось большевикам вырастить новый тип личности. Наша задача — попытаться его конвертировать в личность европейскую, русскую, всемирную, какую угодно. Мы ничего не добьемся возвращением на старые пути. Самое страшное — это не какой-нибудь там коммунистический реванш, он невозможен. Самое страшное — это признать, что советский тип личности дан нашему народу на вечные времена и что за этим типом будущее.
— Но он действительно не желает исчезать. Советскость воспроизводится в новых поколениях. Многие из тех, кому сегодня двадцать — двадцать пять, ментально мало отличимы от своих отцов, дедушек-бабушек.
— Советскость не может не воспроизводиться. Она ведь существовала много десятилетий. Причем людей досоветских быстро не стало: кого поубивали, кто умер сам, кто сбежал за границу… А тех, кто остался, перековали. И чтобы за два десятка лет, прошедших после распада СССР, родился новый тип личности, — об этом даже смешно говорить. Более того, какие-то элементы советского сохранятся на ближайшие десятилетия. Но от худшего, что было в советском, надо уходить.
Говорить о нашей абсолютной особости считаю опасным
— Должна ли Россия, восприняв западные ценности, интегрироваться в европейскую цивилизацию или у нее и впрямь «особенная стать»?
— Немцы тоже говорили: «Мы хотим идти своим путем» — и уперлись в национал-социализм. Что же касается России… Да, конечно, у нее особый путь. Как и у Франции, Италии, Польши, Чехии, Великобритании… У каждой страны особый путь.
— У России он не вообще особый. Он, как нам внушают, особый по отношению к Европе.
— Мы являемся цивилизацией, которая близка к европейской, имеет с ней общие корни. Но есть и вещи несовпадающие. У нас разные природно-климатические, географические условия, разные социальные институты, разные системы власти… Россию многое отделяет от Европы. Но говорить о нашей абсолютной особости, культивировать эту особость, лелеять ее, я считаю, не следует. Иначе мы рискуем повторить известный немецкий путь. Давайте лучше проникнемся пониманием, что мы включены в глобальный мир, в том числе и западный. Тезис же об особом пути, на мой взгляд, опасен. Он льет воду на мельницу тех, кто не хочет продолжать свое существование в единой семье христианских народов.
— Недоверие ко всему чужому — оно в нас тоже от ощущения своей особости, на которую кто-то якобы покушается?
— Лучше всех сказал об этом Жан Поль Сартр: «Ад — это другие». Вот вам основа ксенофобии, вот природа того социального раздражения, что выражает себя словами: «Понаехали тут». Так ведь говорят не только русские о населяющих ныне Москву выходцах с Кавказа. Так говорят парижане об арабах, берлинцы о турках… Ксенофобия в той или иной степени свойственна всем народам. В России же она сегодня прогрессирует. Впервые жители мегаполисов, особенно Москвы, столкнулись с таким количеством иммигрантов — людей другого языка, другой культуры. Я сдаю в Московском университете пальто в гардероб, а там таджикские девочки. Я говорю: «Можно повесить зонт?» Смотрят непонимающе, улыбаются. Они не знают слова «зонт». И можно понять коренных москвичей, которым все это кажется диким. В России впервые в таких масштабах происходит столкновение разных этносов, разных духовных культур, разного бытового поведения. И в этом смысле мы должны быть очень деликатны.
Русская революция вырвалась из чернильницы русской литературы
— Вы где-то однажды сказали, что русская литература виновата во всем дурном, что с нами произошло в ХХ веке. В чем ее вина?
— Русская литература — это, на мой взгляд, главное из того, что русская история дала себе и миру. Русская литература сопоставима с живописью Возрождения, со Средневековой теологией, с античной философией. Вся Россия держится на русской литературе, мы — литературоцентричная цивилизация. Но русская интеллектуальная культура XIX — начала XX веков в определенном смысле несет ответственность за то, что в дальнейшем произошло со страной. Например, мой любимый писатель Лев Николаевич Толстой всей силой своего гения подверг жесточайшей атаке институт государства, институт Церкви, институт семьи. Вся русская культура, вовсе к тому не стремясь, создавала некие основы для последующего тотального нигилизма нового поколения по отношению к предыдущей культуре. Большевики пришли и сказали: нет Бога, нет частной собственности, нет государства, нет семьи! Но разве Лев Николаевич не готовил все это в своем величайшем творчестве? Или еще большевики пришли и сказали: у нас будет новый политический порядок, без буржуазного парламентаризма, без народного представительства! А разве это не готовилось заранее в русской политической мысли? Я к тому, что литература, интеллектуальная культура должны быть крайне осторожны в своих выводах, крайне осмотрительны в своей критике, крайне сдержанны в своем пафосе. Потому что на определенном этапе общество, взращенное на этих идеях, на этом пафосе, на этом воздухе, может свернуть в тупиковую, гибельную сторону, что и произошло в России.
— Вы считаете, художник обязан просчитывать социальные, политические последствия своих произведений?
— Не знаю. Но, вне всякого сомнения, большевизм явился «ребенком» русского духовного развития, пусть и «ребенком» незаконным. Томас Манн говорил, что основы будущего национал-социализма зарождались в недрах немецкой культуры, а люди этого не замечали. То же было и в России. Русская революция вырвалась из чернильницы русской литературы. Это не значит, что Достоевский с его «Бесами» и «Дневником писателя» или Толстой с его «Воскресением», «Анной Карениной», «Живым трупом» хотели революции. Но революция случилась. Поэтому в разговорах, научных и литературных сочинениях о русском национальном характере, загадочной русской душе, особом русском пути надо быть очень осторожным.
Чем больше свободы, тем меньше порядка?
Диалог с социологом Леонтием Бызовым
Более 70 процентов россиян готовы отказаться от демократии и от личных свобод ради сохранения порядка в стране. Таков результат опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом социологи отмечают, что люди хотят не застоя, а «стабильного улучшения жизни». Где кончается порядок и начинается свобода, и наоборот? Возможно ли их взаимное сосуществование в обществе и в душе человека?
В представлении большинства справедливость является частью порядка
— Вас не удивил результат опроса?
— Нисколько. Здесь нет ничего нового. Мы проводили подобные исследования со второй половины 90-х годов, это один из самых устойчивых трендов в современной России.
— Запрос на порядок с отказом от свободы возник не сегодня?
— Он возник в 1998 году, после дефолта. Этот запрос был обращен к власти, и большой популярностью в тот период пользовалось правительство Примакова. Потом так же, с энтузиазмом стали воспринимать первые шаги Путина, особенно связанные с устранением олигархов с политической сцены. Тогда же прекратились задержки зарплат и пенсий, и это тоже воспринималось как восстановление порядка. Запрос на порядок держится уже пятнадцать лет и пока сохраняется.
— Почему сохраняется, если порядок как будто бы наведен?
— Это и удивительно. Политическая жизнь обычно идет по закону маятника, и никакой запрос очень долго не держится, потому что вырастают поколения, которые хотят перемен. Но с запросом на порядок этого не произошло. Скажем, события декабря 2011 года многие социологи, и я в том числе, сначала интерпретировали именно как смену магистрального запроса, как желание перемен. Но нет. Контрзапрос остался уделом маргиналов, а магистральный запрос на порядок никуда не исчез. Причем порядок необходим россиянам обязательно в сочетании со справедливостью. Порядок и справедливость — две главные ценности для наших людей. В представлении большинства справедливость является частью порядка, а порядок, в свою очередь, воспринимается как справедливое эффективное общество, существующее по неизменным, устойчивым правилам.
И свободу, и порядок разные слои общества понимают по-разному
— Что массовое сознание понимает под порядком?
— Официальная пропаганда трактует порядок как традиционное для России самовластие. Но нельзя понимание порядка сводить к самовластию. Есть более умеренная трактовка, когда порядок — это просто устойчивые, стабильные правила игры, которые принимаются всем обществом. К консервативному большинству, которое требует порядка, могут быть отнесены не только отсталые слои населения, но и народившийся средний класс. Этот класс совершенно не хочет возвращаться к традиционной морали, диктаторской власти или самодержавию в любой его форме. Он хочет гражданского общества, независимого суда, свободной прессы, реальной политической конкуренции… Запросы среднего класса и отсталых социальных слоев в каком-то сегменте совмещаются, но полностью не совпадают. Этого несовпадения на Западе не видят и говорят: у вас народ такой отсталый, архаичный, он требует порядка, закручивания гаек. Да, часть народа этого требует, но не весь народ.
— А что такое свобода в массовом понимании?
— Значительная часть общества видит в свободе негатив, связанный с вольницей и анархией. И это тоже наша историческая традиция — трактовать свободу именно так. При этом власть трактуется как регулятор свободы и единственный арбитр в любых конфликтах. У нас люди думают так: я могу делать что хочу, и только сила может меня ограничить. Люди не хотят себя ограничивать, но очень хотят ограничить своего соседа. Почему сильная власть воспринимается позитивно? Потому что она гарантирует защиту от более сильного соседа. Люди инстинктивно тянутся к сильной власти, поскольку никакого другого способа обуздать самоуправство соседа не существует. Но, как и в случае с порядком, в России есть и более современное, европейское понимание свободы, свойственное все тому же среднему классу. Это когда свобода понимается как набор индивидуальных прав, связанных с индивидуальной же ответственностью. Так что слишком преувеличивать наш общественный традиционализм, наверное, не стоит. И свободу, и порядок разные слои общества понимают по-разному.
Это очень опасно, когда традиции умирают, а институты не создаются
— Почему у нас обязательно «свобода ИЛИ порядок?» Кто так ставит вопрос?
— После известных событий 2011 года к такой постановке вопроса стала склоняться власть. До этого, особенно до 2008-го, все наши наблюдения показывали, что протестные настроения постепенно сходят на нет, раскол в обществе преодолевается, ультраконсервативные и ультралиберальные фланги остаются без большой общественной поддержки. К тому моменту сформировался некий эклектический, но все же работающий политический центр, в котором свобода и порядок не являлись антагонистичными. И вот в 2011 году что-то сломалось: власть стала использовать этот искусственно создаваемый антагонизм как политтехнологию. Думаю, власть забеспокоилась — потому что на Болотную площадь пришли люди, которые раньше не интересовались политикой и не были замечены ни в какой оппозиционной деятельности. И у власти возникло желание возвести баррикаду между либералами и консерваторами. Сделано это было довольно успешно, чему очень помогла, в частности, история с Pussy Riot, которая поссорила либералов и националистов.
— В каких обществах свобода и порядок противопоставляются друг другу?
— Это характерно для переходных обществ, в которых после распада традиционализма не возникают новые современные институты. Наша проблема с ценностями вроде бы решена — по ценностям мы мало чем отличаемся от Европы. А вот институтов, поддерживающих современную систему ценностей, создать пока не удалось. В Европе транзит к современному обществу с эффективно работающими институтами тоже не был спокойным, но в конечном счете он произошел. У нас же традиционализм оказался слишком быстро разрушен. А новые институты рождаются не на пустом месте, они должны вырасти из недр традиционного общества.
— В европейской традиции свобода когда-нибудь выступала антагонистом порядка?
— Выступала. Например, Великая французская революция вся зиждется на острейших социальных, идеологических противоречиях. Гитлеризм тоже во многом базировался на том, что Германия очень запоздала в сравнении с ее соседями в формировании современного общества. Германия пережила сильную ломку на той же стадии, на которой и у нас произошла революция. Это очень опасная стадия — когда традиции умирают, а институты не создаются. Именно такую стадию сейчас катастрофически переживает Украина. Наблюдая за украинскими событиями, общественное мнение склоняется к мысли, что Янукович оказался слабым правителем — ему, мол, надо было разогнать всю эту демократию, все эти майданы к чертовой бабушке, а он не решился, и вот что теперь происходит… Люди делают вывод: лучше авторитарный порядок, чем хаос, безвременье и война всех против всех.
— Откуда взялось стойкое убеждение, что чем больше свободы, тем меньше порядка; что порядок достигается только ограничением свободы?
— Это один из стереотипов массового сознания, иногда имеющий под собой реальные основания.
— Вы хотите сказать, что в российской истории случались периоды, когда свободы не было, а порядок при этом был?
— Да, такие периоды случались, но не были продолжительными. Потому что любой порядок без свободы имеет тенденцию вырождаться. Возьмем советский период, который многие сейчас любят красить одной краской — либо черной, либо белой. Этот период не был одноцветным. Внутри него происходила смена эпох, совершенно не похожих друг на друга. При этом созданная в 30-е годы машина управления работала, обеспечивала определенный успех даже после смерти своих создателей. Но с начала 70-х советский режим стал выдыхаться. Его историческая исчерпанность привела страну к 90-м годам. Эффективный авторитарный режим может существовать в пределах десяти-пятнадцати лет, а потом он перестает быть эффективным.
— Что, на ваш взгляд, представлял собой сталинский порядок?
— Сталинский порядок базировался прежде всего на колоссальной архаичности тогдашнего общества. Оно у нас было на 80 процентов крестьянским, и, уйдя из своих общин, когда этот крестьянский мир стал разрушаться, люди начали массово переселяться в города, при этом сохраняя свою крестьянскую ментальность и крестьянские привычки. Возникло полугородское-полукрестьянское общество, представители которого в бытовом отношении были крайне нетребовательны, были готовы голодать, одеваться как попало, жить по пять семей в одной «коммуналке». Но они были полны огромной социальной энергии. Эту энергию Сталин использовал. И не кто иной, а именно эти люди превратили Сталина в живого бога. Сталинский режим, как к нему ни относись, был достаточно органичным режимом, потому что пользовался реальной поддержкой общества. Все это продолжалось ровно до той поры, пока не возникло второе, третье поколение горожан, переставших быть носителями крестьянской идеологии. Возникло новое общество, которому уже никакой Сталин и никакой коммунизм оказались не нужны. По крайней мере я не помню, чтобы кто-то в моем поколении интересовался идеями коммунизма больше, чем дефицитными товарами в «комиссионке». Идеи коммунизма перестали быть актуальными, и фигура Сталина как верховного проповедника этих идей тоже утратила актуальность. Сегодня у нас могут быть сколь угодно жесткие правители, но Сталина не будет. Потому что нет сталинского общества, и оно ниоткуда не возьмется. Люди сегодня на словах поддерживают твердый порядок, но, как показывают наши опросы, ради этого твердого порядка ничем не готовы жертвовать. Ценности индивидуального мира, индивидуального потребления уверенно доминируют.
— А почему гражданские, политические свободы не осознаются большинством как ценности? Почему они не входят в «потребительскую корзину» российского обывателя?
— Изучая результаты наших опросов, мы видим, что индивидуальные ценности для большинства очень важны. Что такое индивидуальные ценности? Это возможность работать где хочу, или не работать, если не хочу; ездить куда хочу; семейную, сексуальную жизнь вести какую хочу. Политические же ценности занимают место в конце второго десятка, потому что в глазах большинства они превратились в чисто декоративный элемент нашей политической системы. Согласно опросам, граждане не воспринимают политические партии или законодательную власть как структуры, представляющие их реальные интересы. С какого-то момента люди утратили интерес к политике, стали воспринимать ее как игру. Поэтому и к выборам потерян интерес. Почему либеральная оппозиция, когда в декабре 2011 года стала требовать честного подсчета голосов, не получила массовой поддержки? Потому что, по мнению большинства, выборы не есть тот институт, с помощью которого в нашей реальной политической системе можно чего-то добиться. Проблема сегодняшней российской демократии не в том, что у нас нечестно подсчитываются голоса на выборах, а в совершенно других вещах. Прежде всего в отсутствии работающих демократических институтов, способных продвигать и защищать интересы граждан.
России нужны западники и почвенники, либералы и консерваторы
— Считаете ли вы, что свобода не только не противоречит порядку, но и является его базовым условием?
— Если говорить о современном обществе, то это, безусловно, так. Порядок в нем формируется как очень сложная равнодействующая комбинация различных интересов. И когда интересы каких-то серьезных групп не получают представительства, это нарушает стабильность политической системы и в конечном счете приводит к разрушению сложившегося порядка. Скажем, в результате событий 2011 года либеральная общественность оказалась у нас фактически на положении изгоя. В политическом плане это, может, и справедливо, поскольку идеи этой оппозиции достаточно утопичны. Но власть не должна забывать, что это активная часть общества, чья активность, возможно, была бы полезна в неполитической сфере. Поэтому не стоит исключать эту часть из системы представительства. Такая мера систему не укрепит, а разрушит. Россия — непростая страна, она всегда существует на определенном балансе. Ей нужны западники и почвенники, либералы и консерваторы, реформаторы и традиционалисты. Их сложное взаимодействие и создает основу нашей цивилизации. Попытка какую-то группу заморозить, отодвинуть, не пустить приводит по закону политических качелей к прямо противоположному результату.
— Согласно опросам, большинство населения одобряет ужесточение правил проведения митингов и шествий, говорит «да» блокированию «экстремистских» сайтов, требует введения цензуры в СМИ… Почему граждане приветствуют любое ограничение своих свобод?
— Если говорить о цензуре, то люди выступают за моральную цензуру. И таких людей много — по опросам ВЦИОМ, почти 70 процентов. Почему они это делают? Потому что считают важным. Важным с точки зрения той парадной системы ценностей, которая у них установилась. Мы, социологи, постоянно видим разницу между парадной системой ценностей и реальной. Здесь огромные ножницы. Люди требуют запретить эротические сцены в кино, а сами с удовольствием их смотрят. Требуют запретить мат, а сами охотно ругаются матом. Требуют ограничить торговлю спиртным, а сами пьют водку. И рассуждают так: я это делаю, но я знаю, что это плохо. И когда к ним приходит социолог с анкетой, он получает известный результат. Если верить опросам, то у нас высоконравственное, просто-таки пуританское общество. А что касается политической цензуры, то люди до такой степени не видят никакого смысла в политике, что не видят и никакого смысла в отстаивании своего права выходить на митинги или иметь доступ к оппозиционным сайтам. Политика вообще находится на периферии их внимания. Никто не в курсе, что там делает Дума, какие она готовит законы. Даже совершенно важными для него вещами — пенсионной реформой, проблемами ЖКХ — народ не интересуется. Политическая цензура людей тоже не очень волнует. Судя по опросам, люди не хотят политической цензуры. Но если власть ее введет, они не станут протестовать. И не потому, что им не нужны политические свободы, а вследствие глубокого равнодушия к этой сфере.
Запросы 70 процентов общества обращены к власти
— Можно ли сказать, что чем ниже уровень жизни, тем слабее потребность людей в политических и гражданских свободах?
— В нашем обществе это действительно так. Интерес к политическим и гражданским свободам присутствует у людей относительно обеспеченных, то есть у среднего класса. Политикой интересуется 12—15 процентов населения. Эти 12—15 процентов — в основном верхняя часть российского общества. Наибольшая же его часть политикой не интересуется. Многие из этого большинства властью недовольны, считают, что она недостаточно навела порядок, оттого-то так много кругом воровства, коррупции, всякого беспредела, и, следовательно, надо не расширять свободу, а, наоборот, ограничивать ее. Такой настрой. Но поскольку люди не понимают, как можно свое недовольство властью во что-то конвертировать, и, кроме власти, не видят никого, кому можно пожаловаться на власть, то получается некий бунт на коленях. Вот так же 9 января 1905 года народ шел с петицией к царю-батюшке.
— Отсутствие потребности в гражданских свободах — это еще и следствие патерналистских настроений?
— Да, безусловно. Патерналистские настроения у нас очень сильны. Поэтому запросы 70 процентов общества обращены к власти. Мы недавно исследовали феномен современного русского национализма. Казалось бы, у нас национализмом все пропитано, 60 процентов людей в той или иной форме поддерживают националистические лозунги — а при этом ни одна националистическая партия не может и полпроцента голосов набрать на выборах. Почему? Потому что весь этот националистический запрос обращен к власти. Это запрос к мэру Москвы Собянину, к президенту Путину. А не к профессору Валерию Соловью, который пытается создать националистическую партию. Этот профессор никому не нужен, кроме очень небольшой части либеральной общественности, которая имеет свои каналы распространения информации, опирается на поддержку Запада и воспринимает Запад как арбитра. Что такое националистический запрос? Это часть все того же запроса на порядок.
Рано или поздно появится запрос на перемены
— В какие исторические периоды у людей возникает запрос на порядок, а в какие — на свободу?
— Нынешний запрос на порядок — это, как многие считают, историческая доминанта, потому что Россия вообще, мол, консервативная страна. Но в этой консервативной стране были периоды, когда запрос на порядок, понимаемый как стабильность, сменялся ярко выраженным запросом на перемены, и мы эти периоды помним. Сегодняшний запрос на порядок — следствие огромной усталости людей от перемен, которые они не смогли проглотить, переварить, и за нынешний порядок держатся как за спасительный якорь. Они понимают, что в свободном океане им не выжить. И пока живо поколение, которое устало в 90-е годы и для которого стабильность является высшей ценностью, ради которой можно и чего-то недополучить, главное — не потерять то, что есть, — пока живо это поколение, будет существовать запрос на порядок. Но подрастает поколение, которому хочется сказать собственное слово, заявить о своих целях, амбициях, ценностях. Никакой порядок не вечен. Нынешний — тоже. Он рано или поздно сменится запросом на перемены. Я думаю, мы уже достаточно близко подошли к этому рубежу.
Это сладкое слово — свобода?
Диалог с профессором РАТИ, доктором филологических наук Андреем Ястребовым
Свобода в возвышенном, романтическом ее понимании — это то, о чем мечтают, к чему стремятся, чем невозможно пожертвовать и ради чего стоит жизнь отдать. Но вот результат опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ): более 70 процентов россиян готовы отказаться от личных свобод ради сохранения порядка в стране. Значит, свобода для кого-то желанна, а для кого-то обременительна? Значит, одних она манит, других пугает? И вообще, это сладкое или горькое слово — свобода?
Абсолютно свободным я себя не ощущаю
— Вы себя ощущаете свободным человеком?
— Пожалуй, нет, потому что есть огромное количество ограничений, с которыми я, как и любой человек, сталкиваюсь. Они самые разные — материальные, социальные, возрастные и какие угодно. Могу дать десятка три определений свободы, но ни под одно из них я не подхожу. В идеале, конечно, каждый человек стремится быть свободным, но вряд ли кому-то это удается. И даже когда кто-либо декларирует: «Я свободен», — кто-то, стоящий над рекой, или бредущий по тайге, или в ночном пустынном городе, — он заблуждается.
— А бывают моменты, когда вы себя ощущаете удивительно свободным?
— Безусловно.
— Это когда?
— Время, связанное с творчеством. Творчество возвышает человека, приближает его к тайнам мироздания. Я не хочу сказать, что я постиг эти тайны или прикоснулся к ним. Нет, я, как и всякий человек, подвержен иллюзии, что именно творчество может сделать тебя лучше. Именно творчество позволяет тебе раздвигать рамки ограничений, без которых, собственно, и само понятие свободы бессмысленно.
— Вы легко совершаете выбор? Или предпочитаете, чтобы его кто-то совершил за вас?
— Вопрос очень по адресу, поскольку я автор пяти книг о возрастных кризисах. На примере моих близких, знакомых, коллег я знаю практически все, что меня ожидает в будущем. И мне с каждым годом все труднее совершать выбор. Но в любом случае надо оставаться верным самому себе и той инерции, которая исходит из накопленного опыта, прежде всего творческого, в меньшей степени жизненного.
— Почему вы считаете, что творческий опыт первичен здесь?
— Потому что пока ты преподаешь, пишешь книги, думаешь о мироздании, ты обязан хотя бы отчасти соответствовать тому идеалу, который проповедуешь.
«Внутренняя эмиграция» — это сомнительная позиция
— Можно ли сказать, что чем больше человек внутренне свободен, тем ему труднее примириться с внешним миром?
— Я не могу здесь сослаться на личный опыт, поскольку не считаю себя внутренне свободным. Человек не бывает абсолютно свободным. Когда любит — в плену у чувств. Когда одинок — в объятиях отчаяния. Когда в тревоге за детей или пожилых родителей — сужает бытийную инициативу. Мы живем в системе зависимостей — добровольных и исходящих извне.
— Но вы согласны, что чем больше человек свободен внутренне, тем он болезненнее ощущает ограничения, диктуемые извне? Или, на ваш взгляд, все как раз наоборот: если человек внутренне свободен, то все внешние ограничения для него ничто?
— Если обратиться к писательскому и философскому опыту, то здесь открывается бездна всевозможных спекуляций в пользу как одной, так и другой версии. Я думаю, обе они в равной степени и справедливы, и ошибочны. А несомненно вот что: кто обладает сильной волей и характером, тот творит чудеса в жизни и в творчестве.
— Свобода — это бремя или благо?
— Здесь можно было бы сослаться на авторитеты: «Хайдеггер утверждал, Камю опровергал, Бердяев настаивал, Толстой сомневался…» Но не стоит верить никому из них, потому что понятие свободы в том или ином писательском, философском творчестве всегда ситуационно и зависит от контекста. Контекста не только той мысли, которую проповедует художник или философ, но и от контекста жизненного, социального. Свобода в понимании Достоевского, который всегда нуждался в деньгах, и у Толстого — это два разных типа свободы. Свобода — это когда человек позволяет своему внутреннему существу хоть в чем-то раскрепоститься и торжествовать, празднуя День божественного умиротворения. А бывает такая свобода, когда человеку, как писал Достоевский, «некуда пойти», его никто не ожидает, он никому не нужен. Полная, тотальная ненужность человека делает его независимым от всех, возвышает над всеми. Возможно, именно за этот вариант свободы Ницше любил Достоевского.
— А пресловутая «внутренняя эмиграция», к которой прибегали представители советской интеллигенции в семидесятые годы, — это разве не еще одна версия свободы?
— «Внутренняя эмиграция» научает тебя либо приспосабливаться, либо сознательно не замечать каких-то вещей. Внутренняя эмиграция — это своего рода «подпольный» мир, обитание в котором воспитывает двойные стандарты. Это сомнительная позиция. При этом я не без уважения отношусь к людям, которые противопоставляют социуму позицию подпольной самообороны или внутренней независимости.
Я приветствую любые формы порядка
— Согласно опросу ВЦИОМ, более семидесяти процентов россиян, выбирая между свободой и порядком, предпочли порядок. Вас не удивляет такой результат?
— Совсем не удивляет. И знаете почему? Потому что социологи обычно получают те результаты, которые были изначально заложены в вопросы. Мне кажется, правильней было бы начать исследование с вопроса: «Что вы подразумеваете под свободой?» И после того как респонденты перечислят, что они подразумевают под свободой, спросить: «Готовы ли вы отказаться от этого?» Никто бы не отказался. Потому что у семидесяти процентов наших граждан представления о свободе не выходят за пределы маленького обывательского мирка, в котором они счастливы.
— А свободу они отождествляют с анархией?
— Конечно же! Пенсионер в знак протеста не пойдет бить стекла в супермаркете. И поэтому он готов отказаться от прав, которыми никогда не воспользуется, в пользу того, чтобы в стране царил порядок.
— Почему в массовом сознании укоренилось убеждение, что чем больше свободы, тем меньше порядка?
— Потому что наши люди всегда мечтали о некоем упорядоченном бытии типа патриархального, где все друг друга знают и где все доступно обозрению. Многие до сих пор ностальгически вспоминают, как они жили в коммуналке. Подобная патриархальная утопия невозвратима. Этот мир ушел навсегда. Это Атлантида, которую никогда уже не поднять на поверхность.
— А вы сами как ответили бы на вопрос: свобода или порядок?
— Порядок должен быть основан на законах, которые исполняются всеми. Я готов пожертвовать ради этого всеми своими свободами. Я не буду бить витрины, не буду безобразничать на улицах, как и все остальные, соблюдающие закон. Я готов отказаться от свобод, ущемляющих права других, как и любой здравомыслящий человек. Как быть со свободой слова? Для семидесяти, нет, даже, думаю, для девяноста процентов нашего населения свобода слова не является, скажем так, предметом первой необходимости.
— Вы это чем объясняете?
— Тем, что «свобода слова» — понятие безмерное. Это всегда свобода интерпретации. А где комментарии, там уже не свобода слова, а знаки ангажированности. Нельзя говорить о свободе слова «вообще». Нужно брать конкретный случай, рассматривать его, анализировать и переходить к следующему.
— Считаете ли вы, что свобода не только не противоречит порядку, но и является его базовым условием?
— Пожалуй, да. Потому что, когда обозначены правила, которые все соблюдают, рождается то ощущение свободы, которое основано на ответственности и общечеловеческой солидарности. Вспомните Томаса Мора и другие утопии, когда авторы уже на второй странице сообщают читателю, что создать свободное общество без необходимых ограничений и без гражданской ответственности невозможно.
Мы слабо себе представляем, что такое свобода
— На ваш взгляд, какое место свобода занимает в системе ценностей российского человека?
— Я думаю, тут не должно быть иллюзий. У нас свобода никогда не стояла на повестке дня — ни на религиозной, ни на социальной, ни на гражданской. Поэтому мы слабо себе представляем, что такое свобода. Последними, кто говорил о свободе, были, наверное, дореволюционные философы, больше никто об этом даже не заикался. Свобода в СССР всегда заменялась какими-то пышными фразами, и все пользовались ими с большой готовностью и цитировали Маркса и Энгельса, что свобода — это осознанная необходимость. Поэтому с осознанием необходимости свободы мы до сих пор не очень далеко продвинулись, с осмыслением категорий свободы тоже. Мы подразумеваем под свободой лишь какие-то эмпирические явления. Это или бунт, или анархия, или нечто такое, что выразительно иллюстрируется на стенде «Их разыскивает полиция», но никак не философское понятие. Может, это и к счастью, иначе сотрудникам ВЦИОМ пришлось бы растерянно развести руками и сказать: «Что-то не то с нашими вопросами и ответами на них».
— Кого свобода пугает, а кого привлекает?
— Свобода привлекает, конечно же, молодежь. Именно молодежи необходимо реализовывать себя и, низвергая авторитеты, идти вперед. Что касается взрослого человека, то ему свобода нужна уже не в той мере, в какой была необходима, когда он был молод.
— От чего мы все не свободны? Ну, понятно, от времени, в котором живем, от дела, которым занимаемся, от семьи, от долгов, от пагубных привычек, друг от друга, от самих себя наконец. А в более высоком, философском, что ли, смысле — от чего?
— На экзистенциальный вопрос: «Как живешь?» от многих можно услышать: «Борюсь за выживание». Это не сартровский ответ: «Чем занимался? — Существовал». Нет, это очень приземленная борьба за пропитание, за маленькое местечко под социальным солнцем. А когда возникают вопросы мировой культуры, вопросы бытия, которые человек со страхом себе задает… Когда они возникают, человек сразу же гонит их от себя, зная, что ответы будут печальными и горестными. Принято думать, что в старости человек склонен к отрешенному миросозерцанию, к некой умственной и душевной медитации. Но, мне кажется, ему не до того. Во всяком случае российскому человеку. На старости лет он мыслит не в категориях свободы — несвободы, а в совершенно других, куда менее возвышенных. Такова наша отечественная жизнь, к сожалению.
— Сартр говорил: «Человек обречен на свободу». Не «достоин свободы», не «стремится к свободе», а «обречен» на нее. Тут горькая безысходность, ощущение тяжких вериг. Почему, как вы думаете?
— Потому что свобода — это бремя. Бремя ответственности. Когда человек поставлен в ситуацию грандиозного выбора и знает, что этот выбор станет поворотным в его судьбе, он моментально избавляется от романтических словесных аксессуаров типа «жизнь дается один раз и прожить ее нужно так, чтобы…» В экзистенциализме жизнь дается один раз и ее нужно прожить. Точка. Свобода для экзистенциалистов — это, конечно же, величайшее бремя. Бремя ответственности.
— Вы не находите, что свобода недостижима, что это всегда процесс, но никогда не результат?
— Человек не может назвать себя абсолютно свободным. В вере, творчестве, любви любой из нас может быть хоть и временно, но свободным. Живая вера побуждает человека облагораживать мир вокруг себя, не насильственно, без суеты создавать упорядоченность жизни, будто люди перестали воевать с мирозданием. Любовь раскрепощает. И раскрепощает до такой степени, что человека волнует только предмет его любви, а все остальное ему безразлично. Но любовь в то же время побуждает украшать мир, она научает быть щедрым. Облагораживание мира верой, украшение жизни любовью — это цель всех нас и ежедневные наши инструменты.
— Кто свободнее — богач или нищий?
— Софистический вопрос, не имеющий ответа. Каждый человек хотел бы быть и богатым, и свободным, а не «или-или».
Наш мир делает все, чтобы человек был несвободным
— Что такое свобода обретенная и что такое свобода дарованная? Чем они отличаются, на ваш взгляд?
— В детстве я несколько раз слышал песню старых большевиков: «Я научу вас свободу любить». Кого-то нужно учить любить свободу, женщину, родину, кто-то сам научается. Одни всю жизнь терзаются мыслью, ищут, другие принимают подарки. Дарованной свободы человеку всегда мало. Он будет желать новых свобод. Что касается внутренней свободы, то это состояние одержимости, свойственное, например, героям Джека Лондона и Хемингуэя. Когда, что бы ни случилось, нужно идти туда, где тебя ждут, где без тебя умрут. И ты знаешь, что свобода твоя заключается не в протяженности пути, а сознательном его выборе. Сделав этот выбор, ты закрепощаешь себя им и ощущаешь полностью свободным. Обрести свободу невозможно без самоограничения.
— Свобода — это естественное состояние человека? Или его естественное состояние несвобода?
— Мне представляется: свобода — неестественное состояние человека. Пропев поутру гимн бесконечности божественных потенций, заключенных в тебе, ты выходишь из квартиры с уже другой риторикой. Как пассажир метро ты зависим от утренней давки. Потом ты зависим от начальства. Наш мир делает все, чтобы человек был несвободным. Как бы там, по Вознесенскому, ни кричал, стоя в своей квартире под душем, «завбазой»: «Я мамонт в семье и на производстве!», у него есть начальник. Мне скажут: настоящий человек должен ощущать себя свободным. Скажут те, кто работает по собственному желанию раз в неделю. Нет, эти люди, конечно, молодцы. У всех разные взгляды на свободу.
— У Пушкина: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». То есть воля или свобода не синоним счастья. Свободный человек несчастлив?
— Свободный человек всегда одинок. А человек несвободный, он постоянно в коллективе, ему там тепло, он кормится с общего стола. Толпе всегда легче найти себе пропитание, чем одинокому, то бишь свободному человеку. Вспомните Маяковского: «Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови». Но вровень не встается. И не потому, что с карлицей связался, а потому, что все люди не могут быть такими большими, высокими, свободными, независимыми, как он. Ему, как и Пушкину, и Лермонтову, выпало прожить три жизни за одну. И ощутить себя одиноким. Будь у великих русских писателей общая могила, на ней можно было бы написать: «Они жили и умерли в недоумении». В недоумении от того, почему так трудно жить, полюбив свободу.
— Это все-таки горькое слово — свобода?
— Я бы сказал так: свобода — понятие, которое вмещает в себя тысячи смыслов, и энциклопедия здесь не поможет. Для одних свобода — это синоним праздности. Для других метафора идеала. Есть набор трюизмов, поставщиком которых является наше кино. Один фильм сообщил, что счастье — это когда тебя понимают. Другой своим названием продекларировал: свобода — слово сладкое. Если бы мы поменьше смотрели кино, то нашли более широкий словарь для обсуждения. Порой мы рассуждаем о свободе почти как о сахаре. Я убежден, рядом со словом «свобода» должны обязательно находиться не менее важные категории — милосердие, сострадание, понимание ближнего. Вместе они образуют некий золотой стандарт человеческих отношений. Пусть волевой человек частью своей свободы поделится с нуждающимся. Сильный пусть защищает обездоленных. Свобода — это созидание, ответственность и сознательный выбор. А в оттенках вкуса свободы пусть каждый разбирается самостоятельно. Главное, чтобы был сохранен золотой стандарт.
Пропаганда — атрибут любого государства?
Диалог с директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым
В не столь давние времена, памятные лозунгами «Слава КПСС!», «Народ и партия — едины», «Пятилетку — в четыре года!», пропаганда считалась делом важным, ответственным и, как минимум, безвредным — большинство населения эти лозунги не воспринимало всерьез. После крушения СССР слово «пропаганда», вызывающее стойкие ассоциации с советским агитпропом, приобрело негативную коннотацию. Между тем пропаганда — это, в переводе с латыни, «подлежащая распространению вера» (propago — «распространяю»). В современном значении — «распространение политических, философских, научных, художественных и других взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической деятельности». Как сегодня воспринимается пропаганда? На кого она рассчитана? В какой мере можно ей доверять?
— Вы верите всему, что показывают по телевизору?
— Нет, конечно.
— А тому, что пишут в газетах?
— Тоже нет. Все, что показывается, говорится, пишется для широкой аудитории, должно, я считаю, подвергаться если не критическому анализу, то хотя бы первичному осмыслению, независимо от того, чей это телеканал, радиостанция или газета. Но дело в том, что массовое сознание, как правило, некритично. В любой стране большинство обывателей зачастую слепо верят всему, что им внушают газеты или телеэкран. Если говорить о государственной пропаганде, то здесь многое зависит от типа государства, от политического режима в нем. В демократическом государстве, каковым является и Россия, вести целенаправленную пропаганду труднее, потому что в нем есть и другие источники информации.
— У слова «пропаганда» негативная коннотация?
— Я думаю, да.
— А как же пропаганда научных знаний, достижений культуры, здорового образа жизни?
— Это другое. Это действительно нужное, необходимое распространение знаний, просвещение. Здесь слово «пропаганда» имеет положительное значение. Другое дело — государственная пропаганда, которая призвана продвигать те или иные государственные идеи (часто спорные и неоднозначные), проводить ту или иную политическую линию. В любом государстве такая пропаганда рассчитана на обывателя. Ее целевая аудитория — массы. В силу своей природы власть не может существовать без манипулирования общественным сознанием и потому вынуждена прибегать к пропаганде.
— Почему столь эффективной была сталинская пропаганда?
— Потому что никакой другой пропаганды в те времена не было и быть не могло. В Советском Союзе существовала только государственная пропаганда.
— Она существовала и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе. Тем не менее сталинской пропаганде советские люди безоговорочно верили, а, скажем, брежневской — уже не очень. Почему?
— Брежневские времена — они уже были другие. Для того, чтобы пропаганда, подобная сталинской, становилась успешной, необходимо было несколько условий. Первое — это «забор» вокруг государства, полная изоляция страны и ее граждан от внешнего мира. Тогда пропаганда такого типа действительно достигает своей цели. А как только образуется какая-то брешь, как только в информационное пространство страны проникает, допустим, «Голос Америки» или «Радио Свобода», — государственная пропаганда начинает быстро размываться. Вот почему при Хрущеве, когда началась «оттепель», а затем при Брежневе советская пропаганда стала терять свой смысл, не достигая своих целей. Хотя шестеренки этой пропагандистской машины вроде бы крутились так же.
— Может, сталинская пропаганда так магически действовала на массовое сознание, потому что держалась на безграничной вере в вождя?
— Она много на чем держалась — и на вере в вождя, и на «железном занавесе», и на репрессиях, и на слепой убежденности масс в том, что если что-то с вождем случится, то страна и народ этого не переживут. Не будь подобных подпорок, советская пропаганда давно бы рухнула. Бездумная, слепая вера во все, что говорят, сковывает мысль и тормозит сознание.
— Какие последствия для массового сознания имеет неожиданная, резкая смена пропагандистской парадигмы?
— Последствия резкой смены в любой сфере всегда тяжелы. Когда был развенчан «культ личности» и открылась часть правды о Сталине, миллионы советских людей испытали даже не разочарование — крах веры. Столь же сильным потрясением для многих оказался распад СССР, который, как долгие годы не подлежало сомнению, был «могучим и нерушимым». В этом, на мой взгляд, и состоит характерная особенность и самый большой вред государственной пропаганды — она сеет иллюзии (заряжает ими массы), которые потом, спустя годы, сама же и развеивает, травмируя сознание миллионов «очернением» того, что еще вчера превозносила, и «обелением» того, что еще совсем недавно предавала анафеме.
— Существует ли пресловутая «американская пропаганда» или это миф, созданный нашей пропагандой?
— Разумеется, существует. Внутренняя и внешняя. При этом нельзя сказать, что внутренняя пропаганда в американском государстве похожа на советскую. Вести такую пропаганду в США весьма затруднительно, потому что благодаря выборам и другим демократическим процедурам там слишком часто обновляется власть — на местном и федеральном уровнях, каждые два-четыре года. Поэтому американцы, как правило, не настроены слепо и безоглядно верить кому-то или во что-то. Критическое восприятие собственного государства и властей у них сформировано достаточно давно, как и сама атмосфера широкой общественной дискуссии. Хотя, конечно, в периоды выборов партии и кандидаты заняты не чем иным, как именно пропагандой своей политики, своих программ и себя лично. Без этого не привлечешь электорат. Иначе обстоят дела с пропагандой внешней. После Второй мировой войны Соединенные Штаты создали информационное агентство ЮСИА, которое стало заниматься внешней пропагандой — распространением информации об Америке, ее истории, культуре, государственном устройстве. Материалы агентства были нацелены на создание привлекательного образа США в других странах. И понятно, почему это требовалось: внешняя политика США стала развиваться в русле глобализма. А глобальный лидер нуждался в позитивном образе.
— В 1999 году агентство ЮСИА было расформировано. Свою задачу создать привлекательный образ США оно, на ваш взгляд, выполнило?
— Отчасти — да. Оно вело пропаганду исподволь, ненавязчиво. Именно такая «мягкая» пропаганда достигает гораздо больших результатов, чем прямолинейная, тупая и «железобетонная», как когда-то в СССР. Вообще в США издавна ведется спор: как Америка должна влиять на мир? Одна группа государственных деятелей и политиков считает, что не обязательно влиять на мир и завоевывать себе союзников какими-то жесткими мерами. Насильно мил не будешь. Это же можно делать по-другому — силой собственного примера. Да, это долгий путь, и не всегда он приводит к быстрому результату. Но он вернее и надежнее. Если твой потенциальный союзник — человек или государство — увидит, как ты живешь, какие действия совершаешь, какие ценности исповедуешь, и сформирует в себе внутреннюю потребность следовать за тобой, воспринимая тебя как модель для подражания — это и станет главным итогом такого рода пропаганды. Это не прямая и жесткая пропаганда. Это способность своей политикой, своим поведением привлекать на свою сторону даже противника и вести его за собой. Но мы видим в США и примеры другой пропаганды — грубой, навязчивой, агрессивной. Одних Америка привлекает, а других отталкивает. Если бы не отталкивала, в мире не было бы и антиамериканизма.
— Антиамериканизму отчасти подвержены и сами американцы. Чем вы это объясняете?
— Прежде всего, тем, что американское общество очень сегментировано, сложно и крайне неоднородно. Оно соткано из заинтересованных групп и соответствующих им групповых интересов. А где существуют групповые интересы, то есть нет монолитности в обществе, там очень сложно насаждать одну точку зрения — допустим, безответно утверждать, что политика США в отношении Сирии — единственно правильная. Если государство станет пропагандировать эту политику, то получит такой мощный ответ, что его пропаганда не будет иметь должного воздействия. Верный способ противостоять влиянию государственной пропаганды — соблюдать принцип рассредоточения власти, формировать общественные институты, которые будут выступать со своей пропагандой, распространять свои знания. И тем самым способствовать формированию групп сомневающихся, а значит думающих, свободных граждан. Если ты «человек разумный», ты обязан сомневаться. Это значит, что ты мыслишь.
— Пропаганда — это всегда ложь?
— Она бы просто перестала существовать, если бы состояла из одной только лжи. Нет, в ней всегда есть какая-то доля правды. Пропагандистский эффект достигается разными путями: где-то смещением акцентов, где-то неполной или односторонней информацией, где-то некорректной аналогией — способов и уловок много. Есть, например, пропагандистские клише. Они в арсенале пропагандистов потому, что упрощают реальность. Пропаганды без упрощения вообще не бывает. Опытные пропагандисты прекрасно знают, что массовое сознание не терпит полутонов. И еще они знают, что массовое сознание воспринимает лишь две-три идеи, которые необходимо повторять, вбивая в сознание масс. А если начинаешь входить в полутона да сыпать идеями, то цель не достигается.
— А правду надо пропагандировать? Или она сама пробьет себе дорогу?
— Правду пропагандировать не надо, это может привести к обратному результату и вызвать подозрение: что-то слишком уж назойливо вы говорите про это, а действительно ли это так? Правду просто не надо утаивать. И еще ее надо распространять. Правда — это факты. А они, как известно, вещь упрямая.
— Какой должна быть пропаганда в век Интернета?
— Как минимум, очень искусной. Интернет — уникальный механизм, который, не скажу, что сводит на нет, но, во всяком случае, сильно снижает результативность любых пропагандистских усилий со стороны государства. В век Интернета заниматься безоглядной и примитивной пропагандой очень сложно. Ведь всегда найдется сайт, содержащий альтернативную информацию. Поэтому государственная пропагандистская машина должна модернизироваться, идти в ногу со временем. Конкуренция с Интернетом должна заставить такую пропаганду быть менее лакировочной, менее одномерной, более честной, правдивой.
— Честность и правдивость — они, вы считаете, не противоречат самой природе пропаганды?
— В идеале не должны противоречить. Почему у пропаганды негативный оттенок? Потому что она никогда не бывает стопроцентно правдивой. Критически мыслящий человек понимает, что жизнь соткана не только из удач, побед и успехов. Пропаганда же, как правило, говорит преимущественно о них, при этом сильно их преувеличивает. И почти не говорит об ошибках и неудачах, промахах властей. А если и говорит, то сильно их приуменьшает. Для пропаганды, как правило, характерны отрыв от реальности и отсутствие чувства меры. Именно это прежде всего и отбивает доверие к ней.
— Россия проигрывает информационные войны Западу?
— Мне кажется, проигрывает. Потому что, несмотря на существование канала «Russia Today», холдинга «Россия сегодня», других СМИ, распространяемых на Западе, она все-таки не вписалась в западное информационное пространство. Вот эта «берлинская стена» в информации — она осталась.
— Почему, как вы думаете?
— Это принято объяснять пережитками холодной войны. В значительной степени это так. Эпоха холодной войны и биполярного противостояния прошла, но подозрительность, взаимное недоверие остались. А подозрительность рождает стереотипы. Эти стереотипы живут десятилетиями, передаются из поколения в поколение. Разрушить их очень трудно. Но дело не только в этом. Мне не нравится само сочетание слов «информационная война». Тем самым как бы подразумевается, что кто-то эту «войну» может выиграть, а кто-то проиграть. Но коли уж принято рассуждать в этих категориях, то, на мой взгляд, Россия проигрывает информационные войны. Мне кажется, что свою позицию, например, по событиям на Украине Россия могла бы более активно доносить на зарубежных информационных площадках. Делать это надо, оперируя фактами, а не только риторикой, и предъявляя неоспоримые доказательства своей правоты. Тогда противоположная сторона этими фактами и доказательствами будет приперта к стенке. Основа любого суждения — знание, а основа знания — факты. Не знающие фактов люди легко попадаются на крючок пропаганды.
— Можно ли сказать, что в современном мире с его изобилием информации и широким доступом к ней пропаганда становится анахронизмом?
— Я так не думаю. Пропаганда была, есть и будет. В любом государстве. При любом политическом строе. Как ее воспринимать — это другой вопрос. Когда с молодости человек подпадает под влияние мощной пропаганды, то потом, спустя годы, он становится ее постоянным и восприимчивым адресатом. Даже если он и понимает, что должен критически смотреть на вещи, ему все равно трудно переломить себя. Монополизм губителен не только в экономике, но и в любой другой сфере. Именно поэтому обществу всегда нужна альтернативная информация. Необходимы общественные дискуссии, свободный обмен мнениями. Именно благодаря этому и формируется критическое сознание и критическое восприятие мира, а в конечном итоге — и более зрелое общество, которому «промывать мозги» будет не так-то легко. Каждый должен беречь собственное сознание, не превращая его в жертву пропаганды.
Наша история нас объединяет?
Диалог с историком Геннадием Бордюговым
За последнее время, по опросам «Левада-центра», значительно выросло число респондентов, ставящих историю на первое место в числе феноменов, которые «внушают чувство гордости за Россию». Но именно история является сегодня полем ожесточенных дискуссий. Накануне 100-летия русской революции эти дискуссии стали еще острее. Как оценивать 1917 год и весь дальнейший ход событий? Какие уроки из Октября и опыта советской власти следует извлечь, чтобы не повторять прошлых ошибок? Чем объясняется возрождение памятников Сталину? Что нас больше разобщает — разные точки зрения на события и персонажей истории или стремление установить единственно «правильную» точку зрения на них?
Кто с кем должен примириться?
— Приближение 100-летия Октября как-то не ощущается. Кроме заклинаний о вреде всех и всяческих революций и призывов к примирению всех со всеми, ничего не слышно. Как думаете, почему?
— Действительно, власть пока развернуто не высказывается. Но это не значит, что общество молчит. Оно-то как раз весьма бурно реагирует на этот юбилей. Наша Ассоциация исследователей российского общества (я руковожу ее Международным советом) ведет мониторинг самых разных рефлексий по поводу столетия. Нас интересует не только научная, историографическая рефлексия, но и художественная, и общественная, и интернетовская. Так вот, полемика развернулась очень интересная. Назову, к примеру, некоторые сюжеты. Какая цена была заплачена за великий социальный эксперимент, не был ли он преждевременным? Способна ли модель государственного устройства, созданная после распада СССР, конкурировать с советским проектом, который ряд политиков спешит объявить неполноценным, как ошибку отцов и дедов? Столетие дает нам также возможность не только перепроверить мифы о революции, но и понять, бродит ли призрак революции по современной России и какая она.
— Представители власти избегают сравнений советского периода российской истории с нынешним. А о наступающей исторической дате говорят только одно — что она должна способствовать примирению в обществе. Но кого с кем примирять?
— Кого с кем — и вправду не очень понятно. Потомков красных с потомками белых? Но никакой вражды между ними как будто бы не наблюдается. Ну, хорошо, вспомнили о жертвах Гражданской войны, о том трагическом времени. Но важнее, на мой взгляд, примирять тех, кто попал под каток расслоения общества. Ведь во имя социальной справедливости совершаются революции. А столетие Революции-1917 по-прежнему воспринимается в сугубо партийном духе, с полярными оценками. Политики из партии «Единая Россия» не скрывают своего негативного отношения к революции, ее представляют либо как заговор (либералов, масонов, революционеров, немцев, большевиков или вообще марксистов и т.п.), либо как случайное стечение обстоятельств. Для КПРФ революция однозначно благо, открытие новой эры. Двойственность позиции политической элиты является и побочным результатом неспособности сформулировать вдохновляющее видение будущего. Каков социальный идеал современной России? В каком направлении движется страна?
— На ваш взгляд, русская революция — это Февраль или Октябрь?
— Я считаю, что концепция «двух революций», придуманная в конце 20-х — начале 30-х годов Сталиным, уходит в прошлое. Определения «Февраль — плохой», «Октябрь — хороший», «Февраль — буржуазная революция», «Октябрь — социалистическая» сегодня не воспринимаются. Они сужают и упрощают сложнейший процесс «революции революций» — крестьянской, рабочей, интеллигентской, национальной, политической. Многие историки, и я в их числе, склонны смотреть на Революцию 1917 года как на единый сложный процесс. Первая мировая война — «всесильный режиссер» этого процесса. После февральских потрясений, после свержения монархии, казалось бы, будут разрешены все накопившиеся противоречия. Но у февралистов ничего не получается. И тогда наступает следующая фаза — июль 1917 года, полуреволюция, попытка левых радикалов осуществить свою альтернативу. Она проваливается. Временному правительству удается взять ситуацию под контроль — лидеры большевиков оказываются либо в «Крестах», либо уходят в подполье. Затем происходит попытка правого переворота и установления военной диктатуры. Это август, корниловский мятеж, который тоже проваливается. А ситуация ухудшается, страна погружается в глубокий кризис. Главные вопросы — о мире, земле — не решены. И когда режим уже ничего не держит под контролем, ничем не может управлять, в условиях нарастающего хаоса власть берут крайне левые, то есть большевики во главе с Лениным. Далее следует разгон Учредительного собрания, а затем страшнейшая Гражданская война, которая длится до 1922 года. Ряд историков с декабрем 1922-го связывают завершение революционного процесса и образование новой страны под названием Союз Советских Социалистических Республик.
— Кто, по вашим наблюдениям, сегодня определяет «генеральную линию» в отношении к 1917 году?
— Я не вижу никакой «генеральной линии». Есть свой сценарий у объединения левых сил, у КПРФ, у либералов. С любопытным проектом выступает власть церковная. В августе патриарх Кирилл в Арзамасе на торжествах, приуроченных к 150-летию со дня рождения патриарха Сергия, опосредованно легитимизировал советскую эпоху — не отказываясь при этом от ее критической оценки как «безбожной». Сознательное согласие Сергия на сотрудничество с советской властью привело к некоторому преображению этой самой власти. Революционный 1917 год стал тем самым попущенным Богом испытанием, которое в конечном счете укрепило людей.
— Вы хотите сказать, это хорошо, что нынешняя власть устранилась от общественных дискуссий вокруг 1917 года?
— Да, хорошо, что сейчас нет узурпации пространства памяти о Революции-1917. Но поскольку Путин имеет высокий кредит доверия, то обществу, конечно, интересно, что скажет носитель верховной власти, какие акценты расставит. Все-таки 100-летие революции — большая историческая дата. К ней в этом году обращается весь мир. Поэтому важно, какую оценку даст столетию руководитель страны. В феврале — на 100-летие падения монархии — он промолчал. Посмотрим, что скажет и на что намекнет в начале ноября.
— Вы сами с каким знаком оцениваете 1917 год?
— Расставлять знаки — «плюсы» и «минусы» — это неверно с точки зрения исторического мышления. Любой факт минувшего содержит в себе как положительные, так и отрицательные моменты, их переплетения и образуют живую ткань истории. Сделаю два утверждения. Во-первых, 1917 год и весь советский период были исторически неизбежными — если они произошли. Во-вторых, коммунистический эксперимент оказал как колоссальное негативное воздействие на наш народ, прежде всего из-за той цены, какую за него пришлось заплатить, так и мощное положительное влияние.
— Хорошо, 1917-й — «социальная болезнь» или «праздник угнетенных», «большевистский переворот» или «великая революция»?
— Французские интеллектуалы тоже долго искали ответ на этот вопрос по поводу своей революции, которой без малого 230 лет, — катастрофа или благотворное событие, необходимость или случайность? Она одновременно была и тем, и другим. Так же и в России — с оправданным акцентом на определение «великая», если за критерий оценки брать ее воздействие на весь мир, судьбу колониальной системы, социальную политику, культуру.
— Видите ли вы какое-либо сходство сегодняшней российской ситуации с тогдашней, столетней давности?
— Подобная аналогия сегодня популярна в соцсетях. Однако с ней трудно согласиться, и вот почему. Казалось бы, и там, и тут есть нарастание брожения, ожидание перемен. Но давайте не забывать, в 1917-м страна переживала кризис: изнуряющая война, экономические неурядицы, обвал уровня жизни большинства населения. А что сейчас? Да, есть инфляция, цены растут, с экономикой по-прежнему не все в порядке. Но сравнивать с этой точки зрения обе эпохи, по-моему, некорректно.
— Какие уроки нам следует извлечь из Октября?
— Похоже, сложилось понимание, что одним махом, разом, используя насилие, невозможно решить все проблемы, разделаться с нежелательным старым и быстро, тут же создать новое, включая формирование нового человека. Логике радикализма и максимализма может противостоять только умная политика, своевременность реформ. В то же время сейчас большинство историков признают, что связь между революцией и реформой намного сложнее, чем считалось раньше. Реформы могут как предотвратить революцию, так и спровоцировать ее. Запаздывание с реформами, их половинчатость и неполнота — катализатор революции. Хотя точно таким же катализатором могут выступить и вполне своевременные преобразования — всё зависит от конкретной ситуации, от контекста.
— Если кратко, революции случаются, когда власть не откликается на новый общественный запрос.?
— Да. И тем самым не упреждает революцию. Но должна откликаться не только власть и ее верховный носитель, но и гражданское общество, которое не конкурент, а партнер, тоже несущий ответственность за попадание страны в критические ситуации. Обновление невозможно обеспечить авторитарно. Участие граждан в принятии политических решений, работа системы «локации» между властью и обществом, местное самоуправление, кадровые ротации способны купировать назревающие революции. Но снова повторю: купировать в данном случае — вовсе не значит совсем снять такую угрозу. Всё зависит от качества, от масштаба назревших перемен. Случается, что как раз снятие остроты противоречий в обществе открывает дорогу революционным потрясениям.
Причины популярности Сталина надо искать не в прошлом, а в настоящем
— В какой мере отношение общества к историческим событиям и персонажам вырабатывается самостоятельно, а в какой программируется государственной пропагандой?
— Здесь обоюдный самообман. Обществу кажется, что оно формирует запрос к власти, а власть думает, что этот запрос формирует она и транслирует в общество.
— По опросу «Левада-центра», треть россиян считают, что сейчас, при Владимире Путине, жизнь в России лучше, чем когда-либо за последние 100 лет. В этом историческом диапазоне «серебро» досталось эпохе Брежнева (29 процентов), «бронзу» поделили дореволюционная эпоха и эпоха Сталина (по 6 процентов), положительные оценки получили также эпоха перестройки (2 процента) и эпоха Ельцина (1 процент). Такие результаты вас не удивляют?
— Не удивляют! Любая статистика привязана к текущему моменту и субъективна. Вы привели одни цифры, но хорошо известны результаты опросов, где первое место отдается эпохе Сталина. Я бы обратил ваше внимание на некоторые константные показатели. Любые опросы фиксируют низкий рейтинг переходных, транзитных периодов — перестройки, 1990-х годов. Чем это вызвано? Дело в том, что любые массовые настроения во многом мифологизированы. Так вот, транзит плохо поддается мифологизации. Люди дезориентированы, их жизнь становится крайне неустойчивой. С эпохами условно стабильными — все ровно наоборот. Тут есть свои устойчивые почитатели и хулители, и это нормально. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о «лучших эпохах», с однозначностью можно сказать лишь то, что эпоха Путина воспринимается как устойчивая и стабильная.
— А чем объясняются установка в Орле памятника Ивану Грозному, возрождение памятников Сталину, культивирование «неоднозначного отношения» к политическим репрессиям и вообще к государственной тирании? Эти акции ведут к общественному расколу или, наоборот, цементируют общество, по крайней мере преобладающую часть его?
— Причины этого ищите не в прошлом, не в истории, не в самих государственных деятелях с их разными биографиями. Ищите причины в настоящем. Почему все более популярен Сталин? Потому что в стране, где процветает коррупция, возникает массовый запрос на сильную руку, которая одним махом наведет порядок. Этот запрос часто выражается сакраментальной фразой: «Сталина на вас нет!» Памятник Ивану Грозному возник из этого же запроса. Это, с одной стороны, запрос на сильную руку, способную одномоментно решить все проблемы, а с другой — жалоба властям: ну сделайте же, наконец, что-нибудь с ворами, взяточниками, коррупционерами, избавьте страну от них! Что такое памятник исторической персоне? Это запрос на тот или иной тип политического лидерства. Чем был притягателен Ленин после императора? А чем объясняется популярность Сталина? Общество посылает сигнал, какого лидера оно желает. Определенная часть общества хочет, чтобы Путин, как Сталин, стукнул кулаком, устроил массовую чистку или даже провел репрессии и таким образом оздоровил власть на всех ее уровнях. Но мы уже проходили все это, и, я надеюсь, нынешние руководители страны понимают, что было бы безумием откликаться на такие запросы.
Сталинисты не нуждаются в фактах, их опора — миф
— Родственники репрессированных все чаще просят убрать их имена из открытого доступа, не публиковать списки пострадавших. Почему, на ваш взгляд? Они боятся чего-то?
— Дело не в боязни. Когда после смерти Сталина люди возвращались из лагерей — а тогда была более страшная ситуация, — те, кто не сидел, считали, что-наказание-то сидевшим было заслуженным, справедливым. И вот представьте, как с таким отношением приспособиться к мирной жизни, как вернуться в профессию? Теперь, спустя десятилетия, родственники репрессированных следят за все более откровенными речами об «оправданности» принудительного труда и насилия, об «эффективности» сталинских методов. Они слышат также призывы к «новому 37-му году» как к эре справедливого и беспощадного суда над элитами, а власть молчит по поводу 80-летия Большого террора. И в этом контексте вроде бы неприлично говорить о трагической истории своей семьи. Возможно, моментом истины для российской власти и гражданского общества станет открытие в Москве 30 октября 2017 года памятника жертвам массовых политических репрессий — «Стены скорби» работы Георгия Франгуляна. Какие слова будут произнесены властью, какие оценки сделаны, какие действия предприняты для того, чтобы это больше не повторилось?
— Возможно ли примирение между сталинистами и антисталинистами?
— Невозможно. Потому что те и другие по-разному обосновывают свою позицию. У них нет общей площадки для дискуссии. Сталинисты опираются не на биографию Сталина, а на миф. Антисталинисты же оперируют историческими фактами, работают с документами. Возможно, со сменой поколений ситуация изменится.
— Но есть и молодые сталинисты.
— Да, к сожалению. Потому что миф о Сталине не только передается из уст в уста, но и транслируется федеральными телеканалами. Сериалы «Сталин live», «Тень Сталина», «Сын отца народов»… Это миф рукотворный. Миф, создаваемый уже нынешним поколением.
— На эту телепродукцию есть социальный заказ?
— Думаю, что есть. За сериалами о Сталине стоят определенные силы. Одно дело, когда миф рождается в недрах массового сознания, другое — когда вы его создаете своими руками. Хотя я не стал бы приуменьшать и роль вполне рационального, а не конспирологического фактора. Посмотрите, в сегодняшней благополучной и сытой Европе именно молодое поколение начинает снова играть в нацизм, увлекаться символикой Третьего рейха, его эстетикой. Что это? Реакция на засилье мигрантов? В какой-то мере, возможно, да. Но, думаю, этот протест намного глубже. Это протест романтической молодости против рациональности и будничной сытости нынешней жизни. Ее предрешенности, понятности. Протест, который принимает вот такие уродливые формы. В этом смысле наша мода на сталинизм — вполне в мировом тренде.
— По опросам «Левада-центра», в 2016 году история впервые обошла «природные богатства России» и заняла у наших граждан первое место в списке предметов гордости. У вас есть объяснение этому?
— Усилиями государственной пропаганды в массовом сознании сегодня формируется не запрос на знание истории, а культ прошлого. До этого культивировался образ будущего. В результате в массовом сознании исчезают категории естественного времени, течения жизни. Повседневность становится никому не интересной. Если культ будущего порождает идею всемерного ускорения времени, то культ прошлого — а тем более «правильного» прошлого — неизменно поднимает волну национализма, перерастающую в шовинизм. Мне кажется, обществу надоела «бронзовая», а не подлинная память, надоел пантеон одних и тех же «героев», надоело знание без альтернатив.
— После Второй мировой войны Германия провела денацификацию. Эта процедура объединила страну. Страна пережила стыд за то, что с нею случилось. Если бы Россия после крушения СССР провела декоммунизацию, это консолидировало бы общество или, наоборот, раскололо?
— Раскололо. Принципиально не могу согласиться с тем, что стыд за прошлое своей страны способен консолидировать нацию. Точнее, консолидировать он, возможно, сумеет, только вот к чему приведет такая консолидация? Любая интеграция, выстраиваемая на негативе, деструктивна, она не содержит в себе созидательного начала. Все хотят играть, как в футболе, в успешной команде. Да и в Германии все гораздо сложнее, чем кому-то кажется. Есть много психологических нестыковок между западными и восточными немцами. Именно вследствие разного восприятия национального стыда. Стоит ли поэтому удивляться странной уязвимости Германии перед массовым наплывом мигрантов. И это несмотря на самые лучшие в Европе показатели экономического роста.
Надо отказаться от культа прошлого
— Что нас больше разобщает — разные точки зрения на события и персонажей истории или стремление установить единственно «правильную» точку зрения на них?
— Я думаю, что разобщает стремление к единообразию. Во-первых, оно тоже недостижимо, и это нужно четко понимать. Какое может быть единообразие в эпоху Интернета и коммуникационной революции? Во-вторых, попытка установить единообразие всегда вызывает сопротивление. А объединить может как раз открытая дискуссия. Не инспирируемая сверху, не конъюнктурная, а реальная и публичная, в которой есть определенные правила, стремление приблизиться к истине.
— Любой спор имеет смысл, если ведёт к достижению взаимопонимания или выявлению ошибочности одной из сторон. Но к чему ведут наши споры о российской истории и о том, что есть «историческая правда», а что «фальсификация»? Имеются ли здесь перспективы для общественного консенсуса?
— На сегодняшний момент — нет. Дело в том, что директивно или управляемо вы этого не достигнете. Это возникает исподволь, постепенно.
— Какие же выводы мы сделаем из нашей беседы?
— Я думаю, главный вывод таков: история способна консолидировать нацию, но эта консолидация не должна быть искусственной, навязанной сверху. Это должен быть естественный процесс, в который вовлечены действительно разные общественные силы. Здесь самое главное — отказаться от культа прошлого, равно как и от культа будущего. Вернуться к естественному ходу жизни. Вот когда вы повернетесь к реальности, у вас уже не будет искушения искать рецепты в прошлом. Что касается 100-летия революции, то уже сегодня можно с уверенностью сказать, что оно не станет каким-то поворотным моментом на пути нашего постижения прошлого, понимания его, проникновения в него. Но, надеюсь, что каким-то определенным шажком в этом направлении все эти юбилейные воспоминания и попытки их актуализации все же обернутся.
России нужна государственная идеология?
Диалог с генеральным директором ВЦИОМ Валерием Федоровым
Статья 13-я Конституции РФ дает безоговорочно отрицательный ответ на этот вопрос: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной». Поэтому любые рассуждения о том, нужна ли государственная идеология России или нет, можно смело считать неконституционными и не тратить на них интеллектуальную энергию. Но вот уже более четверти века, с тех пор как вышел из обращения марксизм-ленинизм, только и слышно, что общество утратило духовные и ценностные ориентиры, движется незнамо куда, и, мол, если есть у страны национальные интересы, то должна быть и национальная, по сути государственная идеология.
Существует ли принципиальная разница между национальной идеей и государственной идеологией? Действительно ли запрет на государственный монополизм в сфере идей ведет ко всеобщей духовной анархии и деморализации?
Государственная идеология скорее разобщит людей, чем сблизит
— Нужна ли России государственная идеология? ВЦИОМ задавал этот вопрос своим респондентам?
— Это наша излюбленная тема.
— И каковы результаты опросов?
— Большинство все-таки полагает, что идеология нужна. Но относительно того, какая это должна быть идеология, единого мнения нет. Если поверить большинству и ввести единую идеологию, то недовольных окажется больше, чем довольных. Значит, авторы нашей Конституции, введя запрет на государственную идеологию, были правы. Государственная идеология скорее разобщит людей, чем сблизит.
— Но идеология, претендующая называться государственной, предполагает цементирующее воздействие на общество. Так ведь?
— По идее, так. Но как только начинаешь эту общую, якобы цементирующую идею детализировать, так сразу возникают сложности. Поясню на примере. Почти все мы разделяем мнение, что чем многочисленнее будет население нашей страны, тем лучше. Когда население сокращается, это плохой знак, а когда увеличивается — хороший. Поэтому большинство считает, что надо всеми способами поддерживать рост населения и всеми способами тормозить депопуляцию. Как это сделать? Тут уже начинаются дискуссии. Скажем, кто-то предложит: давайте запретим аборты. Такая идея способна сплотить общество? Она способна только расколоть его. И таких вопросов миллион. Благих пожеланий насчет того, как бы нам всем объединиться, предостаточно. Но как только переходим к обсуждению конкретных вопросов, выясняется, что реализация этих благих пожеланий ведет нас к гражданскому конфликту.
Лучший способ уничтожить идеологию — это дать ей статус государственной
— Уже почти четверть века в стране отсутствует государственная идеология. Это хорошо или плохо?
— Это прекрасно. На самом деле она отсутствовала и раньше.
— Как это — отсутствовала? А марксизм-ленинизм?
— К 80-му году он де-факто перестал быть государственной идеологией. Это была уже не идеология, а ложь. Был такой канон, который всем приходилось соблюдать, но никто в него не верил. После смерти Суслова, я думаю, и члены Политбюро перестали верить.
— Но формально марксизм-ленинизм все равно считался государственной идеологией.
— Мы чего хотим? Мы хотим еще одну формальную идеологию? Например, идеологию патриотизма в качестве государственной? Но каковы гарантии, что с патриотизмом через некоторое время не произойдет то же самое, что произошло с марксизмом-ленинизмом? Опыт СССР показывает, что лучший способ уничтожить идеологию — это дать ей статус государственной. Ведь никто же не верил в марксизм-ленинизм. Но для того, чтобы исполнять этот канон, людям приходилось лгать, подличать, от чего-то отказываться. Многие отказывались, например, от повышения на работе, потому что не хотели в партию вступать. Кто-то отказывался книжки публиковать, потому что не хотел начинать с цитаты Леонида Ильича Брежнева. И многие хорошие книжки не выходили. Или выходили не здесь, а там. Или выходили через 20—25 лет, иногда — после смерти автора. И все это во имя идеологического фетиша. Или возьмем вторжение в Афганистан. Чем оно обосновывалось? Два главных аргумента было. Первый: не дадим США разместить свои базы у нас в южном подбрюшье. Второй: в Афганистане народно-демократическая революция, наш интернациональный долг — помочь бедным крестьянам бороться со злобными феодалами. В результате 13 тысяч трупов только наших. И эта война не прекращается уже 35 лет. Даже после того, как мы оттуда ушли, она еще там идет. Все это плата за идеологию в том числе. Я не говорю, что идеология не должна существовать вообще, что она должна быть запрещена. Я говорю только о государственной идеологии, которую все граждане обязаны разделять. Если ты ее не разделяешь, значит, ты в каком-то смысле ущербный, ты не гражданин. Я напомню, у нас диссидентов лишали гражданства. Это был акт наказания за измену государственной идеологии. Мы этого хотим?
— Хотим или нет, но это происходит.
— Не происходит.
— А «национал-предатели»? А «пятая колонна»?
— Это риторика. Она важная, но она не имеет статуса государственной идеологии. Сегодня риторика одна, завтра будет другая.
— Как бы то ни было, патриотизм утвердился в качестве государственной идеологии. Это официально не декларируется. Это не закреплено в Конституции. Но неофициально он утвердился в этом качестве…
— Согласен.
— … со всеми вытекающими последствиями для тех, кто не исповедует эту идеологию.
— Вы говорите сейчас не о государственной идеологии, вы говорите о доминирующей идеологии, которая не имеет государственного статуса.
— Официально не имеет. Но в реальности это и есть государственная идеология.
— Давайте эти вещи четко разделять. На мой взгляд, если доминирующая идеология приобретает статус государственной, то это первый шаг к ее краху. Такая участь постигла, например, христианское учение, которое превратилось в официальную доктрину Римской церкви. Как только идеология фиксируется в качестве государственной, она становится, во-первых, общеобязательной, во-вторых, появляются жрецы этого идеологического культа, в-третьих, вводятся наказания за отступление от идеологии и, в-четвертых, сама идеология кодифицируется, застывает, теряет адекватность, превращается в мертвую букву и очень быстро перестает соответствовать изначальным посылам. Практически любая идеология в самом начале — это идеология «за все хорошее, против всего плохого». Но как только идеология становится государственной, она очень быстро превращается в «за все плохое, против всего хорошего». Действительно, патриотизм стал доминирующей идеологией, тут я с вами абсолютно согласен, глупо отрицать очевидные вещи. Но если мы хотим убить патриотизм как доминирующую идеологию, давайте сделаем его государственным. И через некоторое время люди начнут плеваться при слове «патриотизм». Если доминирующая идеология приобретает статус государственной, то это первый шаг к ее краху.
Открытая система живет, закрытая — умирает
— Что такое идеология вообще? Это некие ценности. Применительно к государственной идеологии это ценности, которые поддерживаются и даже насаждаются государством. Так?
— Это система взглядов, упорядоченная, непротиворечивая, где все статусы расставлены: вот это важно, а это неважно.
— Иерархия ценностей?
— Безусловно. А сами ценности — ключевой элемент идеологии. Но набором ценностей идеология не исчерпывается. Это все-таки более целостное, более комплексное образование. Поэтому, кстати, идеологий не так много. Например, существует либеральная идеология. Само понятие либерализма до сих пор входит в пантеон самых важных элементов политического языка Запада, независимо от страны. Но если вы возьмете либерализм XVIII века, XIX, XX и XXI веков, то увидите, что это не четыре, а как минимум сорок разных либерализмов. Были периоды, когда либерализм был сугубо буржуазно-капиталистической идеологией: свободный рынок, никакого государства — Адам Смит в чистом виде. Были периоды, когда либерализм стал социальным, интегрировал себя в учение о том, что все люди равны, и государство должно обеспечивать им гарантии равенства — в том числе за счет социального страхования, пособия по безработице, элементов бесплатного обучения, бесплатного здравоохранения и т. п. Потом в какой-то момент либерализм заключил союз с консерватизмом. Появился странный продукт — «либерал-консерватизм». Сегодня мы чаще всего понимаем под либерализмом именно этот, последний по времени результат синтеза двух предельно далеких друг от друга идеологий — либеральной и консервативной. И, я думаю, это не последний этап.
— Как вы думаете, почему эта идеология сумела на Западе не просто сохраниться, а занимает господствующее положение?
— Потому что ни в одной западной стране эта идеология не стала государственной. Хотя были моменты в истории XX века, когда казалось: все, либерализму не выжить. А сейчас он опять на коне. В России мы можем его топтать ногами, пинать, ругать, но не стоит забывать, что и в Западной Европе, и в Северной Америке это идеология номер один. Она, по сути, разделяется всеми, с некоторыми нюансами. То, что либерализм нигде не стал государственной идеологией, очень помогло ему сохранить свою доминирующую роль, обеспечило жизнеспособность. Невозможно сохраняться в неизменном виде со времен Адама Смита. Хотя, конечно, что-то от Адама Смита осталось. Когда мы превращаем идеологию в государственную, мы подводим под ней черту. Далее происходит выхолащивание, поскольку развития нет. А какое-то реальное развитие воспринимается как ересь. С этой ересью начинают бороться. Вспомните, как наши марксисты-ленинцы боролись с творческими версиями, развивающими марксизм на Западе. С еврокоммунизмом, например. С Альтюссером, Маркузе, Грамши… Объявляли их еретиками, ревизионистами. Сжечь их на костре уже было невозможно, поэтому старались не замечать. То же самое ждет и патриотов, которые любят Родину не так, как предписывает канон. А с либералами ничего подобного не происходит. Потому что нет официального канона, молиться не на что. Есть общая система ценностей. Некоторые ценности отживают свое, на их место приходят другие. Но в целом система сохраняется. Вспомним знаменитую античную апорию: корабль выходит из порта, совершает долгий путь. За это время теряет мачты, меняет изорванные штормом паруса. И вот когда он приходит в порт назначения, выясняется, что ни одного куска материала, из которого он был сделан, уже не осталось, все заменено. Вопрос: это тот же самый корабль или другой? В чем-то — тот же самый. Он так же называется, он так же обустроен. В каждый момент времени что-то сохранялось в нем от того, изначального корабля. А с другой стороны, он совершенно неузнаваем. Точно так же и с идеологией. Она может меняться почти до неузнаваемости. Если, вообразим себе, сегодня бы встретились представители либерализма XVIII и XXI веков, то едва ли они признали бы друг друга за единомышленников. Это плата за открытую систему. Открытая система живет. Закрытая — умирает. Превращение доминирующей идеологии в государственную — это отказ от открытости. Дальше — омертвление, разложение, гибель.
Люди не готовы стыдиться за свою страну
— С тех пор, как распался СССР, в России не прекращаются поиски национальной идеи. Почему нет результата? И нужен ли результат?
— Мне кажется, результат есть. Причем совершенно успешный.
— Патриотизм?
— Безусловно.
— Судя по опросам, которые проводит ВЦИОМ, что такое патриотизм в массовом его понимании?
— Это любовь к Родине, гордость за нее.
— А стыд за нее?
— Уже нет. Стыд вычеркните. Люди не готовы стыдиться за свою страну. Это ушло. Те, кто стыдится, делают, как правило, очень быстрый следующий шаг и перемещаются в другое культурное, экономическое, географическое пространство. Благо это сделать элементарно. А в понимании большинства патриотизм — это вера в то, что Россия сильное, независимое и самостоятельное государство. Плюс убежденность в том, что мы сами способны определить, как нам здесь жить, и никто не вправе нам навязывать свой пример и образец.
— Суверенная демократия?
— В идеологии суверенной демократии все-таки присутствует понятие «демократия», и оно имеет определенный смысл. А в национальной идее, на мой взгляд, понятие «демократия» пока не утвердилось. То, что мы имеем сейчас, это не демократический патриотизм. Это патриотизм, избавленный от других важных элементов. В идеологии суверенной демократии, а это действительно была идеология, пусть и не совсем развитая, предполагалось, что Россия сделала окончательный выбор в пользу демократической модели правления. Но идеология суверенной демократии постулировала, что только россияне имеют право определять, какая именно модель демократии должна существовать здесь, советчики из-за рубежа нам не нужны. В национальной идее же демократический метод отсутствует вообще. Существует только любовь к Родине, причем это любовь к Родине, противостоящей другим странам. Мы сильны, нам никто не страшен! Может быть, через какое-то время, если наша патриотическая идеология не приобретет статус государственной, эпитет «сильная» применительно к слову «Россия» сместится на второй план, а на первый выйдет другой эпитет. А может быть, изменится само понимание силы. Возможно, под силой мы будем понимать не танки, не самолеты, не ядерные ракеты и не готовность навязать всем свою волю. Если патриотическая идеология останется открытой, то в ней смогут происходить какие угодно изменения. И эти изменения будут отражать реальные изменения в жизни страны и мировоззрении ее граждан. Ведь понятно, что сегодняшний патриотизм и патриотизм, скажем, образца 80-го года — это совсем разные патриотизмы. Но и тогда были люди, которые любили Родину, и сейчас есть люди, которые любят Родину. Эта открытость идеологии патриотизма дает ей возможность оставаться жизнеспособной.
Вера — дело совести, а не государства
— На ваш взгляд, претендует ли Русская православная церковь на роль источника национальной идеологии?
— На роль одного из источников — несомненно. Собственно, она претендует на это уже примерно тысячу лет. И небезуспешно временами.
— Давайте говорить прямо. Не видим ли мы сегодня стремление Церкви внедрить православие в качестве официальной идеологии?
— Безусловно, видим. Да, это именно так.
— Как вы к этому относитесь?
— Есть некая красная черта, которую не стоит переступать. У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. И чтобы люди, живущие в России, чувствовали себя россиянами, они должны быть уверены, что вера — дело совести, а не государства. Если они увидят, что живут в стране, где государственная идеология носит православный характер, то в «Исламское государство» побегут уже не тысячи, а миллионы. Вот красная черта, где надо остановиться. Никто не отрицает роль православия в нашей истории, нашей культуре. Никто не покушается на первенствующее место РПЦ среди всех традиционных конфессий. Но гражданство — это все-таки светская характеристика, а не религиозная. Нельзя призывать к тому, чтобы все граждане России стали православными. Нельзя говорить, что если ты не православный, то ты не россиянин. Если будет предпринята попытка интегрировать элементы православия в государственную практику, то мы встанем на очень опасный путь, ведущий к распаду России.
Задача не в том, чтобы изобрести красивую триаду
— Знаменитая уваровская триада «православие, самодержавие, народность» служила, как считалось, национальной скрепой Российской империи. Как вы думаете, сегодня можно сконструировать аналогичную триаду?
— Да можно, конечно. Но просуществует ли эта триада, как уваровская, лет семьдесят? Сомневаюсь. Мир сейчас очень быстро меняется. Поэтому такого рода чеканные формулы, увы, обречены на быстрое устаревание. Та же «суверенная демократия» уже вышла из политического обихода. Столь же быстро забылась и «энергетическая сверхдержава». Слоган в рекламных целях — да, его можно придумать. Но задача-то не в том, чтобы красивую триаду изобрести. Задача в том, чтобы эти ценности в красивых обертках реально мотивировали нас что-то делать, а чего-то не делать. Чтобы они, скорее, объединяли, чем разъединяли. Любая триада вроде бы помогает синхронизироваться, объединиться. А с другой стороны, она здорово ограничивает. Допустим, придумали: «Родина, справедливость, закон». Красиво? Красиво. Правильно? Правильно. Но кто-то скажет: а почему сюда не включили «свободу»? Хорошо, давайте включим. А вместо чего? Вместо «справедливости». Нет, «справедливость» не смейте трогать, она важнее вашей «свободы». И пошло-поехало… Поэтому я бы не слишком надеялся на то, что мы сейчас изобретем желанную формулу, напишем ее на наших знаменах — и заживем счастливо.
Массовое сознание — это не коллективный идиот, который польстится на что угодно
— В чем принципиальное отличие государственной идеологии от национальной идеи?
— Два отличия. Первое. Идея — это нечто очень абстрактное. Например, нужно любить свою страну. Идея? Идея. На ней патриотизм строится. А что такое идеология? Она указывает, КАК нужно любить свою страну и КАК ее любить нельзя. То есть начинается детализация. И второе отличие. Государственное — это аппарат государства. Национальное — это страна. Страна всегда больше, чем государство. Государство может возникнуть и умереть. В принципе страна — тоже, но гораздо реже. Если мы хотим разменять национальную идею на государственную идеологию, то это, я считаю, одна из крупнейших ошибок, которую мы можем совершить.
— Идеология должна обслуживать сиюминутные потребности общества или давать стратегические установки?
— Чем более к глубинным ценностям, потребностям она апеллирует, тем выше шанс, что она не окажется выброшенной на помойку через несколько лет. Идеология должна быть предельно абстрактной, общей.
— И универсальной, наверное?
— Если она будет предельно абстрактной и общей, то ее претензии на универсализм будут обоснованы. Хуже конъюнктурной, сиюминутной идеологии нет ничего. Это такая фальшь, которая уже в момент своего появления становится очевидной абсолютно всем.
— Конъюнктурная идеология губительна для массового сознания?
— Массовое сознание — это не коллективный идиот, который польстится на что угодно. У него есть свои пределы в восприятии лжи. Иначе им можно было бы манипулировать бесконечно.
— Считаете ли вы, что мир сейчас переживает мировоззренческий кризис?
— Конечно, кризис есть. Причина этого кризиса в том, что мир очень быстро меняется. И те идеологии, которые господствовали на протяжении долгого времени, они либо радикально преобразуются и тогда сохраняют доминирующее положение, как в случае с либерализмом, либо консервируются и уходят на периферию, как произошло с коммунизмом. Более того, новые идеологии, изобретенные после перехода мира из индустриального состояния в постиндустриальное, даже они сегодня в кризисе. Постиндустриальная идеология в кризисе. Идеология информационного общества в кризисе. Все идеологии в кризисе. Именно поэтому губительно и опасно любую идеологию сегодня объявлять государственной.
Политика и мораль несовместимы?
Диалог с философом Алексеем Козыревым
После того как Северная Корея провела испытание водородной бомбы, с международных трибун зазвучали слова об угрозе новой мировой войны, а действия северокорейского вождя подверглись не только политической, но и моральной оценке. Жизнь дала новый повод задуматься о роли морали в политике. Эта роль сегодня возрастает. Потому что многократно увеличивается цена политических решений. Что считать нормой морали в политике? Действительно ли «цель оправдывает средства»? Возможна ли политика там, где провозглашаются абсолютные моральные ценности?
Любой отсыл к государственному интересу уже вне морали
— Применение или неприменение ядерного оружия — не наивно ли обсуждать этот вопрос с позиций морали?
— В каком-то смысле наивно, наверное. Хотя известно, что летчик, сбросивший бомбы на Хиросиму и Нагасаки, сошел с ума. По-видимому, то, что он совершил, стало для него предметом невыносимых моральных мучений.
— Этот летчик выполнял приказ. А отдаются такие приказы политиками, для которых мораль — последнее, что принимается во внимание, когда на кону государственный интерес.
— Любой отсыл к государственному интересу уже вне морали. В философии Канта есть понятие «мораль долга». И есть поступки, которые находятся вне морали. Например, ложь из человеколюбия. Она аморальна, как любая ложь. Но мы лжем по разным поводам, потому это диктуется какими-то внеморальными интересами. И в политике, как правило, главенствует не мораль, а интерес. Поэтому правильней было бы вести речь о том, как поступки, совершаемые политиками, выглядят со стороны, как они оцениваются обществом. Имеется в виду «суд народный, суд нелицемерный», по словам оперного Бориса Годунова. Пушкин, когда писал эту пьесу, понимал, что оценка народом деятельности политика обязательно воспоследует. Я не знаю, почему политики об этом иногда забывают, почему они не задают себе вопрос, как после их ухода люди будут о них судить, какой след они оставят в истории, в памяти своего народа. Так или иначе в принятии решений политик руководствуется моралью в последнюю очередь.
Мы и к себе должны предъявлять моральный счет
— А имеет ли право толпа судить политика по законам своей морали? «Суд народный, суд нелицемерный» — это ведь нередко пугачевщина в самых разных ее изводах. Это бунты, мятежи, восстания.
— Я думаю, что, давая поступкам политиков моральную оценку, мы и к себе должны предъявлять моральный счет. Я как гражданин участвую в политике уже хотя бы тем, что хожу или не хожу на выборы. Есть ли здесь элемент морального выбора? Есть. Это косвенная или прямая поддержка того политика, который, как мне известно, лжет, дает невыполнимые обещания. А я иду и опять за него голосую. Потому что думаю: ладно, все политики лгут, это для них естественно. Голосуя за лжеца, я, таким образом, поощряю ложь и не должен потом возмущаться, что меня и всех нас опять обманули. Когда мы, обыватели, осуждаем политика за ложь, обман, цинизм, мы должны отдавать себе отчет в том, что все это мы сами ему позволяем. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что, как писал Пастернак, «предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход». Приходит человек во власть с массой привлекательных идей, с обещанием развязать все исторические узлы, а потом завязывает и запутывает их еще сильнее. Но наше-то отношение к этому каково? Мы в очередной раз проглотим, стерпим или как-то иначе себя поведем, скажем какое-то слово? И опять-таки, не будем ли мы потом горько сожалеть, что дали волю своим страстям? Мне кажется, большинство людей, которые выходили на украинский майдан, совершенно искренне были возмущены коррупцией и беззаконием, которые имели место при Януковиче. Но представляли ли они, что будет потом? Что будут десятки тысяч жертв в донбасском конфликте, что олигархи пополам с националистами поделят власть и снова станут использовать ее в своих интересах? Мой коллега, умный и честный политолог Борис Капустин говорит, что есть две морали — малая и большая. «Малая мораль» — это мораль, которая реализует себя в устойчивой, стандартной ситуации, когда нетрудно быть законопослушным и лояльным к сильным мира сего, доверять власти, служить государству. Но есть и «большая мораль», диктующая нам поведение в ситуациях, когда стране требуются серьезные перемены, когда история должна двинуться вперед. Какую позицию здесь занять? Остаться верным старым идеям или довериться ходу времени? В августе 1991 года, после провала путча, ряд участников ГКЧП пустили себе пулю в лоб, и тогда мало кто отваживался публично скорбеть по этому поводу. А другие гэкачеписты ушли в тень, нашли себе место в новой реальности, некоторые из них живы до сих пор и сегодня стали чуть ли не героями. Отношение к ним с течением времени — причем в короткий исторический промежуток — заметно изменилось. Их деяние стало восприниматься значительной частью общества не как позорное, а как едва ли не благородное, весьма достойное. Мол, попытались люди остановить ход истории, но им это не удалось. А если бы удалось, то, может, не случилось бы массового обнищания, дефолтов, кровавых конфликтов и прочих потрясений, в которых сегодня многие винят Ельцина.
— Последнее вполне естественно. Судьба реформатора — быть непризнанным и обруганным современниками. Принимая решение, начинать или не начинать реформы, политик совершает еще и моральный выбор. Он понимает, что в обоих случаях ему ничего не простят. В первом случае — современники, во втором — потомки. И те, и другие будут предъявлять ему моральный счет. Но можно ли оценивать исторические деяния с точки зрения морали?
— На мой взгляд, можно и нужно. В политической этике есть два ключевых слова — «ответственность» и «справедливость». И они очень неоднозначные. Бывает примитивная уравнительная справедливость: все поделить поровну. А бывает справедливость как осуществление высшей правды на Земле: каждому должно воздаться по заслугам, герой должен быть назван героем, подлец — подлецом. Точно так же и ответственность бывает разных сортов. Есть ответственность юридическая, когда политик, много, допустим, укравший, получает три года условно, потому что имеет высокий социальный статус, влиятельных покровителей, прикормленных адвокатов. А есть ответственность внеюридическая, когда человек отвечает перед своими ближними, перед обществом, а может, и перед Богом. И ни от первого, ни от второго вида ответственности никакой политик не может быть освобожден.
Политическая этика менялась на протяжении веков
— Менялись ли на протяжении веков общественные представления о моральных нормах в политике? И каковы эти представления сегодня?
— Менялись. Потому что менялись сами представления о морали. О ценности человеческой жизни. О человеческом достоинстве. Если в средние века личность ничего не значила (считалось даже благом для еретика — отправить его на костер, чтобы очистил и спас свою душу путем страдания), то последние три-четыре века мы живем в парадигме европейской концепции прав человека, которая основывается на примате человеческой личности, ценности человеческой жизни. Вот поэтому и политическая этика изменилась. Но менялась она с большим трудом. И какое-то время сохраняла в себе, а во многом и до сих пор сохраняет изрядную долю лицемерия, когда декларируются одни ценности, а на практике осуществляются совершенно другие. В центре политической этики стоит отношение к рабству. Но во времена Аристотеля это не имело значения. Потому что естественным считалось наличие свободных граждан, которые живут в государстве и на которых распространяются законы этого государства, — и рабов, которые по природе своей рабы и которым положено быть рабами. Новое время и вообще христианское сознание исходит из того, что человек не может быть рабом другого человека. Он может быть рабом Божьим, но рабство перед Богом освобождает его от рабства перед другим человеком. Но как быть с рабством, которое мы по-прежнему встречаем в очевидных или завуалированных формах? Что можно сделать, чтобы освободиться от этого рабства? Есть ли право на бунт, революцию? Эти вопросы теснейшим образом связаны с политической этикой. И в зависимости от ответов на них формируется модель отношений между политикой и этикой. Предположим, совершается переворот. Но не приводит ли он к тому, что господа становятся рабами? Вспомним знаменитую гегелевскую диалектику раба и господина: раб — рабствует, господин — господствует. В результате переворота раб становится на место господина, но господин-то становится рабом. Это не приводит к равенству, о котором мечтали философы Эпохи просвещения. Это приводит к унижению и попранию господина. И опыт Октября 1917 года нам показывает, что происходило не только поражение в правах людей дворянского сословия, но и лишение их права на жизнь, на веру, на отечество.
— Чем был большевизм с точки зрения морали?
— О морали здесь говорить нечего. К власти пришли люди абсолютно аморальные. Это были, по сути, уголовные элементы дореволюционного государства. Люмпены. Люди без определенного рода занятий. Они представляли собой банду городских разбойников, которые могли, например, ограбить банк для того, чтобы пополнить партийную кассу. Или продать в Англию шедевры мировой живописи, которые находились в собраниях русских музеев, чтобы получить деньги на непонятные цели, а вовсе не на решение каких-то общественных задач. Но идея о неподкупности и кристальной честности революционеров вбивалась нам в мозги на протяжении долгих советских лет. На этом строилась вся советская пропаганда. Самый ходовой сюжет на эту тему — как наркомпрод Цюрупа падал в голодный обморок. Далеко не все падали в голодный обморок. Мы теперь знаем, как питался Жданов в блокадном Ленинграде. Знаем и то, как высказался Сталин на спектакле «Борис Годунов» в Большом театре: «Ну, подумаешь, хлюпика какого-то зарезал». Вождь дал понять, что если ты осуществляешь грандиозный проект (коллективизацию, индустриализацию), то тебе позволено зарезать не одного хлюпика. Именно на этом строится и коллизия пушкинского царя Бориса, и вообще все творчество наших великих русских классиков. Как говорил Иван Карамазов брату Алеше, не нужна мировая гармония, если она достигнута ценой слезинки ребенка. А в случае со Сталиным речь идет не о слезинке ребенка, а о реальных человеческих жертвах, о миллионах загубленных жизней. Кстати, удивительно, что люди, казалось бы, обостренного морального сознания (тот же Белинский, например), рыцари без страха и упрека, писали Боткину, что если для всеобщего счастья потребуется уничтожить десятки тысяч людей, то стоит пойти на эту жертву. После этого мы, наконец, войдем в царство разумной необходимости, которое завещал Гегель, и придем к идеальному совершенству. Поражает искренняя заостренность этих людей на высоких идеалах и в то же время готовность приносить в жертву кого угодно, только не себя.
Политическая этика — это сфера неоднозначных решений
— Что такое политическая этика? Само сочетание этих слов — не оксюморон?
— Политическая этика — это дисциплина политической науки, которая рассматривает как раз те вопросы, о которых мы сейчас говорим. Это вопросы уместности и возможности применения силы в тех ситуациях, когда необходимы радикальные перемены, борьба с чем-то нетерпимым. Например, с несвободой. При этом политическая этика ситуативна, как и всякая этика. Философ Дмитрий Чижевский говорил, что любое моральное действие предполагает три компонента — что, где и как. Чтобы оценить моральность или аморальность какого-то действия, мы должны учесть, что сделано, где сделано и каким образом. Кто-то может сказать: это же полный релятивизм! Нет, это не релятивизм. Это творческий характер морали, где не может быть рецептов на все случаи жизни. Ведь даже Евангелие носит притчевый характер. Христос редко говорит: поступай так. Он дает нам общие и зачастую противоречивые принципы поведения. И политическая этика — это тоже сфера неоднозначных решений, где «нет» важней, чем «да», «нельзя» важней, чем «можно». Например, когда идет бой, командир должен посылать своих солдат в атаку. Но при этом ему следует исходить не из того, что весь его батальон может погибнуть, а из того, что он, командир, обязан по возможности сохранить жизнь людям. В политике тоже нужна некая система запретов. Должен быть четко очерчен круг недопустимого. И только после этого можно говорить о каких-то нравственных долженствованиях, предписанных политику.
Пример морального поведения дал Николай Второй
— Вы можете назвать примеры, когда политик по моральным соображениям отказывался от каких-то поступков?
— Пример морального поведения дал Николай Второй. Имея блестящую родню в королевских семьях Германии, Швеции и предложения организовать побег со стороны верных ему людей, он не бежал из страны. Он, видимо, сознательно решил разделить свою судьбу с судьбой России. Если же говорить не о политиках, а, допустим, о полководцах, то меня всегда восхищал барон Врангель, который сумел спасти армию, вывести ее из Крыма в Турцию и сохранить жизнь очень многим своим офицерам и солдатам. То же самое можно сказать о решении Кутузова оставить Москву. Принять такое решение означало признать свое поражение как полководца, свое бессилие и свою вину перед государством. В нравственном смысле это было тяжелейшее решение, но оно в конечном счете привело к успеху кампании. Наверное, можно привести немало и других примеров, когда политик из нравственных побуждений отказывается от принятия какого-то решения, а подчас и от власти.
Успех избирательной кампании обеспечивают деньги и технологии
— Карамзин писал: «Правила нравственности и добродетели святее всех иных и служат основанием истинной политики». Если бы! Политика и мораль редко когда совмещаются. Совместимы ли они вообще?
— Весь путь истории философии — это путь от Аристотеля, считавшего, что политика определятся этикой, до Макиавелли, убежденного в том, что политика и нравственность несовместимы. Что такое макиавеллизм? Это наличие у правителя определенной профессиональной морали, которая заключается в одном: ты не должен делать того, что приносит ущерб твоему государству. Ты можешь объявлять захватнические войны, можешь плодить рабов, можешь обманывать, можешь уничтожать целые народы, если это ведет к благу и процветанию твоего государства. Поэтому получается, что Макиавелли — любимый философ Сталина.
— У честного политика меньше шансов победить на выборах, чем у того, кто лжет, раздает пустые обещания?
— Сюда еще технологии очень сильно примешиваются. И, разумеется, деньги. Два этих ресурса и обеспечивают успех избирательной кампании.
— На ваш взгляд, может ли сегодня в России свежий человек пробиться в политику?
— Наверное, может. Вот недавно в Москве прошли муниципальные выборы. И меня поразило количество молодых людей, стремившихся стать муниципальными депутатами. Не знаю, чем диктовалось это стремление — творческими амбициями ли, юношеским романтизмом, желанием сделать что-то хорошее для людей, оставить след в своем микрорайоне. Но в любом случае это хорошо. Чем больше приток в политику свежих сил, новых ярких имен, тем больше шансов на оздоровление власти на всех ее уровнях.
Доносительство — гражданский долг?
Диалог с директором Российского государственного архива социально-политической истории Андреем Сорокиным
Слова «доносительство», «донос» и «доносчик» имеют отрицательное значение только в русском языке. В Америке, например, говорят «information» и «informer», то есть «информация» и «информатор». Там принято, чтобы служащие информировали начальство о том, как работают их коллеги, да и вообще обо всем. И это считается гражданской добродетелью. А вот в русской жизни слово «информатор» не очень прижилось. Взамен употребляется «сексот», «стукач», «осведомитель», «наушник», «ябеда», «фискал»… Богат русский язык.
Стоит ли нам изменить отношение к доносительству?
Взаимодействие государства и гражданина в определенных сферах абсолютно необходимо
— После вашей статьи в журнале «Дилетант», посвященной доносам сталинской эпохи, радио «Эхо Москвы» открыло дискуссию: «Доносительство — гражданский долг или подлость?» До сих пор слово «донос» имело в России только негативную коннотацию. Мы, что, уже настолько европеизировались?
— Я бы так категорически вопрос не ставил. Даже в той самой статье, напечатанной «Дилетантом», я говорю, что не все так однозначно. Отрицательная коннотация слова «донос» появляется в конкретную эпоху, обстоятельства которой в этом смысле крайне интересны и показательны. Это закат правления Николая I, когда на авансцену выходят новые общественные силы — разночинцы, формируется и развивается новый этап так называемого освободительного движения. Именно в этот период — период обострения противостояния между государством и обществом — и рождается отрицательный смысл понятия «донос», к которому мы привыкли. Но еще в конце ХIХ века в словаре Даля мы найдем несколько значений этого слова, в том числе и вполне нейтральных по содержанию. С другой стороны, вы правы, связывая положительное значение слова «донос» с европейским опытом. Потому что в Европе, в той же Франции, например, со времен Великой французской революции понятие гражданского доноса — это понятие права и нормальная практика взаимоотношений гражданина и государства. В ту пору там происходило формирование гражданского общества, начали возникать независимые субъекты экономики и политики. Пробуждение социальных низов к активной экономической и политической жизни требовало оформления правового взаимодействия этих новых субъектов общественной жизни, низов, с государством. Одной из форм такого взаимодействия был донос. Так что, рассуждая на эту тему, мы всякий раз должны учитывать исторический контекст.
— Контекст, в котором мы могли бы рассуждать о доносах в сегодняшней России: каков он, по-вашему?
— По моим представлениям, Россия сегодня переживает процесс трансформации. Мы, с одной стороны, являемся свидетелями либеральной экономической политики, которую проводит государство, с другой — наблюдаем усложнение общественной и политической жизни вследствие этой самой экономической политики. И в повестку дня встают многочисленные вопросы, связанные с урегулированием взаимоотношений между гражданским обществом и государством. Вопрос о доносительстве находится именно в этом контексте, независимо от отрицательной или положительной коннотации слова «донос».
— Граждане должны информировать «кого надо» о том, что кажется им подозрительным, неправильным, опасным?
— Да, я считаю, что взаимодействие государства и гражданина в определенных сферах абсолютно необходимо. Граждане, несомненно, должны уведомлять государственные органы о тех явлениях окружающей действительности, которые ставят под угрозу существование государства, безопасность общественных институтов, личности, имущества. Но необходимо, во-первых, обставить все это понятными, прозрачными законами и процедурами их исполнения, а во-вторых, обеспечить права индивидуумов или общественных институтов, которые в такой форме начинают взаимодействовать с государством. И, конечно, нужны некие законодательные ограничения, чтобы доносительство не стало самопожирающей системой, инструментом достижения чьих-то личных или корпоративных целей: те же рейдерские захваты, к примеру. Они ведь нередко совершаются с использованием «информации», направляемой «доброжелателями» в государственные органы.
Пять процентов правды
— Вы говорите, что граждане должны определенным образом сотрудничать с властью ради государственной и общественной безопасности. Но то же самое внушалось населению в первые десятилетия советской власти и привело к тотальному доносительству.
— В те годы государство с помощью «сигналов» от граждан пыталось настроить новый социальный механизм, найти способы исправления каких-то недостатков. Но очень скоро все это превратилось в шпиономанию, в политическое доносительство, в сведение счетов, в орудие борьбы за власть, в инструмент многочисленных чисток, через которые не раз прошла элита страны.
— В какой мере, на ваш взгляд, систему доносов создавала власть, а в какой — сами граждане? Чьи «заслуги» значительнее в этом деле?
— Сложный вопрос. Я думаю, здесь многое зависело и от тех, и от других. Нельзя отрицать, что в 20-30-е годы существенная часть общества находилась в состоянии энтузиазма и даже эйфории по поводу строительства нового мира. И на этой волне многие были готовы сотрудничать с государством в целях построения светлого будущего, к сожалению, забывая библейскую максиму, что благими намерениями вымощена дорога известно куда. Так, собственно, и получилось. Сначала государство не пыталось использовать народный энтузиазм для борьбы с инакомыслием. В 20-е годы и внутрипартийный режим, и состояние общества еще обеспечивали определенный плюрализм. Мирное сосуществование разных платформ, течений, позиций — все это было допустимо. В этот период информирование власти о недостатках имело инструментальную задачу: строительство нового общества. Но постепенно дело двинулось к установлению единоличной диктатуры, и в конце 20-х годов произошел перелом. На этом переломе обозначились и новые социальные функции всевозможных органов, созданных еще на излете Гражданской войны. Эти органы собирают информацию, которая начинает активно использоваться для борьбы с оппозицией. Создатель и идеолог этой системы — Сталин. Вспомним его знаменитое изречение о том, что мы будем расследовать все доносы, в которых содержится хотя бы пять процентов правды. Это было сказано в 1928 году. А в конце 1930-х появился новый учебник истории для начальных классов средней школы. Там было записано, что главная задача советского гражданина — помогать органам НКВД разоблачать врагов советской власти. Об этом историческом контексте надо помнить, обсуждая взаимодействие общества с государством в определенных сферах.
Сталин осмысленно проводил чистки
— В 30-е годы доносы часто имели корыстную подоплеку: настучать на соседа и занять его жилплощадь, «разоблачить» коллегу и получить его должность. Но были ведь и доносы «от чистого сердца». Как говорится, ничего личного. Просто засвидетельствовать лояльность режиму, показать беззаветную преданность делу Ленина — Сталина.
— Такого рода донос трудно назвать бескорыстным. Если вы стремитесь своему патрону — не важно, кто он — ваш начальник на работе или государство, как ваш работодатель прямой или опосредованный, — продемонстрировать свою лояльность, то за этим чаще всего стоит желание продвинуться, обеспечить себе карьерный рост, укрепить свою безопасность. Я бы не называл такие взаимоотношения вполне бескорыстными. Бескорыстными были многочисленные доносы в ранний советский период, когда люди, искренне принимая идею строительства нового общества и веря в нее, писали в различные органы о всяческих непорядках, мешающих этому строительству.
— А когда доносы стали инструментом борьбы внутри сталинской номенклатуры?
— Не сразу. Во второй половине 30-х годов использовать донос в этом качестве особой надобности не было. Сталин сам выстраивал систему взаимоотношений со своими подданными, в том числе из ближнего круга. Он осмысленно проводил чистки, убирая старых большевиков, считавших его ровней себе и по революционному стажу, и в интеллектуальном отношении. Делал он это не только в силу своей натуры, но еще и от стремления максимально инструментализировать процесс строительства нового мира, избавить его от ненужных дискуссий, добиться безоговорочного и скорого исполнения руководящих указаний. Самонастройки в сталинском аппарате управления не существовало. Этот аппарат все время нужно было настраивать сверху. И количество решений, которые принимались политическим ареопагом, просто зашкаливало. Достаточно посмотреть на структуру и содержание вопросов, которые рассматривались на Политбюро, чтобы понять, что справиться с этим путем демократических процедур решительно невозможно. Хотя, конечно, личные качества вождя тоже сыграли немаловажную роль в аппаратных чистках.
— Чем, на ваш взгляд, объяснялись родственные доносы, когда муж доносил на жену, брат на брата, сын на отца?
— Большинство случаев внутрисемейного доносительства были связаны с элементарным страхом за свою судьбу, судьбу своих близких и желанием отмежеваться от родственника, оказавшегося «врагом народа». Но в не меньшей степени это было связано с пафосом строительства нового общества, с культом партии и культом вождя, которые все понимают в строительстве этого нового общества и которым нужно доверять. До конца в исследовании этой темы мы с вами никогда не дойдем. До глубин человеческой души дойти вообще довольно сложно, и те эпистолярные источники личного происхождения, которые имеются в нашем распоряжении, они носят очень индивидуальный характер. Человек мог публично утверждать, что он согласен с курсом партии и поэтому рад разоблачить жену, отца, брата, сына, мать, а в душе признаваться самому себе в том, что им движет элементарный страх. Бывали и доносы по принуждению, когда людей заставляли оговаривать родственников, коллег и даже малознакомых людей. На этом построены все знаменитые судебные процессы 30-х годов. Кроме того, на высшем политическом уровне было принято решение о допустимости физического воздействия на подследственных, и это зафиксировано в соответствующих документах. Понятно, во что превращалось следствие в таких условиях и к чему оно приводило.
Сначала «сигналы» имели целью борьбу с бюрократизмом
— Как вы думаете, система власти в советский период могла существовать вне системы доносов?
— Мне кажется, могла, во всяком случае, если говорить о позднесоветском периоде, когда доносительство, в том числе политическое, было отнюдь не столь массовым, как в 30-е годы. А вот для сталинского периода оно было одним из структурообразующих элементов нового общества. Оно было и способом борьбы с бюрократией. Никаких иллюзий по поводу тогдашней бюрократии по сравнению с поздней советской или нынешней быть не должно. Мы найдем в документах ВКП (б) многочисленные постановления, призванные бороться с излишествами в функционировании бюрократии, в поведении советских и партийных начальников, которые уже тогда, не стесняя себя никакими приличиями, использовали свое общественное, государственное положение в целях личного обогащения. Сам факт принятия такого рода постановлений подтверждает массовость этого явления. Так что стимулирование доносительства в народных массах было отчасти направлено на обуздание бюрократии. В первое советское десятилетие «сигналы» (такова была лексика того времени) имели целью борьбу с бюрократизмом, исправление хозяйственных, управленческих недостатков. В 30-е годы эти «сигналы» в большинстве своем перестают работать, хотя к тому времени уже существуют комиссии партийного и советского контроля. Наличие таких структур для многих партийных и советских аппаратов уже само по себе служило сдерживающим началом, вне зависимости от «сигналов» трудящихся.
— Можно ли было создать атмосферу тотального доносительства без активного участия самих граждан?
— Да, советские граждане сами здесь проявляли большую активность, и, чем ниже был образовательный и культурный уровень, тем меньше было в этом смысле моральных преград. Для слоя советской интеллигенции, имевшего опыт противостояния с государством в досоветский период, и для их потомков отрицательная коннотация слова «донос» была слишком жива в памяти, чтобы так просто и легко вовлечься в массовое доносительство. Для слома этих моральных преград использовался целый арсенал средств, иначе невозможно было бы принудить миллионы людей писать миллионы доносов.
Заведомо ложный
— В российском Уголовном кодексе есть статья 306 — заведомо ложный донос. Для такого деяния предусмотрен целый спектр наказаний — от штрафа в сто двадцать тысяч рублей до лишения свободы на шесть лет. Эта статья применяется? Кто-нибудь за последние несколько лет был осужден за ложный донос?
— У меня нет оснований компетентно судить об этом. Могу только сказать, что я не слышал, чтобы в современной правоприменительной практике широко использовалась 306-я статья. Сотрудничество индивидуума и государства в той специфической форме, что была характерна для 20-30-х годов, за последнее двадцатилетие имело не столь широкое хождение, чтобы сейчас пытаться рассуждать на эту тему с фактами в руках. Хотя статистика была бы небезынтересной. В советском Уголовном кодексе эта статья существовала с 1927 года, но, судя по всему, не слишком широко применялась. В случае широкого своего применения она бы стала одной из мощнейших преград для доносительства.
Сегодня граждане не склонны писать в газеты и контрольные органы
— Сейчас доносов меньше, чем в советские времена?
— Мне кажется, да. Сегодня граждане не склонны писать в газеты и контрольные органы по поводу всяких непорядков вокруг, потому что исчезла насаждавшаяся сверху идеология общего дела, в которое мы все вовлечены и должны строить что-то большое и светлое. Возобладал индивидуализм. А когда индивидуализируется все поведение человека, рассчитывать на массовые акции трудящихся по исправлению недостатков вряд ли приходится. Либеральная экономическая политика и индивидуализация поведения наших граждан — серьезное препятствие для такого рода выступлений.
— А политические доносы сегодня могут стать массовыми?
— Мне кажется, современные наши граждане гораздо менее идеологизированы, чем их советские предшественники. Хотя в какие-то моменты, как, скажем, было недавно в момент присоединения Крыма к России, власть может (а зачастую и должна) прибегать к политической мобилизации населения и стимулировать нужные ей настроения. Но все равно сегодня ситуация другая, и любая идеология даже у самых подверженных ее влиянию идеологизированных людей — лишь один из мотивов поведения, причем отнюдь не главный.
— Политические доносы — они не обязательно подметные. Они могут быть и публичными. Скажем, открытое письмо «передовой общественности» в газету или выступление депутата с парламентской трибуны. Вы согласны, что это никуда не делось, наоборот, вновь входит в общественный обиход?
— Я полагаю, это широко распространенная — вне всяких государственных границ, идеологических симпатий и антипатий — практика поведения. Она существует во всем мире, и в этом смысле Россия не исключение. Везде идет политическая борьба, везде эта борьба предполагает и сведение счетов, и попытку подставить под удар политического конкурента. Но у нас такая практика имеет очень конкретный исторический контекст. Именно он порождает иногда чрезмерную подозрительность к проявлению стандартных форм политического и общественного поведения. Эта подозрительность небезосновательна и еще долгое время будет оставаться такой.
Русские и американцы никогда не поймут друг друга?
Диалог с журналистом Михаилом Таратутой
По данным Института Гэллапа, 18 процентов американцев называют Россию главным врагом США, а 49 процентов убеждены, что РФ представляет серьезную военную угрозу для их страны. Русские в долгу не остаются. Согласно опросу ВЦИОМ, 59 процентов россиян считают Америку враждебным государством, 15 процентов — страной морального упадка. США воспринимаются россиянами как агрессор, враг номер один, провокатор, страна, стремящаяся к мировому господству и ведущая антироссийскую политику.
В восприятии американцами и русскими друг друга — свои стереотипы. Американцы считают русских ленивыми, много пьющими, мрачными, непредусмотрительными, склонными к нелогичным поступкам и ни в чем не знающими меры. Русские, в свою очередь, полагают, что американцы тупые, неискренние, бездуховные, толстые, любят фастфуд, думают только о деньгах, не знают элементарного (например, исторических дат), путают страны (Иран с Ираком) и не помнят таблицу умножения.
Для русского мужчины большей каторги, чем американская жена, придумать невозможно
— Часто приходится слышать, что русские и американцы во многом очень похожи. Это так?
— Это традиционная мифология. Безусловно, мы имеем нечто общее со всеми странами европейской культуры. Есть базовые ценности — любовь, дети, отношения в семье. Хотя и тут видны различия. Могу, например, сказать точно, что для русского мужчины, во всяком случае моего поколения, большей каторги, чем американская жена, придумать невозможно.
— В каком смысле?
— В том смысле, что в отличие от нас семейные роли у американцев размыты. Там нет такого жесткого закрепления на мужскую и женскую работу. Отношения в американской семье строятся как бы на постоянных договоренностях. «А, ты хочешь, чтобы я сегодня помыла посуду? Хорошо, я помою посуду, но ты, знаешь, сходи тогда за ребенком и сделай с ним уроки». Для них это естественно, а для нас вот такие бытовые взаиморасчеты выглядят, конечно, диковато. Или вот еще. У американцев не принято, чтобы дети после восемнадцати лет жили вместе с родителями. По окончании школы юные создания стремятся поступить в университеты подальше от дома. А с другой стороны, не принято, чтобы престарелые родители жили вместе с детьми. Но этого не желают прежде всего сами родители, даже если им не помешала бы помощь. Они скорее продадут свой дом или квартиру и купят жилье в поселке пенсионеров. Это что-то вроде наших дачных поселков, но с соответствующим возрастным контингентом. И надо сказать, в таких поселках вовсю кипит жизнь. Там есть свои политические партии, которые борются за президентское кресло внутри этого поселка, там распадаются и создаются семьи, там есть спортзалы, поля для гольфа, и, конечно, медицинская помощь. Стремление к самостоятельности, независимости от кого бы то ни было очень сильно в американцах.
Американцы намного более закрытый народ, чем русские
— Давайте теперь сравним черты национальных характеров. Например, считается, что русский — коллективист, американец — индивидуалист.
— Любой социолог вам скажет, что это — еще один миф. Может, это и было справедливо в прошедшие века, но сегодня русские стали такими индивидуалистами, что мало не покажется. Каждый за себя, никакой солидарности. Вот сравните, в дни после парижского теракта в Интернете появилось много объявлений, где парижане предлагали ночлег тем, кто не смог попасть домой из-за усиленных мер безопасности, а таксисты отключили счетчики и перевозили людей бесплатно. А что было у нас после теракта в метро? Бомбилы, напротив, накручивали тройные суммы за проезд! «Крымнаш» — это, может быть, единственное на моей памяти, что объединило страну после Великой Отечественной войны. Так что русский коллективизм, во всяком случае сегодня, — это миф. А вот американцы проявляют удивительную солидарность в случае каких-то бедствий. Я был свидетелем большого землетрясения в Сан-Франциско. Как же там люди самоорганизовывались, помогая друг другу! Просто поразительно! То же самое, кстати, было в Нью-Йорке, когда случилось несчастье в 2001 году.
— А разница в мировосприятии? Скажем, американцы делают акцент на позитивные моменты, русские — на негативные.
— С этим я соглашусь. И более того, люди, которые постоянно жалуются, видят все в черном свете, в американской культуре воспринимается как «лузеры», неудачники. В своем отношении к жизни американцы, действительно, позитивны. Если что-то не получилось, они будут говорить себе и окружающим, что это просто неудачное стечение обстоятельств, что это был полезный урок и в следующий раз все обязательно получится. Американцы верят в то, что негативное отношение к жизни притягивает негативную энергию. Наверное, так и есть. Поэтому на вопрос «как дела?» вы всегда услышите «все хорошо». «Все хорошо» еще и потому, что там не принято вываливать свои проблемы на других людей, особенно малознакомых. Что говорит еще об одной их черте: американцы более закрыты, чем мы. У них есть внешняя открытость, но очень большая закрытость внутренняя. У нас в поезде попутчики расскажут друг другу и как женились, и как дети росли, и какая свекровь змея, и вообще все-все про свою жизнь. Американцы — нет. Они будут говорить об общих вещах. Они могут говорить о политике, о работе, но личным, своими чувствами и переживаниями делиться не станут.
— А отношения между людьми? Можно ли сказать, что у американцев дружеские связи многочисленны, но неглубоки в отличие от русских, которые стремятся к более основательным и постоянным дружеским связям?
— Я думаю, что американцы тоже умеют дружить глубоко и преданно, просто их дружба имеет несколько иную форму. Мы, например, не знаем, что такое в дружеских отношениях «персональное пространство». У нас ведь как: когда на душе тошно, звонишь другу, а другу можно позвонить и ночью, и прийти к другу можно в любое время, чтобы вываливать ему свои заботы и беды. И ничего, что дети уже спят, что жена пишет диссертацию, а квартирка крошечная и всем это мешает. Так бывает у нас, а вот американцы, скорее всего, назовут это бесцеремонностью. Ведь если ничего не горит, никого не убивают, зачем мешать другим? Можно же зайти к другу не ночью, а на следующий день. А еще лучше не зайти к нему, а пойти посидеть в баре. У американцев больше, чем у нас, принято считаться с другими людьми, даже друзей там стараются не сильно «грузить» своими проблемами и сколь возможно справляться с трудностями самостоятельно. Там принято оберегать свое и уважать чужое «персональное пространство». Но это совсем не значит, что американец откажет другу в помощи. Другое дело, что он не будет захлебываться в эмоциях, размахивать руками, клясть вместе с другом его неприятелей и обстоятельства, брать на себя обязательства, которые он никогда не сможет выполнить, и громоздить планы один фантастичней другого. Нет, этого американец делать не будет. Он просто реально взвесит свои возможности (нам они могут показаться даже заниженными, как раз оттого, что они реальны) и тут же начнет действовать. Иногда именно такая помощь бывает очень эффективна.
— Трудолюбие?
— О да, американцы трудоголики. Абсолютные трудоголики. Среди Западного мира они на одном из самых первых мест по продолжительности своей рабочей недели. Зачастую они работают по 10—11 часов в день. Нередко человек работает на кого-нибудь в конторе, а придя домой, весь вечер в собственном бизнесе.
Жизнь по законам рынка со временем изменит и русский характер
— Это верно, что американцы более меркантильны, чем русские, все подвергают расчету, считают каждый цент?
— Наших туристов или недавних эмигрантов, толком еще не разобравшихся в американской жизни, раздражает чрезмерная, на наш взгляд, расчетливость, несвойственный нам прагматизм, особенно в быту. Нам трудно, например, понять, как это может быть, чтобы в кафе или ресторане парень и девушка, переживающие романтические чувства, платили каждый за себя. Если же всерьез, то я не считаю, что американцы уж особенно скупы. И они не прочь тратить деньги на удовольствия, но сначала они заплатят за квартиру, отложат что-то в пенсионный фонд, на образование детям… Я допускаю, что капитализм, жизнь по законам рынка со временем изменит, если уже не начала менять, и наш характер.
На стукачестве многое завязано в американской жизни
— Еще одна тема, которая возникает в разговоре наших людей об Америке, — стукачество. По вашим наблюдениям, оно свойственно национальному характеру американца?
— Чего уж нам с советским-то опытом мелочных анонимок и убийственных доносов особенно сильно возмущаться американским стукачеством. Но что есть у американцев, то есть. Мелкие доносы начинаются еще со школы. Мало того, что дети обычно не дают друг другу списывать, так еще и пожалуются учителю, если кого-то за этим занятием заметят. То же самое и в университетах. Моя дочь, воспитанная на отечественных принципах списывания, долго обижалась на свою лучшую университетскую подругу, которая, периодически что-то заимствуя у Кати, под разными предлогами уходила от того, чтобы выручить в нужную минуту и ее. Обижалась, пока не поняла, что причина такого отношения кроется в системе оценок, которая принята в Америке. Выставляя оценки, преподаватель, как правило, исходит не из абсолютного уровня владения материалом, а от самого высокого уровня, показанного тем или иным студентом в группе. Лучшая работа в группе получает высший балл. Все остальные работы оцениваются по отношению к лучшей. Таким образом, давая кому-то списывать, ученик, написавший толковую работу, рискует уменьшить свою оценку. Или другая ситуация: на дороге отчаянный водитель опасно лихачит, «подрезает» другие машины — будьте уверены, кто-нибудь — спасибо мобильным телефонам — тут же обязательно сообщит о нем полиции. И уже минут через пять-десять его непременно остановят. Стукачество — черта, конечно, малосимпатичная, но уж так много на этом завязано в американской жизни, в американском быту, что, может быть, этому явлению надо придумать какое-то другое, не столь уничижительное название.
— Какие главные факторы определили различие между русскими людьми и американцами?
— Я бы сказал, что это различия религиозных культур. Мы выросли на культуре, которую во многом сформировало православие. В православном учении человек живет на этой земле ради Спасения, а это значит, что его жизнь — только маленький отрезок на пути в вечность. Поэтому все помыслы человека должны быть направлены вовнутрь себя, а не на окружающий мир. Иными словами, в русской системе ценностей труд, любое преобразование условий жизни имели второстепенное, подчиненное значение, стремление к богатству и вовсе порицалось. Америка же формировалась на католической, но еще больше протестантской культуре. В протестантском видении путь к Спасению, напротив, лежит через труд, создающий материальное благополучие. Работать и создавать богатство — это форма служения Богу. То есть богатство морально предписано. А вот успокоенность и довольство достигнутым достойны осуждения.
Главная причина взаимного непонимания — различия в русской и американской ментальности
— Мы все говорим с вами о различиях в образе жизни, бытовом укладе, национальных характерах. Но есть ведь и фундаментальные, совершенно принципиальные расхождения между российским и американским мироустройством. Именно они определяют несходство и во всем остальном.
— Наши сегодняшние разногласия с США — по Украине, санкциям, военной операции в Сирии, политическому будущему Асада и ряду других, как я это понимаю, есть частные случаи большого принципиального геополитического спора между нашими странами. США готовы всеми силами отстаивать свое видение мира, а Россия бросает американцам вызов, пытаясь разрушить монополию США и создать мир многополярный. Это очень серьезный спор, который может растянуться на годы, периодически доводить наши отношения до кипения и вставать непреодолимым барьером на пути дружеских связей. Спор, хотя и долговременный, но все же не вечный. Вполне возможно, что со временем при здравом подходе с обеих сторон страсти утихнут и конфликт рассосется. Для этого, правда, надо, чтобы, с одной стороны, Россия экономически окрепла, вошла в мир производства передовых технологий и приобрела новых союзников. С другой стороны, необходимо, чтобы Америка, наконец, излечилась от болезненного нарыва своей исключительности. Для каждой из сторон это задачи чрезвычайной трудности. Если говорить об американцах, трудности связаны с тем, что потребуется пересмотреть то, что американцы всасывают с молоком матери — свою национальную идею. Американская национальная идея сводится к тому, что на Соединенные Штаты самим Провидением возложена миссия — нести миру свет демократии, стремиться к моральному достоинству и спасению человечества. На этой мифологеме богоизбранности, получившей название «Божественное предназначение», собственно, и выросла доктрина американской исключительности, которая во многом объясняет логику развития истории Соединенных Штатов. Полтора века назад «Божественное предназначение» служило идеологическим обоснованием завоеваниям новых территорий в войнах с индейцами и Мексикой. В наши дни — не раз становилась моральным основанием для вмешательства США в дела других регионов. Американцы видят себя исполнителями возложенной на них просветительской миссии и ответственности за мировой порядок.
— В чем, на ваш взгляд, причина глобального недоверия США и России друг к другу? Что это — неизжитое наследие «холодной войны», миражи борьбы двух идеологий?
— В какой-то мере и это. Но главная причина, думаю, кроется гораздо глубже — в различии западной и российской ментальности. И в первую очередь различий в отношении к понятийной паре «личность — государство». На протяжении веков Россия развивалась как системоцентричное государство, то есть интересы и потребности государства, как их видела власть, всегда доминировали над интересами и потребностями личности. В результате в России не появилось никаких эффективных институтов общественного или другого контроля над действием властей. Поразительно, но против этого народ особо и не возражал, согласившись с приоритетом интересов государства, то есть с тем, что в нашей стране не государство существует для человека, а человек для государства. Что, кстати, отражают все наши сегодняшние соцопросы: права и свободы значимы для ничтожного числа людей. Большинство превыше всего ценит безопасность, порядок, материальные блага или что-то еще. Запад развивался в сторону персоноцентризма, то есть приоритета потребностей и интересов личности над государственными. А это значит, что там получили развитие самые разные институты контроля над властью. Появлением этих институтов двигало общественное согласие в понимании того, что не люди существуют для государства, а государство — для людей. Что также подтверждает социология: наверху ценностной шкалы находится возможность самореализации, подкрепленная гражданскими правами и свободами. Эти ценности Запад считает базовыми и реально готов сражаться за них в случае любой угрозы.
— Означает ли это, что Россия и Запад обречены на явную или скрытую конфронтацию?
— Осмелюсь привести гипотезу, которая мне представляется близкой к истине. Все этнические образования, которым суждено было сложиться в нацию, в своей социальной эволюции проходят примерно один и тот же путь, хотя и движутся с разной скоростью и необязательно по прямой линии — к демократическому правлению. Да, демократия, может, и не совсем идеальная организация общества, но лучшего человечество пока еще не придумало. При всем своеобразии культур и истории (сравните, к примеру, Швецию и Японию, Германию и Мексику) все страны в конце концов неизменно приходят примерно в одну и ту же точку — к демократическому устройству. Их путь может лежать через революцию или эволюцию, а конечная остановка у всех одна. Но есть на этом пути и непременное условие, своего рода пропуск во владения демократии. Это — эволюция в сознании народа или, по крайней мере, в сознании его мыслящей части. В национальной ментальности должно появиться осознание прав и свобод личности как первостепеннейшей ценности.
Цель оправдывает средства?
Диалог с историком Валерием Керовым
Макиавелли якобы сказал: «Цель оправдывает средства». Хотя принадлежность ему этих слов нигде и никем не доказана. «Цель не оправдывает средства», — будто бы написал несогласный с Макиавелли Маркс, но его авторство здесь тоже под сомнением. Да и само соотношение целей и средств уже много веков является полем для дискуссий.
Где проходит черта, которую преступать нельзя для достижения цели? Стоит ли отказаться от цели, если она достижима только «негодными» средствами? Есть ли такие цели, для достижения которых все средства хороши?
Публичные обещания не всегда выполняются
— Вы всегда достигаете своих целей?
— Нет, конечно. Я вполне нормальный человек.
— Но, когда вам что-то не удается, вы, наверное, задаете себе вопрос «почему?». И бывает ли так, что цель не достигнута, потому что вы отказались добиваться ее во что бы то ни стало. Для вас важно, во что это станет?
— Важно. Например, предательство как средство достижения цели для меня абсолютно неприемлемо. Вообще же, если мне что-то не удается, я виню в этом только себя: мало работал, много спал, ленился… И это справедливо. Хотя есть еще такая вещь, как удача, но тут уж ничего не поделаешь. Удаче свечку не поставишь.
— Вы можете отказаться от цели, если чувствуете, что для ее достижения придется пожертвовать моральными принципами?
— Я так делал не раз. То есть отказывался от цели ради того, чтобы меня не перестали считать приличным человеком. Я не хотел бы приводить примеры такого моего поведения, потому что это не только моя тайна.
— Существуют ли вообще такие цели, для достижения которых все средства хороши?
— В рамках определенной исторической эпохи — да, наверное, существуют. Скажем, война между двумя странами, одна из которых — моя Родина, когда непротивлением злу насилием зло умножится. Или такая вещь, как политика. Здесь несоответствие целей и средств подчас неизбежно и может считаться нормальным.
— Что вы имеете в виду?
— Ну, например, предвыборные обещания. Они, как правило, не выполняются. Но если их не раздавать, то цель — быть избранным на руководящий пост, провести свою кандидатуру в парламент — не будет достигнута.
— Обман как средство достижения цели — это нормально, вы считаете?
— Я говорю лишь о том, что публичные обещания не соответствуют будущим результатам. Была такая байка в советское время: «Приехал Хрущев на какой-то завод и спрашивает рабочих: „Как живете, товарищи?“ „Хорошо“, — пошутили рабочие. „Будете жить еще лучше“, — шуткой на шутку ответил Никита Сергеевич». Если говорить о современной политике, искажение реальности в выступлениях и обещаниях — это реальность. Другое дело, когда бывает не сознательный обман, а добросовестное заблуждение. Скажем, Александр II заявил, что дает крестьянам свободу, дарует землю. Но в итоге этой земли у них оказывается на 20 процентов меньше, чем было даже в пору, когда они являлись крепостными. Есть и другие отрицательные последствия, они описаны в исторической литературе. В листовке революционеров в начале 1860-х была интересная карикатура — крестьянин попадает «из огня да в омут», из крепостного состояния во временно обязанное. Что, Александр II нарочно хотел обмануть крестьян? Нет, конечно. Но, судя по воспоминаниям царских сановников, многие понимали, что его обещания завышены. Это можно считать обманом? Не уверен. Когда многие крестьяне поняли, что в результате реформы у них часть земли отобрали, некоторые из них, вооружившись вилами, выступили с протестом, и против них было применено насилие. Не надо было насилия? Надо было, чтобы они вот так дошли до Москвы или до Петербурга? Так что вопрос о целях и средствах — он очень непростой, и здесь не всегда возможны однозначные ответы. Но в любом случае расхождение между словами и результатами действий политиков — это факт.
Современники осуждают, потомки прославляют
— Если говорить о событиях исторического масштаба, у современников свой взгляд на них, у потомков свой. Кто тут прав в оценке средств, выбранных для достижения цели?
— Вы задали очень важный вопрос. Был такой замечательный французский историк Марк Блок. Он говорил, что историк «должен отказаться от замашек карающего ангела».
— То есть современная нравственность не должна применяться при оценке событий прошлого?
— Ни в коем случае. В дискуссии на канале «Культура» с известным историком, блистательной Наталией Басовской я процитировал слоган одной техасской газеты ХIХ века: «Если вы хотите знать, как должно быть, читайте Библию. Если вы хотите знать, что происходит на самом деле, читайте нашу газету». Так вот, современники всегда безошибочно знают, как оно должно быть, а историки пишут, как было на самом деле. Мы, историки, должны анализировать события не с точки зрения соответствия их современным нормам морали, а сообразуясь с теми или иными историческими тенденциями. Например, какие-то реформы. Они помогли развиваться стране или задержали ее развитие? Скажем, ордынское иго привело к некоему евразийскому симбиозу или уничтожило цивилизацию, которая на голову была выше европейской? У нас ремесленники умели писать, а западные короли подписывались крестиком. Или взять Александра I. Он, знавший об убийстве отца и одобривший это убийство, наверное, поступил нехорошо с точки зрения житейской морали, но историки подходят к этому российскому правителю с другой меркой. В политике несоответствие целей и средств подчас неизбежно и может считаться нормальным
— У нас роль историка, оценивающего какое-либо событие на достаточном отдалении от него, выполняла еще и русская литература. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром?..» — это вопрос о цели и средствах, заданный спустя четверть века после Бородина. Стоило ли «спалить пожаром» Москву и отдать ее «французу» ради будущей победы над врагом? Для современников ответ на этот вопрос был не столь однозначен, как для потомков в лице того же Лермонтова, например. А низвергнутый на дно жизни Евгений в «Медном всаднике» как плата маленького человека за «прорубленное окно в Европу»? А всеобщая гармония ценой слезинки ребенка? Это все вопросы о цели и средствах, вы не находите?
— Совершенно согласен. Можно здесь взять для примера и «Войну и мир», и пушкинскую «Полтаву», и даже «Морские рассказы» Станюковича. В этих произведениях вопрос о цели и средствах тоже стоит. Но он не является дискуссионным. Здесь всегда содержится один ответ: «Да, недаром». Вопрос о слезинке ребенка — это, как правило, спекуляция. Мы что, в 1945-м должны были поднять руки перед мальчишками из гитлерюгенда с их фаустпатронами, чтобы плакали русские матери? Нет уж. А что касается русской литературы, никто из великих, в том числе Лев Толстой, пацифизм не проповедовал, когда речь шла о защите Отечества. Если мы взглянем на нашу историю, то увидим, что насилие как способ достижения цели в каких-то случаях было просто необходимо. Взять старообрядцев. Это моя родная тема, у меня докторская диссертация была связана со старообрядческим предпринимательством. Старообрядцы были люди исключительно мирные — в XIX веке никаких вспышек агрессии, никакого взаимоуничтожения, никаких восстаний против власти. Но когда началась Великая война 1914 года, они стали чуть ли не первыми добровольцами. В старообрядческой среде были начетчики — так называли грамотеев, образованных людей, знатоков богословия, церковной истории и канонического права. Они были нужны при нехватке священников для того, чтобы духовно учить других, а в религиозных диспутах защищать старообрядчество. Так вот, начетчики первыми поменяли книги на винтовки, чтобы защитить Россию от супостата, и показали пример массам староверов. Наконец-то власти допустили в армию и старообрядческих батюшек в ранге полковых священников (в Русско-японской войне погибшие старообрядцы не получали церковного упокоения). Священники не имели права брать в руки оружие. Но во время боя они вытаскивали вместе с санитарами раненых, кого-то отпевали, кому-то словом помогали. Некоторые из них были награждены, кто Георгием, кто Анной с мечами. Словом, даже глубоко религиозные люди, когда надо защитить Родину от врага, или взяли в руки оружие или, по крайней мере, участвовали в боях иным образом. И это классический случай, когда цель оправдывает средства, в данном случае — вооруженное насилие.
Средства предоставляются эпохой
— Согласитесь ли вы со мной, если я скажу, что самые недостойные средства используются для достижения утопических целей?
— Вы коммунизм имеете в виду?
— И его в том числе.
— Если вы насчет насилия, то здесь вопрос, наверное, не в целях. Разве коммунизм — плохая цель?
— Это цель утопическая.
— А демократия ваша либеральная — это какая цель? Не утопическая, что ли? Что может быть более утопическим, чем равенство людей? Есть всякие варианты равенства, даже вариант того равенства, которое достигнуто при помощи изобретения полковника Кольта. Все цели, которые ставит перед собой человечество, утопичны. Но иначе и быть не может. Если мы перестанем ставить перед собой утопические цели, то…
— …не будет прогресса?
— Да не прогресса даже. Поймите, прогресс — это, как замечательно сказал французский историк Мишель Вовель, вопрос веры. Это как же надо верить в прогресс, чтобы считать Пелевина (он мне нравится, но все же) высшей формой по отношению к Шекспиру, а жертв какой-нибудь Тридцатилетней войны выстраивать в историческую линейку к Холокосту. Так что дело не в прогрессе. Поймите, при отсутствии утопических целей человечество не будет самим собой. В муравейнике или стае волков нет утопических целей. Хотя я здесь не уверен. Отвечаю все-таки на ваш вопрос насчет утопизма и средств, связанных с утопическими задачами. Дело вообще не в целях. Они все одинаковые, в том смысле, что имеют утопический характер. Мы не говорим сейчас о чьих-то личных низких целях, мы говорим о целях общественных. Общественные цели — они все положительные: чтобы людям жилось хорошо, чтобы все люди были равны, чтобы все люди спаслись. Иван Грозный для чего делал то, что он делал? Чтобы Русь «загнать» в Царство Божье. А средства? Они предоставляются эпохой. Вот из этих предоставленных эпохой средств и приходится выбирать. Причем выбираются не всегда эффективные средства. Я как историк могу сказать: выбор средств не связан с их эффективностью. Выбирают не самые эффективные средства, а те, которые чему-то соответствуют. Есть такое направление в исторической науке — персональная история. Предметом ее исследования является история одной жизни во всей ее уникальности и полноте. Того же Ивана Грозного возьмите. Почему он стал Грозным? Может, потому, что с ним в детстве жестоко обращались? Если бы его любили, холили, лелеяли, то история Руси второй половины ХVI века, возможно, была бы немножко другой — например, без опричнины, жестоких казней на площадях… Но все равно есть исторические формы, за которые никакой правитель не может выйти. И доброму, ласковому правителю в XVI эсхатологическом веке пришлось бы по-другому обеспечивать святость Руси. Один из вариантов предложил духовник Ивана Васильевича, настоятель Благовещенского собора Сильвестр в своей редакции «Домостроя». Это было «праведное стяжание», душеспасительное хозяйствование с применением всех христианских норм. Кстати, практически одновременно с протестантскими вождями.
— Средства могут скомпрометировать цель?
— Конечно, могут. С коммунизмом именно так и произошло. Репрессии, подавление инакомыслия, контроль государства над различными сферами жизни, куда не надо бы государству совать нос, скомпрометировали идею коммунизма. Точнее, не идею коммунизма, а его советскую версию. Сама эта идея в ее «чистом» виде существует уже две тысячи лет и еще столько же будет существовать.
— А бывает ли так, что некая цель является средством для достижения другой цели?
— Да. И это совершенно нормально. Например, когда мы, ученые, пишем какую-нибудь работу, у этой работы есть цель и есть задачи, которые надо решить, чтобы достичь этой цели. У нас это называется так: цель и задачи. Вы можете называть это подцелями или целями, которые выступают средствами для достижения других целей. Подводя итог нашему разговору, я бы сказал, что, размышляя о соотношении цели и средств, надо отказаться от замашек «карающего ангела».
Наша элита задумывается о будущем?
Диалог с экономистом Александром Аузаном
По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин считает, что в России не существует никакой элиты. Большинство же уверены, что она есть. При этом 75 процентов опрошенных пропуском в элиту называют деньги, 56 процентов — связи, 20 процентов — деловые качества, 13 процентов — протекцию со стороны различных влиятельных групп. По мнению опрошенных, для элиты характерны власть (26 процентов) и богатство (25 процентов). Примерно 17 процентов респондентов считают, что признаком принадлежности к элите может служить высокий профессионализм. Наименее востребованными являются такие качества, как нравственность и духовность (13 процентов).
Можно ли унаследовать место в элите? Что ждет завтра российских магнатов и крупных чиновников? Задумываются ли они о своем будущем?
— Для начала давайте договоримся о терминах. Я не люблю слово «элита».
— Мне оно тоже не нравится.
— «Аристократия» — можно сказать?
— Нет. Аристократия — это разновидность элитных групп. Аристократии свойственны жесткие правила наследования, преемственности. У аристократического ребенка нормальной жизни нет от рождения, потому что это не ребенок, а функция. Он должен исполнять определенные социальные роли, не важно где — на охоте, на свадьбе, в палате лордов… Во всяком случае, это не только сладкая жизнь. А еще аристократия выступает важным ограничителем для монарха. Но это не наш случай. У нас нет ни монарха, ни аристократии.
— Тогда вместо «элиты» какое слово возьмем?
— Я предпочитаю — «доминирующие группы».
— Это несколько тяжеловесно. Может, «бюрократия»?
— «Бюрократия» — уже гораздо лучше. Но это лишь одна из доминирующих групп. Мне иногда приходится публично выступать в защиту бюрократии. Расхожее мнение, что у нас слишком много чиновников, я совершенно не разделяю. На возгласы «посмотрите, как у нас выросло количество чиновников» я отвечаю: а вы знаете, у нас еще сильно выросло количество занятых в пищевой промышленности. Мне говорят: ну, это хорошо, они же производят. Я говорю: так значит дело не в том, сколько у нас чиновников, а в том, что они производят. Если вам нужно много общественных благ в виде безопасности, правосудия, государственной охраны здоровья, то это означает, что вам требуется и много производителей этих благ. Вообще бюрократия полезная группа, производящая важный продукт. Проблема лишь в том, как устроить хороший отбор в бюрократии. Гражданин должен понимать, какое общественное благо производит бюрократия. Если он это понимает, то конкурсы на замещение вакантных должностей будут работать на улучшение качества бюрократии. А если он этого не понимает, то они будут работать так, как сейчас: начальник выбирает того, кто ему удобней, и это необязательно лучший выбор. Я уже много лет настаиваю на вроде бы странной и непопулярной мере — заменить косвенные налоги прямыми, которые человек видит. То есть давать гражданину возможность голосовать налоговым рублем за важные для него направления, давая тем самым ориентиры бюджету. Если человек понимает, что он платит за общественные блага, которые производит бюрократия, то он начинает интересоваться качеством общественного блага. Ему становится важно, кто и как это благо произвел. В итоге появится лучший отбор чиновников. Впрочем, должен заметить, что и сейчас у нас в бюрократии немало квалифицированных людей. За последние лет десять бюрократия стала намного влиятельней, чем, например, крупный частный капитал. Не случайно у людей бизнеса, способных эффективно управлять, возникла тяга к переходу на госслужбу.
— Наверное, в беседе нам все равно, хочешь не хочешь, придется оперировать словом «элита», понимая под элитой совокупность людей, занимающих высокие посты в экономике и управлении государством.
— Хорошо, пусть будет «элита».
В отсутствие институтов важны персональные связи
— Российский истеблишмент на протяжении как минимум последних лет десяти не испытывает перемен в своем составе. Лидеры бизнеса, высокопоставленные чиновники — все это в основном одни и те же лица. Но когда-то кто-то ведь должен прийти им на смену. Можно ли унаследовать место в элите?
— Если иметь в виду прямое наследование, то с этой проблемой столкнулась частная буржуазия. Это преимущественно люди моего поколения, шестидесятилетние, которые сейчас управляют и страной, и большими компаниями, и политическими партиями. Это поколение уже в силу возраста начинает задумываться о том, что наработанное надо как-то передавать по наследству. И выясняется, что это колоссальная проблема. Дело в том, что в России все институты слабые, кроме институтов извлечения ренты. И когда я слышу, что наши институты надо совершенствовать, я говорю: аккуратней, не все институты нуждаются в совершенствовании. Те наши институты, которые добывают естественную, административную, монопольную ренту, делают это гораздо более эффективно, чем аналогичные институты в других странах. Усовершенствование этих институтов может привести к тому, что вы еще больше ренты будете выжимать и еще меньше заниматься производительной деятельностью. Тем не менее в целом институциональная среда — наше слабое место. Потому и важны персональные связи. Но как передать персональные связи по наследству?
— Почему обязательно связи? Можно передавать бизнес.
— Передавать семье управление промышленными или финансовыми империями — это, как правило, приводит к плохому результату. Во-первых, дети финансовых и промышленных магнатов совершенно необязательно мечтают быть финансистами и промышленниками. Во-вторых, есть, я бы сказал, дурной закон, который нередко проявляется в экономических династиях, когда дед — создатель и накопитель капиталов, отец — управленец, а внук — прожигатель. Потому что внук не прочувствовал, откуда взялся капитал, внук не очень в это погружен ментально, интеллектуально. Но деньги жгут ему руки, надо что-то с этими деньгами делать. И то, как внук распоряжается этими деньгами, обычно приводит к разрушению созданного. Между тем надо признать, что у нас имеются крупные компании, способные выдерживать международную конкуренцию, выходить на мировой рынок с экспортными продуктами, создавать транснациональные цепочки. Утратить такую компанию — это трагедия не только для семьи, но и для страны. Поэтому возникают большие сложности с наследованием. Идеальный случай выглядел бы так: семья становится бенефициаром, получает какие-то деньги себе на существование, а управление передается другим людям либо деньги переводятся в некоммерческие фонды, как это делают в мире многие миллиардеры. Таким путем пошел у нас Владимир Потанин, и, на мой взгляд, правильно сделал.
— Отказаться от миллиардов не так-то просто. И не потому, что миллиарды нужны для жизни. Как раз для жизни они не нужны, для жизни достаточно и миллионов. Просто деньги — это не только средства к существованию. Это еще и престиж, и самоуважение. Как от этого отказаться?
— Я бы сюда добавил еще одну важную функцию денег. Они в бизнесе мерило успеха. Когда бизнес успешно развивается, начинают возникать миллионы, сотни миллионов, миллиарды. Сыграв роль индикатора успеха, эти деньги могут составить основу некоего нового дела, причем некоммерческого. Деньги, переданные миллиардерами, скажем, в фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом или онкологическими заболеваниями, могут дать прямые научные и медицинские результаты в течение десяти — двадцати лет, что госбюджету пока не под силу. Если ж говорить о прямом наследовании… Я часто цитирую Уоррена Баффетта, который сказал: «Если вы хотите с гарантией проиграть Олимпиаду, соберите команду из детей победителей предыдущих Олимпиад». В спорте это очевидная вещь, а в экономике почему-то не очевидная, хотя логика та же.
— Это в бизнесе. А как во власти? Здесь существуют какие-то механизмы наследования?
— Проблема с наследованием есть и у такой влиятельной группы, как бюрократия. Вообще наследственная бюрократия — вещь довольно редкая. Она обычно встречается в азиатских странах, где имеются кланы и где место передается если не сыну, то племяннику, и составляет основу кормления. В наших условиях это совершенно невозможно. У нас нет клановых систем.
— Тем не менее дети чиновников нередко занимают значительные посты в госкорпорациях, органах власти.
— Это есть, я не спорю. Но это встречается не только на государственной службе. Существуют, к примеру, цирковые династии. Это, правда, потому, что акробатике нужно учить с пяти лет. А на госслужбу с пятилетнего возраста никого не пристроишь, хотя многим хотелось бы. При таком состоянии институтов, как у нас, права собственности не гарантированы, не защищены, и поэтому начинают действовать другие механизмы защиты прав собственности. Это либо личная уния, либо пакты элит. Личная уния, например, долгое время действовала в Южной Корее, когда страна поднималась и крупные корпорации делегировали своих людей во власть, а представители власти, в свою очередь, направляли, кого им надо, в советы директоров.
— Это работало как гарантия собственности?
— Да, это работало именно так. И у нас, кажется, появляется похожая система. Правда, она имеет серьезные недостатки. Представьте себе, что человек, который находится у власти и одновременно контролирует определенный бизнес или, скажем мягче, покровительствует ему, — представьте, что этот человек теряет свое властное положение. Это означает, что он потерял все. В том числе бизнесы, которые создавал. Я больше скажу — он может потерять свободу, он может стать мишенью антикоррупционного преследования. Пока он был у власти, такое только в виде исключения могло случиться. А вот когда он уже не у власти и выясняется, что он переплетал госслужбу с бизнесом, тут самое время конкурентам, недоброжелателям начать загонную охоту на этого человека. И у него возникает фантомная идея: я не могу вечно удерживать должность, но, может, я ее сыну передам или дочери, чтобы все не рухнуло, чтобы свободу не потерять.
— Вы полагаете, скоро и до этого дойдет?
— Вероятность такого бюрократического наследования я оцениваю как исчезающе малую в наших условиях. В КНР подобная попытка была сделана. Но не согласились китайские элиты на такое наследование. Потому что оно нередко связано с ухудшающим отбором: в тени большого дуба не всегда растет что-то полезное. У российский бюрократии и частной буржуазии аналогичные проблемы тоже возникают, поэтому они боятся думать о будущем. Есть, конечно, и другие обстоятельства, ограничивающие взгляд в будущее. Например, отсутствие понимания того, как осуществляется преемственность во власти на разных уровнях.
— По вашим наблюдениям, российская элита представляет себе свое будущее, как-то планирует его?
— Мне не приходилось спрашивать глав госкорпораций и высокопоставленных чиновников о том, как они себе свое будущее представляют. Гораздо чаще я разговаривал с ними о том, как они представляют себе будущее страны. Оно ведь в значительной мере находится в их руках. Так вот, в их ответах на важные вопросы я наблюдаю то, что в социокультурных исследованиях называется высоким уровнем избегания неопределенности. Страх перед будущим, проще говоря.
— Они боятся думать о будущем?
— Они боятся будущего. Они боятся его, потому что их собственные судьбы не определены. И еще потому, что многие серьезные проблемы сегодня не имеют решения, и никому не хочется думать, что будет дальше. В итоге от правящих групп в общество транслируется определенная манера мышления. Эта манера не предполагает заглядывания дальше, чем на два-три года вперед. Тех, кто пытается разрабатывать стратегию, скажем, до 2030 года, в прессе подвергают осмеянию: мол, опять занялись перспективами, о сегодняшнем дне думать надо. Создана мода на короткое мышление. Это очень плохо. Когда люди живут короткими горизонтами и побаиваются будущего, они начинают по-другому делать выбор между вариантами. Они выбирают лучшее из худшего. Меньшее из зол. Но страна, живущая в постоянном стремлении уменьшить ущерб, а не достичь высоких результатов, редко бывает великой страной, способной успешно развиваться. Ведь есть очень важные для развития страны процессы, которые уж точно выходят за пределы двух-трехлетнего горизонта. Например, инвестиции в две самые важные цели российского развития — человеческий капитал и инфраструктуру. Вложение в человеческий капитал — это длинная инвестиция. Раньше, чем лет через десять, здесь результата не бывает. Я считаю, что у нас катастрофически неправильные системы образования и здравоохранения. Теперь представим себе, что решение об инвестициях в эти сферы принимают люди, у которых двух-трехлетний горизонт. Такие люди вообще не видят смысла вкладываться во что-нибудь, не приносящее моментальной отдачи. Короткий горизонт, боязнь будущего — вот что нас губит. Россия нуждается не в пяти — семилетних реформах, а в достаточно длительном процессе трансформации. И чтобы сделать что-то реальное в этом направлении, нужно перестать бояться будущего.
Нам не нужны европейские ценности?
Диалог с историком, дипломатом Юрием Рубинским
«Европейские ценности существуют, и они нам не могут быть чужды, Россия — европейская страна», — говорят одни. «Европейские ценности» — плод западной пропаганды. Европа не вправе навязывать суверенной России свой образ жизни», — утверждают другие. Компромиссную точку зрения в этом споре, который длится уже несколько столетий, изложил в свое время один из духовных отцов российского западничества Петр Чаадаев: «Уже триста лет Россия стремится слиться с Западной Европой, заимствует оттуда все наиболее серьезные свои идеи, наиболее плодотворные свои познания и свои живейшие наслаждения. Но вот уже век и более как она не ограничивается этим».
Истина по одну сторону Пиренеев становится заблуждением по другую
— Давайте сначала ответим себе на вопрос: эти самые европейские ценности — они вообще-то существуют?
— Безусловно, существуют. Я всю жизнь профессионально привязан к Европе, в частности, занимаюсь историей Франции, и мне интересно, какое место европейские ценности занимают в системе общечеловеческих ценностей.
— Европейские и общечеловеческие ценности как-то соотносятся между собой? Это, по сути, не одно и то же?
— Нет, это не одно и то же. Потому что есть цивилизации, создающие для себя систему ценностей. Иногда эти ценности они навязывают другим, что, как правило, плохо кончается и для них, и для других. Я очень люблю одну фразу Декарта. Когда французская монархия неустанно старалась посадить Бурбона на испанский престол и в конце концов добилась этого, он заметил: «Истина по одну сторону Пиренеев становится заблуждением по другую». Это для меня убедительный ответ на вопрос, существуют ли общечеловеческие ценности и есть ли такие цивилизационные установки, которые для одних хороши, а для других — нет. Культура вообще национальна, она является условием самоидентичности народа, а ценности — это уже часть цивилизации, к которой могут принадлежать несколько народов. Вообще взаимоотношения разных цивилизаций не надо представлять в виде коперниковской схемы концентрических кругов с общим ядром и разными орбитами. Здесь скорее подойдет эмблема Олимпийских игр, где все пять колец пересекаются, имея общее и собственное. Так вот у России и Европы общий сегмент гораздо больше, чем остающийся зазор.
— Если в нескольких словах, европейские ценности — это что?
— Под ценностями обычно понимаются основные принципы устройства семьи, общества и государства, разделяемые большинством граждан. Вводя нравственные критерии в оценки отношений не только между людьми и их сообществами, но и государствами, система ценностей служит сеткой координат, вне которой утрачивается идентичность (если не сам смысл существования) любой цивилизации. Ценности — это еще и этическая, моральная оценка поведения человека в разных сферах его существования и деятельности. И прежде всего оценка его отношений с другими людьми, группами людей, представителями других конфессий, народов… Ведь ценности не только объединяют, но, к сожалению, и разъединяют людей.
— Европейские ценности, наверное, претерпели какую-то эволюцию. Они менялись в течение времени?
— Они, конечно, менялись в каких-то частностях, но их основа всегда была стабильна. Эти ценности закреплены в нравах и обычаях, догматах и ритуалах религиозных конфессий, нормах законодательства. Их олицетворяют образы подлинных или мифологизированных героев прошлого — пророков и святых, гениев науки и культуры, великих государственных деятелей и полководцев. Чаадаев писал: «Все народы Европы имеют общую физиологию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян — все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю. Вы знаете, что ещё сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть ещё свой частный характер, но и тот, и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Это — идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран. Это и составляет атмосферу Запада; это — больше, чем история, больше, чем психология: это физиология европейского человека».
— «Физиология европейского человека», ставшая социальной генетикой, диктует современному гражданину Германии или Франции некие нормы поведения?
— Да. И прежде всего — толерантность, терпимость к инакомыслящим, инакочувствующим, инаковерующим.
— А тип государственного устройства, практикуемый в большинстве стран Европы, он тоже диктуется «физиологией европейского человека»?
— Дело в том, что Европа пережила разные исторические периоды. Она была колыбелью таких типов государственного и общественного устройства, как, например, демократическая республика, но она же была родиной тоталитарной диктатуры. Именно тоталитарной. Потому что азиатская деспотия — это не тоталитарная диктатура. Даже само понятие «тоталитаризм» родилось в Европе. Я хочу сказать, что весь набор демократических ценностей не всегда является обязательным ассортиментом ценностей европейских.
— Что для вас главная европейская ценность?
— Уважение к праву, закону. Осознание того факта, что соблюдение закона выгодно во всех отношениях — и материально, и морально. Хотя бывает так, что в одних европейских странах уважение к праву и закону — незыблемое условие существования, а других, особенно на юге, — нет. Тем не менее европейская цивилизация в целом — это, в первую очередь, признание правовой основы взаимоотношения людей. Ну и конечно уважение к меньшинствам, понимание, что демократия — это не только воля большинства.
— Что заставляет Европу быть толерантной, терпимой к меньшинствам?
— В данном случае это вопрос ее будущего. Потому что Европа вся состоит из меньшинств, и не только приезжих. Если их не уважать, не принимать такими, какие они есть, — не будет Европы. Принимаешь ли ты человека, группу людей, народ, государство, для которых добро и зло не обязательно совпадает с твоим пониманием добра и зла, принимаешь ли ты этих людей, этот народ, это государство как партнеров, с которым надо поддерживать нормальные отношения? Хотя тут есть и другая опасность — когда меньшинство, требуя толерантного отношения к себе, начинает навязывать большинству свои стандарты жизни и правила поведения.
— А свобода? Она разве не стоит в ряду самых главных европейских ценностей?
— Стоит, конечно. Я бы даже сказал, что она открывает этот ряд. Но осознание свободы как первейшей ценности было присуще Европе не всегда. Не зря же есть такое понятие, как «феодальная Европа». Свобода как ценность сложилась в Европе постепенно. Так что не надо считать ее европейским изобретением. Это результат эволюции, а не генетические свойство европейцев.
Для русского человека правда важнее, чем истина
— У России и Европы общие ценности?
— Российские ценности и европейские — это и сообщающиеся сосуды, и скрещивающиеся круги. У них есть несовпадение, но есть и общее. Общего гораздо больше. Я считаю, было бы принципиальной ошибкой противопоставлять фундаментальные ценности Европы российским. Да, исторически так сложилось, что Россия веками была страной бесправия и произвола. При том что законы в ней существовали. Но в России истина и правда — не одно и то же. Истина — это «дважды два — четыре». А правда — она выше. Правда для русского национального сознания — это еще и справедливость. Справедливость, которая часто оправдывала и покрывала произвол. Вот приедет барин, барин нас рассудит. А в суд подавать — зачем? Это всего лишь поиск истины. Правда — важнее. Решить по правде — это не обязательно решить по закону. Нельзя сказать, что вся Европа живет иначе. Нет. Сравните Север и Юг Европы. Для итальянцев, испанцев, греков, в отличие от скандинавов, человеческие отношения важнее закона. В этом мы, русские, с южными европейцами очень похожи. Или возьмем отношение к государству. Скажем, англосаксами государство воспринимается как инструмент, помогающий гражданам решить их проблемы или ограничивающий их в чем-то. А для француза государство — злейший враг, когда оно покушается на его доход. И кормилец, когда государство надо доить.
— А для российского человека государство — это что?
— Это хозяин, который отвечает за безопасность, за величие страны и одновременно за твое личное благополучие. Между прочим, осознание величия державы — оно необходимо и европейцам, не только нам. Великобритания, Франция, Германия на разных исторических этапах были пронизаны имперским духом. Де Голль говорил: «Без величия нет Франции». И это как раз те вещи, которые вполне приложимы к российской системе ценностей.
— Тем не менее сейчас принято говорить, что Россию с Европой абсолютно ничто не роднит и роднить не может.
— Эти разговоры возникли отнюдь не сейчас. Они начались еще на рубеже ХVII-ХVIII веков. Защитники особого, отличного от Европы пути для России, резко осуждали деятельность Петра I, обвиняли его в разрыве с духовными ценностями русского народа, в насильственном навязывании ему чуждых порядков. Причем лагерь традиционалистов был идейно не менее разношерстен, чем лагерь западников. Он включал в себя не только твердолобых реакционеров-охранителей типа графа Уварова с его знаменитой триадой «самодержавие, православие, народность» или черносотенных погромщиков-националистов. В нем пребывали и либеральнее славянофилы (Киреевский, Хомяков, братья Аксаковы), революционные и либеральные народники, искавшие путь к социализму через крестьянскую общину, их преемники-эсеры. Русские путешественники от Карамзина до Салтыкова-Щедрина, а порой даже непримиримые по отношению к царизму политэмигранты, в своих заметках о европейских порядках зачастую бывали не менее суровы в их оценке, нежели европейцы в отношении России. Восхищаясь европейским уровнем жизни, комфортом, культурой, они резко осуждали мещанское самодовольство многих европейцев, их меркантильную расчетливость, черствый эгоизм, вседозволенность (разумеется, по российским меркам) нравов, лицемерие. А европейцы с гордостью продолжали утверждать, что обладают системой, представляющей собой совокупность общечеловеческих ценностей, а, следовательно, вершину мировой цивилизации.
Европейский выбор не есть выбор геополитический
— Что собой представляли советские ценности? Почему они оказались такими живучими в российском массовом сознании?
— Ценностный багаж Советского Союза — это сочетание консервативно-охранительных, национал-изоляционистских идеологических установок внутри страны и международного комдвижения с его революционным прогрессизмом — вовне. Для коммунистов и их попутчиков из числа представителей левой интеллигенции СССР был если не идеальным воплощением светлого будущего человечества, то, во всяком случае, единственным оплотом в борьбе против несправедливостей буржуазного общества, угрозы фашизма и войны. Напротив, в глазах консерваторов и правых либералов он выглядел смертельной опасностью для европейской цивилизации и всех ее традиционных ценностей. В конечном счете именно внутренняя противоречивость советских ценностей, разрывавшихся вместе с политикой послесталинского СССР между интернационалистским мессианством и имперским высокомерием, сыграла немалую роль в крахе режима.
— Но даже после его краха европейские ценности не очень-то приживаются у нас. Почему?
— Попробую объяснить. В первой половине девяностых в коридоры власти на короткое время пришла группа молодых представителей либеральной интеллигенции. Их целью был решительный разрыв с советским прошлым, создание в кратчайшие сроки основ рыночной экономики и плюралистической демократии, а также сближение с евроатлантическими структурами по самому широкому кругу международных проблем. Определенные результаты на этом пути были, безусловно, достигнуты. Однако их экономическая эффективность оказалась ограниченной, а социальная цена чрезмерно высокой. Поэтому уже в конце девяностых и особенно в начале двухтысячных в российском обществе, тяжело переживавшем национальное унижение, произошел коренной перелом настроений. В официальных речах представителей власти зазвучали национал-патриотические мотивы. Они находили идеологическую подпитку в подъеме антизападных, клерикальных и почвеннических течений, отстаивающих для России особый «евразийский» путь и свою систему ценностей по формуле «державность, духовность, соборность». На фоне все более частых конфликтов между ЕС и Россией по широкому кругу экономических и политических вопросов — от условий энергодиалога до войны в Чечне, прав человека, демократии и свободы СМИ — могло показаться, что европейская ориентация России, в том числе на ценностном уровне, надолго снята с повестки дня.
— Сейчас так тоже кажется. Причем сейчас европейская ориентация России еще серьезней поставлена под вопрос.
— Некоторые российские политики предлагают своеобразную гипотезу, согласно которой ценности России и Европы по существу идентичны, а западная критика России за отступления от демократии или нарушение прав человека отражает всего лишь банальные споры «хозяйствующих субъектов», в частности, продавцов и покупателей энергоресурсов. Такое мнение выглядит явно противоречиво — если ценности одни и те же, то нет и необходимости приспосабливать их к тем или иным противоречивым интересам. Но звучат и другие оценки. Например, можно услышать, что объективные реалии глобализированного многополярного мира начала XXI века властно диктуют России и Евросоюзу поиск общего знаменателя, в том числе и на уровне ценностных установок. Хотя попытки обусловить компромиссы по политическим и экономическим вопросам предварительными уступками России по ценностным подходам, на мой взгляд, заведомо контрпродуктивны.
— Все-таки нужны нам европейские ценности или нет?
— Безусловно, нужны. Но они не являются принудительным ассортиментом. Нельзя рассуждать так: ЭТА свобода нам подходит, а ЭТА — нет. Или: однополые браки нам не нужны, а вот гражданское самосознание и уважение к закону — всегда пожалуйста. Есть вещи, без которых вообще цивилизация невозможна и без которых наступает варварство. Что именно входит в ценностный минимум, а что в него не входит — это показывает сама жизнь. Но, в принципе, европейский выбор не есть выбор геополитический. Это лишь выбор неких правил в отношениях между людьми. Между гражданами и государством. Между разными странами, которые защищают свои интересы и ценности, но учитывают интересы и ценности других.
Статистике верить нельзя?
Диалог с экономистом Максимом Буевым
В советское время статистика была подневольной и выполняла повеления власти. Сегодня власть, скорее всего, не дает прямых указаний манипулировать цифрами. Но и не мешает этому?
Статистическое суждение может быть неправильным
— Существует известный афоризм, приписываемый Марку Твену: «Есть три вида лжи — ложь, наглая ложь и статистика». Это так?
— Безусловно, так. Потому что статистика в любом случае — искаженное представление о реальности.
— Заведомо искаженное?
— Не обязательно. Дело в том, что способов искажения много. Поэтому нужно смотреть не только на цифры, но и на то, как они получены, что за ними стоит и как они трактуются. Есть очень простой пример, связанный с динамикой доходов. Представьте, трудятся девять человек. Первый зарабатывает 100 тысяч рублей, второй — 200 тысяч, третий — 300 тысяч… И так до 900 тысяч рублей. Это работающее население. Есть также пенсионеры и молодежь. Но мы их здесь не принимаем во внимание, а смотрим на медианный доход. Медианный доход — это доход человека, который находится ровно в середине группы трудящихся, ранжированных по заработкам. Медианный доход этих девяти человек составит 500 тысяч рублей. Стало быть, можно посмотреть, как меняется динамика этого медианного дохода. Представим, что человек, получавший 900 тысяч рублей, уходит на пенсию и на смену ему является выпускник вуза. Этому выпускнику назначают минимальную зарплату — 100 тысяч рублей, а все остальные получают повышение в зарплатах на 100 тысяч. То есть тот, кто получал 100 тысяч, начинает получать 200, а тот, кто получал 300 тысяч, начинает получать 400 и так далее. У нас по-прежнему девять человек, медианный доход по-прежнему 500 тысяч, а если опросить каждого из этих людей, что произошло с его зарплатой, они скажут, что у них зарплата выросла на 100 тысяч. Далее вот что. Если мы сделаем некое статистическое суждение на базе медианного дохода, то оно будет таково: медианный доход стагнирует, ничего с ним не произошло, как было 500 тысяч, так и есть. А если мы путем опроса начнем выяснять, сколько процентов людей довольны своей зарплатой, выросла ли она у них в последнее время, то все из этой когорты скажут, что зарплата выросла. То есть имеет значение, какой метод мы здесь используем или какой показатель. В зависимости от этого и можно делать выводы. Статистическое суждение — это всегда лишь суждение. Оно может быть и неправильным.
Статистический анализ ситуации на основе средних цифр следует воспринимать с щепотью соли
— В какой мере вы доверяете статистике? В какой мере вообще ей можно доверять?
— Есть два уровня, на которых возможен ответ на этот вопрос. Первый — чисто научный. Допустим, вы работаете с данными и видите сырые цифры, на основе которых будете проводить статистический анализ. Тогда вы задаетесь целой серией вопросов: как эти данные были собраны, где могли быть допущены ошибки, достаточен ли объем информации для разумного заключения, точна ли выборка. Допустим, идет разговор об анализе отношения россиян к действующему правительству. Абсолютно всех вы опросить не сможете, вам придется ограничиться тремя тысячами человек по всей стране; важно, чтобы среди этих людей были представители всех регионов, возрастов, социального статуса и т. д. Если этого не будет, то исследователь рискует попасть в ситуацию, когда, например, Санкт-Петербург не опрашивали, а именно там уровень поддержки правительства минимальный, тогда как в остальных регионах достаточно высокий. В таких случаях говорят, что данные не репрезентативны. Картина, которую вы получите на основе таких данных из других регионов, будет излишне радужная, чтобы выдавать ее за ситуацию по всей стране. Любой статистический анализ ситуации в целом на их основе следует воспринимать с щепотью соли. Вы слышите, что кто-то что-то говорит про какие-то цифры, или читаете некоторый отчет. Помимо доверия собственно к цифрам и их анализу, всегда должны возникать вопросы к тому, кто их публикует, кто их получил, с какой целью их публикуют, нет ли скрытых интересов, насколько правильно журналист или репортер понял эти цифры и насколько в полном объеме цифры/анализ публикуется и т. д. Здесь на собственном опыте я знаю, насколько сильным может быть искажение того, что собственно цифры пытались показать, и то, как их презентуют.
— От того, как их презентуют, эти цифры имеют либо позитивную, либо негативную окраску?
— Безусловно.
Официально считалось, что в СССР инфляции нет
— На ваш взгляд, в советские времена статистические показатели искажались в пропагандистских целях? Или имело место «добросовестное заблуждение» вследствие неправильной методики расчетов?
— Думаю, было и то, и другое. Возьмем, например, инфляцию. Официально считалось, что в СССР ее нет. После денежной реформы 1961 года цены якобы держались на одном и том же уровне. Даже в экономической теории существовал термин «подавленная инфляция». Она как бы течет, но ее никто не видит. И если пересчитывать показатели по фиксированным ценам, то можно проникнуться уверенностью, что экономика растет. Именно такая методика подсчета и приводила к искажениям.
— Кто является адресатом статистики? Органы власти? Бизнес? Общество в целом?
— Смотря какая статистика. Если мы говорим о макроэкономической, то ее адресатом является правительство. В первую очередь Центральный банк, министерство экономического развития, министерство финансов. Поскольку статистика — это некая репрезентация реальности, на нее реагирует гражданское общество. И правительство принимает во внимание эту реакцию, в той или иной мере учитывает ее, вырабатывая экономическую политику. Если же мы говорим про статистику, допустим, в социальной сфере — число самоубийств или количество неусыновленных детей, — то в этом случае первым адресатом является, пожалуй, гражданское общество, ну и органы власти, конечно.
Ведомства презентуют цифры всегда с какой-то выгодой для себя
— Что представляет собой ведомственная статистика — например, отчетность МВД о снижении уровня преступности, повышении раскрываемости преступлений?
— Ведомственная статистика, конечно, необходима. Другое дело, что эти цифры ведомство всегда оборачивает в свою пользу. Если же говорить о статистике, отражающей работу полиции… Институт проблем правоприменения (это аффилированная с нашим университетом структура) давно сотрудничает с МВД и имеет доступ к статистике этого ведомства, а также системе уголовной юстиции. И оказалось, что даже в рамках простого экономического и статистического анализа, который в МВД никто не проводил, можно получить очень важную, но не обязательно приятную информацию.
— Какая статистика в России традиционно засекречивается?
— Прежде всего статистика, связанная с национальной безопасностью. Хотя какие-то цифры уже становятся открытыми. Например, министерство обороны в 2015 году выпустило статистический справочник «Армия в цифрах». Это был первый с 1914 года статистический справочник, касающийся нашей армии, и он получил высокую оценку специалистов. Тем не менее в нем некоторые цифры вызывали сомнения — даже данные по общей численности российских вооруженных сил. Специалисты считают, что данные по оснащенности нашей армии или по преступлениям, совершаемым в воинских частях, тоже не адекватно представляют реальность. Хотя и то, и другое, и третье потенциально проверяемо по альтернативным источникам. Эксперты говорят, что оборонное ведомство засекречивает то, что всем давно известно, и само страдает от этого. Но чувствительные вопросы, связанные с национальной безопасностью, — безусловно, не должны находить отражения в цифрах.
— В СССР засекречивались и некоторые факты нашей истории — например, Катынь, Новочеркасск. Соответственно, не было и статистики, отражающей число расстрелянных в Катыни, Новочеркасске.
— Да, это так. Долгое время была засекречена и статистика по людоедству в блокадном Ленинграде. Профессор нашего университета Никита Ломагин восполнил этот пробел — издал книгу «Неизвестная блокада», в которой представлена статистика города в этот период.
— А как можно подсчитать, сколько было случаев людоедства? Они же официально не фиксировались.
— Нет, они фиксировались. Мы говорим здесь о тех случаях, которые заканчивались вызовом милиции и арестом людоедов. Людоедство концентрировалось, как правило, в нижних социальных слоях. И пик его пришелся на первую половину 1942 года. Довольно интересной должна быть и статистика, пусть даже косвенная, по коррупции в блокадном Ленинграде. Я думаю, что это можно как-то установить. Где-то есть исследование по старым советским публикациям, которое привлекает внимание к следующему факту. Если посчитать, сколько в город ввозилось муки в конце 1941 года, то, согласно технологии выпечки хлеба и численности населения Ленинграда с учетом производственного статуса (рабочие, служащие и т.п.), норма хлеба на человека в день должна была быть в два раза выше, чем была в реальности. Всяко больше минимальных 125—250 граммов. Вопрос: куда девалась разница? Невольно возникает мысль, что на самом деле не все голодали и часть муки, хлеба уходила налево. Этот вопрос не исследован. Потому что все упирается в дефицит доступной статистики. Насколько я понимаю, засекреченная статистика из прошлого так или иначе связана с деятельностью силовых ведомств. Она, наверное, может быть рассекречена, если есть обоснованные обращения заинтересованных исследовательских организаций. Но у исследователей не до всего доходят руки. Поэтому большого потока заявлений с просьбами рассекретить ту или иную статистику пока не наблюдается.
Теневые доходы не поддаются подсчету
— Существуют ли способы получения статистических данных в сфере теневой экономики?
— Во-первых, что такое теневая экономика? Ее можно понимать как нелегальную экономику. Это когда мы, к примеру, уходим от налогов, не сообщаем наш доход или получаем зарплату в конверте. А можно говорить про работу на дачном участке, и это тоже теневая экономика, но вполне легальная. Как получать статистику по такой экономике? Есть два основных метода — прямой и косвенный. Прямой — это опросы людей, и тут все понятно. С косвенным чуть посложнее. Например, существует известный метод оценки теневой экономики по потреблению электричества. Считается, что рост ВВП и рост потребления электричества очень сильно коррелированы. Достаточно взглянуть, как растет ВВП и как расходуется электричество. Если эти показатели расходятся, можно предположить, что рост потребления электричества связан с тем, что предприятия работают налево. Но здесь не все гладко: теневая экономика не обязательно связана с потреблением электричества. Есть масса ручного труда, не требующего энергозатрат. Еще один косвенный метод — оценка спроса на наличные деньги, валюту. Расчеты в теневой экономике часто идут налом. Ученые заметили, что рост налогов нередко приводит к росту спроса на наличные деньги. Видимо, потому, что часть деятельности уходит в тень, чтобы избежать налогообложения. Отсюда появились методы оценки масштабов этой деятельности по спросу на валюту.
— Поскольку теневые доходы находятся вне поля зрения государства, можно, наверное, предположить, что в реальности наши граждане живут чуть лучше, чем явствует из официальной статистики?
— Если оценивать богатство, благосостояние, а не доходы отдельной семьи, то — да, безусловно. Например, мало кто отдает себе отчет в том, что приватизированная после распада СССР квартира, если оценивать ее по нынешним рыночным ценам, — это серьезная часть семейного благосостояния, большая инвестиция для человека, при распаде СССР не присутствовавшего. Кроме того, мы как-то не учитываем долю доходов, которую имеют фактически все и которая так или иначе поступает через «тень». Входишь в Петербурге в какой-нибудь обшарпанный двор-колодец, а там стоит шикарный Porsche…
— Должна ли статистика быть проверяемой?
— Да, конечно.
— Как вам видятся механизмы ее проверки?
— Статистический показатель можно проверить, сравнив его с другим показателем, который получен иначе и описывает примерно то же явление. Я слежу, например, за тем, что происходит в экономике Великобритании в связи с Brexit. У них недавно появилась некоммерческая организация Full Fact. Она независимая и пытается привлекать деньги не от государства, а от совершенно разных частных источников, чтобы не попасть ни под чье влияние. В эту организацию можно обратиться с таким, скажем, запросом: «Политик N называет такую-то цифру по уровню безработицы, но мне кажется, что эта цифра не соответствует реальности. Прошу ее проверить». И в нескольких случаях они заставляли политиков постфактум менять цифры в уже опубликованных документах, потому что те цифры были неправильными.
— Объективная статистика — это независимая статистика. Вероятно, необходима и независимость Росстата от политических или административных органов, равно как и от частного сектора. Как вы оцениваете проект передачи функций государственной статистики министерству экономического развития, рассматриваемый сейчас правительством?
— Даже если мотивирующим фактором подобной передачи выступает низкое качество данных, публикуемых Росстатом, вливание его в Минэкономразвития этого положения не исправит. Статистических неточностей и манипуляций цифрами меньше не станет, а вот проверять их станет труднее.
— Статистика не может быть самоцельной, она инструмент. Инструмент чего?
— Например, она очень полезный инструмент в политике. Анекдотическая история гласит, что одной из первых это поняла еще Флоренс Найтингейл — сестра милосердия, известная по Крымской войне середины XIX века. Благодаря анализу статистики смертей в английских военных госпиталях и презентации результатов в виде своеобразной «розы ветров» ей удалось убедить британский истеблишмент в необходимости ужесточить требования по гигиене в армейских бараках и госпиталях по всей стране. Связь большого числа смертей среди раненых с жуткими санитарными условиями до Найтингейл не была политикам очевидной. Статистика также может быть и опасным оружием. Известный шотландский писатель Эндрю Лэнг, современник Найтингейл, говаривал, что политики используют статистику, как пьяный — фонарный столб: не для того, чтобы оказаться в освещенном месте, а для того, чтобы на что-то опереться. В наше время злоупотребление статистикой достигло новых высот. Поэтому известный афоризм Марка Твена, увы, не утратил своей актуальности.
У нас несословное общество?
Диалог с социологом Симоном Кордонским
С середины 30-х и до конца 80-х годов социальная структура СССР покоилась на «трех китах»: рабочий класс, колхозное крестьянство и трудовая интеллигенция. Над ними возвышалась «номенклатура», численность которой в брежневскую эпоху, по оценке известного исследователя советской политической системы Михаила Восленского, достигала 3 миллионов человек (вместе с членами семей, пользовавшимися привилегиями правящего класса), но она в официальном «реестре» скромно не значилась.
Как выглядит социальная структура современной России? Можно ли согласиться с утверждением, что российское общество не является сословным?
Сословия — это группы, которые создаются государством
— В сегодняшней России есть сословия?
— Несомненно.
— Если так, то себя вы к какому сословию относите?
— Сейчас у меня по меньшей мере три сословных атрибута. Я бюджетник, поскольку преподаю в высшем учебном заведении. Я пенсионер по возрасту. И я лицо свободной профессии, так как иногда получаю гонорары.
— Давайте тогда уж достроим этот ряд. Какие еще сословия, по вашей классификации, имеются в сегодняшней России?
— Их много. Например, одно из основных — служивое сословие, или служивые, не знаю, как правильно сказать.
— Можно сказать — госслужащие?
— Нет. Служивое сословие — это гораздо шире. Это государственно-гражданские служащие. Это дипломаты. Это военнослужащие по меньшей мере девяти категорий. Это правоохранители восьми категорий, начиная от полицейских и кончая судебными приставами и таможней. Это депутаты — региональные, федеральные и муниципальные. Это казаки, находящиеся на госслужбе. Это сотрудники госкорпораций и компаний с государственным участием, на которых распространяются отдельные положения закона о госслужбе. То есть сословия — это, как я их понимаю, группы, которые создаются государством. С петровских времен российское государство создавало группы для решения своих задач. Семь титульных сословий было в России. Февральская революция уничтожила сословную структуру. А потом и люди, носившие стигматы сословной принадлежности, были ликвидированы в ходе чисток разного рода. Искусственно созданная социальная структура была характерна и для советской империи, где, по сталинскому определению, существовали рабочий класс, колхозное крестьянство и трудовая (она же народная) интеллигенция. В анкетах было необходимо определить свое сословное положение: из рабочих, крестьян, служащих.
— Искусственно созданная — это созданная государством?
— Да.
— А естественным путем как она рождается?
— Естественным путем она рождается на рынке, где идет расслоение по уровню потребления. Те, кто потребляет много, относятся к высшему классу, а те, кто мало, — к низшему.
— Критерием является уровень потребления?
— Именно уровень потребления, а не уровень дохода.
Переводом бюджетников на контракт разрушена сословная иерархия
— С распадом СССР распалась и искусственно созданная советская социальная структура. А что народилось?
— Когда новая власть начала оформляться, возникла идея прописать, кто есть кто. И эту идею взялся осуществить Сергей Станкевич (в 1992 году первый заместитель председателя Моссовета. — В.В.). Он фактически скопировал — сам в этом признается — петровскую Табель о рангах. Но ни обязанностей, ни льгот, ни привилегий в этой «табели» не было прописано. Все изменилось в 2002 году, когда появился пакет законов о государственной службе и о государственной гражданской службе. В этом пакете законов были четко прописаны обязанности и привилегии новых госслужащих. Появилось служивое сословие. При этом никуда не делось неслуживое, но его обязанности, льготы и привилегии не получили законодательного закрепления. И вот эти неслуживые сословия, в частности бюджетники, начали проявлять активность, требуя тех льгот, которые у них были при советской власти. Помните массовые выступления по поводу монетизации льгот? Это был протест бюджетников против лишения их сословных привилегий. Государство тогда отступило. Но сейчас продолжает ту же линию путем перевода бюджетников (учителей, врачей, пожарных, коммунальщиков), работающих по найму, на контракт. У государства просто нет возможности выплачивать людям все наследованные от Советского Союза льготы. Чернобыльцы, «афганцы», северяне… Все они имели какие-то льготы. Бюджетники тоже были ранжированы. Врач первой категории, врач высшей категории, заслуженный врач… При переводе на контракт эта иерархия исчезает.
— Врач высшей категории теряет эту категорию, заслуженный учитель перестает быть заслуженным?
— Категория никуда не девается, почетное звание — тоже. Но они уже не влияют на зарплату.
— Может, это и правильно? Категории, звания… Кому они нужны? Сегодня в театре иной артист, не имеющий звания, получает по контракту больше, чем народный.
— Категория и звание гарантировали определенный уровень оплаты труда, а контракт упразднил эту гарантию. Сословная иерархия, она ведь имела и денежное выражение. Ведомость на зарплату в этом смысле была весьма информативным документом, она сообщала, кто есть кто. А теперь иерархии нет, и многие из тех, кто занимал в ней высокое место, чувствуют себя обделенными. Я хотел бы подчеркнуть один момент: сословие становится социальной реальностью, когда внешнее определение человека совпадает с его самоопределением. Крестьянин — это тот, кто выглядит как крестьянин, ведет себя как крестьянин и ощущает себя крестьянином. Искусственность наших сословий — она в том, что отсутствует самоопределение. Наши сословия номинальны.
— Они созданы сверху?
— Да. Пройдитесь на улице. Много людей в форме вы сейчас увидите? А ведь все служивые люди имеют форму одежды. Кроме гражданских служащих, у всех есть форма. В имперской России одежда была четким признаком принадлежности к тому или иному сословию. В советские — тоже. Теперь эти признаки исчезли.
— В советские времена не очень-то прокуроры ходили в форме. Разве что на торжественные заседания.
— Но была шапка каракулевая, пальто драповое. Помните? Эта одежда не была директивной, но хозяйственные отделы обкомов именно ею снабжали служивых.
— Что еще вы считаете атрибутом сословий?
— Сословное собрание, сословный суд. И собор как форму согласования интересов. Сегодня сословное собрание и сословный суд у нас номинально есть только у военнослужащих. Я имею в виду офицерское собрание и офицерский суд чести. А при советской власти сословные собрания пронизывали все и вся: профсоюзное собрание, комсомольское собрание, партийное собрание… И был сословный собор — съезд КПСС, на котором согласовывались интересы всех сословий и куда делегировались их представители. В Советском Союзе эта система была очень продуманной. Орготделы партийных комитетов планомерно выстраивали и поддерживали ту социальную структуру, которая считалась идеальной. Сейчас ничего такого нет.
— Сейчас другая социальная структура?
— Другая.
— Но тоже созданная государством?
— Тоже созданная государством, но без сословных судов и сословных соборов. Самое главное — нет института согласования интересов различных сословий.
— А парламент?
— Российский парламент возник как институт классового общества. В конце 80-х советская социальная структура стала разваливаться и началось расслоение по уровню потребления. Появились богатые и бедные. И парламент создавался как потенциальный орган согласования интересов богатых и бедных. Но парламентские функции он постепенно терял, а сословные не приобретал. Сословным собором его не назовешь. Тем более что сама сословная структура не отрефлексирована властью.
— Как вам видится эта структура? Назовите сословия современного российского общества.
— Их очень много. Военнослужащие, судьи, правоохранители, муниципальные служащие, депутаты, казаки. Это все служивое сословие. Далее — обслуживающее сословие: бюджетники, наемные работники, коммерсанты, пенсионеры, осужденные, лица свободной профессии. Каждое сословие имеет еще и внутреннюю градацию. Скажем, лица свободных профессий — это те, кто работает на гонорар: художники, проститутки, политтехнологи, журналисты… И в каждой из этих групп своя иерархия, свои лидеры и аутсайдеры, свои богачи и бедняки. Бюджетники тоже неоднородны. Врач в ЦКБ и врач в сельской больнице отличаются друг от друга. А политтехнолог, который обслуживает Кремль, — совсем не тот политтехнолог, который обслуживает краевую администрацию. В сущности, социальное положение человека в нашей системе определяется двумя признаками — к какому сословию он принадлежит и какое сословие обслуживает.
У нас бюрократия служит сама себе
— А бюрократия имеет сословные признаки?
— У нас нет бюрократии. Бюрократия возникает в государстве, когда оно отделяется от рынка. Бюрократия — это люди, находящиеся на службе у государства. И заняты они тем, что согласовывают действия государственных подразделений. Это классическая бюрократия.
— Почему вы считаете, что у нас ее нет?
— Потому что у нас аппарат — это и есть государство. У этого аппарата нет функции согласования интересов разных групп. Он сам рождает цели, сам производит бумаги, сам себе все согласовывает. И в этом смысле он никакая не бюрократия. У бюрократии собственных целей быть не должно. Задача бюрократии — обслуживать рынок, общество, политическую систему. А у нас бюрократия служит сама себе.
Подняться из одного сословия в другое редко кому удается
— Можно ли в России перейти из одного сословия в другое? У нас есть межсословные лифты?
— Только на самых нижних уровнях иерархии. Из бюджетника в работающего по найму — да, это реально. Или из предпринимателей в зону.
— Почему тогда только на нижних уровнях? Из губернаторов на зону теперь тоже всегда пожалуйста.
— Вниз — это сколько угодно. А вот подняться из одного сословия в другое редко кому удается. Если ты военнослужащий, то, попадая на работу в какой-либо государственный орган, все равно остаешься военнослужащим, а не переходишь в категорию государственных гражданских служащих, и погоны с тебя никто не снимает.
— Межсословные конфликты у нас случаются?
— Постоянно. Это конфликты за передел ресурсов. Иногда с жертвами. Потому что у нас не рыночное государство, а ресурсное. У нас не «товар — деньги — товар». У нас «ресурс — статус — ресурс». «Административный рынок», как его 20 лет назад назвали. А что такое «административный рынок»? Это всегда передел ресурсов. И переделить ресурсы можно только одним способом — создав новую угрозу. Рыночные структуры работают с рисками, а ресурсная структура работает с угрозами, нейтрализуя их. Скажем, есть внешняя угроза. Соответственно, есть сословие, которое ее нейтрализует. Это дипломаты, служащие Российской армии, разведчики. Они нейтрализуют внешнюю угрозу. Есть и внутренняя угроза — нестабильность, «оранжевая революция», «экстремисты» … Внутреннюю угрозу нейтрализуют полиция, Росгвардия, ФСБ. А поскольку объем ресурсов ограничен, то сословия конфликтуют, пытаясь эти ресурсы переделить. И это происходит на всех уровнях иерархии.
— Существуют механизмы разрешения межсословных конфликтов?
— Конечно. Это собор. Так по крайней мере должно быть.
— А у нас?
— А у нас это «стрелка». Разборки по понятиям.
— Можем ли мы в России оперировать понятием «богатое сословие»?
— В России нет богатых людей. Что такое богатый? Богатый — это прежде всего ощущение стабильности и определенный уровень потребления. А у нас никому не гарантированы ни стабильность, ни уровень потребления. Те, кого мы привычно называем богатыми, на самом деле никакие не богатые. Они — обеспеченные. В сословном обществе нет богатства, а есть обеспеченность. Обеспеченность ресурсами. Высокая или низкая. Нормативно. Некоторые обеспечены нормативно высоко, некоторые — нормативно низко. И государство старается быть социально справедливым, то и дело перераспределяя ресурсы в пользу плохо обеспеченных — от региона к региону, от муниципалитета к муниципалитету.
— Что ждет завтра высших представителей российских сословий? Они как-нибудь представляют себе свое будущее?
— Никак. Они живут настоящим. И мечтают только об одном — чтобы завтра было так же, как вчера. Чтобы ничего не менялось.
II. В культуре
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.