
Бесплатный фрагмент - Древо прошлой жизни
Том II. Часть 2. Призрак легенды
Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь.
Мудрость, известная всем
Более чем ранее — Лоре
Автор выражает признательность Сергею Гонтарю (Россия) и Нинель Апельдимов (ФРГ) за помощь в работе над романом
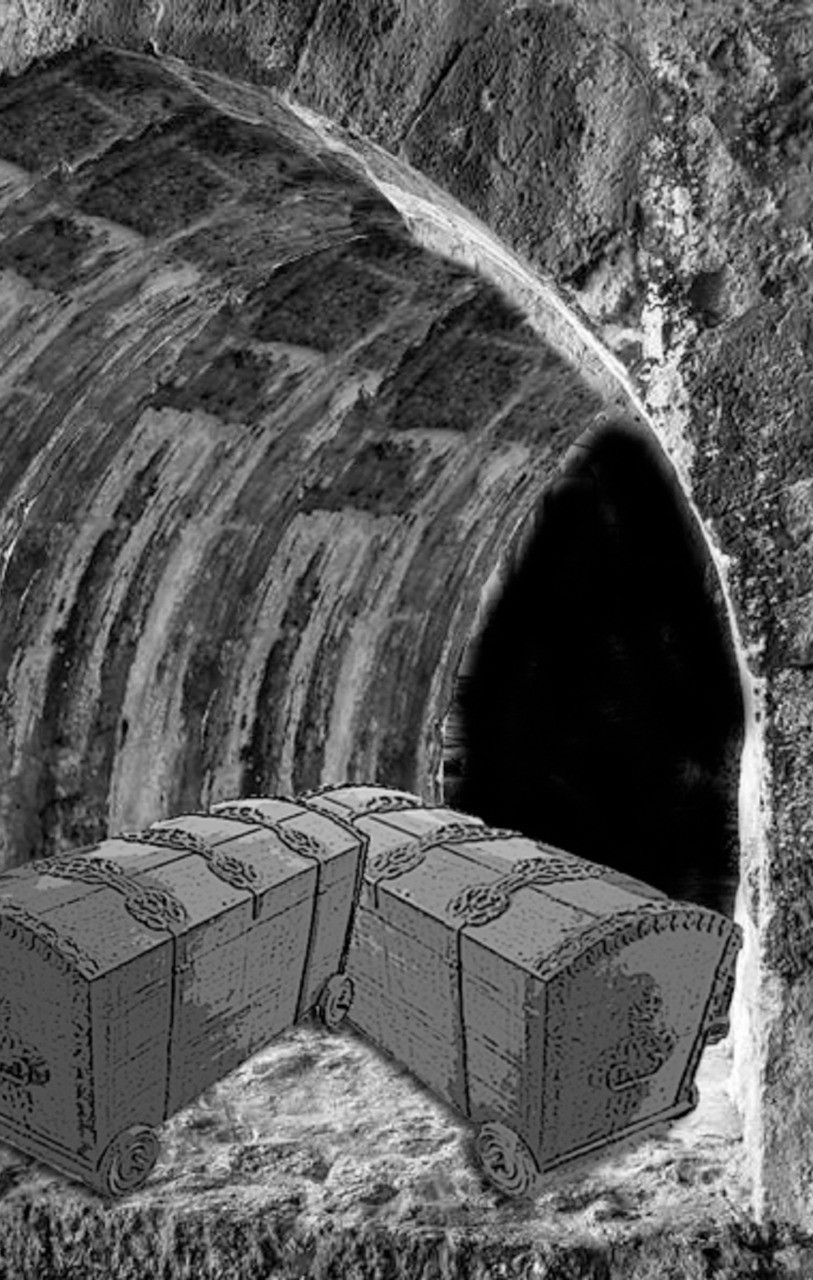
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Перед рассветом автобус въехал на огромную территорию пограничного пункта в районе Бреста. Белоруссия встретила теплом, пением птиц и утренним туманом. Ивы, аисты, чистый воздух и тишина. Я вышел из автобуса и отправился искать, где бы выпить кофе или достать кипятка. Стоянка длилась часа четыре, потому что желающих пересечь границу автобусом набралась целая очередь. Наконец, пассажиры заполнили таможенные декларации, миновали пограничный контроль и оказались в Польше. Целый день мы ехали мимо аккуратно распаханных полей и отдельно стоящих крестьянских усадеб. Несколько раз автобус проезжал по узким улицам небольших польских городков. Мы пересекли Варшаву, а потом заехали в какую-то глухомань. Кажется, это местечко называлось Хорбув. Здесь в кафе уже были накрыты столики. Через час-полтора автобус двинулся дальше. Две дородные тётеньки, сидящие впереди меня, наслаждались ароматно-бесполезной китайской лапшой, заварив её кипятком. Одновременно они обсуждали ещё большую дородность своей отсутствующей подруги и делились своими воспоминаниями о прошлой поездке: «Ах, какой марципан стряпают в Вене!», «Ах, каким пармезаном кормят в Венеции!»
Отрешённо глядя через стекло, я предался воспоминаниям о «Книге о Фортунате и его сыновьях». Мне хотелось осмыслить то, что переживала Флора незадолго до нашей гибели. Роман, который я смог отыскать ещё до отъезда, описывал драматическую судьбу горожан, ставших жертвой сребролюбия. Однажды молодой Фортунат в дремучем лесу встретил Деву Повелительницу счастья, предложившую ему избрать один из шести даров, способных привлечь человека: мудрость, богатство, сила, здоровье, красота и долголетие. Фортунат, удручённый бедностью, выбирает богатство, и этот выбор оказывается для него роковым. Тема алчности проходит через всё произведение, оставляя у читателя тяжёлый осадок. Оно заинтересовало меня тем, что точно воссоздавало очертание реального мира — мира стяжательства, погони за богатством и всего того, что способствовало быстрому подъёму немецких городов XV — XVI веков. В круговорот сребролюбия вовлечены бюргеры и дворяне, клирики и короли. Даже любовь, превозносимая в рыцарской литературе как высокое, неземное чувство, связана с меркантильным интересом. Книга была многообразна и многоцветна, сказочные эпизоды переплетались с выразительными житейскими и бытовыми описаниями; рыцарские турниры и пиршества сменялись мрачными преступлениями, совершёнными из алчности. Автор осуждал феодальную знать, готовую ради своих эгоистических интересов обидеть и загубить незнатного человека. Таковыми были принцесса Агриппина, граф Теодор Английский и граф Лимози с Кипра. Особенно интересными являлись персонажи, которые мне перечисляла Флора. В романе явно читалась мысль, что золото способно украсить жизнь, оно отправляет купцов в далёкие плавания, расширяет границы известного мира. Но оно же пробуждает в человеке тёмные инстинкты, делает его грабителем и убийцей. Злодей Андреас убивает дворянина и бросает его тело в выгребную яму, скрываясь прочь. За это убийство расплачиваются жизнью многие невинные люди. Фортунат попадает в руки алчного и жестокого графа, который подвергает его мучительным пыткам. Корысть доводит до гибели хозяина гостиницы, грабившего постояльцев, она же толкает принцессу Агриппину на бесчестные поступки. Ослеплённые корыстью, граф Теодор и граф фон Лимози отнимают жизнь у Андолизия, сына Фортуната, и в конце концов сами попадают на плаху. Не раз Фортунат сетует по поводу своего рокового выбора — кошеля, набитого золотом. В конце автор писал о том, что всякий, кому предоставят подобный выбор, должен следовать разуму, а не похотливой душе, и выбирать вместо богатства мудрость, как это сделал царь Соломон. Однако Дева счастья, предлагающая такой выбор, изгнана из наших земель, и в этом мире её больше не найти.
Эта популярная, так называемая народная немецкая книга, была издана в эпоху Возрождения в 1509 году без указания автора. Предполагалось, что её написал аугсбургский бюргер, возможно, местный хронист Буркхарт Цинк. Книга не только увлекала читателя, но и содержала обличительные и нравоучительные тенденции, благодаря чему имела невиданный успех у широких читательских слоёв. В XVI веке её издавали восемнадцать раз! Прочитал я и упоминание про Аугсбург, куда собирался на время отправить Флору со своим верным оруженосцем Тидо. В XV — XVI веках он был одним из самых развитых торгово-промышленных и культурных центров Германии, поддерживал отношения со многими странами и городами запада и востока и считался вольным городом.
Поздним вечером достигли польско-германской границы. У пассажиров снова собрали паспорта. Часа через два наш автобус, выждав недостающие двадцать минут для пересечения пограничного пункта, двинулся дальше. Наших шофёров уже сменили аккуратно стриженые и подтянутые немецкие водители в белых рубашках и чёрных галстуках. Фосфорный циферблат моих часов показывал первый час ночи. Из рекламного листка компании «фон Раден» был виден последующий маршрут по территории ФРГ. Ночью мы должны были проехать Берлин, Магдебург и Брауншвайг. Мне оставалось спать около пяти часов.
Я проснулся перед самым восходом, когда многие пассажиры ещё дремали в своих креслах. В стороне крутились лопасти мачт ветряных электростанций. Повсюду вдоль дорог тянулись невысокие, ограждающие лесной массив, сетки — так от вытаптывания и засорения сохраняли лес. Даже если захочешь свернуть в него, ничего не получится, — проедешь мимо, потому что для пикников здесь отводятся специальные места. Меня даже предупреждали: в европейских городах за окурок или плевок запросто могут оштрафовать, совсем как у нас на площади трёх вокзалов в сталинское время. Странный мы народ всё-таки: тысячи гектаров нашего леса незаконно вырубают и увозят за рубеж, а мы никак не можем окончательно сформулировать свою национальную идею и прекратить до сих пор затянувшийся спор западников и славянофилов по поводу того, кем нам быть. А пока они спорят об этой самой идее, русский народ обретает участь бананово-кокосовых стран, по пути привыкая к гамбургерам, кока-коле, развратным камзолам безвнучатых Санта-Клаусов и комиксам. Наши «убойные» (иных не снимают) киноменты стали держать лёгенький «Макар» обеими руками, как «Беретту», «Магнум» или «Глок», а участники бесконечных «слизанных» на западе шоу изъясняются американизмами и визжат с американским акцентом.
В шестом часу мы прибыли в Ганновер, и один из водителей объявил паузу. Это была короткая и последняя остановка перед Дортмундом. У меня уже появились планы о том, как я буду добираться до Шато-конти, и раньше времени, то есть до прибытия в Ниццу, беспокоиться не было смысла. Думать надо было о том, как не попасть к бандитам в пункте прибытия — у главного железнодорожного вокзала города. Путь движения автобуса я изучил ещё в Москве и поговорил с нашими шофёрами, которые даже показали мне свою карту. От Ганновера до Билефельда было не более ста километров, затем примерно через семьдесят три километра автобус должен проехать Хамм. От него до Дортмунда останется километров тридцать, значит, необходимо выходить после Хамма. Но как это сделать? Вдруг немцы заявят, что останавливаются только на остановках? А на автобане тормозить вообще запрещено, и я рисковал доехать до самого конца.
Марк жил в Хомбрухе, районе города, который был километрах в пяти на юг от вокзала, поэтому лучше всего мне сойти где-нибудь в пригороде. Я достал пластиковый стаканчик и, насыпав в него кофе, пошёл к водителям за кипятком. Мне надо было, чтобы они меня запомнили. Кажется, один из них понял мой английский и ответил, во сколько автобус прибудет в Дортмунд. Правда, сами немцы шутят, что их точность на транспорт не распространяется, но для меня это не имело никакого значения. Выпив кофе, я дождался семи утра и набрал на мобильнике телефонный номер Марка. Тот ответил сонным голосом:
— Что случилось, ты уже приехал?
— Марк, извини, живот сильно болит. По дороге растрясло.
— Ты где?
— Где-то между Ганновером и Билефельдом, но меня вот-вот стошнит. Посоветуй, где выйти.
— Попроси водителя остановиться в Лихтендорфе, на окраине Дортмунда. Там большая стоянка автобусов, заправка, и рядом проходит автобан. Это не доезжая Шверте — сросшегося пригорода, где будет поворот на Дортмунд. Понял?
— Хорошо. Буду ждать тебя у въезда на заправку. А это далеко от твоего дома?
— Лихтендорф? Километров десять на восток, так что разницы, куда ехать тебя встречать, нет. Дотерпишь?
— Постараюсь.
— Ну, пока. Там и туалет есть бесплатный. Я подъеду.
Марк отключился, а я стал всматриваться в дорожные знаки. Наконец, с правой стороны показался указатель поворота на Хамм. Я решил: пора и приготовил вещи, надеясь, что водители мне поверят. На мне, и правда, лица не было — не то от недосыпа, не то от ожидания встречи с шестерками Кулешова. Но если мне откажут, свидания с ними уже не избежать. Придётся играть по-Станиславскому. Это значит, тебе должны поверить, что ты вот-вот скорчишься и упадёшь на пол. Морщась якобы от сильной боли внизу живота, я стал пробираться между кресел и по-английски обратился к немцу, у которого просил кипяток:
— Извините, мне нехорошо… надо срочно выйти в Лихтендорфе у заправочной станции.
— Вам нужна помощь? — по-английски отреагировал водитель.
— Нет. Сильно болит живот и тошнит. У меня кружится голова. За мной должен приехать друг.
— Хорошо. Сделаем остановку.
— Когда выходить?
— Я вам скажу.
— Лихтендорф, заправка, — на всякий случай повторил я.
— Да. Не волнуйтесь, — он показал жестом, чтобы я присел рядом с местами, где спал другой свободный водитель.
— Спасибо. Большое спасибо.
Я опустился на свободное сидение и привалился боком на рюкзак. Впереди показались чистенькие домики, видимо, пригорода. На этот раз мне повезло. Столкнуться с олигархом за границей мне казалось маловероятным. Но сейчас я думал о том, как бы не разочаровать Марка, — ведь я собирался сказать ему, что на следующий же день хочу уехать в Ниццу. В этот момент автобус сбавил скорость и водитель, обернувшись ко мне, кивнул. Я поблагодарил его и вышел на обочину. Метрах в двухстах находилась большая площадка, запруженная автотранспортом, и заправочная станция. Вскинув рюкзак, я пошёл вперёд вдоль широкого газона.
Долговязая фигура приятеля была видна издалека. Марк, высокий, худой, в очках на большом носу, в модном клетчатом пиджаке выглядел довольно респектабельно. Он радушно встретил меня знакомыми интонациями и пригласил в машину, в которой сидела его жена Людмила. Мы поздоровались.
— Ну, как там Россия? — спросила меня его супруга.
— Всё так же. Воруют, как при Державине и Карамзине. Ежедневно сообщают, что проворовался очередной мэр, губернатор или министерский чиновник, а их адвокаты возмущаются судебным беспределом в правовом государстве. Меня смешит выражение лиц этих штатных фуфлогонов, — будто в них только что попали скомканной посудомойной тряпкой и они никак не ожидали от государства подобного свинства. А зачем попусту возмущаться, если кое-где весь депутатский созыв или всю верхушку администрации кладут лицом в половицу и увозят туда, где из удобств одна параша.
— А остальные?
— Остальные занимаются тем, что раньше презрительно называли спекуляцией, и мечтают разбогатеть.
— Наплюй, — отозвался Марк, пристёгивая ремень.
— Я бы и наплевал, если бы всё это не сопровождалось чересчур громкими заверениями, что народ стал жить лучше. На некоторых телеканалах выражаются похабнее, чем в пивных. Правда, кого-то, особенно, пенсионеров-телезрителей очень возмущает, что бездари и бездельники заполонили экран и несут, что попало. Но государство разъяснило этим склочным моралистам, что частные каналы приватизировали мораль и ничего поделать уже нельзя, так как за всё уплачено. Хохма в том, что вопрос был за все телеканалы. Знаешь, Марк, мой отец, когда был жив, однажды сказал то, что я помню до сих пор: «Никогда не произноси то, за что было бы стыдно перед своей матерью».
— Я читаю русские газеты и всё знаю. Мы ведь живём в русскоязычной общине, ко многим приезжают родственники. Но мы оказались тут не по этой причине…
— По Конфуцию, каждый должен умереть там, где родился, — пояснила Людмила. — Просто Марк считает, что когда-то уже рождался и жил в этой стране.
Мы развернулись и поехали к городу.
— Посмотри, — сказал Марк, — сейчас будет район Беннингхофена, потом проедем через Веллингхофен.
Я с интересом смотрел по сторонам. Всё это — и непривычная архитектура, и тротуары, расчерченные полосой для проезда велосипедистов, и люди вокруг, — придавало мне ощущение оторванности от жизни, из которой я только что появился. Частные двух- и трёхэтажные домики удивляли своей аккуратностью и порядком. Даже воздух здесь был каким-то особенным. Это, действительно, казалось мне иным миром. Миром, в котором я бы, наверно, ужиться никогда не смог. Или смог, потому что некогда жил в этой стране?
— Слушай, Марк, у вас тут плюнуть некуда, не говоря о том, чтобы выпить за углом. Всё на виду, ни одного закоулка. Скучно, наверное?
— А зачем за углом, если здесь на каждом шагу кафе или пивная? И скучать некогда. У нас в городе скоро пройдёт ежегодный фестиваль. Соревнования, фиеста воздушных шаров. Моя Люда в них участвует, так что приглашаю помочь в обслуживании летательных аппаратов.
— А когда?
— Недели через две. Хозяин одного из пивоваренных заводов заявил, что до конца дней будет обеспечивать того, кто родится через девять месяцев после праздника. Зрелище незабываемое.
Я расстроился. Как же сказать Марку, что мне уже сегодня нужно ехать за билетом во Францию?
— Посмотрим. Понимаешь, у меня есть одно дельце во Франции, и чем раньше я его закончу, тем раньше вернусь.
— Зачем торопиться? У тебя полно времени.
Мы ехали по длинной Циллерштрассе, и я вертел головой во все стороны.
— Это наш район, — показал рукой Марк. — А вот здесь мы и живём.
Дом был многоэтажным, обычным. Рядом располагалась детская площадка и большой ровно стриженый газон. Всё выглядело, буквально, как на только что нарисованной картинке. Даже баки для мусора были выкрашены в разные цвета — отходы сортировались. Марк припарковал машину, и мы направились к дому. Какой-то молодой человек, спустившись из квартиры, стоя в белых носках у выхода из подъезда, что-то говорил вдогонку своей жене. На лестнице было настолько стерильно, что мне захотелось снять свои запылённые ботинки и переобуться в тапочки. На стенах лестничных пролётов не было нацарапано ни одного самого короткого слова. У Паликовских была трёхкомнатная квартира. Их дети гостили в другом городе у какой-то дальней родственницы, так что мне отвели отдельную комнату. Я распаковал рюкзак и отправился в душ.
Когда я вернулся, жена Марка накрыла такой стол, что он ломился от еды.
— Да-а, не зря именно в вашей стране изобрели мезим. В сытых отечественных кругах это самые популярные из рекламируемых таблеток. Так сказать, признак роскоши. Как-то наш министр культуры признался, что подавляющая часть населения не может позволить купить того, что навязывает телереклама. Но пропаганде потребления это не мешает. По ящику только и слышишь: «Шопинг, как искусство»; новое шоу «Чемпионат по шопингу», «Шопинг-терапия — лучшее средство». Психологи говорят, что в Москве появилась новая болезнь — шопингомания, сродни неизлечимой игромании. Некоторые не могут воздержаться от покупок, тратят последнее, и в семьях начинаются разводы.
— Тут ещё в старину немецкие бюргеры носили на своих тирольских шляпах перья. Знаешь, почему? — спросил Марк. — Это, как два пальца в рот. Если объелся, пощекотал глотку пёрышком, освободил желудок, и можешь насыщаться дальше.
— А-а. Нравы сытой страны. Между прочим, у историков есть гипотеза, что Древний Рим деградировал не в силу накопления денег, а от того, что его граждане переедали и жирели — сытому нравственный прогресс до лампочки. У нас в Москве теперь, как в Риме, — даже самый главный дядя смотрит бои без правил с почётной трибуны.
От алкоголя я отказался и упросил Марка съездить за билетами во Францию. Пообедав, мы отправились в центр города к железнодорожному вокзалу. Оказалось, что в Ниццу можно уехать автобусом завтра либо через три дня. Я не стал откладывать отъезд и взял обратный билет с открытой датой, выложив за всё около полутора сотен евро. Заодно Марк показал мне местные достопримечательности и рассказал о городе. Впервые Дортмунд упоминался в летописях ещё в 885 году. Когда-то здесь король франков Карл Великий завоевал крепость саксов, и этот край был назван Вестфалией. Город, имеющий ныне шестисоттысячное население, вошёл в средневековую историю пивоварения, делу которого было отдано более семисот лет. Марк оставил машину на стоянке, и наша экскурсия продолжилась пешком. Мы посетили кирху Сант Петри, в которой находился самый крупный золотонарезной алтарь с золотыми фигурками Библейских персонажей, и побывали в кирхе Рейнальда. Тут, в центре города, обычно проходит самая большая рождественская ярмарка Европы. Затем мы прошлись по многолюдной Вестенхельвег — центральной улице Старого города, сели в машину и проехали у стадиона и Вестфальского парка — символов современного Дортмунда. Моя голова кружилась от впечатлений. В шестом часу вечера я запросился обратно, так как очень устал от этого дня. Марк, конечно, выразил сожаление по поводу моего завтрашнего отъезда, но сказал, что уже отпросился с работы и к автобусу меня подвезёт.
На следующее утро у меня было прекрасное настроение, и я на время забыл об опасностях и неудобствах, которые ожидали меня в ближайшие дни. «Сколько людей едет за границу наслаждаться отдыхом», — подумал я, когда мы с Марком сидели в кухне за обеденным столом.
— Вернёшься, я повожу тебя на машине по самым знаменитым замкам Германии, — пообещал он.
— На Рейне?
— В русской литературе неправильно переводят название этой реки: не «Рейн», а «Райн».
— А кто теперь живёт в этих замках? — наивно спросил я.
— Некоторые купило государство и устроило в них музеи. Иногда владелец сдаёт замок или его часть государству в аренду для проведения экскурсий. В общем, замками владеют наследники или купившие их частные лица. И все стараются содержать их в сохранности. Даже средства из бюджета на это хозяевам выделяют.
— Значит, в Германии сохранилось много замков?
— А ты думал! Это у вас в Москве старые особняки и памятники старины уничтожаются сотнями, чтобы выстроить вместо них то, что приносит частнику деньги. А на кой чёрт простому народу нужен деловой центр или парковка? В Германии замки строили ещё с десятого столетия. И они, например, по берегам Райна были вроде средневековых таможен, которые взимали пошлину и дань с желающих проплыть по реке. Владельцами были дворяне, епископы, всякие графы и князья. Позже в заброшенных замках собирались разбойники, а затем в них устраивались тюрьмы.
— А теперь?
— Сейчас ни у одного из замков Райна не осталось прямых наследников, и почти все они в частных руках — где-то устроены студенческие пансионы или отели. Есть и музеи с интерьерами средневековых дворянских жилищ, огромными винными погребами. В средние века выпивали три-пять литров в день. В кухнях сохранились даже утварь и камины, на которых зажаривали целого быка. Можно встретить оружейные и даже пыточные залы. Вообще, всё зависит от того, насколько годы и разрушения пощадили замок, и в каком виде была сохранена обстановка того или другого времени. В некоторых замках и сейчас устраивают средневековые праздники. И каждый из замков на Райне хранит свои привидения и легенды.
— Здорово. Вот бы посмотреть.
— Посмотрим. Есть один замок — Турант, из старых. Он весь занят под музей. Сооружён в XII веке пфальцским графом Генрихом. Дикое средневековье — яма-темница с цепями и костями на дне, железные клети для неверных жён, орудия пыток. Даже молельня сохранилась с охотничьим домиком и солнечные часы. Там очень смешные туалеты. Идёшь внутри вдоль выступающего наружу верхнего уровня стены и видишь в ней обыкновенную деревянную дверь сельского сортира. Открываешь, — а там каменное пространство, нависшее над землёй, с одним очком на полу. В те легендарные времена стояла страшная вонь.
Слушая Марка, я невольно задумался. Неужели мой замок такой же: с деревенским сортиром и клетью для пленников? А что если попросить Марка разыскать этот замок? Мне это раньше и в голову не приходило. За пятьсот лет камня на камне могло не остаться. Разумеется, найти свой замок я и не мечтал и, планируя поездку в Шато-конти, так далеко заходить не собирался. Но сейчас мне пришла в голову внезапная мысль, и я воскликнул:
— Марк, послушай! Есть один замок, в котором я хочу побывать. Мне рассказывали о нём много интересного, но мне неизвестно, где он.
— А ты знаешь сколько замков и крепостей в Германии? Только по берегам Райна от памятника кайзеру в Кобленце до столицы земли Майнца их больше полутора десятков. А в самом Кобленце, где Мозель впадает в Райн? От Кобленца до Рюдесхайма, туристической столицы меньше ста километров, но между ними сорок замков! И ещё есть река Мозель.
— Ну, тот замок сухопутный. Там, правда, рядом есть река. Она огибает замок, но это не Мозель и уж наверняка не Райн. Только я забыл её название.
— А река далеко от него?
— В пределах видимости, но замок стоит не на самом берегу. Может быть, метрах в двухстах. Она служила естественной защитой замка. А сам замок знаменитый и должен был сохраниться. Вы же умеете беречь старину. Я слышал, что он имеет несколько башен, из которых видно эту реку, и стоит не на возвышенности, а в низине, хотя его фундаментом является вырубленная скала. Если смотреть спереди, в высоту он кажется больше, чем в длину, а вокруг его обступают горы, поросшие лесом. Остальное, наверное, как у всех замков. Это всё, что я знаю.
— А название помнишь?
— Эльзебург, или бург Эльзе, но оно сто раз могло поменяться, если им стали владеть другие люди.
— Маловероятно. Здесь кампании по переименованиям не в духе национальных традиций. Ладно, мой дорогой историк, подумаем. У меня есть друзья, они подскажут. И в Интернете можно посмотреть. Жалко, что ты уезжаешь, я бы тебя кое с кем познакомил, с твоими коллегами, между прочим. К фестивалю вернёшься?
— Постараюсь, — вздохнул я.
— Давай собираться, нам скоро выезжать.
Добравшись до вокзала, я с помощью Марка нашёл свой автобус. На этот раз все места были заняты пассажирами, но теперь среди них не было ни одного соотечественника, и вокруг меня слышалась лишь сдержанная немецкая речь. Автобус покрывал расстояние до Ниццы менее, чем за сутки. Сбывалась мечта одинокого пилигрима о путешествии, в котором не знаешь, где будешь спать, что будешь есть, и каким транспортом придётся передвигаться. А самое главное, нельзя предугадать, кого ты встретишь на своём пути, — подумал я и вспомнил две первые строчки стихотворения Марии Антоновны. Марк пожелал мне скорого возвращения, и я заверил его, что через недельку-другую вернусь в Дортмунд. Мы договорились, что при необходимости созвонимся друг с другом. Мой друг помахал мне рукой и пошёл к машине. Но что-то подсказывало мне, что моя поездка будет гораздо продолжительнее, чем можно представить, и ни к какому фестивалю я не вернусь. Если вернусь вообще. Автобус тронулся. Я уезжал из одной чужой страны в другую. В никуда и ни к кому.
* * *
Миновав Вуперталь, немецкий городок, раскинувшийся среди гор, автобус ехал без остановки до самого Кёльна. Здесь, у киосков и закусочных было многолюдно, и я с удовольствием прогулялся среди разношёрстной публики. С привокзальной площади были видны остроконечные позеленевшие от времени башни известного на весь мир кафедрального собора. Там хранились святыни, по легенде относящиеся к зарождению Христианства на Земле. Поздним вечером, оставив позади Трир, где когда-то правивший римский император Константин Великий приказал казнить своего сына и жену, переспавшую со своим пасынком, в районе Люксембурга мы пересекли границу с Францией. Первым французским городом, где остановился автобус, был Дижон. Через сумрак исходящей ночи и хлеставший дождь я всматривался в вывески улиц, по которым мы ехали. Это была Бургундия.
Часа через два с половиной мы достигли Лиона, где сливались две реки — Рона и Сона. Дождь уже закончился. Автобус проехал по мокрой набережной, оставляя слева за собой массивные портовые сооружения и пакгаузы, тянущиеся вдоль берега и, наконец, въехал на один из верхних ярусов автовокзала. Через проём была видна часть города. Он казался бескрайним. Именно тут в 1072 году были заложены первые камни Собора Парижской Богоматери. Это был город, где родился маркиз Ривайль, город, где в 1568 году издатель Бенуа Риго полностью опубликовал центурии Нострадамуса. Они познакомились здесь во время успешной борьбы провидца с эпидемией коклюша. Как известно, центурии с восьмой по десятую были закончены в Салоне 27 июня 1558 года, став завершением его пророческого труда.
В XVI веке Лион был процветающим городом общеевропейской значимости, особенно для итальянской торговли. В первой половине того столетия здесь жило самое богатое семейство в Европе — итальянца Гваданьи. Город находился на пути евроторговли через германский перешеек, соединяющий Германию с Францией, освоенный ещё с конца XIII века.
Место, куда мы въехали, было похоже на большой гараж, одна из стен которого была стеклянной и имела выход в коридор здания. В углу уже работало небольшое туристическое бюро. Служащие — две молодые француженки — оформляли за столом документы. Я привлёк внимание одной и от нечего делать обратился через окошечко по-английски, можно ли отсюда добраться до Венеции — города, историю которого ещё до рождения Марко Поло, хорошо знал. Девушка ответила, что есть автобус до Флоренции, но там придётся делать пересадку. Билет стоил всего шестьдесят четыре евро, а из Ниццы ещё дешевле — всего сорок. Повздыхав, что не смогу побывать там, где жили и творили великие Рафаэль, Микеланджело и Леонардо да Винчи, я вышел в коридор, спустился по лестнице и оказался в просторном помещении автовокзала. Н-да… Флоренция… первый город в мире, где была отменена смертная казнь. Всемирно известная галерея Уфицци, средневековые мосты через Арно и античные скульптуры. И ещё это было место, где Данте Алигьери всю жизнь безответно любил воспетую им в стихах Беатриче. А совсем рядом, в нескольких шагах за углом от его сохранившегося дома до сих пор стоит маленькая церковь, где автор «Божественной комедии» впервые увидел свою возлюбленную. И даже теперь, через семьсот лет влюблённые всей земли приходят сюда и оставляют у алтаря записки, обращённые к ней, и просят послать им такой же любви, долгой и сильной… Эта подлинная история из литературы средневековья потрясла меня на первом курсе.
Целый час в ожидании посадки я с любопытством незаметно присматривался к пассажирам. Просто мне хотелось понять, в какую страну я попал и как себя ведут обычные французы. Оказалось — так же, как и русские на Ярославском вокзале.
Вернувшись в автобус, я развернул карту. Примерно через полчаса мы должны были проехать Вьенн, затем ещё через час — Валанс. В 1854 году французские солдаты, направлявшиеся в Крым для ведения боевых действий, сошли с поезда в Лионе, пешком прошли до Валанса и там снова погрузились в вагоны, так как дорога от Парижа до Средиземноморья была ещё не достроена. Мне вспомнились слова тётушки о том, что мои далёкие предки сражались на той войне, защищая русский город Севастополь.
Начавшийся день порадовал ясным солнечным небом. Я, не отрываясь от окон, крутил головой по сторонам, следя за пейзажами. Становилось жарко, сильно пахнуло незнакомой смесью южных деревьев, кустарников и трав. Иногда навстречу попадались крепостные стены с остатками башен, построенные на обрыве, а в низинах — крестьянские фермы. Вдалеке от шоссе тянулись бесконечные горы, покрытые зеленью лесов. На просторах равнин стояли гигантские сооружения каких-то ангаров и складов. И всё это пестрело таким многоцветьем, что начинало рябить в глазах. Несмотря на вентиляцию, в салоне стояла духота — снаружи одолевал зной.
Судя по карте, автобус скоро должен был пройти недалеко от Оранжа. На юго-запад от него находились Авиньон и Ним. Все эти места славились историей. Чего стоил один Авиньон, где в средние века находилась резиденция самого папы римского. Между городами Оранж и Экс-ан-Прованс по правую сторону от скоростной трассы и к северо-западу от Марселя, совсем недалеко от него располагался Салон-дэ-Прованс, а от Экс-ан-Прованса до Марселя было всего каких-нибудь километров тридцать. Конечно, если выйти где-то здесь, до Шато-конти добираться гораздо ближе, чем из Ниццы, но торопиться было пока некуда, и мне хотелось доехать до конца. Во время десятиминутной стоянки в Эксе я узнал у водителей о нашем дальнейшем маршруте и времени прибытия в Ниццу. Мне ответили, что мы будем в Канне ровно через два часа и проедем через Фрюжис. Этот городок находился у моря. Теперь мы пересекали Прованс, о котором я слышал не только благодаря названию масла. Через месяц после гибели Густава и Флоры — в июне 1536 года, Карл V со своей армией завоевал эту французскую провинцию, а потом потерпел поражение под Марселем, городом, описанным Александром Дюма.
После Фрюжиса начался массив невысоких гор Лестрель, а затем перед Каннами неожиданно открылся вид на Средиземное море. Дальше дорога пошла километрах в трёх от него. В Каннах автобус заехал на заправку, с которой был виден весь город, разбросанный по берегам бухты. Его разноцветные замысловатой архитектуры дома утопали в зелени деревьев и кустарников. У некоторых вилл отсюда просматривались голубые блюдца бассейнов, — такой цвет им придавала кафельная плитка.
Через час мы были уже в Ницце, некоторые улицы которой мне чем-то напомнили Одессу. Автобус проехал по набережной вдоль берега моря. Справа тянулись песчаные пляжи, слева — отели и рестораны, у которых росли пальмы. Слева на одном из углов высился отель «Негреско» — здание белого цвета с оранжевым куполом. Говорят, в нём на стенах висят подлинные произведения искусства, в том числе и картины Сальвадора Дали, а внутренний интерьер блестит золотом как во дворце. Одна ночь в номере этого отеля стоила денег больше, чем я взял с собой на всю поездку, а точнее — вдвое меньше, чем бутылка вина в его ресторане.
Тем временем автобус въехал под навес автостанции. Я сказал водителям «данкэ» и «ауф видэрзеэн» и с другими пассажирами вышел на пропахший маслом и бензином асфальт. «И никакого „нездорового ажиотажа у трапа“, который вместе с лимузином и гостиницей заказывают многие наши звёзды, путешествующие по родным городам и весям», — невесело подумал я. Сердце учащённо забилось. Моя «гастроль» началась. В стороне от навеса, под которым стояло с десяток автобусов, виднелось приземистое здание, где, видимо, и находилась касса. Я открыл стеклянную дверь и обратился через перегородку к служащей. С трудом поняв, что мне нужно, она объяснила, по каким дням недели автобус отправляется в Дортмунд. Вернувшись назад, я стал разглядывать таблички на автобусах и перроне. Названия городов, естественно, были написаны на французском, и я ни в чём не смог разобраться, не знал, что мне делать и куда идти. Расписания движения поблизости не оказалось. Мои попутчики уже получили багаж и разошлось. Я остался совсем один среди улиц, ведущих в неизвестном направлении, и по-настоящему растерялся. В разговорнике я вычитал, что французы очень приветливы и всегда придут вам на помощь, если вы потерялись. Во Франции принято благодарить прохожего за оказанную услугу и пожелать ему хорошо провести день. Пометавшись между автобусами, я вышел на расплавленный солнцем тротуар и обратился к пожилой женщине интеллигентного вида:
— Excuse me…
— Oui? Vous desirez, monsieur?
— Do you speak russian?
Дама улыбнулась и ответила мне по-французски:
— Je parle allemand, espagnol, italien, mais je ne parle pas, malheureusement anglais et russe.
Как ни странно, я всё понял по интонации и снова ответил по-английски:
— I lose one’s way. Which is the way to the railway station? Мне нужен железнодорожный вокзал, — добавил я по-русски. — …гяр…
Она тоже поняла меня, это было видно по выражению её лица. Взяв меня чуть ли не под руку, дама сделала жест рукой в сторону.
— Allons, la station d`autobus est la`. Vous venez d’ou? — произнесла она вопросительно.
— I am from Russia, Moscow.
— Oh, si loin! Voyager-vous a` autostop? — ответила она, указав на мой рюкзак.
— Oui. I am in France for the first time.
Дама посмотрела на меня одобрительно. Мы перешли асфальтовую дорожку и медленно зашагали по тротуару. Моя провожатая страдала одышкой. Метрах в пятидесяти находилась остановка, от которой только что отошёл автобус. Там женщина что-то спросила у прохожих и сделала мне знак подождать. Минут через пять подъехал следующий автобус. Она что-то сказала водителю, и тот кивнул. Я догадался, что речь шла обо мне, и поблагодарил мою спасительницу единственной заученной фразой:
— Мерси боку, мадам. Бон апрэ миди!
— Bonne route!
Двери автобуса закрылись, я помахал женщине рукой и протянул водителю два евро. Он бросил мелочь в коробку и передал мне бело-голубой билетик и семьдесят центов сдачи. Весь потный, опасаясь задеть своим рюкзаком других пассажиров, я смотрел на город, стоя у кабины водителя. Минут через тридцать шофёр взглянул на меня и произнёс:
— Voila` votre station, monsieur, la gare.
— Merci, — с энтузиазмом бросил я, почувствовав лёгкий озноб от предстоящего путешествия, и, перебежав через улицу, ринулся на вокзал.
В зале было полно людей, наверное, местные французы разъезжались по своим виллам. Над кассами светилось электронное табло с номером. Метрах в полутора от них на полу была обозначена черта, за которую пассажиры, ожидающие свою очередь, не заходили. Просто очередной человек подходил на свободное место к окошку и брал билет. Я опять растерялся, подошёл к женщине лет тридцати и по-английски спросил, как мне взять билет на поезд. Она с предупредительностью отвела меня к какому-то автомату, нажала кнопку и дала в руки выскочивший талон с номером, а затем указала на табло. Я догадался, что при появлении номера на табло, надо подойти к одной из касс и купить билет. Такое я видел впервые.
Лучше всего было отправиться из Ниццы поездом до Марселя, а потом добираться, как получится. Но взяв на стенде для пассажиров расписание-гармошку, я выяснил, что поезд в Марсель ушёл ещё утром. Ночевать в Ницце или Каннах мне не хотелось. Города большие курортные, гостиницы дорогие, и я решил поехать в ту же сторону электричкой, называемой в Европе поездом второго класса. Конечной, двадцатой по счёту станцией направления от Ниццы был Фрюжис, который я сегодня объехал стороной. Перед ним — Сен-Рафаель. Карта показывала, что городки почти срослись друг с другом, при этом последний стоял ближе к морю. Десятой остановкой значились Канны. Я попросил в кассе билет до Сен-Рафаеля на семнадцать ноль пять и заплатил девять евро. Это была предпоследняя электричка, которой можно было сегодня уехать. Она находилась в пути один час восемнадцать минут, что позволяло мне этим вечером как-нибудь устроиться на ночлег до наступления темноты.
Я прошёл мимо контролёра на перрон и увидел, что на первом пути уже стоит мой поезд с цифрой «2» на каждом вагоне. По сумрачному перрону, крытому прозрачным стеклом, прохаживались пассажиры. Справа через проём помещения была видна эстакада, пересекающая железнодорожные пути. Я вошёл в вагон и устроился на втором этаже. Электропоезд тронулся. Путь лежал вдоль моря. Это был Прованс, Лазурный берег, тянувшийся от Монако до Марселя. Короткая остановка в Сент-Августине …Антиб… Канны… Эгей. Запросто можно пропустить свою станцию. Вошли два контролёра в униформе и начали проверку билетов. Дождавшись, когда продырявят мой билет, я спустился в тамбур. Тут стояли одетая по-дачному женщина и молодой негр со спортивным велосипедом. Не утруждая себя заглядыванием в разговорник, я обратился к обоим по-русски, извиняясь за беспокойство жестами и, показывая пальцы, спросил, через сколько остановок будет Сен-Рафаель. Наверное, со стороны это выглядело довольно смешно. Дачница и негр посмотрели друг на друга и начали участливо выяснять между собой — через две или три станции мне следует выйти. Наконец, мне указали мою остановку, и я приложив руку к груди, изобразил в ответ подобающее выражение лица.
Вокзал Сен-Рафаеля был современным сооружением из бетона и стекла. Я вышел из него и направился влево по авеню Виктора Гюго, потом свернул налево ещё раз и, пройдя через тоннель, над которым шли железнодорожные пути, пересёк улицу Руссо. Мне хотелось найти недорогую гостиницу. В отелях Франции плата обычно включает завтрак, но обеспечивается также полупансион с завтраком и ужином или полный пансион с трёхразовым питанием. Услуги отеля могут включать лишь проживание, и это меня бы устроило. Оказавшись на плас Галлиени, я заметил белую вывеску с красными буквами: «HOTEL DE FRANCE». Это было старинное розоватое шестиэтажное здание с тремя высокими окнами на каждом этаже и плющом на стенах. Слева к нему примыкали дома пониже столь же старинной архитектуры. Странно, но сначала я не смог попасть в гостиницу и вошёл в неё через какой-то проход, ведущий в служебное помещение. Миновав кухню, я оказался у небольшой стойки портье. Прямо был выход на улицу, а перед ним шла наверх узкая винтовая лестница.
За небольшой стойкой у доски с ключами стоял мужчина в жёлтой клетчатой рубашке лет сорока пяти, черноволосый, с покатыми плечами, рыхловатого телосложения. Рядом что-то отмечала в журнале полноватая женщина лет шестидесяти. Наверное, они вели семейный бизнес.
— Бонсуар! — поздоровался я, снимая рюкзак с плеч.
— Bonsoir! Vous desirez, monsieur? — посмотрев на меня, мягко произнесла женщина.
— Жё панс рэстэ эн жур, — ответил я заготовленной фразой из разговорника. — Аве ву кэлькё дё муэн шэр?
— Oui, bien sur. S’il vous plait, passeport.
— Сэ комбьен? Эс кё ву пувэ экрир лё при? — произнёс я, снова воспользовавшись шпаргалкой. — Жё нё парль па франс.
Дама написала цифру на обороте квитанции: 20 евро. Я передал ей паспорт, а она мне — карту гостя, которую следовало заполнить, и карточку гостиницы. С паспорта тут же была снята ксерокопия, после чего его вернули с ключами от номера. И всего делов-то!
— Сэ манифик! — воскликнул я, придя к выводу, что постоянно искать подходящие фразы в разговорнике непродуктивно — тебя быстрее поймут по выражению лица и жестам. — Мэрси боку!
Напротив стойки работал лифт, но я решил подняться наверх сам. Винтовая деревянная лестница по-старинному скрипела под ногами, было весьма сумрачно и прохладно. Мой номер размещался на третьем этаже. Я на мгновение представил себя героем романов Жоржа Сименона и открыл дверь.
В углу комнаты находился столик тёмного дерева, стул и такая же кровать. На стенах и потолке — светильники в виде свечей — всё это было оформлено под старину. В стенном шкафу был привинчен крохотный сейф, ванна отсутствовала, зато имелся душ, что меня полностью устраивало. Номер был без холодильника и телевизора. Высокое окно-дверь на балкон — под потолок — имело две застеклённые створки, снаружи — деревянные ставни той же высоты от пола. Именно они обеспечивали прохладу и полумрак. На балконе были столик и стул белого пластика, а по стене свисал плющ. Дома на другой стороне улицы тоже были увиты зеленью. Откуда-то слева разнеслось колокольное блямканье — там из-за крыш выглядывал круглый купол главной церкви города.
Я вернулся в комнату, умылся и решил сходить в магазин за едой, питание в стоимость номера не входило, а служебная кухня предназначалась для хозяев. Паёк же надо было поберечь на крайний случай. Пока всё складывалось отлично. Решив осмотреть округу, — кто знает, вернусь ли я сюда — я спустился вниз и обратился к мужчине за стойкой:
— Экскюзэ-муа, у э лё магазэн далимантасьон?
Тот посмотрел на часы, что-то ответил, из чего я разобрал лишь название магазина «Моноприкс» и бульвара Фелик-Мартен.
У выхода из отеля на тротуаре стояли несколько столиков. Я ступил на цветную плитку и вдохнул запах средневекового города. На рекламной карточке были обозначены окружающие улицы, адрес отеля — плас Галлиени, 25 и его телефон — 04-94-95-19-20. Отсюда до пляжа Плаж дю Вейа было сто метров. Термометр у входа в гостиницу показывал 80о по Фаренгейту, то есть около 28о по Цельсию, но купаться я не собирался. Пойдя влево, свернул на рю Карр и перешёл на бульвар Фелик-Мартен. Первый же прохожий указал мне, где находится «Моноприкс», оказавшийся крупным универсальным магазином. Я купил немного овощей и фруктов, хрустящий багет и стал искать гяр рутьер. Мне пришлось вернуться и опять пройти через тоннель под железной дорогой и пересечь авеню Виктора Гюго. Городской автовокзал был низеньким угловатым зданием, по периметру которого располагались какие-то конторы, бюро и кассы. Из расписания я узнал, что мой автобус до Фрежюса, или, как иногда его ещё произносят, — Фрюжиса или Фрюжи, отправлялся в семь утра. Усталый, но довольный собой, глазея на публику и фасады зданий, минут через пятнадцать я вернулся в отель, чуть не столкнувшись в коридоре с портье. Этот круглолицый, начинающий седеть француз привлёк моё внимание выдержанностью своих манер и готовностью слушать, хотя я не перемолвился с ним и словом.
— Салю, — поприветствовал я его, улыбаясь.
— Bonsoir, monsieur!
— Do you speak English?
— Yes, sir, — неожиданно ответил портье.
— Wonderful country, wonderful town… — начал я по-английски, так как на все случаи жизни французского не напасёшься.
— Fine weather, — продолжил он.
— Nice people.
— And nice sea, sir
— I’m Alex, and you?
— Nice to meet you. And my name is Paul.
— I have a problem, Paul, — я изобразил на физиономии озабоченность русского туриста. — I’m afraid to be late. Tomorrow I have to get up at six in the morning.
— I’ll awake you by a telephone call.
— Мэрси. Ву зэт трэ зэмабль.
— Good night!
— The same to you.
В номере я заварил чай и поужинал. Итак, две ночи я провёл в автобусе, ночь у Паликовских, ещё одну — по дороге в эту страну, и был лишь на полпути к цели. Я попытался представить завтрашний день, следующий ночлег и тот миг, когда подойду к дому своих предков в Шато-конти, но в голове всё перемешалось — сплошной пармезан с марципаном. Воистину, будущее от нас кто-то прячет. После горячего душа я заснул как убитый.
Утром меня разбудил телефонный звонок. Я поздоровался, но в ответ услышал лишь старинную мелодию на клавесине, — постояльцев будила автоматика. Я расплатился за номер и попрощался с Полем. Отель «дэ Франс» остался позади, и я, конечно, не мог знать, что через несколько недель буду вынужден вернуться в него, а добродушный портье Поль ещё окажет мне неоценимую услугу. Эх! Не старайтесь понять будущее — бесполезное это дело.
* * *
Фрежюс находился в семидесяти километрах от Ниццы. От него шли две основных дороги: одна на юг вдоль берега моря через Сент-Максим и далее к крупным портам — Тулону и Марселю, другая — на запад к Сен-Максимену и Экс-ан-Провансу. Город сросся с Сен-Рафаелем — мой автобус всё время проезжал бесконечную череду вилл, небольших отелей и ресторанов. Было непривычно видеть пальмы на улицах и кактусы размером в человеческий рост, а у домов — кусты с фантастически большими цветами. Как я вычитал перед отъездом из Москвы, Фрежюс был основан римлянами ещё в I веке до нашей эры, а на его сохранившихся римских аренах и сегодня шли красочные представления и спектакли. Есть и свой Археологический музей, где собрано всё найденное здесь, относящееся к римской эпохе. Я буквально чуть не взвыл от того, что был лишён возможности посетить местные достопримечательности.
В конце концов, менее, чем через час, я пересёк Фрежюс, вышел из автобуса и оказался на северо-западной окраине города. За асфальтированной дорогой начиналась буйная растительность, отдалённо напоминающая наш ивняк с камышом. Рядом стоял небольшой магазинчик и бар на несколько столиков под навесом. При входе висела табличка: «Ferme», и посетителей пока не было. Я подошёл к задней стене подсобного помещения и, озираясь, оторвал от пустой коробки большой кусок картона. Затем, разрезав его ножом на две части, одну предусмотрительно убрал в рюкзак, а на другой фломастером начертил: «Aix-en-Provance». Потом, подумав, приписал значок евро, знак равенства и ноль.
Теперь следовало встать у обочины при выезде от площадки перед магазином и набраться терпения. Вскоре какая-то семейная пара с детьми проехала мимо, даже не взглянув на моё объявление, но затем мне повезло. Я заметил, как подкатил белый «Пежо», из которого вышли мужчина и женщина пенсионного возраста и направились к магазину. Через несколько минут они сели в автомашину и отъехали. Вообще, Марина показывала мне жест, которым в Европе принято останавливать попутный транспорт, но от волнения я всё забыл. Когда «Пежо» поравнялся со мной, я просто надвинул на водителя грязный картон с корявой надписью, ткнув в него пальцем. Дама в тёмных очках что-то сказала мужу, тот притормозил и через опущенное стекло по-французски обратился ко мне.
— Силь ву пле, месье… — ничего не разобрав, ответил я.
— Non, non, monsieur. Brignoles, — произнёс он, ожидающе глядя на меня.
Я подумал, что мне отказывают, но тут же сообразил, что по крайней мере до Бриньоля, который на карте прочитал, как «Брижоли», доеду без проблем, и сказал:
— Уи, Бриньоль. Гран мэрси.
И на всякий случай переспросил по-английски:
— Free or pаy?
— Okay, — мужчина сделал жест в сторону заднего сидения. Его жена доброжелательно улыбнулась и открыла дверь. Я мгновенно стащил рюкзак, устроил его в ногах и потянул дверцу на себя.
— Allons, un bon mouvement! — сказала она.
Я захлопнул дверь, и мы тронулись с ветерком.
— Touriste? — спросил её супруг, не поворачиваясь.
— Уи. Жюстёман, — ответил я заготовкой.
— Vous venez d’ou? — задала вопрос дама.
— Жё вьен дё рюси.
Мужчина удивлённо поднял брови, его супруга протянула:
— Tres bien!
Французы заговорили между собой, и манера беседы, смысла которой я не понимал, импонировала мне своей обыденностью, будто наша пожилая пара ехала на подмосковную дачу.
Пейзажи по сторонам были замечательны. Повсюду росли среднеземноморские сосны с приподнятой кроной, стройные тутовые деревья, раскидистые дубы. Склоны и возвышенности покрывала низкорослая растительность с листьями тёмно-зелёного цвета. В низинах и на полях росли невысокие фруктовые и оливковые деревья с низкой кроной.
Было трудно поверить, что в этой стране немногим более ста лет назад женщины ходили в деревянных башмаках, белых шерстяных чулках, покрывали голову ситцевым стёганым чепцом, а плечи — овчиной. Такова была сельская Франция во второй половине позапрошлого века.
Между тем, пора было взглянуть на карту. От места, где я подсел к французам, до городка лё Мю было километров пятнадцать-шестнадцать. Недалеко от него мы должны были пересечь скоростную трассу, а затем вновь пересечь её, не доезжая лё Люк. Расстояние между городками лё Люк и лё Мю, который мы только что проехали, составляло километров двадцать пять, и ещё оставалось двадцать три до Бриньоля, более крупного города. Во Франции даже небольшие деревеньки выглядят как городки, а городки по нашим меркам кажутся деревеньками. Провансальские деревни издревле строились так, что, казалось, они, будто взбираются по склонам вверх, их узкие улочки прячутся от солнца и ветра, а игрушечные домики часто имеют свой внутренний дворик. Обычно деревеньки находились в пяти-десяти километрах друг от друга, иначе крестьянам после работы не вернуться домой. Во Франции общины со своими угодьями и территориями, собраниями, избранниками и кюре были крепки и самостоятельны. Общину сплачивала густая сеть брачных, кровных и дружеских уз, поэтому деревня возникла раньше феодализма, а любая собственность в ней — священна. Постоянно велась борьба за престиж, за право хвастать самой высокой колокольней и пышным алтарём. Такая крестьянская Франция — городков, деревень, хуторов не менялась до 1914 года, а может быть и до 1945-го, затем всё стало развиваться быстрее. В начале XX века начали исчезать нищие крестьяне, и меньше стало бродяг. Для колхозов и совхозов здесь не существовало никакой исторической почвы.
После лё Мю мелькнул правый поворот на Драгиньян. Пока мне следовало всё время ехать в западном направлении, и я рассчитывал, что не позднее десяти утра мы доберёмся до Бриньоля.
Через час показался дорожный указатель города. Мужчина снизил скорость и повернул голову:
— Brignoles, monsieur.
То ли спрашивая, то ли прося о чём-то, я извинился и поднёс к нему карту с отмеченной скоростной трассой на Сен-Максимен. Очевидно, он понял, что мне нужно, потому что кивнул, добавил газу и мы поехали дальше. Меня высадили на северо-восточной окраине Бриньоля. Мужчина показал жестом, куда мне надо идти, и я поблагодарил их:
— Парфе! Гран мерси. Ну ву суэтон дю бьен.
— Bon voyage! — ответила женщина, а её муж поднял в прощании руку.
Я вылез, накинул рюкзак и проводил взглядом разворачивающийся в сторону города «Пежо». Часть моего пути была пройдена, и довольно успешно. Удачным было и место, где я вышел, и здесь во что бы то ни стало надо найти другую попутку. От северных пригородов Бриньоля к скоростному шоссе вели три дороги, я стоял у выезда из города на одной из них. До трассы было не больше километра, но скорее удастся остановить транспорт тут, возле заправочной станции. Я написал на втором куске картона «Aix-en-Provance» и добавил «St. Maximin», так как решил, что лучше указать более близкий отсюда населённый пункт. Мне опять повезло, как никогда. Через полчаса тяжёлая грузовая фура, затянутая синим тентом, только что заправленная, начала отъезжать от бензоколонки. Я быстро подскочил к кабине и показал шофёру картонку. Водитель, француз лет пятидесяти с толстым брюшком в красной клетчатой рубахе приглушил музыку в своём магнитофоне и молча кивнул, дескать, залезай. Между прочим, это был грузовик марки «Мерседес», так что теперь не будет выдумкой, если как-нибудь я расскажу Петельскому, что разъезжал по Франции на «Мерседесах» и «Пежо».
В просторной кабине было комфортно. Шофёр увеличил звук своих шлягеров, мурлыча себе под нос. Наверное, он привык подвозить автостопщиков, — в Европе, не знающей границ, их было полно. Я и сам видел этих смелых ребят ещё по дороге в Ниццу. Скоро мы влились в многополостное движение участка автотрассы «Бриньоль — Сен-Максимен — Экс-ан-Прованс». Скорость на ней была бешеной, — через шестнадцать километров мы уже подъезжали к Максимену. От него до Прованса тем же путём будет километров сорок, и я мог бы сойти на любом отрезке трассы, чтобы продолжить путь, уйдя на север, северо-запад от неё. Мне пришлось побеспокоить своего молчаливого водителя и не зря. В ответ на мой указательный палец, направленный ему в грудь, а затем на мою карту он убрал газ и провёл ногтем по ответвлению от главной дороги, идущему на юго-запад, и коротко бросил:
— Marseille, monsieur.
Эх, Марсель, Марсель! Белокаменный город под черепичными крышами, окрестности которого изрезаны бирюзовыми лагунами и заливами. И проездом на это средневековье посмотреть не удастся, — подумал я и подал знак водителю, что хочу сойти.
Через несколько сот метров фура остановилась на небольшой площадке у обочины перед самым поворотом налево. Сойди я позднее, пришлось бы обратно тащиться по жаре целый километр, — расстояния здесь были огромны. Ну, что ж, будем выходить тут.
— Мэрси боку!
— Bonne route.
Я спрыгнул с высокой подножки, чуть не потеряв равновесия от тяжёлого рюкзака, захлопнул дверь и махнул шофёру рукой — и тебе удачи в пути, чтобы поскорее увидеть своих близких. Помню, года четыре назад, находясь в отряде Космопоиска на Урале, добирался на попутных «Камазах» до места работ соседней экспедиции. По дороге меня с водителем дважды останавливали вооружённые бандиты, и мы чудом спаслись только потому, что ехали порожняком, и взять с нас было нечего. Автостоп вещь увлекательная, только не на родных просторах.
Начался солнцепёк, пришлось нахлобучить на голову шляпу. Путь был ясен: топать дальше вдоль автострады, пересечь одну второстепенную дорогу и свернуть на вторую, которая должна привести в Риан, выбранный ближайшим ориентиром. Через час, пройдя пять километров, я свернул направо и пошёл строго на север. До Риана было пятнадцать километров по прямой, однако дорога имела несколько изгибов, значительно увеличивая это расстояние. Транспорта шло мало, голосовать стоя на месте, не было смысла, и я отправился дальше, чувствуя, как уже ноют от рюкзака плечи. «Авось подберёт кто-нибудь на свою телегу, запряжённую мерином», — подумал я, поглядывая на лес и убранные поля пшеницы. Вместо обычных стогов на них лежали большой цилиндрической формы массы и прямоугольные брикеты соломы поменьше, спрессованные техникой. Так что отдыха в душистом стогу посреди поля не предвиделось, а есть мне из-за жары совсем не хотелось. Чтобы не тянуло пить, я проглотил несколько крупинок соли, как это делали в войну партизаны.
Позади меня, медленно приближаясь и виляя в стороны, шла какая-то колымага. Я стащил рюкзак и поднял руку. Машина неизвестной марки остановилась, но в ней сидели не пьяные, а парочка влюблённых моего возраста, наверное, молодожёнов, — они продолжали обниматься и хохотать до полной остановки.
— Monsieur? — спросила девушка, находившаяся ближе ко мне.
— Риан, — ответил я, махнув рукой в сторону города. — Мне нужно в Риан, — добавил я по-русски, чтобы они сразу поняли, что я иностранец.
Мне что-то ответили, пригласив садиться.
Я забрался на заднее сидение и самым простейшим способом, не требующим знания языков, выяснил, что они едут в Риан, а не в другое место. До Риана-то я доеду, а после него карта показывала развилку, до которой от поворота в город, ещё шагать прямо километра два с лишним. А мне надо придерживаться ориентира — Сен-Поль-ле-Дюранса, к которому, судя по карте, никаких дорог напрямую не вело, разве что тропы. Не были обозначены даже населённые пункты. Обозримые особенности местности, которую мне сегодня предстоит пересекать, карта не отражала. Решив выйти у поворота в город, я попросил остановиться и спросил:
— Сэ комбьен?
— Non, non. Zero, — ответил парень, делая отcтраняющий жест рукой.
— Тогда спасибо. Большое спасибо. Удачи вам, — поблагодарил я и помахал парочке рукой.
Мне и на ум не пришло, что в километре-другом от обочины, где я остался стоять как столб, есть своя ратуша, свои достопримечательности, уютная провинциальная гостиница и прочие блага французской глубинки. «Эти ребята наверняка могли бы доставить меня прямо к отелю, если бы я вовремя спохватился и показал им нарисованную в блокноте кровать, нож и вилку. А утром бы снова продолжил путь», — запоздало пожалел я. Справедливости ради должен отметить, что слова «провинция» и «глубинка» весьма не подходят к тому, что меня окружало.
Большой район местности, куда я стремился попасть, обозначался на карте словами «Montagnes du Liberon», переводимыми, видимо, как горы или нагорье. Эта территория была растянута от Кавайона на западе и чуть ли не до Маноска на востоке. Севернее данного гористого участка в том же направлении красной неровной лентой протянулась одна из крупных автомагистралей «Авиньон — Апт — Манэ», а южнее его, огибая снизу длинной голубой петлёй, несла свои воды река Дюранс. Жёлтых ленточек второстепенных дорог между трассой и рекой на карте было совсем мало. Но где-то там, за равнинами и горами, виноградниками, оливковыми и фруктовыми рощами и был конечный пункт моего путешествия — старинный французский городок Шато-конти.
От Риана до Мирабо, местечка, в окрестностях которого я собирался заночевать, по прямой было километров пятнадцать. Но переход оказался труднее, чем я мог предполагать. Сказывалась физическая усталость, рюкзак постепенно становился тяжёлой ношей, а палящее солнце заставляло искать тень и через каждые несколько сот метров устраивать привалы. Путь затрудняли складки местности — приходилось обходить овраги, ограждения, пересекать дороги. Наконец, я вышел к полю, на краю которого стояла одинокая крестьянская ферма. Метрах в двухстах от неё я нашёл кучу распотрошённого сена и нетерпеливо бросился в неё, даже не сняв рюкзак. Колючая солома немедленно попала за шиворот, в ботинки, и мне тут же расхотелось отдыхать в ней. «Может попроситься к хозяину на сеновал?» — помечтал я.
На склоне дня немного западнее Сен-Поль-ле-Дюранса я пересёк широкий автобан, затем по мосту перебрался через реку с тем же названием, и вышел к железной дороге, пролегающей вдоль берега. Через полчаса, вконец измотанный, я доковылял до какой-то дороги и прочёл указатель:
MIRABEAU
2 km
Прислонившись к шесту дорожного указателя спиной, я обессиленно съехал на придорожную траву, расстегнул жилет и вытер шейной банданой пот с лица. Поодаль начинался вековой лес с деревьями в один-два обхвата, где можно было устроиться на ночлег. День клонился к вечеру, силы были на исходе — от отеля в Сен-Рафаеле, я отмахал не меньше ста тридцати километров. Солнце висело уже над кромкой леса, и вскоре должны были сгуститься сумерки. Я пересилил усталость и заставил себя искать место для стоянки.
Земля в лесу оказалась сухой и песчаной. Кое-где из-под жухлой листвы торчали белые покрытые мхом камни. Кроны высоких деревьев смыкались над головой, закрывая небо. Обойдя всё вокруг в радиусе метров пятидесяти, я набрёл на редколесье и заметил поляну, край которой переходил в невысокий пригорок. Одна сторона его обвалилась, и белый песок обнажил корни могучего дерева. Под ним я и установил свою компактную палатку, а затем отыскал подходящую палку и вырезал из неё подобие альпенштока. Оставалось надеяться, что мои туристические ботинки завтрашний переход по горным тропам выдержат. Теперь следовало поужинать. С помощью карманной печки, работающей на сухом топливе, я вскипятил воду, разогрел мясные консервы и приготовил из порошка картофельное пюре. Хлеб мне заменили сухари из пайка. Я разбавил водой в кружке сто граммов чистого спирта, выпил разом и лёг на спину, подложив руки под голову и мечтательно глядя вверх. «Смеркалось», — как точно написали бы опытные романисты. Чтобы не замерзнуть ночью, я натянул на тельняшку шерстяной свитер и рубаху с длинными рукавами. Свою тяжёлую обувь я снял и надел тёплые носки — ноги пусть отдохнут. Единственное, чего я опасался, так это змей, хотя и не знал, водятся ли они в этих местах. А вот в экспедициях Космопоиска я встречал их достаточно. Как это часто бывает, усталость и сон побороли страх, и я уснул, положив под голову походную сумку. Перед тем, как заползти в палатку, мне подумалось, что, по крайней мере, к завтрашнему вечеру я подойду к городу, полустёртое название которого сохранилось на старом конверте, лежащем в моём рюкзаке.
* * *
Проснулся я от птичьего гомона, сразу же высунул заспанную голову наружу и увидел дивный оживший лес под первыми лучами солнца. Я прислушался. Где-то рядом тихонько журчала вода. В нескольких метрах действительно обнаружился родник, который вчера мной не был замечен. Вода текла со склона вниз и падала на камешки небольшим ручейком, заполняя выемку в твёрдой породе. Её было достаточно, чтобы не только наполнить фляжку, но и помыться. Я наклонился к водной поверхности и обмакнул лицо, а затем разделся догола и вымылся холодной водой с головы до ног. «Ух, и здорово!» — крикнул я самому себе и вспомнил поговорку: такое больше никогда не повторится, но то, что увидел, останется навсегда твоим. Теперь можно позавтракать, выпить обжигающего кофе и собраться. Глядя на разложенную карту, я вычислил дальнейший путь и взял азимут. Идти оставалось километров тридцать, и я знал, что сегодня обязательно пройду их. Наступившее утро вселило в меня бодрость, энтузиазм и веру в это.
После остановки у Мирабо местность изменилась. Впереди показались очертания невысоких пологих горных хребтов, поросших зеленью, между которыми проступала красноватая порода. Вероятно, они являлись началом массива «Montagnes du Liberon», имевшим наивысшую точку в 1125 метров над уровнем моря. Ориентируясь по солнцу, с помощью компаса и карты, я решил идти на северо-запад, избегая, чтобы не терять время, населённых пунктов, которых, впрочем, здесь было мало. Правда, на склонах кое-где прятались в деревьях отдельные селения или виллы, но мне вряд ли понадобится заходить в них и общаться с людьми. Пока же я шёл по усыпанной щебнем дороге, справа от которой простирались виноградники, а слева раскинулась долина, на которой аккуратными рядами стояли фруктовые деревья с развесистой приземистой кроной.
Через несколько километров я добрался до холмистой местности и начал карабкаться на первый перевал по каменистой тропинке. Достигнув манящей снизу красотой горной вершины, укутанной зеленью, я разглядел вблизи жёсткую сочную листву кустарников, растущих на голых камнях и покрывавших почти всё вокруг. Поверхность из осыпающихся камней была столь неровной, что я то и дело запинался и терял равновесие, опираясь на импровизированный альпеншток. Я присел на отполированный ветром красно-розовый камень и осмотрелся вокруг. На обрывистом краю горы росли причудливые и пышные сосны, с другой стороны имелся спуск по крутой и жёсткой как наждак тропе. Внизу, там, где она кончалась, можно было пробраться между склонами ближайших гор по каменистой дороге, видимой за деревьями. После этого мне предстояло снова вскарабкаться на очередную вершину, немного передохнуть и опять спуститься вниз. На горизонте высились одни лишь гряды хребтов разной высоты, и иного пути теперь у меня не было. Каждый миллиметр карты означал восемьсот метров по земле вверх или вниз, и большая часть трудного участка ещё была впереди. Правильно сказала Марина, что главное не растеряться, не плюнуть на всё. Надо быть самодостаточным и целеустремлённым, и чтобы подбодрить себя, я включил плеер с самой знаменитой песней Эдит Пиаф «Браво, милорд», знакомой нам по эпизоду фильма, в котором Штирлиц вёз пастора Шлага к швейцарской границе.
Я давно заметил, что дома во Франции обычно окрашены в светлые тона, соответствующие оттенкам местной горной породы. На Лазурном берегу встречаются горы и разломы почвы красноватого цвета, а в окрестностях Марселя, как я видел в кино, — беловато-серого. Есть и желтоватые горы. В обрамлении южных ярко-зелёных деревьев с красивыми листочками и длинноигольчатых средиземноморских сосен они выглядят изумительно. Архитектура домов, усадеб и вилл здесь различна, но в ней имеется нечто сходное, французское. Возможно, это характерные ставни, расположение необычных окон или форма красных черепичных крыш. Однако все дома выкрашивались преимущественно в абрикосовый, лимонный и светло-серый цвета, что на фоне постоянно голубого неба под яркими солнечными лучами выглядело сказочно. А красота сельских пейзажей, изображённых на средневековых полотнах художников эпохи Возрождения? Не зря же бытует известное всем выражение «прекрасная Франция». Может быть, оно и возникло, потому что национальная идея тоже была сформулирована давно и коротко: «Величие Франции». Тогда какая национальная идея у нас в стране, где ежедневно говорят о «Великой России», и в чём же эта разница? В том, что воровство простирается до того, что даже цепи памятника национальному поэту на Тверской стащили вместе со станками заводов на металлолом, а вывоз денег за рубеж достиг того, что десятки миллионов соотечественников, отдавших здоровье за державу, ложатся спать голодными? Как говорилось в школьные годы, «у лукоморья дуб спилили, кота на мясо изрубили, русалку в море утопили, златую цепь в утиль снесли». Или эта идея заключается в национальных проектах окончательно сделать платными образование, медицину и коммунальные услуги, на что побоялся решиться даже Борис Ельцин?
Я поднялся и начал спускаться с горы, захватив на память обломок красноватого камня.
Нашу национальную идею формулирует глянцевая гламурная нечисть, мастурбирующая с телеэкрана на всё, что в стране ещё живёт и дышит. Это она культивирует ген жадности, сеет агрессивность и зависть вместе с правящей элитой, в очередной раз предавшей свой народ. И это она придумала цинично-тупую фразу — дремучий афоризм насаждаемой тусовочно-клубной культурой: «Если ты такой умный, почему ты такой бедный»? Потому что для личного обогащения, бесконечного приобретения благ, проведения времени в дорогих ресторанах, ночных клубах и казино требуются лишь хитрость, бесчестие и наглость. Именно они, эти люди придумали и всячески — через рекламу и СМИ, внедрили в нашу жизнь и наше сознание этот афоризм. И поэтому теперь у нас на слуху везде только одно слово «деньги». «Нельзя высказываться так категорично. Среди них тоже немало трезвомыслящих и вполне вменяемых людей», — возразил однажды мой коллега, побывав на моей открытой лекции. Ну что тут скажешь? «Маньяков перед расстрелом психиатры в обязательном порядке признавали вменяемыми», — отрезал я. Там и сям только и слышишь оптимистичные заверения, что среди представителей олигархов, депутатов, чиновников и культуры есть «немало» вменяемых трезвенников. Взгляните на улыбку с обложки любого глянцевого журнала, — отражается в ней всеобщее народное благоденствие или сытая удовлетворённость одних и тех же «телезвёздных» лиц? Зачем их назойливо представлять нам как «лучшую часть» народа «великой» страны, по-прежнему живущего своей и абсолютно «неглянцевой» жизнью? Это что, «цвет, гордость и достояние нации» только потому, что в отличие от большинства «успешны» и могут позволить себе Канары на уикенд? Нет, это всего лишь шоумены от разных сфер новой жизни, которой вымирающее поколение стариков, а вместе с ним его опыт и память совести уже не нужны. Глядя на нас с экрана или обложки, они всей блестящей мишурой своего облика подразумевают под нами завистливых неудачников, не научившихся торговать даже тряпками и пивом. Те, кто купается в гламуре, словно в ванне шампанского как на фотографии из одного модного журнала или только примеряются в неё залезть, никогда этого не поймут. Впрочем, «богатые тоже плачут», хотя суть проблемы это, конечно, не меняет.
Наша жизнь была устроена по принципу казино с игровыми автоматами, — одних делала здоровыми и богатыми, других — бедными и больными. «Однорукие бандиты» как ненасосавшиеся клопы заползли во все щели городов и сёл. И больных от игрового беспредела становилось всё больше, по скромным подсчётам в стране их было более миллиона, число это непрерывно росло, и лечили их психиатры. Но если от пьянства и наркомании излечить человека можно, от игровой зависимости — нет. Ни методик, ни средств избавления от игромании не существует, — люди становились психически неполноценными. Больным даже инвалидность можно давать, — утверждают врачи, — только без толку всё это. О самоубийствах и говорить не приходится. О них уже давно поёт Добрынин в зажигательной песне, приглашающей глотнуть свеженького адреналина. А игровой бизнес пел один и тот же нудный мотив об уплате налогов государству, однако при этом умалчивал, что в отличие от развитых стран это были крохи, издевательство. И государство, признавая дефицит трудоспособного населения, зарабатывало на неизлечимо больных, поскольку жизнь наших граждан ценится не совсем так, как в других цивилизованных странах. Но на эту тему стоит порассуждать отдельно и в другой раз, поскольку сейчас любое неловкое движение грозило мне падением на острые камни с высоты в четыре-пять метров.
Сегодня в Москве казино и игровые автоматы на каждом шагу, а в Париже они запрещены самим Наполеоном, и этот закон действует до сих пор. Во Франции в зонах отдыха казино, конечно, есть, но не так много. В Ницце и Сен-Рафаеле, например, мне попалось всего одно, хотя было немало стран, где подобные заведения совсем запрещены либо ограничены. Вы пойдёте туда с получки? Вот и я нет. И знакомых, которые туда ходят, у меня, как и у вас, тоже нет. И правильно, потому что инкубационный период этой болезни короче, чем у гонореи. И не всякое место, где на каждом углу можно расстаться с кровными и не очень кровными деньгами, называется Монте-Карло. Вы хотели бы насовсем переехать в Лас-Вегас или вам больше по душе свой город? Пусть и такой, в каком жители, приспосабливаясь к новым «правилам игры», превращались в рейдеров, рэкетиров, сутенёров, киллеров, хакеров, чёрных и серых брокеров, букмекеров, промоутеров, дилеров, риэлторов, хэд-хантеров и, разумеется, крупье и прочих завсегдатаев злачного дна?
А ведь есть шанс, чёрт возьми, обзавестись чужим золотишком и разбогатеть. Всякое бывает. И соблазн возникнуть может. Как и у каждого, а чем я хуже? Только я к этим цацкам не прикоснусь. Во-первых, мне наградой служит эта «большая прогулка», а, во-вторых, я историк и провожу некое исследование из любви к истории, в данном случае, семейной. Не нужно мне золота из сундуков, отданных за Эльзу! — думал я, поднимаясь вверх и цепляясь за жёсткие заросли, торчащие из расселины. В своём последнем интервью ясновидящая Ванга сказала корреспонденту, что богатство — это ничто, и оно не делает самого человека лучше. Как историку, мне было хорошо известно, что во всемирной истории почти не было случаев, когда найденные сокровища сделали лучше чью-то жизнь. Даже если ты честно заработал деньги без ущерба для других, предстоит ещё правильно распорядиться ими согласно твоему предназначению и предназначению денег в жизни вообще. А уж если говорить о вдруг свалившемся на тебя богатстве, тут и вовсе другое дело. После этого у «счастливчика» часто возникали жадность и ненависть к себе подобным, портились отношения с близкими, и жизнь менялась так, что он страдал от этого сам. Вокруг сокровищ начинались возня и дрязги, появлялись предатели, враги и негодяи, и нередко разбогатевший человек становился их жертвой. Говорят, «тёмное» происхождение драгоценностей, например, пиратских кладов, никому не может принести счастья.
Стоя на огромном камне самой высокой горной вершины, которую сегодня мне нужно было преодолеть, я посмотрел вдаль и увидел большую птицу, похожую на орла. Она, неподвижно расправив крылья, парила почти наравне со мной. И снова я нажал кнопку плеера, и во всю ширь голубого неба, залитого полуденным солнцем, осветившим горный обрыв напротив меня, словно каньон из «Золота Маккенны», раздался пронзительный голос Валерия Ободзинского.
Птицы не люди, и не понять им,
Что нас в даль влечёт.
Только стервятник, старый гриф-стервятник
Знает в мире, что почём.
Видел стервятник много раз,
Как легко находит гибель нас,
Находит каждого в свой час.
Не зная, что нас ждёт вдали,
Мы зря сжигаем сердца свои.
А грифу кажется, что это
Ползут по склонам муравьи.
Вновь, вновь золото манит нас,
Вновь, вновь золото, как всегда, манит нас.
Вновь обещает радостный праздник
Нам Бог или чёрт.
Только стервятник, старый гриф-стервятник
Знает в мире, что почём.
Видит стервятник день за днём,
Как людьми мы быть перестаём,
Друзей ближайших предаём.
Прикажет жёлтый идол нам
И мчим навстречу безумным дням.
А грифу кажется, что крысы
Бегут куда-то по камням.
Вновь, вновь золото манит нас,
Вновь, вновь золото, как всегда, манит нас.
За нами гриф следит с небес,
Чтоб вновь найти добычу здесь.
И тот его добычей станет,
В чьём сердце пляшет жёлтый бес.
Вновь, вновь золото манит нас,
Вновь, вновь золото, как всегда, манит нас.
Историки, психологи, биоэнергетики доказали, что страсти и пороки человека не изменились: он чувствует, думает и действует так же, как и две тысячи лет назад. Объяснение этому было простым, — душа оставалась вечной, а ограниченное земное сознание привыкло диктовать телу извращённые потребности, игнорируя заботу о самой душе и отвергая идею о цикличности вечной жизни. Если бы нам удалось избавиться от страха смерти (церковная догма о рае малоутешительна), мы бы стали неимоверно счастливее и перестали тешить своё «я» воплощением телевизионного обжиралова и сумасбродства в повседневной жизни и не теряли зря время, отведённое на Земле. В ходе гипноза человеку нередко задавали вопрос, сколько раз он уже жил здесь. Одна пациентка, находясь в трансе, ответила: «Восемьдесят шесть», хотя рассказала доктору всего о 12 воплощениях. Оказалось, в эту дюжину входили только те из них, которым требовалось какое-либо завершение, остальные не влияли на её настоящую жизнь. Говоря иначе, некоторые из отпущенных нам земных сроков проживаются впустую, создают долги и проблемы в сегодняшней жизни, а то и отбрасывают нас далеко назад, чтобы мы преодолевали свои заблуждения, ошибки и даже последствия преступлений новыми испытаниями и искуплением, ибо альтернативы короткого пути у человечества никогда не было. Вы когда-нибудь видели рожи рекламных лобби, доказывающих жизненную необходимость рекламы пива, казино и табачных изделий и прочих «свобод»? Они почему-то все на одно лицо. Это они и подобные им рьянее других отрицают жизнь за порогом физической смерти, потому что таким кроме прибыли ничего от нас не нужно. Это они выступают за легализацию порнографии, наркотиков, проституции и оружия, умудряясь пролезать в государственные комитеты по борьбе со злом и обвиняя здравомыслящих людей во лжи и галлюцинациях, потому что им мешают подсчитывать свои барыши. Но если пресловутый «свет в конце тоннеля» не более, чем галлюцинация и шутка, почему пережившие клиническую смерть неоднократно сообщали о «парении под потолком» и содержании этикеток, наклеенных на верхней части ламп над операционным столом, куда и руку-то не просунешь, и о том, что происходило в то же время в иных помещениях клиник?
По статистике современной России половина населения не чувствует себя в безопасности и триста её граждан ежедневно попадают в разные виды рабства. А на полках следственных органов лежат сотни уголовных дел, сданных в архив вследствие того, что их фигуранты обладают блатной мазой, или, выражаясь цивилизованно, — депутатской неприкосновенностью. Может, и впрямь у нас правит бал сатана? И почему у последнего при голосовании всегда единогласный кворум, а у народных избранников по любым «национальным особенностям» — абсолютный плюрализм?
Допустим, учёные-материалисты и теперь добросовестно полагают, что строго научных аргументов в пользу реинкарнации не существует, и ожидают от оппонентов-идеалистов изобретения карманного переговорного устройства для связи с невидимым миром. Оценка доказательств в отличие от их возникновения, собирания и исследования — вещь субъективная. Но какие доказательства, к примеру, требуются депутатам, что реклама, в которой сопляки высасывают баррель «продвинутого» пива до посадки в электричку, вредит не столько мочевому пузырю оболтусов, сколько душевному здоровью целой нации? Или мы выбираем тех, кто ещё не разобрался, что такое хорошо и что такое плохо? А может быть, в Думе больше половины стульев занимают заведующие пивоварен, не компетентные отличать ядовитые лекарства, продукты и пойла от нормальных? Или различающие, поскольку тоже руководят их производством? Тогда как могут выполнять наказы избирателей «безлошадные» депутаты, не усматривающие особой разницы между театральной и нормативной лексикой, фашизмом и злостным хулиганством, педофилией и педагогикой или эротикой и порнографией? Куда не плюнь, — положение хуже губернаторского. Боятся «расколоть» народ? Вон в доброй наивной Индии, на родине Камасутры в кинематографе поцелуи запрещены, и ни один олигарх или депутат от такого разгула нравственности по миру с кейсом не пошёл. Если помните, до того, как «основной инстинкт» превратили в «важнейшее из искусств», перед сеансом индийского фильма ещё свет в зале не успевал погаснуть и под песни линейками по матам синхронно мордобитию не захлестали, а у некоторых наших барышней уже вся тушь по лицу была размазана, — без всякой порноэротики настоящей любви алкали и от того, что «у нас в стране секса нет», под поезда не бросались. Или «безлошадные избранники» после революции 90-х закончились благодаря платным депутатским запросам, и в депутатском корпусе окончательно удалось победить бедность? Разве с такими способностями при удручающем расслоении общества можно додуматься до общей национальной идеи? Это какие законы надо напринимать, чтобы при провинциальной голытьбе деньги из страны контейнерами отсылались, а в страдающем от ожирения мегаполисе плодились кодлы бритоголовых? И почему бы мифическому Законодателю вместо невнятного бурчания об экстремизме не взяться за метлу или открыто не обратиться к ветеранам войны с заупокойной речью о том, что стилизованная свастика на фоне двух обрезков арматуры никакой угрозы для них пока не несёт? Мы когда-нибудь слышали, чтобы в апреле-мае на телевидение допустили хотя бы одного участника войны с тем, что он думает по этому поводу? И о том, кому, сколько и кто платит за такие законы? Кто поверит, что они пишутся или не пишутся бесплатно, когда все вокруг зарабатывают тем, что подвернётся под руку? А под руку подворачиваются даже известные тарифы на замещение «хлебных» мест и наша жизнь, зависящая от тех, кто заполняет своей тушей эти места и утверждает собственный прайс-лист — длинный список услуг по распродаже в розницу того, что осталось от их Родины. Думаете, закон о коррупции так и не напишут? Напишут, не сомневайтесь. И зачитают его сами себе перед вступлением в силу, сделав нечто вроде контрольного выстрела у подъезда. И гуляй, Вася.
На самом деле ответы на эти элементарные вопросы, правомерно волнующие население державы, так же просты и для верующих, и для закоренелых атеистов. Теория реинкарнации заставляет отказаться каждого от многого из того, что принимается за кровные личные и часто корыстные интересы. Она одинаково неудобна и опасна и для лидеров страны, отдавших приоритет потугам увеличения валового продукта без поддержания морали в обществе, и тех депутатов, что превратили государственный орган в свою кормушку, и армии прожорливых крупных и малокалиберных чиновников-пираний. И даже для дяди Пети — любителя надрызгаться, поматериться и распустить руки. Почему? Потому что данная теория не похожа на пересаживание проворовавшегося должностного лица в вышестоящее кресло в обход тюремных нар, — кому придутся по душе грёзы о том, что ты когда-то за свои грешки «…родишься баобабом, и будешь баобабам тыщу лет, пока помрёшь»? Да ещё родишься лишённым нажитого непосильным трудом неотвратимо, а не так, как в сформулированном буржуазным юристом Чезаре Беккариа принципе о неотвратимости наказания, приписанном коммунистическому юристу Ленину. И тыщу лет будешь одиноким баобабом неотвратимо глотать пыль из-под колёс «Хаммеров» и «Роверов», прикативших под твою тень, но без тебя, оттянуться на сафари. Бр-р, одним словом.
Однако ни вор, ни убийца, ни прелюбодей, нарушившие земные и небесные заповеди, не боятся вечного адского пламени, чего уж говорить о расплате через десятки, сотни, тысячи лет в чужом теле? Вероятно, этот сказочный огонь, придуманный крепнущей католической церковью взамен учения Христа, не может никого всерьёз устрашить, так как для обыденного ума ни баобаб в саванне и ни что другое не является вечным. Вечность аллегорического огня предполагает, что пока одни вечно горят в аду, а другие так же вечно балуются наливкой из райских яблочек, третьих без устали штампуют вроде гаек на конвейере, чтобы было кому заселять грешную Землю-пересылку, освобождённую ранее съехавшими с жилплощади. Такой вот бездонный, но малоубедительный оборот душ в природе без всякой надежды на лучшее. Но в природе, как известно со школы, ничто не исчезает бесследно, не прекращается и даже вода имеет свой кругооборот; население планеты растёт, и один учёный, побеседовавший за десять с лишним лет с тысячами душ во время гипноза, пришёл к выводу, что рост количества землян обусловливает увеличение частоты воплощений. Если раньше люди в среднем воплощались примерно раз в столетие, то теперь наши души возвращаются сюда дважды. Ну, и куда махнём в следующий раз, чтобы сберечь и развить душу, — в столичный шоу-бизнес, где на тусовке суперстар негде упасть, или в какую-нибудь таёжную глушь? Но вечно только колесо Сансары, о котором не понаслышке знают лишь посвящённые. А истинно посвящённые во все века никогда не думали, не чувствовали и не действовали так, как привыкли мы. Их не много, гораздо меньше, чем суперзвёзд или жаждущих получить в истории титул «Великий», но они есть. Мне стало понятно, почему мы так долго не можем определить свою национальную идею, — наш народ устал и больше не мог терпеть и верить в полуправду, исходящую сверху от кого бы то ни было. И ещё я подумал, что документы Вселенских Соборов, на которых «депутатские кворумы» выхолащивали учение Христа о переселении душ, мне не добыть, потому что везде придётся натыкаться на неправду и заговор молчания. «Ну и не надо, — решил я стаскивая рюкзак и осматривая место для привала. — Мне хватит и своих доказательств. А всё-таки было бы занятно почитать, как голосовали „слуги господа“ кардиналы против того, за что потом их паству сотни лет жгли на кострах. И узнать, что думают о предмете и последствиях того голосования нынешние верховные слуги».
Завтра я увижу дом своих предков. Если найду…
* * *
— Знает ли Дух заранее, какою смертью он умрёт?
«Он знает, что жизнь, им избираемая, подвергает его тому или другому роду смерти; но знает также и о той борьбе, которую ему придётся вынести для избежания её и знает, что если Богу будет угодно, то он не погибнет».
Книга Духов
* * *
После обеда, приготовленного в горной расщелине, защитившей меня от ветра и солнца, я пошёл дальше. Всё больше удаляясь вглубь страны, с каждым километром я спрашивал себя о действительных причинах, по которым попал в эту загадочную историю, на какие шаги я буду готов пойти, и какие вызовы пошлёт мне судьба? Одно дело найти некую Констанцию и поговорить с ней и совсем другое — открыть тайну запредельного прошлого. Известно, что мир изменить нельзя, а реально можно изменить лишь себя. Легендарный король Артур и рыцари круглого стола, чьё существование в средние века так и не было доказано даже последними археологическими находками, дали новое понимание нашего мира и благополучия для людей. Они просили Господа дать им Силу, чтобы изменить то, что можно изменить, Терпение, чтобы принять то, что нельзя изменить, и Мудрость, чтобы отличить одно от другого. Они знали, что переделывать наш мир крайне неблагодарное и опасное дело, гордыня и глупость, ибо во все времена религия считала избавление от греха и неведения целью любой жизни. Если душа бессмертна и живёт много раз, освобождение от пороков, очищение её, становились необходимым условием того, чтобы разорвать бесконечный круг Сансары — цепь рождений и смертей, и, перестав воплощаться на Земле, никогда не страдать от старости, болезней, несправедливости ближних и всего, что сопутствует жизни в этом мире. Я был знаком с несколькими теориями устройства Мироздания, но все они, кроме этой, допускали возможность творить человеку на Земле всё, что ему заблагорассудится. Главный вывод, который помог мне сделать доктор, потрясал суровой беспощадностью логики, и был до удивления прост. Любой человек оказывался перед выбором: продолжать бесконечно воплощаться на Земле либо пересмотреть свои земные цели, казавшиеся ему главными, и начать стремиться к той единственной, о которой он никогда не задумывался. Для нас, простых смертных, это означает, что кому-то следует дальше жить не совсем так, а кому-то — спохватиться и изменить всю свою жизнь. Наше скрытое подлинное будущее зависело лишь от того, какого совершенства и в чём именно мы достигаем.
А когда задумываться над этим, если у нас не жизнь, а сплошной бизнес-маркетинг? Нет времени ни на сон, ни на дорожные пробки, ни на новый бестселлер Марьи Молодцовой. Смертельная борьба за благополучие, личное расположение работодателя, комфорт и статус. То мезим, то антипохмелин. В общем, вы понимаете. Будет ли в такой суете до призрачных идей и сомнительных целей, не достижимых в течение одного земного пути? И как тут догадаться, что всё, чем мы занимаемся почти без выходных, не подвигает нас к главному, а, вероятно, наоборот, отодвигает? И ничего не могут подсказать ни друзья по фитнес-клубу, ни сам шеф фирмы на корпоративной вечеринке, ни даже плазменный телевизор последней марки, целыми днями висящий на стене напротив образованной супруги. А может, и не надо? Зачем, если кругом столько красивых и престижных предметов материального мира? Однако рано или поздно задумываться над этим приходилось — откладывать выбор на следующую жизнь и тем умножать будущие земные испытания и печали, находясь у последней черты, было страшно: а вдруг да обещанное классиками диамата небытие ими выдумано, и за порогом встретит сам чёрт с раскалённой сковородкой? Возьмут, для начала обжарят как цыплёнка-табака, да отправят обратно на Землю в наказание, — и на этот раз не пошлют вдогонку ни баб, ни «Мерса», ни «капусты», несмотря на одну, две, три… благотворительных акции в пользу ближних и свечки за упокой души конкурентов.
Не верил я, что в мире, куда мы приходим на сравнительно короткий срок, проживаем всего одну жизнь, чтобы после смерти раз и навсегда быть осуждёнными Всевышним без всякой надежды на исправление ошибок. Как согласуется это с учением Церкви о Бессмертии души? Что же такого должен сделать человек, чтобы добрые слова о том, что он жил правильно и достойно, звучали справедливо на его могиле?
В следующую минуту мне открылся вид на равнину, через которую тянулись высоковольтные провода ЛЭП. Сверху ясно просматривалась петляющая лента асфальтовой дороги и километровые столбики. На краю поля блестели металлом грандиозные сооружения складов и станции технического обслуживания автомобилей. Правее неё далеко-далеко синела узкой полосой возвышенность, уходившая на многие километры.
Эге-ге-ей, э-э-эй, — заорал я во всё горло, отшвырнул свою палку и как горный козёл понёсся вниз к тропинке, опоясывающей склон. Спуск вывел меня к кустарнику, за которым лежала дорога. Я перешёл её и издалека прочитал на голубом щите долгожданные слова:
CHATEAU — CONTY
8 km
Я стоял перед указателем, будто он являлся конечной целью моей поездки, и теперь нужно решать, унести его целиком или распилить на части. Мой вид был ужасен: мятая одежда, порванный жилет, сбитые о камни ботинки и двухдневная щетина. Жаль, что не побрился в лесу у ручья. Однако приводить себя в порядок было некогда.
Дорога к городу пролегала мимо виноградников и зелёных полей, расходившихся широкими лощинами. Местность была пустынной, у редких хозяйственных построек никого не было. Шато-конти располагался у подножия невысоких гор. Некоторые дома поднимались по их склонам. Черепичные крыши выглядывали из зелени и выше, почти на самом верху, но я знал, что густые деревья обычно скрывают большую часть зданий и серпантин горных шоссе. Отсюда была видна вся панорама города, кроме небольшого участка слева — он находился за голым каменистым склоном горы, в котором прорубили дорогу. Другое шоссе проходило ниже и вело к центру города. Пройдя дальше, я увидел, что верхняя подъездная дорога шла к современному каменному мосту на высоких арках, соединявшему склоны гор. Затем она расходилась, — один путь терялся в зарослях наверху, а другой уходил вниз к дальней окраине.
В лучах предзакатного солнца городок выглядел как на старинной картине. Ветер донёс издалека блямканье, — это звонили колокола главной церкви Шато-конти. Я глубоко вдохнул, почувствовав запах, — то был волшебный аромат полей и гор края, который полгода будоражил моё воображение, мешал спать по ночам и, наконец, привёл меня сюда. Неужели здесь и прошло детство моей прабабушки? Ну, и где мне теперь искать Констанцию Боден, единственного из оставшихся в живых человека, знавшего тайну поместья Мелье? Я вспомнил, с каким трудом этой весной смог разыскать место во Владимире, где не так давно стоял дом Кулешовых. Но как найти нужный дом тут, спустя чуть ли не сто лет? Неужели в муниципалитете Шато-конти сидят такие же бюрократы, как у нас? И что я наплету им, явившись в таком виде?
Где эта улица, где этот дом? И где барышня?
Городок начался как-то сразу. Не было ни большой разлившейся лужи, из которой торчат дырявые вёдра с автопокрышками, ни кряканья гусей, ни почерневших сараев с огородами. Я проходил мимо красивых двух-трёхэтажных домиков, похожих на виллы и отгороженных от шоссе стенами, увенчанными черепицей. После второго перекрёстка дорога пошла под уклон. Внизу я перешёл небольшой мост через мелководную речушку, берега которой напоминали крепостной вал, сложенный из угловатых булыжников. Очевидно, по реке когда-то проходила граница старого города, а каменный арочный мост был местом въезда за крепостные стены. Остатки укреплений кое-где ещё сохранились.
К брусчатой набережной подступали трёхэтажные дома, выстроенные из белого и желтоватого камня. Старинная застройка была плотной и хаотичной. Город строился на разных уровнях, и его крыши то поднимались вверх, то опускались вниз. Некоторые кварталы примыкали остроугольниками друг к другу словно нарезанный кусочками торт. После транспаранта с направлением в центр города я свернул на одну из мощёных булыжником улочек и побрёл по узкому тротуару. Рабочий день уже закончился, жара понемногу спадала. Улица вывела меня к небольшому скверу с фонтаном, где торговали цветами и всякой всячиной. Я не стал отдыхать, а направился по переходу через проспект, куда шло большинство людей. Поднявшись по лестнице и войдя через арку в глухой стене, можно было оказаться в начале короткой широкой улицы с магазинами и кафе. Белые ставни окон верхних этажей зданий были распахнуты, ярко-жёлтые стены между узкими балконами увивал плющ. Над окнами первых этажей и витринами висели разноцветные маркизы. На красно-розовом асфальте тротуара стояли зонтики летних кафе. У меня зарябило в глазах.
Дойдя до угла, я увидел перед собой вымощенную камнем площадь, видимо, бывшую в старину рыночной. Откуда-то снова раздался колокольный перезвон. Купол церкви находился совсем близко, и я подумал, что лет сто назад по воскресениям к ней наверняка подъезжали на лошадях моя прабабушка Мари с сестрой Элен и их родители — Антуан и Элизабет. Это был центр городка, который при желании можно обойти за какой-нибудь час-полтора.
Можно было с уверенностью сказать, что в Шато-конти я был единственным туристом. Какому туроператору придёт в голову отправлять сюда своих клиентов? Люди обычно едут туда, где самих туристов, пожелавших посмотреть мир, больше, чем местных жителей. Тур есть тур, а автостоп есть автостоп. Представляю, как бы я выглядел среди французов, спустившихся из квартиры в майке и тапочках, чтобы выпить в кафе свой аперитив. На площади, у входа в бар, под натянутым тентом находились столики заведения. Отсюда открывался прекрасный вид городка, наступавшего на бело-зелёные склоны гор. Я решил остановиться тут и, пока не стемнело, всё обдумать.
Доставать свои бутерброды в кафе цивилизованного государства неприлично. Давно проверено. Это приносит материальный убыток хозяину буржуазного общепита и моральный вред имиджу его заведения. Он может неожиданно подскочить к вашему столику и, бестолково размахивая руками, предложить вам есть крутые яйца и колбасу в другом месте. Во Франции, чтобы попросить налить кипятка (в разговорнике есть это полезное слово) в пластмассовый стаканчик с насыпанным в него кофе, девушке за стойкой можно показать какую-нибудь таблетку. Иначе она непременно обратиться за разрешением к своему хозяину, стоящему за кассой. Воды в итоге всё равно дадут, это тоже проверено. А в Германии таблетку показывать не надо, — нальют воды и так, без разрешения. Таковы нравы, о которых лучше узнать заранее. Что можно в одной стране, нельзя в другой. А то, что нельзя в обеих, можно в третьей. И наоборот. Например, в России вместо бесплатного куска хлеба могут гостеприимно подать и водки, вместо воды — двинуть по морде, а вместо ответа на вопрос, как пройти, — послать к чёртовой матери. Ну, а если сам хлебосольно угостишь водкой кого попало, в благодарность могут вывернуть карманы и забрать последнюю мелочь. Таков уж диапазон русской души. Про национальные особенности поведения на ухабистых дорогах родины и упоминать не стоит. Это длинная песня. И ещё надо знать, что за границей также есть продуктовые магазины, в которых можно купить любые продукты, а не таскать их с собой в рюкзаке. Тоже факт, правда, это обойдётся раза в три дороже. Впрочем, заглянуть с подмосковной пенсией в московский (или свой) гастроном всё равно, что на стипендию посетить элитный клуб, набитый олигархами и звёздной шушерой. Так или иначе, паёк автостопщику часто бывает необходим.
Я вошёл внутрь бара, чтобы взглянуть на зеркальные полки разноцветных бутылок за стойкой, — интересно же, что пьют французы. Несколько мужчин сидели и за рюмкой вели беседу между собой. Хозяин или бармен сразу же повернулся и подчёркнуто уставил на меня взгляд — так здесь принято встречать клиентов. «Нет, нет, месье, лучше я сяду там», — ответил я по-русски и показал большим пальцем через плечо на улицу, где можно сделать заказ на свежем воздухе. В Австрии, в Вене, которая отличается от Москвы сервисом и общей культурой примерно так, как кирзовый сапог от туфельки балерины, и своей атмосферой, как воровской сходняк от детского утренника, просить чашку кофе бесполезно — сортов его столько, что вас не поймут. Возьмите большой чёрный эспрессо, распространённый по всей Европе, и это будет не дорого. И кофе там такой вкусный, что хочется незаметно положить в карман ложечку на память, поэтому специально для туристов сувенирные лавочки торгуют декоративными ложечками с чашками в придачу. А вот в Италии заказать кофе проще, и у стойки бара обойдётся дешевле, чем за столиком, однако в этой стране принято наливать в любую чашку всего полглотка напитка. Зато там любой прохожий может зайти в бесплатный туалет ресторана или кафе прямо с улицы, и его, как у нас, никто не остановит. Москва, где бесплатно летают одни мухи, а благотворительность смахивает на платное милосердие, давно жила по принципу «деньги не пахнут» и зарабатывала на платных нужниках большие деньги. Но само крылатое выражение родилось в Древнем Риме в связи с обоснованием введения платных общественных туалетов, — тогдашнему правителю Веспасиану больше других хотелось денег. В результате, накопив их изрядное количество и зарабатывая на всём подряд, Рим прогнил и развалился. А история, как известно, развивается по спирали и вкладывает новую силу в очередной виток, повторяющий те же самые грабли. Теперь каждому дозволялось поставить на тротуаре кабинку с ржавым тазом и брать плату за вход. А идею о платном отправлении естественных потребностей выдумал один наш бизнесмен, который разыскивался Интерполом. Жаль только, что этот весьма характерный для культурной и духовной столицы пример оказался заразителен для всей России и начал теснить заповеди.
Присев за столик, я поставил рюкзак на пол, достал из сумки карту, выложил на неё компас и, закурив «Мальборо», начал сосредоточенно рассматривать территорию вокруг городка. Наверное, мой потрёпанный вид явно давал понять, что я не простой, а квалифицированный бродяга. А сын дворника или министра, — кто там разберёт, — в ободранных ботинках и с рюкзаком все равны. Начинать разговор с того, что мы, мол, «сами не местные» смысла не имеет, как и прикидываться вернувшимся домой.
Передо мной возник элегантный официант лет сорока, вежливо поприветствовал и заговорил по-французски. Ясно было одно: он предлагал мне блюда, считая, что болван перед ним обязательно выберет что-нибудь погорячее, побольше и подороже. Я терпеливо дослушал его и ответил по-английски: «Извините, я не понимаю вас. И у меня нет денег». Он, кажется, всё понял. Не то чтобы я решил подурачиться или сэкономить, а просто так перешёл на русский и попросил принести эспрессо без сахара, минеральную воду без газа и круассан, согнув пальцы рожками. Если он знал английский, поймёт эти слова и по-русски. «Okay», — невозмутимо кивнул официант и исчез за порогом бара.
А что такого? «Ломануться блудняком» по изъезженной и вылизанной вдоль и поперёк Европе без достаточной суммы валюты, значит, получить такую гамму впечатлений, о которой скучающие в «золотых клетках» жёны новых русских могут лишь мечтать. Или презирать за плебейскую романтику, предпочитая громкие оргии Куршевеля или тихие собственные виллы в Сен-Тропе и Ницце.
Через пять минут официант, лавируя между столиками, вернулся с круассанами, кофе и водой. Наверно то, как я откусил сдобу, вызвало у него сопереживание, и он перестал думать, что этот, зашедший сюда по недоразумению бэкпэкер, закажет что-нибудь ещё.
Русский человек всегда неоднозначно относился к культуре европейского зарубежья, но не потому, что Запад являет собой экзотический хорошо взбитый коктейль. Он, гордясь своей страной, мечтал, что лучшее из того, что там есть, может быть брошена и на родную почву. Но мы, начиная с Петра, перенимали самое дурное, уничтожая исконные русские традиции и дух своей земли. Ладно бы только брили бороды боярам или не брились по моде, как сегодня. В конце концов, нам удалось сделать рубль и личную выгоду единственным идеалом и предвестником потери великого государства. В этом сходились опасения многих пророчеств о судьбе России за последние триста лет. Не знаю, как вам, а мне было страшно читать предсказания о крахе страны и предваряющих его событиях, часть которых в новейшей истории уже воплотилась нашими собственными руками. Потому как на Руси, отродясь не бывало, чтобы как в каком-то Амстердаме в гости за деньги ходили или между венчанием в церкви и первой брачной ночью контракт с описью имущества составляли. Кто нам «совет да любовь» на «блудное сожительство» и твёрдую валюту во всём заменил и на каждом углу её курсом с утра чаще, чем прогнозом погоды, в лицо тычет? Спросите, кому нынче кроме разбойников, взяточников, спекулянтов и депутатов на Руси жить хорошо? Исстари наши купцы «покуршевелить» любили, но барыгами не были и торговали пенькой и лесом, а не родиной. При каком таком Домострое выступления государственных мужей и целующихся смазливых баб с голыми задницами единым термином «шоу» обозначались? Где это видано, чтобы в первопрестольной уже и за место на паперти платить надо, потому что оно сирым и убогим доход приносит? Посмотрите на картину Сурикова «Боярыня Морозова» — разве могли её персонажи сами докумекать до продажи лунных соток или органов тела и много чего ещё? Да они бы, — прототипы этих персонажей, — скорее на второе пришествие родного царя-душегуба с радостью согласились, чем на последствия демократических реформ прозападных ельциноидов, которым, словно оккупантам, на разграбление города всего три дня отвели. Вот и избаловались так, что прибыль от их так называемого бизнеса в десять процентов не устраивает, — им триста подавай. Не было такого даже во времена, когда Малюта Скуратов, — он же Григорий Бельский, в ударниках опричнины при Иване Грозном состоял. Щедрыми тогда все были, мёд да пиво без рекламы пили и фирменные двери на ночь не запирали, хотя, конечно, большинство инноваций и ноу-хау, как всегда, из столицы от царей наших до всея Руси исходило. А за то, что у думского дворянина Гришки частенько случались дни, когда он персонально во имя царя и во славу будущей мощи державы губил «ручным усечением» не меньше сотни душ, Грозный после смерти палача и кормильца его вдове и сиротам пожизненную пенсию назначил, да не меньше, чем наши депутаты и министры сами себе. Так сказать, в связи с неуклонным ростом мировых цен на народное достояние — нефть и газ. И теперь им пофигу, даже если мы начнём платить налог на лысину и воздух, и рыба будет стоить дороже бурёнки, как в позднем Риме, поскольку и те, и другие морочат нам голову аморфной категорией «инфляция», а для себя лично используют точную меру покупательной способности, которую им, не иначе, под страхом лютой смерти вслух произносить запрещено. Что бы началось, если бы вместо регулярных заявлений о повышении в несколько раз зарплат и пенсий, нам так же систематически вещали и докладывали об обратно пропорциональном понижении названной способности во столько же раз? А теперь представьте сытые рожи народных слуг на иномарках с мигалкой, отмеряющих нам по два грамма чая и три крупы по нормам прожиточного минимума, которые они единогласно для нас утвердили, — так же единодушно, как, согласно призывам, мы на выборах за них проголосовали. Эти крохоборы с миллиардными заначками в чужестранных банках, съедающие продовольственную корзину в один присест и без мезима, даже сумму в размере жалования доктора и учителя на карманные расходы носить стесняются, — коллеги засмеять могут. И правильно, потому что рядовые клерки из Аппарата Президента меньше пятисот-тысячи долларов в кармане с авоськой не таскают, а это факт достоверный. Всего пять-десять зарплат тех, кто их детей лечит и учит. Откуда возьмётся кровная заинтересованность в борьбе с очередным ростом цен на булку черняшки и кефир или с вымогательством похоронных накоплений в реанимации над операционным столом, если им лишь бы место на своей паперти не отобрали, а созиданием вокруг занимается исключительно один монетный двор? А как же иначе, если даже «продвинутые» небожители Рублёвки поболее прочих смертных верят в перевоплощение души и в предчувствии конца света стяжают средства на личный ковчег? И какая компания собралась в одном месте! Вороватые чиновники со своей национальной идеей «урвать побольше и удрать», крутые олигархи, мечтающие приватизировать всё от звёзд до дна океанов, очевидные бандиты. И не без интеллигенции, конечно. Например, не без гламурных писателей, кропающих о глянцевых прелестях рублёвской житухи запредельными тиражами, или шоуменов, ставших «как бы на самом деле» «звёздами» в «своём формате». У дамской половины всех этих особей даже язык специфический — на блатную феню и телевизионный сленг не похожий: на нём простое русское слово «голодать» означает всего лишь прекращение трёхразовых хождений в ресторан и резкий переход к заказу продуктов на дом. И, разумеется, не трансгенной колбасы с трёхпроцентным содержанием мяса. Не брезгуют они и народной снедью в столь тяжёлое для себя время, — не задумываясь, по пути из салона красоты могут прикупить баночку солёных огурчиков или грибков за сотню-другую баксов, чтобы совсем не умереть с голоду. Рынок-базар, одним словом.
Поскольку у нас с конца пятидесятых годов всё ещё действует презумпция невиновности и бандитами разрешено называть посторонних граждан лишь по признанию суда, необходима оговорка: этим родовым, хотя и специфически узким понятием, они обозначают себя сами, а так же их ближайшие связи и соответствующие подразделения компетентных органов. Но какой умник придумал, что эти люди нуждаются в выдаче официальной ксивы нашим гуманным судом? Что удостоверять-то, — статус коронованного на очередном «съезде» «вора в законе» согласно неубывающим спискам из открытой печати? И всё это в нашей национальной манере: казнить, — так миллионами, миловать, амнистировать и реабилитировать, — так всех скопом: в массе безвинных сталинских зэка с уголовными авторитетами ельцинского розлива.
К месту вспомнить, в государстве российском чиновничья мзда всегда считалась чем-то вроде веры в царя-батюшку или чаевых таксисту и официанту эпохи генеральных секретарей. Это уж потом первый президент России произнёс для народа фразу о том, что «чиновник не должен брать взятки». Однако то, что наш чиновник-лихоимец районного масштаба, нередко в слове «помидор» две ошибки допускающий, на свои чаевые смог бы прокормить электорат отдельно взятой области, не снилось ни царским министрам, ни Госплану, ни БХСС — ярому врагу мелкого и особо крупного недолива, недовеса, недосыпа и недомера тотального дефицита. Правда, царских министров было за что свергать, Госплан, помести его в Сахару, мог обеспечить только перебои с песком, а БХСС боролся преимущественно с недоливом пива, отчего пришли к неоспоримому выводу, что «экономика должна быть экономной». Однако раньше за обсчёт на десять копеек буфетчицу, у которой золото разве что из носа не торчало, свободы на год-другой лишали, а сейчас за «особо крупные размеры» не стреляют, а только изредка журят, штрафуют или перемещают, чтоб другим не мешали. И всё из-за рьяного стремления к пресловутой «покупательной способности», за которую каждый, согласно основному инстинкту, готов костьми в одиночку лечь. Ну, а инфляция — дело общее, государственное, никак чиновнику сладко пить и вкусно есть не мешающее. Не может же он открыто призывать неудачников индивидуально бороться за личную покупательную способность, если она от собственного радения и таланта зависит, — нынче на дворе самый что ни на есть капитализм, о зверином нутре которого все советские газеты загодя предупреждали. А при этом строе всё продавать дозволено: и полезные ископаемые, и далёкие планеты солнечной системы, и дырку от бублика. И даже мать родную с отечеством, если на них спрос будет расти, как на квадратные метры в белокаменной. Ну, а купить-продать совесть, престиж или честь, — вообще, не вопрос, — предложения этого товара в Интернете давно превысили спрос и в прямом, и в переносном смысле. Не можешь поднять бабки, которых везде как шелухи от семечек в подъезде наплёвано, — не способен к радостям жизни как евнух в гареме, — евнух ты и есть. О таких гражданах у нас государство позаботилось и высчитало «прожиточный минимум», исходя из «срока дожития». Правда, срок этот заканчивается, как правило, за год до первой пенсии, но зато в Конституции записано, что каждому гарантируется право на жизнь и обеспечение по старости, и это завоевание демократии у нас никому не отнять, равно как и право устанавливать любые минимумы и сроки и чёрт знает, что ещё. Будем ли мы после этого, господа, отмечать данный праздник под фанфары и всенародный оргазм или нам придумают новый? Если у вас появились сомнения в том, что Москва — сердце нашей Родины, потому что таких плакатов стало меньше, зайдите в ГУМ, что на Красной площади напротив Кремля. Там все витрины обклеены рекламным глянцем. А на глянце написано, что если вы не платёжеспособны, чтобы одеваться у них, значит, вы не состоялись в этой жизни и есть ни кто иной, как бездарь и лох. Или евнух. И таким же лохом начинаешь чувствовать себя в любой сфере и в любом уголке родины своей, проходя как гость, потому что от Москвы до самых до окраин, даже в тмутаракани на крыше такси извозчика привинчена табличка «Элита», а над входом в сельмаг — вывеска «Престиж». Интересно, лозунг «Россия, вперёд!» принадлежит тому же автору, что и на глянце, или другому? Больно уж география совпадает.
Бар внутри и снаружи заполнялся посетителями, которым до меня не было никакого дела. Шустрые официанты без конца сновали туда и обратно. На Западе, я слышал, не принято заговаривать с незнакомым человеком без причины, и места за моим столиком пустовали. Я уже давно всё съел и выпил, продолжая курить и смотреть на город. На площади засветились фонари, и фасады зданий вспыхнули цветными огнями. Честно говоря, искать место для палатки мне не хотелось. Я был настроен так, что мог бы переночевать и на скамейке возле фонтана, и в полицейском участке, если примут за бомжа, и просидеть всю ночь в баре, слушая музыку, а в крайнем случае отправиться в ближайший отель. В этот тёплый вечер, оказавшись на людях, мне хотелось приключений, чего-то необычного, что потом будет вспоминаться всю жизнь. Даже усталость как рукой сняло, несмотря на тяжёлый день.
Подозвав официанта, я жестом попросил счёт и, порывшись в многочисленных карманах своих грязных штанов, рассчитался мелочью. Пока он с любезной миной на лице собирал со стола мои евроценты, я тихо и внятно произнёс по-английски: «Месье, здесь в Шато-конти я ищу своих друзей. Мне нужно переночевать всего одну ночь до утра. Вы можете мне помочь»?
Официант, казалось, непонимающе смотрел на меня, будто ожидая, что я сумею выразиться яснее. Вероятно, что мой неприкаянный вид обратил на себя его внимание, сказав больше, чем я, и он ответил мне по-английски: «Подождите немного, я к вам подойду».
«Henri, Henri!», — крикнул он вслед своему более молодому коллеге, несущемуся как метеор с полным подносом в руке над головой. Тот развернулся на ходу вокруг своей оси так, что поднос остался на месте, и резким жестом свободной руки, как фокусник, щёлкнул пальцами, показав, что вернётся мигом. Затем оба мужчины о чём-то поговорили у входа под тент. Старший поправил бабочку у воротника, хлопнул другого по плечу и ушёл обслуживать столики. Анри подошёл ко мне и что-то сказал, видимо, английского он не знал. Я ничего не понял и помотал головой. Тогда парень взял свой блокнот и написал: «22Н15» и ткнул ручкой в ближайший ко мне стул. «Ясно, — через полчаса», — подумал я и кивнул ему.
У меня хватало времени, чтобы отыскать церковь, так как я запомнил направление, в котором надо идти. Она была уже закрыта, пришлось обойти её и немного постоять на низких ступенях. Мне хотелось когда-нибудь, — когда всё кончится, придти сюда и поставить свечи. Я вернулся к бару по обезлюдевшим улицам. Анри поманил меня к себе, я молча двинулся за ним и, оглянувшись, махнул рукой официанту, который меня обслуживал.
Анри был черноволосым худощавым парнем лет тридцати. По дороге я смог выяснить, что его рабочая смена закончилась, у него есть семья и нам не очень далеко идти. Ни одного слова по-английски он не понимал и в школе изучал немецкий язык. От меня он узнал, что я пришёл пешком через горы из самой Москвы, на что он смог только воскликнуть «о-ля-ля!» Наверно, из истории он помнил про походы Наполеона I, Россию и Москву. Больше мы ничего добиться друг от друга не успели, потому что свернули на улицу Терми, где он жил. «Неужели первую ночь в Шато-конти я буду спать на диване времён Марии-Антуанетты?» — мечтательно, совсем как молодой щенок, подумал я.
Дом, куда мы пришли, был трёхэтажным. Анри открыл ключом полукруглую дверь в каменной ограде, и мы шагнули во дворик, устланный плиткой. По стенам дома спускалась виноградная лоза. Ставни окон были открыты, на нижнем этаже ещё горел свет, и я разглядел в инвалидной каталке худую старуху. По верхним этажам проходили каменные лоджии, огибающие фасад и соседнюю стену. Односкатная черепичная крыша имела небольшой наклон. Справа находилось небольшое здание с острой высокой черепичной крышей, которое по нашим представлениям можно отнести к хозяйственной постройке или летней времянке с кухней. Дом строили не так давно, а этому зданию могло быть и более века. За ними темнел сад, где росли остроконечные деревья и стриженые кусты вроде нашей туи. Анри поставил на колёса брошенный детский велосипед и дал знак следовать за ним. В одноэтажном домике оказалось уютно. Стены были отделаны пластиком, окна имели жалюзи и кондиционер. К люку потолка на чердак подходила крутая лестница. У торцевой стены были оборудованы туалет и душевая кабина, а в комнате располагалась удобная мебель. Пока хозяин прибирался, выяснял у меня, хочу ли я есть (какой-никакой, а гость), показывал, где включается и выключается вода, и, вообще, что здесь к чему, в моей памяти всплыло содержание письма бродяги. Я точно помнил: обратный адрес на конверте не включал название улицы, а лишь город и имение Мелье, и, следовательно, на почте, куда доставлялись письма, знали, где находится их дом. И, значит, — где-то недалеко, причём у виноградников и конюшни, но не в самом городе, а рядом. И вдруг мой взгляд упал на место, где лежала карта — подробная и крупная карта местности. Попросив у Анри взять её, я развернул и увидел окрестности городка. С огромным трудом я смог объяснить ему, что ищу семью, проживавшую неподалёку от Шато-конти в большом доме среди виноградников. Я испугался, что парень примет меня за чокнутого, выхватил из сумки разговорник и стал лихорадочно листать его в поисках нужных слов и выражений. Я тыкал в них и тут же давал читать ему. Мы общались, произнося вперемежку французские и русские слова, сопровождая их немыслимыми жестами, и даже прибегли к рисункам в блокноте. Удивительно, но и два глухонемых без азбуки поймут друг друга, если захотят этого, а Анри, я видел, хотел мне помочь, невзирая на поздний час.
В конце концов, он записал все известные мне имена людей, в том числе Филиппа и Жозефины, переводя их с моих слов на французский язык, а также годы, в которые жили члены семьи Мелье в своём доме. Я исхитрился и довёл свою мысль о том, что этому поместью, дому или замку стукнуло, возможно, уже и двести, и триста лет, будто в Шато-конти не было зданий и пятисотлетней давности. Анри подвинул к себе карту, размашисто поводил над ней авторучкой и вопросительно посмотрел на меня. Подумав, я обозначил над городком круг, в который вошли целые километры виноградников, дорог и полей. Он взял карту и переспросил у меня:
— Justement, domaine de Melier?
— Жи сюи, абсолюман!
— Alors ce n’est pas si difficile, — ответил он и жестом попросил подождать.
Оставшись один, я умылся и вышел покурить во двор. Звёздное небо и аромат южной ночи усилили моё романтическое настроение. Опустив глаза вниз, я увидел через окно Анри, беседующего с пожилой женщиной в инвалидной коляске. Затем он погасил свет и вышел из комнаты.
Вернувшись, Анри развернул передо мной карту, опустил палец в точку с изображением отдельного строения и попытался что-то объяснить мне. В свою очередь, мне хотелось узнать, каким путём было лучше добраться до этого места, — судя по масштабу карты, от городка до него было около двух километров. Анри показал мне дорогу и провёл ручкой линию вдоль голубой ниточки реки, которую я недавно переходил. Затем он сделал извиняющий жест и показал мне на своих часах, что уйдёт завтра очень рано, а я могу спать, пока не проснусь, и ни о чём не беспокоиться. Я извинился и как мог поблагодарил за всё, что он для меня сделал. Он пожелал мне спокойной ночи и ушёл.
Перед тем, как заснуть, я скопировал нужную часть карты на лист бумаги и подумал: «Судьба явно и незримо вела меня к цели». Но долго ли так будет продолжаться, я не знал. Самым главным из того, что я сумел понять, было одно: указав местонахождение поместья, Анри сообщил, что его бабушка лично знала Жюля Мелье ещё с войны. Того самого Жюля, который в 1915 году повредил ногу, упав с лестницы.
Проснувшись утром, я ощутил радостно-волнующее настроение и прилив сил. Часы показывали около семи утра. Солнце пробивалось сквозь жалюзи, на улице занимался ещё один жаркий безоблачный день. Где-то наверху, на чердаке моего жилища ухали голуби, — они тут именно ухали как на нашем юге, а не ворковали как в Москве. Я быстро собрался и решил уходить, а позавтракать где-нибудь по дороге сникерсом. Кофе, правда, я выпил, нагрев воду кипятильником. На ступенях у входа в дом стояла молодая француженка, видимо, жена Анри. В дверях появился мальчик лет восьми-девяти. Они спустились вниз, приветливо глядя на меня. Мы поздоровались. Женщина что-то стала говорить мне, делая знаки в сторону дома, и я догадался, что она предлагает войти в него и, возможно, позавтракать с ними. Я вежливо отказался и поблагодарил её, указав рукой в сторону своего временного пристанища. Она ответила улыбкой и небрежно махнула рукой, дескать, пустяки. Я показал ей на свои часы и развёл руками. Сыну женщины было столько же лет, сколько и мне, когда на день Рождения мне подарили компас. Я вынул прибор из кармана жилета и протянул пареньку.
— Une boussole! — с восторгом закричал он, глядя на дрожащую стрелку. — Une boussole!
— Жё сюи рюс. Жэм боку вотр виль, — сказал я и, немного замешкавшись, спросил:
— Усё трув…? Кэль э лё шмэн лё плю кур пур але…? — произнёс я, не найдя нужного слова, и, вытащив свою карту, показал обозначение первой попавшейся речки.
Женщина поняла и объяснила жестами, что на улице следует повернуть налево и после первого перекрёстка идти направо до самого конца. Я кивнул, помахал рукой и вышел за ограду.
Дорога к поместью Мелье лежала берегом реки в сторону, противоположную той, с которой я подходил к Шато-конти. Городской ландшафт был неровным, улочки то спускались, то поднимались, то соединялись многочисленными каменными лестницами. Мне опять пришлось перейти реку, но в обратном направлении и по другому мосту. Отойдя от города, я оглянулся назад и увидел красные крыши домиков, высокий арочный мост, соединивший склоны дальних гор, а на площадке горного склона противоположного берега остатки полуразрушенной крепости или замка. Шато-конти в старину был укреплённым городом. Ещё дальше на том берегу реки показался карьер, где техника, врезаясь в белый срез возвышенности, добывала строительный камень. До свидания, тихий и гостеприимный Шато-конти, я ещё вернусь к тебе и похожу по твоим белым лестницам.
Интересно, как я смогу объяснить, что в имении, куда я иду, ещё малолетний, по всей вероятности, Жюль когда-то свалился с лестницы? И если смогу, что потом на это услышу, — ещё одно «о-ля-ля!»?
* * *
— Есть люди, презирающие опасности сражений в том убеждении, что час их ещё не настал. Есть ли основание такому доверию?
«Очень часто у человека есть предчувствие его кончины. Оно является ему от его Духов-Покровителей, желающих приготовить его к концу или же возбуждающих его мужество в те минуты, когда оно наиболее ему необходимо; оно может являться ему ещё от внутреннего сознания избранного им существования или миссии, им на себя принятой и которую он должен исполнить».
— Почему предчувствующие свою смерть меньше её бояться, чем другие?
«Смерти опасается человек, а не Дух; тот, кто её предчувствует, думает больше как Дух, чем как человек: он понимает своё избавление и ждёт его».
Книга Духов
* * *
Тропинка вывела меня к широкой пойме реки. На другом берегу до самого горизонта лежали поля, за которыми ровной низкой линией темнели горы. С правой стороны за виноградниками показался скрываемый зарослями фасад поместья. Поравнявшись с левым крылом дома, я взял бинокль. От трёхэтажного фасада под прямым углом отходила стена с двумя рядами небольших квадратных окон, между которыми висел плющ. Красная черепичная крыша спускалась к каменному парапету. Край здания заканчивался выступающей над ним толстой круглой башней с прерывистым ограждением. Почти на самом верху постройки имелось длинное узкое окно, а внизу — арочный дверной проём. Наверняка сверху находилась смотровая площадка, а внутри — винтовая лестница. В таких башнях в старые времена феодалы хранили запасы провианта на случай осады. Дом был сложен из крупных жёлтого цвета кирпичей. Больше рассмотреть ничего не удалось. Я оказался на лугу, покрытом сочной травой и молодым кустарником. Склоны невысокой плоской возвышенности, на которой располагалось имение, поросли зеленью. Открытое пространство со стороны реки как бы отгораживалось от него чётким строем высоких пирамидальных деревьев. Пройдя ещё немного, я разглядел крыши каких-то хозяйственных строений. Затем река, которую я про себя уже окрестил «Контийкой», делала правый изгиб. За поворотом пойма реки доходила до лесистого холма. Мне пришлось зайти в лес и поискать тропинку, чтобы спуститься к берегу реки. Там, почти у самой воды я и решил поставить свою палатку. Это было идеальное укрытие. К тому же, в реке можно было помыться и постирать, высушив одежду на шнуре. Главное, отпадала необходимость искать питьевую воду. Отметив место выбранного ночлега палкой, я направился от берега через лес и с пологой стороны холма вышел к лощине. Место это, сплошь поросшее высокой травой и заваленное ветками мёртвой лозы, являлось границей виноградников. Проволочное ограждение уходило в обе стороны. Я пошёл направо вдоль проволоки и увидел выход к пойме реки, по которой добирался до леса. Этот участок имения находился в глубоком тылу дома и подсобных зданий, которые я миновал раньше. По самодельной карте, набросанной в доме Анри, выходило, что за виноградными насаждениями должна проходить дорога к основному шоссе. Вторая дорога шла параллельно от выезда из поместья к той же автомагистрали. Между ними располагались виноградники, хотя здесь они покрывали всё кругом. Рельеф местности вокруг поместья был неровным: виноградные кусты то поднимались вверх, то опускались, исчезая, вниз. Виноградные просторы обступали дом с трёх сторон и доходили до шоссе. Добравшись до него и повернув налево, можно было дойти до моста через реку. Идя в другую сторону, можно было кружным путём попасть в Шато-конти. За мостом находился важный для меня объект — железнодорожная станция, до которой было примерно километра три.
Я дважды свернул влево, обошёл ограждённый участок и направился по белой песчаной дороге между виноградниками в сторону шоссе. Справа за деревьями показались хозяйственные здания, ближе ко мне стояла приземистая крестьянская ферма. Мне некогда было задумываться, что находясь на территории чужого имения, следовало вести себя более осторожно. Я дошагал до пересечения своего пути с дорогой, упиравшейся в виноградник. Скорее всего, она вела прямо к дому. За ней на правом углу виднелся невысокий забор кладбища, сложенный из неровных белых кирпичей. Когда он закончился, снова открылся вид на бесконечные ряды виноградных кустов. До шоссе я всё-таки не дошёл, — свернул влево на проезд между полями. Метров через триста с пригорка я заметил одноэтажный домик. Это было настоящее старинное пристанище виноградаря. Стены из камня, французские окна со ставнями, высокое крыльцо. Задняя стена дома была глухой и в верхнем углу имела одно квадратное оконце. Из стены торчала водопроводная труба с несколькими кранами, ниже их крепился жёлоб для стока воды. Периметр вокруг дома и площадка рядом с ним были вымощены камнем. Булыжником был выложен и крутой срез холма перед площадкой, на которой стоял кузов автоприцепа. С другой стороны дома в неглубоком овраге бежал ручей. Поблизости я нашёл удобную поляну. Отсюда, из кустов хорошо просматривалось всё, что делается у домика. Работники, если они жили здесь, вскоре должны были собраться на обед, и я решил вернуться к месту своей стоянки. Через поляну в сторону реки между двумя склонами холмов уходила каменистая тропинка. Она вывела меня к берегу, где я без труда отыскал свой знак и тут же взялся за приготовление обеда. Этим же вечером мне предстояло осуществить вылазку и поближе присмотреться к дому Мелье. И больше всего я не хотел, чтобы преждевременное знакомство с его обитателями превратило меня в нежелательного наследника в их глазах.
Три дня и три ночи я как диверсант осматривал в бинокль прилегающую территорию, стараясь подобраться к фасаду дома, который при желании или без такового можно было называть и дворцом, и замком. Спереди это было трёхэтажное здание. Высокие двустворчатые окна первого этажа имели ставни и доходили почти до земли. Центральный вход ничем особенно не отличался от соседних окон, однако правее дверей одно из них также служило входом в дом.
На втором этаже имелось девять окон, все они, кроме балконных, являющихся выходом на один из трёх балкончиков, открывались вверх. Ставни были окрашены в зелёный цвет, а между ними опускался плющ или виноградная лоза. Я заметил, как на среднем балконе молодая женщина в белом переднике вытряхивала какую-то тряпку. Третий этаж представлял собой мансарду из трёх скошенных назад трапециевидных фронтонов с окнами меньшего размера. Фронтоны разделялись двумя маленькими башенками с красным куполом, а красная черепица покрывала многочисленные скаты крыши. В центре здания между вторым и третьим этажами фасада был вылеплен фамильный герб с изображением виноградной лозы, меча, стрел и рогов. Не без некоторой гордости под лепниной я рассмотрел время возведения постройки: 1723 год. Оба края основного здания соединялись по углам с п-образными двухэтажными крыльями через узкие и более высокие башни, имеющими флажки-флюгеры. Подобраться незамеченным к правому крылу было трудно. Перед фасадом и вдоль этой пристройки шла высокая чугунная ограда, образующая г-образную площадку. Перед ограждением росли шаровидные кусты и остроконечные южные деревья, а за ним, — ближе ко мне — кусты с диковинными цветами. Я пробрался через колючую растительность за угол здания и разглядел правое, более длинное крыло. На фоне ската крыши, возвышаясь над коньком, стояла маленькая башенка с заострённым верхом. Крыло заканчивалось высокой круглой башней с длинным шпилем. Три её узких окна располагались на разных вертикалях. Левее башни виднелся арочный проезд во двор дома. Прячась за кустами и хмелея от благоухания цветов, я продвинулся до конца ограды к самой дороге, ведущей к проёму арки. Меня отделяли от неё лишь постриженные прямоугольниками кусты и стройные деревья с пирамидальной верхушкой. Подойти к дому с тыла или выйти на эту дорогу было немыслимо. В этот же вечер я увидел у дома мужчину и женщину средних лет, которые, видимо, здесь жили. Пока это мало чем помогло мне, но было необходимо установить, сколько всего человек проживает в таком огромном поместье.
На второй вечер я заметил довольно пожилую мадам, одетую в белую парусиновую юбку и такой же пиджак с цветком на лацкане. Дама имела весьма грациозную осанку и могла бы гордиться своей фигурой. Она появилась, когда уже стало темнеть, и вышла не через главные двери, а те, что были правее. Появилась — и исчезла. Я твёрдо решил дождаться её возвращения, — куда же она могла провалиться, на ночь глядя? Я сидел под кустами с биноклем, всматриваясь в чужие окна. Отличная мишень для хозяев, их собак и полиции. В ночной темноте громко стрекотали цикады, было жарко. Иногда откуда-то слышался крик одинокой птицы. Лунный свет серебрил округу, переливаясь на стёклах окон и листве деревьев. Я замер, увидев фары автомашины, осветившей с дороги въездную арку. Водитель развернулся и поставил машину, не проехав внутрь. Из неё вышел невысокий плотный мужчина лет шестидесяти, но его лицо рассмотреть мне не удалось. Затем из-за угла дома появилась пожилая дама в белом, и они поздоровались. При этом мужчина поцеловал её руку. Они прогуливались под ручку возле дома с полчаса, после чего мужчина сел в машину и уехал, а женщина зашла в дом. Всё бы ничего, но на третий вечер повторилось то же самое: мадам поговорила с господином, и они почему-то опять встретились не в доме, а вне его. Беспокоило меня не это, а вопрос о том, что предпринимать дальше. Пока я смог выяснить, что в доме живут молодые парень с девушкой, которые могли приходиться мужчине и женщине средних лет детьми либо быть семейной парой. Были и ещё кое-какие жильцы. Допустим, я сумею вычислить, кто из них Констанция, а что потом? За три дня я облазил всю округу, объелся винограда, от которого теперь болел живот, а ещё побывал на железнодорожной станции и несколько часов отсидел в засаде у домика виноградаря.
Путь к станции был выбран по берегу реки. После поворота на мост надо было идти по дороге до леса, за которым угадывалось железнодорожное полотно. Станция Орзи — по названию близлежащей деревушки, представляла собой жёлтенькое уютное здание, утопавшее в зелени и цветах. На плиточном перроне в больших вазонах были высажены яркие цветы и стояли скамейки. Утоптанная тропинка между деревьями показывала направление к жилью. Видимо, селение закладывалось задолго до того, как между склонами ближайших гор проложили железную дорогу. Невдалеке был виден тоннель, прорытый в горной породе. Место почему-то напоминало мне о довоенной Франции, хотя откуда мне знать, как тут всё выглядело до войны. И кто знает, может быть, семейство Мелье уезжало в Россию, чтобы никогда не вернуться, именно с этой станции? Я зашёл внутрь и с помощью записей в блокноте разузнал, что отсюда можно добраться до Экс-ан-Прованса, хотя железнодорожная ветка делала большой крюк. Там я мог сделать пересадку на электропоезд до Фрежюса или Сен-Рафаеля. От них до Ниццы было рукой подать.
Наибольший интерес представлял домик виноградаря. В нём жили человек двенадцать сезонных рабочих в возрасте от тридцати до сорока лет и старше. Ранний подъём, организованный уход на поле, затем возвращение на обед и снова работа до вечера — часов до шести-семи. Еду им привозили на небольшом грузовичке. Появлялись там и люди из поместья — француз с манерами хозяина и девушка, которую я видел на балконе. На другой день обнаружилось, что работников стало больше — полтора десятка. Мне следовало рискнуть и устроиться на работу, пока я совсем не утратил грань между романтикой, блажью и здравым смыслом. Придётся стать сборщиком винограда, — им в отличие от самозванцев на фамильные драгоценности обязаны платить деньги.
Утром после третьей ночи на берегу реки я решил дождаться, когда все рабочие соберутся на обед, и спрятался за кустами на поляне. Я выбрал подходящий момент, надел рюкзак и медленной походкой усталого пилигрима шагнул из укрытия навстречу незнакомым людям. «Главное — наняться на работу, а тайну поместья можно раскрыть и потом», — посчитал я.
На площадке у дома разговаривали мужчина, по всей видимости, руководивший сбором урожая, и высокая дама средних лет, которую я недавно видел возле поместья. К ним из домика потянулись работники. Этот главный, собрав всех, начал что-то обсуждать с ними, указывая на виноградники. Было видно, он объяснял им, чем следует заниматься дальше, однако по этому поводу возникали разногласия. В группе рабочих я обратил внимание на мужчину лет тридцати пяти в белой футболке, который, как мне показалось, в этом разговоре был посредником между начальником и подчинёнными и, возможно, их бригадиром. Остальные стояли с обнажённым торсом, напоминая студентов на строительстве межрайонного коровника. Было нестерпимо жарко.
Я приблизился к собравшимся и, обращаясь к тем двум, сказал по-английски:
— Добрый день. Мне сказали, что здесь могут принять на работу. Я пришёл, чтобы работать с вами.
Люди расступились, все посмотрели на невесть откуда взявшегося чудака.
— Мне нужны деньги на дорогу в Германию, — пояснил я.
Мужчина в футболке посмотрел на меня и на английском спросил:
— Ты умеешь обращаться с виноградом?
— Да, я собирал его в Германии и в Крыму, — опять соврал я, вспомнив, как однажды рвал его у родственников, что называется, с грядки. — И с вином тоже умею обращаться, я его не пью.
Мужчина засмеялся. Один из рабочих что-то его спросил. Тот, очевидно, перевёл мои последние слова, вызвавшие у некоторых смех. Он что-то сказал главному, который обернулся к высокой женщине и перекинулся с ней парой фраз, а затем кратко буркнул свой ответ. Я вопросительно посмотрел на обоих.
— Тебя берут. Нам сейчас очень нужны люди, — перевёл мужчина.
— Я могу работать хоть до октября.
— Посмотрим.
Главный отвернулся и продолжил беседу с женщиной. Работники начали расходиться. Только теперь я заметил, что к нам подошла пожилая дама. Вместо белого пиджака и юбки на ней был брючный сиреневый костюм, в руках зонтик того же цвета. Она сделала ко мне шаг и на хорошем английском произнесла:
— Работникам платят пять евро в час. Вас устроит это?
— Ещё как, мадам.
— Смотрите, без привычки это трудно.
— Спасибо, мадам, я справлюсь. Всю жизнь мечтал поработать под этим солнцем.
— Как же вас зовут, — спросила она, посмотрев мне в глаза.
— Алекс. Или герр Александер, если хотите, — назвался я на немецкий манер.
— А вы шутник, месье Александер.
Я почтительно склонил голову на бок, не выдавив ни слова. Не знаю, сколько ей было лет, но выглядела она явно моложе своего возраста. И было в её лице и глазах что-то сентиментальное, натруженное, свойственное и нашим русским женщинам.
Пожилая мадам отошла к даме помоложе, и они направились в сторону поместья. Вскоре их догнал тот, кого я принял за главного.
Сцена «не ждали» удачно завершилась. Я обернулся на возглас и увидел мужчину в белой футболке.
— Как тебя зовут?
— Алекс. Жё сюи рюс.
— O-la-la! — ответил он. — Занесло тебя. Моё имя Жан-Мишель Мото.
— Мне позарез нужны деньги, чтобы вернуться на родину. Сколько начисляют за трудодень в вашем колхозе?
— Оплата почасовая, об условиях и формальностях узнаешь потом. Договоримся. Сейчас надо торопиться — обед кончается, пора работать.
— Куда идти?
— Сначала оставь рюкзак. Иди за мной.
Всё, действительно, устроилось быстро. Я точно помнил, что не произнёс ни одного русского слова, и никто кроме Жана не знал, что я русский.
— Когда ты подошёл, мы как раз говорили, что у нас не хватает людей. В этом году жара наступила раньше и сборщики винограда вовремя не прибыли.
— Ясно. Бесплановое капиталистическое хозяйство всегда подвергается кризису. У нас было хуже: бескризисное хозяйство подвергалось плану. Теперь очереди в бутики мы ликвидировали, но к зиме не успеваем с плановым ремонтом отопительных систем, особенно, там, где вместо плюс сорока стоит температура минус сорок.
— Жить придётся здесь, — перебил Жан, поднимаясь со мной по лестнице.
— Ну, давай, показывай койко-место, — сказал я, рассчитывая увидеть деревянные нары. — Кстати, у меня будет полный пансион или на пашню надо брать свои бутерброды?
— Вечером увидишь. Твоё место вот здесь, рядом со мной. Английского тут не знает никто.
— Значит, ты бригадир?
— Нет, старший у нас Жильбер, он уехал по делам в город.
— Спасибо, Жан-Мишель, — сказал я, запихивая рюкзак под железную кровать. — Храпа и простатита у меня нет, передачи под одеялом я не ем и со всеми всем делюсь.
— Окей, теперь пошли.
Я засунул паспорт с деньгами в карман, надел шляпу, и мы вышли из домика. По дороге я решил расспросить своего нового знакомого, как во Франции устраиваются на сбор винограда.
— По договору или по объявлению, — ответил он. — Их размещают даже в Интернете. Многие привыкают к одному хозяину и ежегодно приезжают в одно место. Я здесь работаю уже шестой раз. Интересная компания собралась в этом году. В основном французы, но есть два испанца и даже один итальянец. А теперь ещё и русский.
— Мне повезло. Слушай, Жан-Мишель, а кто эта высокая женщина, — та, что стояла рядом с управляющим?
— Это не управляющий, а его помощник, Морис. Он руководит всем сбором урожая. Дама — жена хозяина поместья, её зовут Амели.
— А пожилая мадам с царственной осанкой?
— Дочь старого управляющего, который работал здесь ещё до войны. Она живёт в доме как член семьи.
— Как её зовут?
— Имени я не знаю. Она любит гулять по имению пешком, иногда дважды в день. Добрая женщина.
Мне следовало хорошо всё обдумать. Как я потом не старался, больше ничего интересного от Жана не узнал. Мои вопросы о людях, которых я сегодня увидел, пока были мотивированы, но задавать их дальше нельзя.
* * *
— Что побуждает человека к войне?
«Преобладание его животной природы над природой духовной и желание удовлетворять своим страстям».
Книга Духов
* * *
Виноград собирали вручную, срезая ножницами, и уносили к транспорту. Это только кажется, что сахарную свёклу или капусту собирать тяжелее. Виноградные кусты были чуть ниже плеч. Гроздья прятались за листьями и свисали до самой земли. Я снял влажную от пота, прилипшую к телу тельняшку и продолжил работу. Сборщики складывали виноград в небольшие тазики у проходов. Между рядами кустов ходили носильщики с зелёными пластмассовыми ёмкостями за спиной. Тот, кто снимал виноград, опорожнял свой тазик в ёмкость, и носильщик шёл дальше. Им платили в два раза больше — по десять евро в час. Собранный виноград перекладывали в плетёные корзины или ящики килограммов по сорок и грузили в прицепы, стоявшие неподалёку. Затем грузовичок перевозил урожай, куда надо. На этом наша работа заканчивалась. В Германии на склонах гор с виноградниками плоды грузили в металлические контейнеры, которые передвигались на тросах или рельсах снизу вверх, при этом труд сборщиков и погрузчиков оплачивался так же, как и здесь.
Жан-Мишель объяснил мне, что в одном месте виноград надо собирать немедленно, в другом — через десять дней, в третьем — через две недели. Это зависело от того, где он созревал раньше.
— Что делают с виноградом хозяева? — спросил я его.
— Изготовляют вино, продают и даже возят на выставку в Бордо. Сдают в аренду участки тем, кто хочет его собирать. Свежий виноград покупают оптовые торговцы фруктами.
— А куда увозят урожай?
— В давильню. Её здание за фермой. Там делают вино.
— Какие сорта здесь растут?
— «Каберне», «Совиньон». Разные. Вообще, технические сорта может собирать каждый, а для этого винограда нужны знающие люди. Скоро понадобится больше рабочих. Виноград начнёт созревать на дальних полях, а там он самый лучший. Хозяева будут ещё нанимать работников. Вон там, — показал рукой Жан, — наш следующий участок и побольше этого.
К нам подошёл помощник управляющего Морис с каким-то мужчиной и что то сказал Жану.
— Они измерили содержание сахара в винограде, — пояснил он. Четырнадцать с половиной-пятнадцать процентов и больше — это нормально. Из него получится хорошее вино. Держись меня и делай, как я. Вижу, ты ни разу не собирал виноград. Но работать ты умеешь.
Чёрт возьми, как он догадался? Да хрен с ним, это не страшнее брюквы под Хацапетовкой. Но работа была не из лёгких. Вокруг летали пчёлы, а тело покрывалось липким потом. Я ободрал о лозу и проволоку все руки, и Жан меня выручил, отдав свои перчатки. Я поблагодарил его и сказал, что если он приедет ко мне в Москву, я научу его копать картошку.
— Ну и жарища тут, — пожаловался я, буквально обливаясь потом. — Тропики.
— Говорят, в вашей стране такой холод, что все ходят в валенках.
— В валенках уже никто не ходит, разве что в деревнях, с калошами впридачу. Климат превратился в межсезонье. Но в Сибири зимой стоит мороз и снег, а летом настоящий зной, и зонты почти не носят.
— А в Москве?
— В Московии часто пасмурно и сыро. В июле с утра достаёт насморк, а с полудня исходишь потом. Пальто носят на майку или выходят из дома в одной майке без пальто. А осенью начинается сезон дождей, которые тянутся как сериалы типа мексиканских. И везде протекают крыши, за исключением, разумеется, элитных домов, в которых живут прототипы сериалов. Поэтому все мы зависим от своего управдома.
— У вас такие плохие управдомы?
— Дело не в местных управдомах, а в том, что солому на крышах давно пора заменить черепицей. А ей распоряжается самый главный управдом, хотя по Конституции она принадлежит всем. За последние сто лет их сменилось десять, и ни один из них ещё не приступил к капитальному ремонту. Прикинь, Жан-Мишель. Население России — всего три процента землян, запасов черепицы у нас тридцать один процент от мировых, а крыши всё равно текут. Страна может прокормить до миллиарда землян — у неё пятьдесят два процента самых плодородных земель на планете, а в избах хоть шаром покати.
— Не понимаю. А люди у вас какие?
— Трудяги, как мы с тобой. Обыкновенные, но смотря где. В Сибири говорят: с тебя бутылка, а в Москве — с тебя стакан.
— Жадные?
— Наоборот, щедрые. Сибиряки великодушнее. Большой душе надо много всего, в том числе и выпить, а выпить мы не дураки, потому что всегда пили с горя. Причём пили водку, а не натуральные вина, — виноград мы вырубали. А как однажды заявил наш бывший премьер Черномырдин, «лучше водки хуже нет».
— Разве с горя можно вырубить виноградник?
— Ну, это трудно объяснить. А виноград вырубали в надежде, что в голове у народа созреет свежая национальная идея. Вот у вас есть своя национальная идея?
— Да, это величие Франции, — с плохо скрытой гордостью ответил Жан-Мишель.
— А у нас особенности национальной идеи в поиске вариантов ответа на вопрос, что делать, и кто виноват. Это классика русской демократии, всё другое считается вредным модернизмом. Правда, сегодня ничто американское нам не чуждо.
Жан посмотрел на меня непонимающим взглядом.
— Да всё просто. Это, как бы, кого бы найти, чтобы дать в морду за то, что опять получилось как всегда, а не как надо. Форма идеи никогда не меняется, а содержание придумывает тот, кто хочет оставить всех в дураках. Но к этой идее добавилась ещё одна: как выжить? Например, как приобрести квартиру, еду, лекарство и остаться в живых. Или как выжить без жилья, продуктов и медикаментов, потому что могут убить, обмануть, отравить или разорить. В этом заключается вся свобода выбора. И так во всём.
Вечером, когда мы закончили работу и уходили с поля, у меня ныло всё тело. Из города вернулся Жильбер. Он раздал работникам купленные на заказ мелочи и переговорил с Жаном. Бригадир попросил у меня паспорт, записал мои данные и, похлопав по плечу, сказал, что я могу продолжать работу. Меня предупредили, что трудиться придётся не меньше месяца, и пообещали платить раз в неделю.
В нашем домике было три больших комнаты и кухня с настоящим выложенным из камня очагом. В полуподвальном, или цокольном этаже, в который вела лестница, располагались большие обеденные столы. Там же, внизу стояла огромная фляга с розовым столовым вином, которым работники утоляли жажду. Еду нам привёз какой-то парень из поместья. Он приехал сюда вместе со знакомой мне девушкой. Она служила домработницей, и звали её несколько старомодным именем Клотильда.
После ужина, когда жара спала, я предложил Жану прогуляться и решил угостить его спиртом.
— Что это? — спросил он, присев на ступеньках крыльца.
— Русский напиток. Разбавляется водой. Чтобы он не стал тёплым, необходимо, долив воды, тут же закрыть сосуд и подержать некоторое время.
— Крепкий?
— Ну, вроде вашего «Наполеона». Только не забудь перед тем, как пить, вдохнуть, а потом сразу выдохнуть аромат через рот.
— А нельзя выдохнуть через нос как аромат коньяка?
— Не вздумай. Пей всё целиком и закусывай виноградом. И ещё водой из кружки запей, а потом рукавом занюхай или свежесломанной веткой.
Жан стоически выпил и замахал руками. Я протянул ему кружку с водой.
— Молодец! Зато голова утром болеть не будет.
— О-о! Я пью только вино и могу долго описывать его вкус, а это… — он чиркнул себя ладонью по горлу.
Наступила моя очередь.
— Ну, выпьем за то, чтобы капиталистический запад не потряс ещё один экономический кризис, — произнёс я тост, выпил и закусил виноградиной. — А то ваш кризис может стать для нас новым поводом ободрать народ до нитки.
— О-о! Россия! Матрёшка, мафия, бель фий, — ответил Жан, едва отдышавшись.
— Это всё равно, что сказать: Франция — это Лазурный берег, Наполеон и лягушки. А «мафия» — не наше слово, а итальянское. Их мафия нашей и в подмётки не годится. Но главный наш брэнд — водка, автомат Калашникова и балет. Они лучшие в мире, потому что мы больше всех любим выпить, подраться и потом поверить, что красота спасёт мир. А где твой дом?
— В Нормандии. Я из Руана.
— Знаю. В одном вашем соборе захоронено сердце Ричарда Львиное Сердце. И у вас же сожгли Жанну д'Арк, и развеяли по ветру её прах. И ещё у вас союзники, дотянув до 44-го года, высадили свои войска. Теперь каждый американский подросток уверен, что Гитлера победили американцы, хотя наши тинейджеры в знании истории им не уступят. А в России воевала ваша эскадрилья «Нормандия-Неман».
— Мой дед был лётчиком и погиб у вас.
— Значит, следующий тост за Нормандию.
Выпили ещё раз.
— У вас что, своего винограда нет, — спросил я, закусывая.
— Мы славимся яблоками.
— Ну, тогда за яблоки!
У Жана в Руане остались жена и двое детей. Выпили за них. Поскольку вино после водки не пьют, мы решили пойти спать. В предбаннике кто-то из нас задел пустую кастрюлю, загрохотавшую по ступенькам на весь дом. Вышло совсем по-нашенски, будто у загулявших в общаге студентов.
— Тс-с-с, — я приложил палец к губам, но всё было тихо. Мы прокрались к своим койкам и улеглись.
С этого дня мы с Жаном-Мишелем подружились. Он говорил по-английски немного хуже меня и не всегда понимал юмор, но это не мешало нам обсуждать любые темы. Постепенно я начал привыкать к тяжёлому труду, и боль в мускулах стала проходить. Я научился экономить силы, соблюдать нужный темп работы и наслаждаться свежим воздухом и солнцем. Конечно, французы были привычнее и выносливее меня, ведь это было их профессиональным и ежегодным, хотя и сезонным занятием. Эти люди умели делать свою грубую и простую работу добросовестно. Они видели, что я стараюсь не отставать от них, помогаю кому-нибудь донести ношу или погрузить виноград в кузов, и относились ко мне как к равному. Обедали мы вместе, еду подвозили прямо к домику, и затем все усаживались за общий стол. Вечером можно было идти куда угодно.
Домик виноградаря — понятие древнее, чуть ли не средневековое. Мой новый приятель Жан-Мишель рассказал, что жатва и сбор винограда в старину считались не только тяжким трудом, но и праздником: бурная радость деревенских жителей, веселье, пир горой. От работников отставали все хвори и недуги. Городской люд, ремесленники — все стекались в сёла. Такая всеобщая мобилизация была ещё в середине XIX века. Виноград являлся достоянием власть имущих, — долгое время на богатых работали виноградари, получавшие за труд половину урожая или деньги. Они вскапывали и разрыхляли землю, корчевали пни, подрезали и заменяли растения, — куст живёт до ста лет. Нередко приходилось таскать унесённую дождями землю. К виноградарям в период сбора присоединялась куча нанятого народа: одни срезали гроздья, другие носили за спиной корзины, а всем руководил начальник сбора. Рабочих кормили наваристыми супами и телячьей требухой и платили несколько су в день. Вино пили все — прислуга, ремесленники, хозяева, но лучшее увозилось в город. На селе вино было роскошью, — виноградарям в конце XVIII века давали лишь выжимки с водой. Они считались людьми искусства, так как изменяли направление побегов, вкус винограда, скрещивали сорта и меняли почву, и вино получалось разным. Среди крестьян они занимали привилегированное положение и питались лучше, чем крестьяне на равнинах. Площадь в два гектара не позволяла владельцу держать семью виноградаря постоянно в домике. Поэтому многочисленные клочки горожан обрабатывали умелые подёнщики, мечтающие о своём клочке земли. Формально они работали от восхода до заката, но часто уходили раньше, чтобы возделывать свой участок.
Мне невольно вспомнились слова из Книги Духов, обращённые к маркизу Ривайлю. Духи нарисовали для него виноградную лозу, потому что она была эмблемой творения Создателя. «Все материальные начала, — передали Духи, — которые лучше всего могут изобразить тело и дух, соединяются в ней: тело — это лоза; дух — это зерно». И ещё: «Трудясь над виноградным соком, человек улучшает его; точно так же, трудясь во время телесной жизни, Дух приобретает познания». Может быть, моя прабабушка хотела, чтобы я понял истину этих слов, заключённых в эмблеме Создателя? А в моей стране всего двадцать лет назад парторги вырубали виноградники, губили труд многих поколений, не понимая, что делали. Даже творцы «сухого закона» Михаил Сергеевич и Егор Кузьмич, прославивший себя фразой, что «ему чертовски хочется работать», ничего вразумительного по этому поводу изречь не смогли и отмахивались от того, что натворили.
Наступило воскресенье, единственный выходной день. Жан-Мишель и его приятель Франсуа пригласили меня в Шато-конти посидеть в баре и погулять с девочками. Я подумал, что, не зная языка, окажусь лишним, и, вообще, мне не стоило искать приключений. И не пошёл, объяснив Жану, что лучше отдохну. На самом деле я решил прогуляться вокруг замка. Работая на винограднике, я поглядывал на его высокие башни и пытался представить, каким образом события в России могли быть связаны с этим поместьем. Явиться в дом просто так я не мог. Если сезонный рабочий начнёт задавать дурацкие вопросы, его могут уволить. Моё устройство в имение было хотя и дерзким, однако бесполезным поступком. Но, в конце концов, лучше во Франции дикарём собирать виноград, чем студентом копать картошку в Ивановке под Москвой или торчать в Одинцово, — успокаивал я себя.
Теперь моё появление в поместье было оправданным. Я обошёл хозяйственные постройки и приблизился к дому со стороны внутреннего двора. В нём был устроен небольшой фонтан со статуей греческой богини. В углу дворика находилась небольшая лестница, ведущая к двери первого этажа. С другой стороны была ещё одна дверь, вероятно, чёрного хода. Я обошёл здание, не встретив не души, и отправился обратно к домику виноградаря. Там я спустился вниз, зачерпнул вина и утолил жажду. Мне показалось, что ситуация зашла в тупик, из которого не было выхода. Не мог же я, отработав почти неделю, заявить, что приехал сюда по личному делу. В общем, говоря словами доцента-зануды Пискунова, выходило сразу две неувязочки по месту и по времени.
Выйдя из домика, я направился на излюбленную поляну и, раздумывая над своим положением, затянул грустную песню.
Я в весеннем лесу пил берёзовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал,
Что имел — не сберёг,
Что нашёл — потерял,
Был я смел и удачлив, а счастья не знал.
И носило меня как осенний листок,
Я менял города, я менял имена,
Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахнут цветы и не светит луна.
И окурки я за борт швырял в океан,
Проклинал красоту островов и морей,
И бразильских болот малярийный туман,
И вино кабаков, и тоску лагерей.
Зачеркнуть бы всю жизнь и сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей,
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропавших своих сыновей…
Песня старая, и многие современные исполнители нередко заменяли её первоначальные слова другими. Я допел последний куплет и почувствовал за спиной чей-то взгляд. По тропинке шагах в десяти-пятнадцати от меня со стороны реки шла пожилая дама. Она ступала медленно, и, конечно, всё слышала. Песня была ностальгической и рассказывала о тех моих соотечественниках военного поколения, которые после победы остались на чужбине и по разным причинам не могли вернуться на Родину.
Ну и что такого?
* * *
С того времени, как я поселился в домике для сезонных рабочих, шла вторая неделя. Дни отличались друг от друга не больше, чем виноградные кисти. Как и всегда, череда событий, набирающих скорость, последовала нежданно-негаданно и, можно сказать, таинственно. В одно прекрасное французское утро я проснулся, протёр глаза и, сунув ноги во французские калоши, собрался умыться. Я взял зубную щётку, тряпку, бывшую до этого полотенцем, и слегка толкнул приятеля в плечо:
— Эй, вставай, только что по радио объявили о третьей французской революции. Народ требует снизить нормы по сбору винограда.
Жан-Мишель продолжал посапывать. Тогда я замогильно-первомайским голосом, предваряющим долгожданную премьеру американского фильма о мутантах, заселивших бедную планету, продекламировал ещё громче:
— Поднимайся, амиго! Сборщики сахарного тростника на острове Свободы уже проснулись и вызывают угнетённых братьев-виноградарей из буржуазной Франции на соревнование. Сам бессменный команданте ни свет ни заря обратился к президенту с заявлением и пообещал побриться, разрешить подданным иметь мобильники и американские кофемолки, если его люди не дадут двойную норму. Слышишь чеканный шаг? Это сборщики сахарной свёклы выдвинули встречный план.
Мото сделал движение рукой, будто отгонял муху. Он, наверно, не услышал и половины сказанного, но уточнил про норму выработки и повернулся на другой бок.
— Пусть из пролетариев победит сильнейший! — закончил я и вышел на крыльцо. «Жизнь удалась!» — произнёс я, воздев руки к небу и глядя на восходящее солнце, осветившее первыми лучами меня и средиземноморье.
Обойдя дом, я завязал тельняшку на поясе и приступил к водным процедурам. Я несколько раз наполнил из крана старинный кувшин и вылил на голову, повизгивая от холода, а затем растёрся полотенцем. И вдруг мне показалось, что за спиной кто-то есть. На тропинке стояла пожилая дама. Она опять шла со стороны реки через поляну, где недавно я пел свою песню. Мадам поздоровалась со мной первой:
— Доброе утро, месье Александр.
— Доброе утро, мадам. Вы из этого поместья?
— О да. Я потомок управляющего этим большим домом Констанция Боден.
Мне с трудом удалось сдержать волнение. А в каком состоянии находились бы вы, если вам назвали имя, услышанное на спиритическом сеансе за тысячи километров отсюда? Да ещё сообщили, что этого человека нужно разыскать в другой стране? Итак, Констанция. Любит ходить пешком. Дважды встречалась поздним вечером с приезжавшим мужчиной, — пронеслось в моей голове.
— Где вы так хорошо выучили язык? У вас лондонское произношение, — ответил я.
— С сорокового по сорок пятый год я со своей тётушкой жила в Британии, в семье лондонцев, — улыбнулась дама. — А вы где?
— В школе. Потом доучивал в институте. Затем начал преподавать историю.
— Тогда как же вы попали сюда, ведь вы, если не ошибаюсь, из России?
— Да, мадам. Я из этой большой холодной страны с богатыми недрами и терпеливым народом. Там тяжёлая жизнь, а здесь весело, — сказал я, подбирая эквиваленты английских слов попроще. — У меня была давняя мечта побывать во Франции. Не в Париже, не на севере, а здесь, в горах на юге и увидеть море.
— Знаете, французы и русские больше схожи психологически, не то, что испанцы, немцы или скандинавы. У нас с вами даже флаги одних цветов. И вы столь же спонтанны и страстны. До Второй Мировой войны мы были жуткими домоседами, а потом все пустились странствовать по свету. Поэтому я не удивляюсь вам, месье Александр, тем более, после вашего железного занавеса.
Но ведь знаменитыми путешественниками были ваши Людовик XI, Карл VIII, Людовик XII, Генрих III, Екатерина Медичи, Генрих IV, Людовик XIII и Ришелье.
— А вы, кажется, действительно историк. Но это другое дело: знать.
— А как у вас относятся к Наполеону I?
— Его чтят как часть нашей истории. Однако не все, — вот что я вам отвечу. По-моему, наш Бонапарт и ваш Сталин — одного поля ягоды. И с тем, и с другим закончилась свобода. Мне близко послевоенное время: с сорок пятого по семьдесят пятый год — за три славных десятилетия Франция расцвела. Сразу же после войны, когда я вернулась из Англии, у нас тоже, как вы сейчас, хотели поднять рождаемость. Даже тогда, в сорок пятом, француженка могла на своё пособие воспитывать троих детей и не работать.
— Наше детское пособие составляет два-три доллара в месяц.
— Вы трудно живёте, потому что в девяностые годы некоторые ваши состояния приобретались за считанные недели и месяцы.
— Ну, тогда было всего семь миллиардеров, а сегодня их в десять раз больше. А миллионеров не счесть, и каждый бизнесмен в деловых кругах имеет кличку. Даже нашего премьера по телевизору зовут «Коля — два процента доля». Если нашему народу решили подарить свободу, значит, наверху уже примерились растащить всё. Вообще-то наша монархия, как и в Соединённом Королевстве, никогда не кончалась, хотя монарха у нас могут называть как угодно. Мы всегда будем анархистами и всегда ждём нового доброго царя, а потом всё спускаем с рук старому потому, что живём отдельно от власти. Неограниченная власть сверху, и полная анархия снизу. Мы всегда читаем в газетах, что виноваты придворные или князья на местах, и даже не знаем, какой национальный праздник нам отмечать. Ваши революции давно закончены, а наши ещё нет
— Только не подумайте, что мы любим их так же, как забастовки. Один старый дворянин в преддверии революции предрекал её трагический исход бывшему пажу Марии-Антуанетты Александру де Тилли. Тот не верил мрачным предсказаниям, и тогда старик воскликнул: «Сударь, мы нация, обречённая на трагедии…».
— У нас раньше тоже называли друг друга сударями и сударынями, а теперь продолжают говорить «мужчина» и «женщина», даже когда на телеэкране появились господа.
— А вы не слышали, что по телевидению заявил ваш олигарх, некто Похорьков после скандала в Куршевеле?
— Кажется, он организовал такое горнолыжное веселье, что его обвинили в сутенёрстве, и о забавах с девочками услышал даже Париж.
— Виновник гламурного торжества в оправдание сказал, что французы просто завидуют, как русские отдыхают и тратят деньги, и потому подняли весь этот шум. Но ведь он лучше знает, что ваш народ беден, и многим из нас противно смотреть, как подобные Похорьковы швыряются деньгами.
— Наши чиновники и олигархи и на родных горнолыжных курортах пьют шампанское, один фужер которого стоит дороже, чем средняя годовая пенсия по стране. Это ещё что. Недавно в теленовостях рассказали про нашего банкира. Он за восемнадцать миллионов долларов разобрал в России церковь, собрал во Франции, обвенчался с невестой и вернул церковь на место.
— О какой же зависти тогда можно говорить?
— Но в последнее время люди чтят церковь, — перед Пасхой дорожают яйца, а после великого Поста взлетают цены на мясо и рыбу. Наши телезвёзды, хлебом не корми, обожают делиться кулинарными изысками, и утверждают, что церковная диета обходиться в три раза дороже.
— Ну, в Европе Рождество уже давно превратилось в праздник потребления. Европа — безбожное место. Здесь дети всё чаще подают на родителей в суды, а у таких людей нет будущего.
— Я знаю, сколько тратят на рождественские подарки средний француз и русский. Это сообщается перед праздниками, когда говорят, что большинство москвичей собираются провести новогодние каникулы за рубежом. А люди вашего поколения, Констанция, живут у нас на полтора-два доллара в день. И они весьма не похожи на японских туристов и американских старушек в клетчатых брюках с фотоаппаратом. Они не привыкли носиться по мостовым чужих городов.
Только сейчас я обратил внимание, что мы с пожилой дамой около получаса медленно прохаживаемся у виноградников, а мои работники уже умываются и готовятся к завтраку. Я пожелал ей доброго дня и пошёл к домику. «О чём ты беседовал с ней»? — спросил меня Жан. — «Мы рассказывали друг другу о своих странах. Мадам прекрасно владеет английским».
Похоже, Констанция присматривалась ко мне, а может быть, во время прогулок её тянуло к общению с кем-нибудь. Но как легко и непринуждённо мы побеседовали столь о многом! Однако шанс открыться Констанции был упущен.
Через два дня перед выходом на работу она появилась у домика снова.
— Доброе утро, месье Александр, — пожилая дама доброжелательно улыбалась, излучая спокойствие. На ней были простое ситцевое платье и соломенная шляпа.
— Доброе утро, мадам Боден.
— Я хотела бы сделать вам предложение, — начала она.
— Мадам!
— Дело в том, что наш плотник месье Жак отправился навестить свою дочь. А в поместье накопилось много разных дел. Не могли бы вы выполнить за него кое-какую работу? Оплата за пропущенное время сохраниться, а когда сделаете то, что нужно, вам заплатят и за неё.
— Хорошо, но почему вы для этого выбрали меня?
— Ну, я видела, как вы работаете, и это мне понравилось. Вы ведь русский, мне было интересно с вами поговорить.
— А чем придётся заниматься?
— О, надо срочно изготовить полки из досок в винном погребе и только у одной стены. А вообще, под замком большие погреба с винными бочками и другим хозяйством. Есть очень старые и дорогие вина. Для работы всё найдётся на месте. Спать можно в комнате рядом с мастерской. Там очень удобно и тихо. А Клотильда будет приносить вам еду. Согласны?
— Когда надо приступить?
— Завтра с утра, если захотите. Но посмотреть лучше всё сегодня же. И перенесите туда свои вещи. Подойдите в четверть третьего к восточной стороне дома. Я буду ждать у входа в башню и всё покажу.
— Я приду.
Надо было поделиться новостью с Жаном.
— Бонжур, камарад! Мне сделали предложение, от которого трудно отказаться. Буду ваять деревянные полки в прохладном подвале, так что постарайся без меня держаться в тени.
— А полки ты умеешь делать лучше, чем собирать виноград? — спросил Жан.
— Справлюсь.
— Одному будет работать скучно.
— Ничего. Завтра же познакомлюсь с Клотильдой, и она будет таскать мне в накрахмаленном переднике горячие круассаны прямо с кухни.
Жан-Мишель посмотрел с недоверием.
— А в полночь мы встретимся у амбара и залезем на сеновал играть в жмурки.
— Что такое жмурки? — не понял Жан.
— Русская забава моих земляков в вашем Куршавеле, — я закрыл глаза и сделал руками несколько захватывающих движений.
— Смотри, не заиграйся с передником, а то придётся жениться и пойти учеником к садовнику.
— Какой же ты француз, Жан-Мишель, если не понимаешь шуток. Хотя юмор больше нужен там, где человек должен выжить. Поэтому мы всегда смеёмся над верой наивных олигархов в наше будущее. А-а, я понял! У нормандцев такое же чувство юмора, как у англичан в силу географической близости.
В обеденный перерыв я попросил Жана на всякий случай присмотреть за моим спальным местом и начал собирать рюкзак.
— Может, выпьем по стаканчику? — предложил он.
— Давай.
— Алекс, если что пойдёт не так, можешь на меня рассчитывать. Возвращайся обратно.
— Спасибо. Мы ещё увидимся. Сегодня я буду ночевать в комнате у столярной мастерской.
Жан вышел меня проводить. Я надвинул шляпу и зашагал вдоль виноградников. До дома было не далеко, но тогда я ещё не знал, что обратно не вернусь и своего приятеля больше не увижу. Я обернулся, и мы помахали друг другу рукой. Сколько людей, обычных и простых людей встретилось мне на дороге? И куда заведёт меня эта дорога на этот раз? Куда угодно, но в то, что не только в винный подвал, я был уже уверен, потому что точка возврата, как говорят диверсанты и альпинисты, мной давно была пройдена.
К назначенному времени я подошёл туда, где меня ждали. За дверью в башне, действительно, оказалась каменная винтовая лестница до самого верха. На уровне первого этажа можно было попасть в восточное крыло дома, но вход в него был закрыт. Сначала мы с мадам Боден спустились на нижнюю площадку, с которой в соседнее помещение вело несколько ступеней.
— Идите за мной, — сказала она, нажимая на кнопку освещения. — Это столярная мастерская Жака. Сейчас покажу вам, как включить вентиляцию.
Я поднялся вслед за ней в большую комнату, где находились деревообрабатывающий и токарный станки. Вдоль стены проходили полки с инструментами. У другой стены лежали аккуратно сложенные пиломатериалы.
— Здесь вы будете работать. А теперь вот сюда, — она толкнула дверь в смежное помещение. — Место вашего отдыха.
Наверно, месье Жак проводил тут перерывы между работой. На это указывал диван с приготовленным комплектом белья, стол и шкаф для одежды. В углу была раковина с двумя кранами.
Затем мы с дамой вернулись на площадку и спустились ещё ниже. К тяжёлой двери винного подвала вели одиннадцать ступенек. Помещение было просторным, но не единственным, очевидно, под домом их было несколько. В дальней от входа стороне имелась запертая на замок дверь. Стены погреба были выложены из серо-жёлтых камней примерно двадцать на тридцать сантиметров, потолок подпирали массивные арки из кирпичей. С одной стороны на дубовых подставках лежали огромные винные бочки с забитыми в них пробками, с другой — проход между опорами и стеной занимали стеллажи с бутылками, покрытыми пылью. Короче говоря, обычный французский погреб, но если рассказать о том, что я видел своими глазами кому-нибудь в Москве, мне не поверят.
Четырёхметровые полки в несколько ярусов занимали всю площадь стены справа от дверного проёма. Некоторые доски отсутствовали совсем, другие со временем пришли в негодность. Весь настил надо было менять и заново крепить на металлическом каркасе с помощью болтов и гаек. Осмотрев всё, я сказал:
— Можете на меня положиться, мадам.
— Отлично. Если у вас появятся вопросы, спросите у Клотильды. Она всегда знает, где я нахожусь. Ужин принесут в семь часов.
— Хорошо, мадам.
— Работайте, — ответила дама и ушла.
Неужели где-то рядом спрятаны сокровища Эльзы? — подумал я, оставшись один. — Здесь не было очага, но со слов Констанции под домом располагалось обширное подземелье. Зачем она сказала мне об этом?
Срочная работа, предложенная мне, оказалась плёвой. Действуя размеренно, с ней можно справиться дня за три. Но к чему такая поспешность? Доски, сложенные в мастерской, могли бы подождать и до следующего урожая, а не только до возвращения месье Жака.
Одна из стен мастерской имела сводчатую выемку в форме глухого окна. Рядом стоял пресс — станок для ручной закупорки бутылок винными пробками. Я повесил на его рукоять жилет и шляпу и начал отбирать всё подходящее для работы, складывая в выемку. Всё оказалось на месте — верстак, инструменты и доски необходимого размера. Нашлись болты, гайки, ключи и дрель. Инструмент отличался по конфигурации от нашего, который мы обычно храним дома в ящиках, подвалах и гаражах. Некоторые вещи привлекли моё внимание. Вот этому молотку и топору было, наверно, лет сто пятьдесят или больше. Я не мог оставаться равнодушным к старинным вещам, тем более, здесь, в другой стране. Это не какой-нибудь безвкусный и безликий четырёхзвёздочный отель, а винный подвал старинного замка, мастерская и комната с мебелью позапрошлого века. Здесь теперь я буду работать, спать и видеть сны. А потом, когда вернусь и расскажу об этом брату, он заявит, что всё это я придумал. Но дня через три мне придётся выполнить поручения мадам и сказать: «Разрешите идти, я соскучился по виноградным гроздьям». Надо было хоть что-нибудь придумать. Я засунул карандаш за ухо и стал искать рулетку, чтобы провести нужные замеры.
Неожиданно затренькал мой сотовый телефон, заставив меня вздрогнуть. Братец позвонил в тот момент, когда я отпиливал очередную доску, зажав её на верстаке.
— Привет, как отдыхаешь?
— Салют! Нормально.
— Ты что отвечаешь как трудный подросток в переходном возрасте?
— Ну, тогда классно. Молодёжный кемпинг, фрукты, особенно много винограда. Раз объелся так, что живот заболел. Тут под боком в каменном подвальчике есть бар. Целые бочки французских вин, хоть залейся. Ты таких не пил.
— А чем ты там занимаешься?
— Как чем? Отдыхаю. Правда, немного обгорел на солнце, так что теперь больше нахожусь в тени. А недавно познакомился с одной местной француженкой, которая пригласила меня домой дегустировать вина. У неё такие полки…
— Подожди, а где твои приятели?
— У меня теперь новый друг — Жан-Мишель, миллионер, между прочим. А ходит вокруг бунгало в драных джинсах как все. Зовёт к себе на виллу в Нормандию, но француженок, вина и винограда и здесь хоть завались.
— А разве твои автостопщики оставили тебя одного?
— Они в порядке. Дружно загорают вместе с Жаном и пишут домой письма.
— Когда думаешь возвращаться?
— Не знаю, Лёш. Пока не знаю. Жалко уезжать. Когда, наконец, тебя выпустят за границу, Франция будет первой страной, которую ты должен увидеть. Такое запоминается навсегда.
Поговорив с братом, я опять взялся за работу, пытаясь осмыслить известные мне факты. Если то, что Констанция Боден живёт в поместье, оказалось правдой, значит, такой же правдой было и то, что в этом поместье хранятся сокровища Эльзы. Резонно предполагать, что об их местонахождении здесь не знает ни один человек, а если и знает, существуют непреодолимые препятствия воспользоваться богатством. Сообщив, что мне известно, где оно спрятано, в любом случае можно вызвать непредсказуемые последствия. Да и помнят ли сегодняшние потомки Мелье о Мари, исчезнувшей в чужой стране десятки лет назад? Я решил положиться на судьбу и, дождавшись удобного момента, открыться Констанции. Однако это следовало сделать так, чтобы меня не заподозрили в интересе к чужим сокровищам. Иначе мне никогда не открыть тайну стихов прабабушки. Не будь драгоценностей, всё было бы намного проще. Но тогда, вероятно, не было бы ни стихов, ни тайны, и я бы сюда не приехал.
Мне и в голову не пришло, что планировать можно лишь столярные работы, да и то, если они не связаны с делами Всевышнего. Привинтив последнюю полку, я отнёс старые доски в мастерскую и подмёл полы. Пора было доложить мадам о выполнении заказа. Я отряхнулся, умылся и вышел на улицу. Около дома было пусто, поэтому я решил зайти в дом через центральный вход и поискать кого-нибудь внутри. На первом этаже тоже никого не оказалось. Из вестибюля на второй этаж вели две лестницы, расположенные с разных сторон полукругом. По краям их проходили такие же тёмного дерева перила. Поднявшись по лестнице, я услышал, как кто-то играл на фортепьяно Шопена. Резная дверь напротив лестницы была заперта. В коридоре на белых стенах висели зеркала в золочёных рамах и множество картин. Вдоль стен на метровых подставках стояли вазы с цветами, только что политыми Клотильдой. Я успел заметить, как она свернула на боковую лестницу в конце коридора, и пошёл на звуки музыки в другую сторону. Обстановка вызвала у меня странные фантазии: неужели мы с братом когда-то могли родиться здесь, в этом замке? Тогда бы я занимался виноделием и ежегодно отвозил вино на выставку в Бордо, а брат приезжал сюда погостить из Парижа.
И вдруг моё внимание привлекла картина — довольно большая картина на стене у одной из дверей, подвешенная несколько выше человеческого роста.
Эльзебург! — чуть не вскрикнул я, сразу узнав замок. На нижней части рамы имелась жёлтая фигурная пластина с гравировкой: «Burg Else, 1657». Картина была написана спустя сто двадцать лет после гибели Густава и Флоры. Этот замок я мог узнать и без надписи — он чётко запечатлился в моей памяти во время гипнотического транса в мою прошлую жизнь. Как и обещал мне доктор, я помнил даже мельчайшие детали.
Полотно изображало летнюю ночь. Звёзды и луна освещали замок, казавшийся чёрным. Лунный свет отражался на поверхности излучины реки, скрывавшейся за высоким скалистым берегом, с которого мы с Флорой прыгнули в воду. Замок стоял в низине на пологом берегу. Левее него тянулся луг, переходящий в освещённую мертвенным светом белую каменистую россыпь до самой водной глади. На заднем плане рос густой лес, взбирающийся по склонам гор, обступивших замок. Острые крыши и шпили башен замка были хорошо различимы. Через некоторые окна пробивался тусклый свет, и я даже помнил, что когда-то находилось за ними. Во времена Густава Рота в замке освещалась и отапливалась лишь часть помещений. Вот это да! И представить невозможно, что встречу такое. Мистическая картина. Было необходимо зарисовать увиденное. Я достал из кармана блокнот и начал делать набросок.
На западной стороне замка выделялась небольшая каменная терраса. А вот выступ молельни, через которую я обычно проходил в свои покои. Для этого надо было идти по коридору до угловой башни и подняться вверх. А из тех окон нашей спальни виден обрывистый берег реки, названия которой я не знал. Очевидно, в регрессивном состоянии меня это не интересовало. Зато я отлично помнил, в каком помещении и где именно находился тайник с документами. А вот это… Внезапно меня что-то смутило. Я был настолько захвачен мыслями, что не услышал шагов за спиной. Только сейчас до меня дошло, что музыка уже стихла, а я, как застигнутый вор, стою в чужом доме. Сзади раздался спокойный голос Констанции Боден:
— Привезена Эльзой Брутвельдт из Германии в 1841 году.
Внутри у меня похолодело. Неужели она стояла рядом всё это время? Я медленно повернулся и слегка кивнул ей, убрав блокнот.
— Странная картина. Очень необычный свет и тени. Избыток мистики, — ответил я, с трудом вспомнив от растерянности английское слово «избыток».
— Поэтому вы хотели срисовать её? Я же видела, как она вас поразила: вы стояли у неё будто вкопанный.
— Нет, мадам… я лишь посмотрел и пришёл доложить, что выполнил поручение. Полки готовы.
Она пристально и молча несколько секунд смотрела на меня. В её глазах я прочёл сарказм и скрытое торжество.
— Вы будете принимать работу? Я не знаю, чем ещё могу быть вам полезен. Могу ли я теперь вернуться в домик виноградаря?
Мадам продолжала на меня смотреть, а потом неожиданно сказала:
— Года два назад к нам в имение приезжал один русский по фамилии Куличов, нет — Кулешов, — поправилась она. — Он весьма настойчиво просил продать ему эту картину. Но ему было отказано.
Я молчал.
— Вы ведь, кажется, из одного города с этим месье?
— Нет, я из Одинцово, — ответил я, понимая, насколько глупо это звучит. — Но от Москвы это близко.
— А-а, значит, он вам знаком. Вы, месье Александер, оказались здесь недаром. И должна сказать, что я наблюдала за вами с первого дня. Мы вынуждены прибегнуть к полиции, чтобы установить вашу личность. Итак, зачем вы приехали?
* * *
НЕДОСТУПНОЕ ПРОШЛОЕ. Франция, 1940 год
Жюль Мелье ненавидел войны и был убеждён, что в отличие от преступности человечество могло научиться избегать их. И эту войну ещё можно было предотвратить, если бы Сталин и главы правительств европейских государств не были озабочены личной выгодой, собственными амбициями и решили выступить против Гитлера сразу единым фронтом. Он предполагал, что правители Франции и Советской России уже пытались договориться с Германией за спиной своих народов и соседей, как это произошло в связи с разделом Чехословакии и захватом Польши. Подобные сделки, заключённые за счёт интересов других стран, изменить ход истории не могли. Теперь, когда Англия и Франция на западном фронте вели войну, всё чаще называемую в газетах «странной», а фюрер уже начал агрессию против государств Западной Европы и назвал французов мелкими обывателями с манией величия, до оккупации страны оставались считанные недели. Германии не нужна была война с СССР на два фронта, зато требовались все ресурсы побеждённой Франции, распластанной как продажная шлюха, — всё, — вплоть до винных погребов и женщин.
Для французов военные действия внутри страны понятнее, чем на территории противника. Многие из них считали войну 1914—1918 годов как бы не своей, и кроме как в 1914 году, Франция никогда не вела других войн, которые могли быть названы отечественными. Конфликты нации были замешаны на гражданских войнах: так было во времена революции, в эпоху Жанны д’Арк, сторонников герцога Бургундского, Генриха IV и кардинала Ришелье. Французская армия в настоящее время пользовалась гужевым транспортом — орудия, как и в 1914 году, перемещались на конной тяге. А на линию Мажино Жюль не надеялся, — немцы сумеют её обойти.
Жюль Мелье понимал, что эта война посеет хаос и уголовщину, приведёт к тому, что французы станут доносить на французов. В страну придут предательство и воровство — два греха, которые он ненавидел больше всего. Дороги опустеют, аббатства закроются на засов, а в городах будет введён комендантский час. А потом вспомнится забытое слово «коллаборационист», и люди начнут плевать в глаза своим соседям. В конце концов, бошей, — как у них называли немцев ещё в I Мировую войну, вышвырнут, но после этого французам ещё долго придётся отмываться от стыда и оправдываться друг перед другом. В то, что трусливое правительство Даладье могло предотвратить трагедию нации, он с самого начала не верил. Даже если под ружьё поставят всех священников, которые в отличие от английских от воинской обязанности не освобождались. Однако не рассчитывал он и на то, что Советский Союз сделает всё необходимое, чтобы своевременно пресечь мировой пожар. А это означало, что человечеству предстояла ещё одна длительная кровопролитная война со многими жертвами.
Середина апреля выдалась прекрасной. Весна обещала роскошное, солнечное лето с изобилием цветов и радости. Казалось, Франция выживет, несмотря на грозные события, происходящие в Европе. В это раннее тёплое утро Жюль осторожно спустился через чёрный ход, ведущий к боковой двери дома, придерживая подмышкой небольшой ящик. В другой руке он нёс приготовленную лопату. Жюль обошёл дом сзади и направился к выбранному позавчера месту. Там, в зарослях терновника под одним из платанов нужно было выкопать яму. Складывая землю на расстеленный кусок материи, он с грустью думал, что остался единственным из Мелье, посвящённым в тайну рода. Брат исчезнувшего отца и жена брата, которые воспитывали его после кончины Филиппа и Жозефины, давно умерли, а оба их сына погибли ещё в Первую мировую. Жюль не раз звал родственников своей покойной жены Изабель переехать на юг из-под Парижа, убеждая, что здешний климат для них будет намного полезнее, но они не хотели бросать свой дом.
Посвящать в семейную тайну было некого. Ни он сам, ни семья управляющего поместьем эту войну могли не пережить. Он уже предупредил их, чтобы, пока не поздно, отправили свою десятилетнюю дочь Констанцию с тёткой на британские острова. Через Кале, Дюнкерк или Гавр ещё можно было переплыть Ла-Манш, минуя немецкие подлодки. Своих детей у Жюля не было, и он нянчил Констанцию на руках, называя её «моя Аннабель-ли». Его жена Изабель тоже очень любила и всегда баловала девочку.
Он копал всё глубже, — ящик, в котором находилась шкатулка с семейным преданием, должен быть укрыт от посторонних на долгие годы. Хранить его в доме становилось небезопасно, особенно, сейчас, накануне прихода немецких войск. Если он, Жюль погибнет, пусть лучше тайна Эльзы уйдёт с ним в могилу. Он искал сокровища в имении более десяти лет, ещё с юности, и, наконец, нашёл тайник. Нашёл, методично обыскивая поместье в одиночку, как это делают полицейские, и оставил в том же виде. Потому что теперь было важно не только скрыть местонахождение огромного богатства, но и надёжно спрятать само предание, — опечатанный документ, тайну которого за сто лет так и не открыл ни один потомок рода Мелье.
Жюль закончил работу и забросал место прошлогодней листвой, как вдруг услышал хруст сухой ветки. В нескольких шагах от него, прячась за деревом, стояла Констанция. Встретив его взгляд, девочка отвела глаза и медленно, будто гуляя, пошла к дому. Он видел, что она подсматривала за ним, быть может, с самого начала, но перепрятывать ничего не стал. «Она никому ничего не скажет», — подумал Жюль и, весело насвистывая песенку Эдит Пиаф «Браво, милорд», поспешил к дому. Сегодня он решил уничтожить некоторые бумаги, хранившиеся в потайном ящике бюро его кабинета. Среди них была и та, где излагались условия, при которых мог быть вскрыт и оглашён старинный документ, зарытый им в землю. В ближайшие дни он наметил несколько встреч с людьми, которым мог доверять, как себе.
* * *
— Я хотел сообщить о судьбе Мари Мелье.
— Она умерла от чумы в 1915 году в вашей стране, месье. Вас тогда на свете не было.
— Нет, мадам Боден, Мари — моя прабабушка, и скончалась она в Ульяновске в 1966 году. Я собирал ваш виноград только потому, что никого не хотел пугать своими вопросами…
— Пугать? Чем же? — удивилась она.
— Ну, знаете, в любой стране по-разному относятся к неожиданному появлению гостей, особенно, если эти гости похожи на бедных родственников. Вряд ли вы мне теперь поверите, но некоторые события заставили меня выяснять свою родословную.
— И вы начали её изучение с картины Эльзы? Согласитесь, это занятие больше подходит гостю, чем сезонному рабочему.
— Не скрою, это имя мне известно, а картина просто заворожила меня, и только. В моей семье не догадывались, что Мари француженка.
— Допустим. Так что же побудило вас приехать сюда?
— Тот господин, который пожелал приобрести у вас картину. Он и его люди преследовали меня и следили за мной в Москве. Всё началось после того, как я установил, что мистер Кулешов является потомком Эльзы.
Я прочёл на лице Констанции изумление и даже некоторое удовлетворение, но она промолчала, явно ожидая моих объяснений.
— Послушайте, мне ничего не нужно от Мелье. Я не предполагал, что картина принадлежала Эльзе, но готов рассказать всё, что знаю о Мари, и сегодня же покинуть ваш дом. Надеюсь, на обратный билет я заработал, и вы разрешите мне сходить в подвал за вещами?
— Хорошо, месье Алекс, я вас выслушаю. Увидимся в вестибюле.
Я кивнул и спустился вниз, чувствуя облегчение. Связь поместья в Шато-конти и замка Эльзебург прояснилась, а это главное. Мне осталось решить всего один вопрос: как и кому передать стихи Мари о месте тайника. Окинув последним взглядом комнату, где я провёл последние дни, я решил, что перед отъездом вручу конверт Констанции. «Пора возвращаться к Марку, — подумал я. — Интересно, накормят ли меня на дорогу и найдётся ли в имении лошадь, чтобы подбросить меня до станции?»
У картины я повёл себя неосторожно. Не говорить же Констанции, что пять столетий назад жил в этом замке. Тогда бы она наверняка вызвала полицию. А вот почему картиной так заинтересовался Кулешов, это загадка.
В вестибюле меня встретила Клотильда и знаками предложила следовать за ней. Она отвела меня по коридору в столовую. В огромном почти квадратном помещении был плиточный каменный пол. Высокие широкие окна доходили до самого низа. Между ними имелась такая же по виду двустворчатая дверь. Девушка велела мне подождать и удалилась. Я присел на один из тяжёлых дубовых стульев у круглого стола и осмотрел интерьер. За столом диаметром больше моего роста могли отобедать человек двенадцать. На некотором расстоянии от окон фасадной стороны потолок подпирали три мраморных колонны с ионическими капителями. Справа от входа в столовую из коридора в стене была ниша с массивным бронзовым подсвечником. От неё до самого угла висел старинный гобелен, изображающий сцену охоты. Вдоль правой стены до крайнего окна располагались высокие кухонные шкафы. Но больше всего меня заинтересовала левая стена. В центре неё находился большой камин с металлическим экраном. Очаг обрамлял белый мрамор. Место на каминной доске занимали бронзовое украшение в виде подставки с гарцующими лошадями и витиеватые подсвечники. Вся площадь стены была обшита тёмно-коричневыми деревянными панелями. Обе стороны от очага имели по два рельефа, имитирующих двери, однако лишь одни — вторые слева, являлись ходом. Если в доме больше не было каминов рядом с дверью, именно отсюда вёл путь к сокровищам, спрятанным в подземелье. Я быстро поднялся со стула и открыл дверь. За ней оказался высокий сводчатый коридор длиной метров пятнадцать, конец которого переходил в узкую площадку с более низким уровнем. Слева от неё виднелся дверной проём. Как говорилось в стихах Мари, вниз от него должны были вести семь ступеней. Я поспешно закрыл дверь и вернулся к столу. Всё это могло показаться мистикой, наваждением, если бы не реальность мадам Боден, Эльзы, Мари и не стихи моей прабабушки и, конечно, не это Рублевское мурло Кулич, изначально игравший в моей истории какую-то непонятную роль тайного врага.
В столовую грациозной походкой вошла Констанция Боден. Она присела спиной к окнам и, положила руки на столешницу.
— Извините, что заставила ждать. Рассказывайте, месье Алекс.
— Вот фотография моей прабабушки Марии Антоновны Петровой. Этот снимок был изготовлен в Симбирске в 1916 году после рождения моего деда Михаила Александровича. Он умер в Ульяновске в 1983 году.
— Похоже, это Мари, — ответила Констанция, вглядевшись в фотографию. — Есть снимок, сделанный за два года до этого. На нём Мари тоже изображена стоя. Продолжайте.
— Весной, в марте 1915 года Мари проживала в Мелекессе вместе с сестрой Элен. Она работала в местной больнице и заразилась тифом. Мой прадед Александр Петров забрал Мари, находившуюся в бреду, и увёз в Симбирск. В том же году они поженились. Этот город переименовали в Ульяновск. Все мои родственники по линии мамы похоронены там.
— Видите ли, существует письмо из России, в котором сестра Мари Элен сообщает о её смерти. Более того, Элен была на её могиле. Иначе бы они не потеряли друг друга, понимаете? Вы можете это объяснить?
— Не знаю, что и сказать, мадам. Мне придётся воспользоваться иными доказательствами, а поверите вы или нет, дело ваше. Но предупреждаю, это очень необычная история.
— Ничего, я вас послушаю.
— Тогда скажите, как сестры попали в Россию?
— А откуда вам известно про Элен?
— Существование Элен и есть моё доказательство.
— Хорошо, я отвечу. Летом 14-го года родители Мари и Элен — Антуан и Элизабет Мелье, поехали в Крым на отдых. По дороге из Москвы к морю на каком-то полустанке родители вышли из поезда и отстали. У сестёр украли вещи. Война с Германией тогда уже началась. В ту пору Мари было девятнадцать лет, а Элен должно было исполниться четырнадцать, — она родилась в 1900 году.
— Мария Антоновна по документам родилась в 1895 году, и её отчество созвучно с именем отца. Но как же вы узнали о событиях в России?
— О родителях девочек? Об этом Мари написала в первом письме в декабре того же года. В том же письме Мари сообщала, что они с Элен попали в маленький городок на Волге — Мелекесс. Там их в своём доме поселила молодая женщина Борисова Прасковья. Через какое-то время Прасковья умерла от воспаления лёгких, а её муж погиб на фронте.
— Значит, Борисова успела достать документы на сестёр? — спросил я.
— Да, за взятку она смогла получить для них документы на фамилию мужа, но, разумеется, это были не паспорта.
— Понятно. И жили сёстры с Прасковьей на Сударинской улице, 10?
— Да…
— Скажите, Мари писала стихи?
— Кажется, у неё был подобный талант. Насколько я знаю, она была одарённым ребёнком, имела способности к живописи и языкам. Впрочем, не менее одарёнными были её сестра и брат Жюль… — мадам Боден тяжело вздохнула.
— Моя прабабушка оставила тетрадь со стихами. В них упоминается и Сударинская улица, и Шато-конти. Она страдала по своим близким, но обстоятельства были выше неё. Знаете, Констанция, я думаю, что обе сестры быстро выучили чужой язык и освоились. Не знаю, как они потеряли друг друга, вероятно, произошла какая-то путаница. Акцент не может исчезнуть сразу, и её муж Александр Тихонович, конечно, знал, что его жена родом из Франции. Предполагаю, что они решили молчать об этом, — такое было время. Может быть, они думали, что Элен погибла, во всяком случае, найти ни её, ни родителей не смогли, хотя наверняка искали. В истерзанной войной и разрухой России было легко потерять родных. А потом революция разбросала всех в разные стороны. При Сталине боялись даже писать и получать письма из-за границы. Повсюду шли чистки — убирали всех, в чьей преданности революции сомневались. В 29-м году мужа Мари Александра репрессировали. Кстати, он знал языки и учился в Париже.
— А другие ваши родственники?
— Мой дедушка Миша был директором совхоза, сельским интеллигентом. Он женился на моей бабушке Наталье Андреевне, 1918 года рождения. Отец её, мой прадед, родился в 1884 году, был подполковником и служил за Веру, Царя и Отечество. В 1937 году его тоже расстреляли. А его жена, моя прабабушка, родилась в 1893 году и умерла после отечественной войны.
— Ваши родители живы?
— Умерли. Мама была учителем, отец — военным. Есть старший брат, он кадровый офицер, подполковник запаса. У моего деда Миши было три дочери. Из них осталась только моя тётя, которая живёт с дочерью в Одессе. Вот и все мои близкие. А про свою прабабушку Марию я знаю, что во время Первой Мировой она работала сестрой милосердия. Мы все считали, что Борисова — её девичья фамилия…
Мы помолчали.
— Да, извините, — спохватился я, — у меня с собой копии документов Марии Антоновны, её мужа, их сына Михаила и моих родителей. Могу показать свидетельства о рождении, смерти и браке. Есть даже справка Марии Борисовой о том, что она работала в Мелекессе и жила на улице Сударинской, 10.
— Это подождёт. Допустим, я верю вам, Алекс. Но вы хотели рассказать мне о судьбе младшей сестры Мари — Элен.
— Моя тётушка из Одессы рассказывала, что Мария Борисова жила в Мелекессе по тому адресу, и, якобы, все близкие её погибли во время войны. В молодости Марию иногда называли на французский манер — Мари, хотя о её происхождении не знали. Говорили, что у неё была целая тетрадь со стихами на французском языке, но она потерялась во время переездов семьи. И вот, шесть месяцев назад одного пожилого человека в Москве на моих глазах сбила машина. Пострадавшего отвезли в больницу, где констатировали ретроградную амнезию. На том месте я поднял вот этот конверт, адресованный Элен Борисовой в Мелекесс. Письмо было отправлено из Шато-конти Жозефиной. После экспертизы мне удалось перевести весь текст. Видите? Многие слова стёрлись, чернила выцвели.
Констанция вынула письмо из конверта.
— От Жозефины… отправлено в марте 1915 года, — задумчиво проговорила она.
— Здесь упоминается покойная Прасковья, родители Мари, её брат Жюль и дед Филипп, — пояснил я.
— Филипп и Жозефина Мелье — родители Антуана.
— Я так и думал. Но вы понимаете, что факт того, как письмо попало ко мне, означает, что в России остались родственники Элен?
— Понимаю. И даже знаю, кто.
— Кто же?
— Мистер Кулешов. Вы сказали, что он преследует вас.
— Да, но здесь много непонятного, — ответил я, решив рассказать всё без утайки. Констанция должна была понять, как Кулешов попал в поле моего зрения. — Таких у нас люди называют олигархами, а чаще всего бандитами. Но дело не в этом.
— Откуда же вы узнали о нём?
— В письме находилась газетная вырезка о пожаре в городе Владимире. В доме сгорела пожилая пара — Кулешов Афанасий Васильевич и его жена Раиса Максимовна. Они были родителями олигарха, но это выяснилось не сразу. Мне помог один наш бывший полицейский, который жил недалеко от места пожара. От него я узнал адрес сына погибших — Кулешова Валентина Афанасьевича. Я пришёл к нему под видом корреспондента и расспросил о его родственниках. Оказалось, что из родных у него никого не было — брат умер, а с родителями произошёл несчастный случай. Но в кабинете его московского дома на стене я увидел родословное дерево. Верхушку его составляли два имени — Дмитрий и Валентин. Это братья. В самом низу значились Эльза и Жерар…
— Жерар Мелье был мужем Эльзы. Продолжайте, пожалуйста.
— А знаете, кто были родители сгоревшего в огне Афанасия Кулешова? — Василий Кулешов и его жена Елена Антоновна Борисова, то есть дед и бабка этого олигарха.
— Так вы считаете, что Валентин Кулешов преследовал вас потому, что догадался, кто вы?
— Не знаю, может быть. Но после того, как я сходил к нему в гости, во Владимире появилось два трупа. Слежка за мной началась после беседы с Кулешовым и продолжалась с перерывами вплоть до моего отъезда из Москвы. В Германии я с трудом избежал встречи с его людьми. Кстати, Кулешов, как и подобает олигарху, собирается купить себе место в парламенте, и любая утечка информации в жёлтую прессу не входит в его планы.
— А если причина слежки была другой?
— Помните, я сказал о человеке, которого при мне сбила машина? Так вот, семь лет назад сначала погибли родители Дмитрия и Валентина Кулешовых, а через два месяца этого человека сбросили в реку. Именно тогда он и потерял память, хотя остался жив. Убийца, ну, тот, кто хотел убить его, работал водителем у чиновника, которого я посетил, чтобы уточнить адрес пожара. В итоге шофёр бесследно исчез, а чиновника застрелили возле своего дома.
Констанция сидела в глубокой задумчивости.
— Знаете, Алекс, нам с вами надо обо всём как следует подумать. Вы больше похожи на детектива, чем на преподавателя истории.
— Всегда считал, что это почти одно и то же. Я очень хочу знать, о чём писали Мари и Элен из России.
— Сохранилось всего три письма от них. О первом я уже вам говорила. Во втором письме, упомянутом мной и датированном концом марта, Элен написала о смерти сестры. Она собиралась заколотить досками пустой дом и уехать в Москву искать дядю Жиля, друга своего отца.
— Постойте, Констанция! Если в моих руках оказалось письмо человека, утратившего память, значит, Элен получила его до отъезда из Мелекесса. А Жозефина, отправляя его, ещё не знала о смерти старшей внучки.
— Несомненно. Однако затем переписка прервалась или затерялась. Последнее известное письмо Элен отправила 17 октября 1917 года. Она передавала привет деду Филиппу и брату Жюлю, ещё писала, что недавно получила письмо Жозефины. Следовательно, позднее переписка между ними всё-таки была. Но Элен не смогла разыскать в Москве друга отца и попала во Владимир.
— Она отправила письмо за неделю до Октябрьского переворота. Представляю, что тогда творилось в Москве.
— Во Владимире, — продолжила Констанция, — Элен познакомилась с Базилем Кулешовым, которому тогда исполнился двадцать один год. Они собирались пожениться. Это были последние новости из России.
— Имя «Базиль» на русском означает «Василий». Оно странным образом совпадает с отчеством отца Валентина — Кулешова Афанасия Васильевича. Думаю, в России могли сохраниться письма из Франции. Скажите, в третьем письме указывался адрес Элен?
— Обратный адрес ничего не говорил. К сожалению, других писем не осталось.
— Не могу не заметить одного обстоятельства, мимо которого мы оба прошли.
— Что вы имеете в виду?
— Мистера Кулешова. Не зря же он так настойчиво просил вас продать картину.
— Не только просил, а требовал и допытывался, кто были предки Эльзы. Однако мы поговорим о нём позднее.
— Как скажете. Только мне не хотелось бы покидать вашу страну, ничего не узнав о своих французских корнях. И прошу не забывать, что Кулешов открыл на меня сезон охоты, и мне скоро предстоит возвращение домой. Я не хочу, чтобы его помощники устроили мне автокатастрофу или свернули шею в подъезде с разбитой лампочкой.
— Здесь вы в безопасности, Алекс. Отныне вы наш гость. Извините, мне нужно дать распоряжение Клотильде.
Мадам Боден подошла к стене и нажала какую-то кнопку, видимо, это был звонок для вызова прислуги. Констанция скрылась в коридоре и вернулась минут через пять.
— Я попросила приготовить вам комнату на втором этаже. Вам будет там удобно — это бывшая детская Жюля.
— Благодарю, мадам. Надеюсь, мой визит не затянется.
— Я уже сказала: теперь вы наш гость. Вы хотите меня о чём-то спросить?
— Ну… мне интересно, кто ещё живёт в столь большом доме?
— Поместье принадлежит сыну Жюля, но он с семьёй имеет квартиру в Шато-конти.
— У него остался сын?
— Приёмный. Частью дома распоряжается второе поколение родных покойной супруги Жюля Изабель — Этьен и Амели, которые ведут в поместье все хозяйственные дела. У них взрослые дети — девочка, Даниель и сын, Люсьен. Здесь живёт и управляющий. У него большая семья.
— Откуда берёт начало род Мелье?
— Его история уходит в далёкое прошлое. Основателем имения был Ален Мелье. Именно он в начале XVIII века заложил первые камни родового поместья. Я вам покажу памятник родоначальнику семьи, он установлен его потомками у въезда в дом. Одним из потомков Алена Мелье был Робер Мелье. Он стал отцом Жерара и его брата Доминика. В 1844 году, через три года после женитьбы Жерара на Эльзе Брутвельдт родился Филипп. Ну, а потом у Филиппа и Жозефины появился Антуан Мелье. А дальше, — мадам грустно улыбнулась, — родословное древо вы знаете.
— Скажите, Констанция, а как Эльза стала женой Жерара?
— Конечно, между Германией и Францией в те времена существовали не простые отношения. Удачным браком молодая чета была обязана долгой дружбе Робера Мелье с Отто Брутвельдтом из Германии. Семейство Отто, его жены Агнес, их младшей дочери Валькирии и самой Эльзы происходило из весьма старинного немецкого рода и обреталось в замке Эльзе. Существует ли замок в настоящее время, мне неизвестно.
— Для меня это звучит поразительно… я никогда не бывал в замках. Как вы думаете, Мелье знали, где находится Эльзебург?
Мой вопрос остался без ответа. Вошедшая в столовую Клотильда поставила на стол поднос с выпечкой. Женщины лишь кивнули друг другу, и Клотильда тут же вышла. Констанция налила в чашки кофе и передала мне одну из них.
— Спасибо.
— Угощайтесь. У нашей Клоти выходит отличная сдоба. А насчёт замка… Думаю, дети Эльзы и Жерара могли знать это. Про Антуана и Элизабет не могу сказать, но Жюль однажды сам интересовался замком. Во всяком случае, до войны в Германии он побывать не успел.
— Значит, моими ближайшими родственниками во Франции являлись Антуан и Элизабет Мелье, — сказал я, отпивая кофе. — У них был счастливый брак?
— Насколько я знаю, очень счастливый. Ничто в их доме не предвещало беду, но беда всё же случилась. Это была их судьба.
— В каком возрасте они пропали?
— Антуан родился в 1876 году, а Элизабет годом раньше.
— А Жюль?
— О, Жюль… старый месье тогда был ещё слишком мал. Ему было всего пять лет.
— Получается, он умер не так давно?
— Десять лет назад, — ответила Констанция. Я опять заметил её потухший взгляд. — Жюль был последним из Мелье, он похоронен на семейном кладбище. Мы обязательно туда сходим, ведь все ваши прародители лежат там.
— Почту за честь, мадам.
— Правда, у Робера Мелье был родной брат — Шарль, прозванный в семье «Непоседой». Где его могила, не знает никто. Он воевал в армии Наполеона и сгинул в России. Наши историки называют ту войну неоправданной жертвой нации… Что с вами?
Я поперхнулся так, что чуть не забрызгал напитком свои брюки. Откашлявшись, я сказал:
— Простите. Я изучал историю, в том числе и войн, но никогда об этом не размышлял. Понимаете, вы сейчас не сказали ничего особенного, а невольно заставили меня задуматься о войне, о близких и чужих людях и о том, что войны всегда были частью нашей жизни и ещё долго будут. Дело в том, что отец моего отца — мой дедушка, воевал в Великую Отечественную войну с гитлеровской Германией, а моя бабушка дождалась его с фронта. Он освобождал свою страну и Европу, защищая Советскую Власть и Сталина. Мой прадед, подполковник царской армии, о котором я говорил, воевал с этой властью на стороне Деникина в гражданскую войну. Он был белым офицером и дрался с Германией за Россию ещё на полях Первой Мировой. Свёкор Мари — Тихон Петров, то есть отец её мужа Александра, воевал в Болгарии на Шипке с турками в 1877—1878 годы. А отец Тихона в своё время защищал Севастополь в Крымскую войну 1854—1856 годов от французов и англичан.
— Вы можете гордиться своими предками, Алекс.
— Я и горжусь, Констанция. Знаете, почему мне как-то не по себе? Муж Мари Александр был патриотом своей страны, никогда не вредил ей, но был репрессирован, как вредитель. Его отец Тихон, считавший себя патриотом, умер через год после революции, потому что не вынес разорения страны большевиками. А мой прадед — белый офицер был расстрелян в тридцать седьмом только потому, что кучке отщепенцев, дорвавшихся до власти, везде мерещились заговоры. Половине наших выдающихся вождей современные психиатры ставят диагноз «шизофрения». Выходит, русский народ заслуживает не простую жестокость, а лишь ту, которая усугублена душевной болезнью своего правителя. Тогда, в тридцатые годы, государство выполняло план по врагам народа и моего прадеда забрали как военспеца-вредителя и немецкого шпиона, будто в нашем Мавзолее до сих пор лежит не германский шпион, а мумия из египетской династии фараонов. Когда вы рассказали мне про Шарля, воевавшего против русских на войне 1812 года, я подумал, что войны были судьбой моих предков. По большому счёту, все мировые бойни оказывались пустой никчёмностью, — до наступления мира проигрывали обе стороны и так будет продолжаться впредь. Любые войны развязывали вожди, а не народ — общепризнанный творец истории. И всегда под одним и тем же флагом патриотизма. Впрочем, у каждого народа свои счёты с Богом.
— Вы говорите словами Жюля. Он так считал ещё до того, как начал свою войну с нацистами.
— Жюль Мелье — участник войны? — удивился я.
— Он был героической личностью, Алекс. И до самой смерти верил, что судьба Мари и Элен перестанет быть тайной. Ну, мне кажется, на сегодня достаточно. Пойдёмте, я покажу вашу комнату.
Мы вышли из столовой и поднялись на второй этаж. Проходя мимо портретов, Констанция сказала:
— Посмотрите, всё это ваши предки. С этой картины на вас смотрит сам Ален Мелье.
Родоначальник семьи был изображён по пояс, в старинном мундире с париком на голове.
— А вот это Робер Мелье в возрасте пятидесяти трёх лет. Рядом его супруга и брат Шарль. Этот портрет был написан, когда Бонапарт находился в зените славы, которую с императором хотел разделить Шарль. А теперь подойдите сюда, Алекс.
— Кто это?
— Слева Доминик, правее его брат Жерар. А за ним супруга Жерара Эльза. Художник увековечил их после рождения сына-первенца Филиппа.
Я всмотрелся в их лица. Подумать только! В этом доме умели хранить память о своих предках, а значит, и честь рода. Особенно меня привлёк портрет Эльзы. Тонкие черты миловидного лица, локоны до плеч, пышное розовое платье. Такой Мари запомнила навсегда свою прабабушку. Я настолько засмотрелся на Эльзу, что не сразу заметил, как Констанция уставила на меня пристальный взгляд.
— Хотите взглянуть на Филиппа и Жозефину?
— Конечно.
— Идёмте, они с другой стороны.
Мы подошли к двум портретам, висящим рядом. На одном из них был изображён щеголеватый мужчина средних лет в цилиндре с хлыстом, на другом — красивая женщина в длинном платье с букетом цветов в руках.
— Дед Мари слыл в округе бравым наездником. Излюбленным видом отдыха для него была конюшня. Филипп и Жозефина очень любили Антуана и внуков. К сожалению, портретов родителей вашей прабабушки нет.
Комната, в которую меня поселили, находилась в главной части дома рядом с боковой лестницей. Той самой, где упал мальчик Жюль. Вопреки ожиданиям, я не увидел ни камина, ни старинной мебели, ни подсвечников.
— А я думал, в таком старинном доме каждая спальня имеет свой камин.
— Их давно заменили паровым отоплением. Сохранился всего один действующий камин — на первом этаже в столовой, да и его топят редко, — ответила Констанция. — Устраивайтесь, здесь уютно. Ужин будет в шесть тридцать. А ваши документы я пока просмотрю.
Итак, я превратился из сезонного гастарбайтера в гостя старинного замка. От меня ничего не зависело, и единственное, что мне оставалось, — наслаждаться проявленным гостеприимством. Тайна, которую мне предстояло раскрыть, теряла свои очертания. Предположим, я узнаю от обитателей этого дома какие-нибудь подробности из жизни Мелье, но что мне даст это? Вообще-то, Констанция обещала рассказать о Кулешове, как-никак, ей известно, что мы с ним родственники. Но на кой ляд я ему сдался, и где гарантия, что он отвяжется от меня в Москве? У него надёжная служба безопасности, и Кулешов давно мог убедиться, что я не агент ФСБ и не киллер. Мне необходимо установить, зачем олигарх появлялся в этом доме. Неоспоримо пока лишь одно: я был для него серьёзной помехой в каких-то важных делах. Но в каких?
К ужину я спустился вниз, рассчитывая застать других членов семьи, однако Констанция объяснила, что за большим столом все собираются по торжественным случаям. Мы сели напротив друг друга и приступили к ужину, когда Клотильда поднесла пожилой мадам телефонную трубку. Констанция сказала несколько коротких фраз и вернула её обратно.
— Это Мишу, сын Жюля. Беспокоится о моём здоровье, — пояснила она. — Скоро я вас с ним познакомлю.
Не тот ли он господин, который дважды приезжал к Констанции? — подумал я и спросил:
— Вы говорили, что он приёмный сын Жюля. Сколько ему лет?
— Мишу родился в конце оккупации и был сыном русских, с которыми Жюль сражался против фашистов. Он адвокат и поверенный в делах семьи, в том числе и моих. Знаете, а ведь Мишу хорошо знает русский язык.
— Как?! — невольно вырвалось у меня. — Не ожидал, что услышу здесь свою речь.
— Кажется, я вам как-то сказала, что незадолго до вторжения немецких войск мои родители отправили меня в Англию. Мы с тёткой смогли вернуться на родину только в сорок пятом, Мишу тогда шёл второй год. Его русские родители погибли за Францию — сначала отец, потом мать. Их схватила французская полиция и передала в гестапо. Жюль был командиром группы и чудом успел перевезти мальчика на конспиративную квартиру, а оттуда — в поместье. Сначала его воспитывали мои родители, а после освобождения страны — Жюль и я. Правда, через два года после своего возвращения я уехала учиться в Париж, но затем снова вернулась в Шато-конти. А Мишу выучил русский язык в память о своих родителях.
— Он бывал в России?
— Мишу нет, а Жюль посетил СССР. Его интересовало всё о стране, где пропали его близкие.
— Извините, Констанция, если я растревожил вашу память.
— Ничего. Такие истории помогают лучше понять жизнь.
— Скажите, а что вам помог понять русский мистер Кулешов? — ввернул я.
— Мы ещё поговорим о нём, но не сегодня. Или вы спешите покинуть наш дом?
— Как вам сказать? Боюсь показаться незваным гостем.
— И совершенно напрасно. Вас кто-нибудь ждёт в России?
— Только брат. Но он не знает, куда я поехал и зачем. Кажется, он не верит, что я остановился в молодёжном кемпинге со своими друзьями.
— Вы не совсем доверяете друг другу?
— Нет, Констанция, проблема не в этом. Когда я нарвался на Кулешова и почувствовал серьёзную угрозу, мне стало ясно, что я подвергаю опасности жизнь брата и его семьи. Знаете, что бы предпринял он, если бы всё узнал? — Спрятал загранпаспорт так же, как мои штаны в детстве, когда я с температурой захотел поиграть в футбол.
— Понимаю. А насчёт Кулешова вы не беспокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. Утро вечера мудренее.
— Это русская поговорка.
— Разумеется, ведь наш Мишу русский. А у англичан есть другая поговорка: никто не знает столько, сколько мы знаем все вместе.
— Слышал. Учить английский язык меня заставлял брат и делал это до тех пор, пока я не стал на нём думать.
Мы рассмеялись. Нам было приятно заметить, что в разных странах люди могут посмеяться над одним и тем же.
Ужин прошёл в романтической обстановке — в столовой с мраморными колоннами не хватало лишь опущенных штор, а на столе — бронзового подсвечника. Констанция собралась идти на традиционную прогулку, а я вернулся в свою комнату. Чувствовалось нервное напряжение этого дня — мне хотелось лечь спать пораньше. Я, вообще, был жаворонком и любил солнечное утро, поднимаясь рано. Сложившиеся обстоятельства требовали от меня размышлений. Я чувствовал недосказанность во всём, что говорила Констанция Боден, её недомолвки, отчего у меня возникали разные вопросы. Например, почему она дважды отказалась поддержать разговор о Кулешове, хотя первой назвала его фамилию? Чего можно ожидать от встречи с загадочным господином Мишу? И что, наконец, подразумевалось под тем, что утро вечера мудренее?
Я стянул с себя джинсы и лёг на спину. «Интересно, каким человеком был Жюль Мелье? — подумал я, засыпая. — Могли ли мы сблизиться с ним, если бы я родился намного раньше и судьба бы устроила так, что я оказался с ним в одном антифашистском подполье? Наверно, Констанция может многое рассказать о нём…».
Через три часа, когда на виноградники уже опустилась синяя мгла, а в окнах дома зажёгся свет, Констанция Боден второй раз за этот день набрала домашний номер адвоката Мишу. В этом телефонном разговоре было сказано всего несколько фраз, но каждая была наполнена каким-то особым смыслом:
— Его переселили в замок.
— Ты уверена, что это именно он?
— На этот раз — да.
— Он не проявил интереса?
— Ни малейшего. Только к Эльзе, но его поразила картина.
— Знакомство отрицает?
— Нет. Ему хотят помешать. Когда ты приедешь?
— Через два дня. Я должен проверить.
— Мне показалось, он не прочь покинуть дом. Думаю, он откажется.
— Ты знаешь, что надо делать.
— Хорошо. Спокойной ночи. Целую тебя.
* * *
— Инстинктивное уважение, которое человек во все времена и у всех народов оказывает умершим, не есть ли следствие внутреннего сознания будущей жизни?
«Это естественное следствие внутреннего сознания, без чего уважение не имело бы основания».
— Откуда является у некоторых людей желание быть погребённым в таком-то месте скорее, чем в другом?
«Причиной этому — привязанность Духа к известным местам и низкая степень его нравственного развития. Может ли иметь для высшего Духа какое-либо преимущество один уголок земли над другим? Разве он не знает, что душа его соединится с теми, кого он любит, если кости их будут лежать и порознь?»
— Погребение всех членов семейства в одном месте должно ли быть рассматриваемо, как пустой обычай?
«Нет, это благочестивый обычай, доказывающий симпатию к тем, кого любили; если подобное собрание смертных остатков не важно для Духов, то, во всяком случае, полезно для людей: больше сосредотачиваются воспоминания».
— Душа, возвратившись в мир Духов, сочувствует ли почестям, воздаваемым её смертным останкам?
«Когда Дух достиг уже известной степени совершенства, он не имеет более земного тщеславия и понимает ничтожность всего этого; но знай, что в первую минуту смерти Дух часто испытывает большое удовольствие, когда воздают почести его телу, и страдает, когда видит тело своё забытым всеми, потому что сохраняет ещё некоторые земные предубеждения».
Книга Духов
* * *
В эту ночь я проспал больше половины суток и открыл глаза с чувством, что вчера в моей жизни произошло что-то значительное. Да, я исполнил желание прабабушки найти Констанцию и узнал правду о своих родственниках. Однако настроение испортилось, стоило мне подумать о Кулешове и о том, что я почти ни в чём толком не разобрался. Ощущение незавершённости событий и неясной тревоги навалилось на меня, когда кто-то постучал в комнату. — «Да», — автоматически вырвалось у меня. — «Иес! Уи!» — отозвался я по-английски и по-французски.
Из-за двери показался белоснежный передник Клотильды, держащей поднос с завтраком. Она поставила его на столик и тут же вышла. На подносе я нашёл записку Констанции, в которой она приглашала меня на прогулку через полчаса.
Мадам ожидала меня, прохаживаясь в тени деревьев, растущих перед фасадом.
— Как вам спалось на новом месте, Алекс? — поинтересовалась она, когда мы поздоровались.
— Превосходно. Замок — не хрущоба. Правда, во Франции такие маленькие подушки, что я всю ночь искал, что бы положить под голову. Это шутка.
— Что такое «хрущоба»?
— Производное от преемника Сталина, которого собственное окружение дразнило «кукурузником». Очередные преемники критиковали его за то, что он перестарался с разоблачением культа личности и излишне развратил вверенный ему народ немыслимыми благами социализма. В одной хрущобе, — а от них не могут избавиться по сей день, — могло жить в тесноте человек триста, тогда как в одном лагерном бараке легко размещалась тысяча. Отсюда пошло исконно русское выражение: «В тесноте да не в обиде». В общем, его высмеивали за то, что он сблизил пол с потолком и соединил ванную с туалетом, дав людям крышу. А потом наши сатирики в штатском в лабораторных условиях сочинили про него тьму анекдотов и безнаказанно веселили народ в заводских курилках до тех пор, пока ему не нашлась замена.
— Я помню это время: ваш лидер хотел построить больше жилья после войны.
— Но больше всего народ развратил свободой Горбачев, и за это его тоже быстро съели. Конец разврату смог положить только Ельцин, да и то лишь тогда, когда окончательно развратил всех и вся. Вот он действительно перестарался: теперь никто не знает, кто у нас виноват и что делать для народа: строить побольше элитного жилья, производить ещё больше модифицированных продуктов или отобрать у него последние льготы. Особенно велики успехи в области охраны здоровья трудящихся — лекарствами торгуют даже на базаре. Впрочем, говорить об этом, всё равно, что ругать погоду. Но во время прогноза погоды по телевизору народу тоже прописывают лекарства.
— Вы не возражаете против прогулки? — спросила Констанция, терпеливо дослушав мою тираду. — В эти часы ещё не так жарко.
— С удовольствием.
— Можно пойти к реке. Я люблю ходить на берег мимо домика виноградаря.
— Там я ставил палатку. Чудное место.
Но к реке мы почему-то не пошли, а завернули за угол левого крыла дома и оказались у башни, в которой я недавно работал. Теперь мне было смешно вспоминать об этом. Констанция как бы между прочим передала мне слова управляющего, который остался доволен сделанными полками и моей аккуратностью.
Вдоль этого крыла здания рос кустарник, за которым скрывался обрывистый, метра в три-четыре спуск в лощину. Ещё дальше в ту же сторону лежала пойма реки. Мы прошли по тропинке мимо башни вперёд, и я увидел небольшую дубовую рощу, подступавшую к обрыву. Под сенью вековых деревьев стояли деревянные столы со скамьями.
— Знаете, Алекс, а ведь этим могучим дубам столько же лет, сколько и нашему дому.
— А для чего здесь эти столы?
— В поместье ежегодно отмечался праздник урожая. Здесь собирались жители близлежащей деревеньки. Эта традиция продолжается до сих пор. Крестьяне из поколения в поколение приходили на гулянья. Люди уважали тех, кто жил в поместье. Я привела вас сюда, чтобы показать место, где когда-то Жерар и Эльза играли свадьбу. Мне об этом рассказывал ещё месье Жюль. Можно утверждать, что облик поместья с тех пор почти не изменился.
Я с неподдельным интересом оглядел это место. Мы прошли ещё дальше. За деревьями показалось старинное двухэтажное здание. Оно имело две трубы в виде продолжения вверх торцевых стен, которые были глухими. Подойдя к дому, я рассмотрел, что на боковой стене имеется лишь одно крохотное оконце. Каменная лестница, прилеплённая к стене, шла к двери в середине второго этажа. Крыша не выходила за вертикали сторон. Типичная французская архитектура, средневековье. — «Здесь когда-то жили слуги, — пояснила Констанция. — Теперь там хранят инвентарь. А вот старую конюшню давно снесли».
Мы дошли до построенного углом здания давильни, правее и дальше которой располагалась приземистая ферма. Напротив неё через дорогу тянулся каменный забор кладбища. По этой дороге можно было вернуться в замок, а если пойти в другую сторону, можно дойти до поворота к домику виноградаря. Думая, что Констанция решила повести меня на семейное кладбище, я взглянул на неё. — «Не сегодня, Алекс, — мягко произнесла она, поймав мой взгляд. — Сначала я хотела бы вам кое-что показать».
— Как скажете. Может быть, вы устали? Мы могли бы вернуться обратно.
— Пожалуй. Становиться жарко.
Мы приблизились к белому каменному забору, и дошли до ворот. К въезду на кладбище вела дорога, проходившая между зданием, где делали вино, и бывшим домом прислуги. Пройдя через ворота, мы повернули к началу тенистой платановой аллеи. Кроны высоких деревьев настолько закрывали солнце, что было сумрачно. Слева за деревьями на лужайке белели полевые цветы, на солнце блестел пруд. За поляной начинались виноградники. В конце аллеи, усыпанной гравием, была разбита яркая клумба. Посреди цветов на гранитном постаменте стоял бюст.
— Ален Мелье. Основатель поместья, — сказала Констанция.
— Какой год?
— 1771. От потомков. Аллея была посажена в его честь.
— Он похоронен тут?
— Да.
Годы жизни издали я разобрать не смог, а спрашивать не стал. Постояв немного, мы прошли через калитку в чугунной изгороди и оказались недалеко от вьездной арки во двор дома. Прогулка закончилась. Констанция напомнила, чтобы я без опоздания спустился к обеду, и отправилась давать указания Клотильде, а я вернулся в свою комнату. Мне надо было обдумать информацию, ставшую известной за последние сутки, но на меня напала такая усталость, что я, разморённый жарой, плюхнулся на спину и начал изучать лепнину на потолке. Похоже, я эмоционально устал, и моё воображение не могла подстегнуть даже необычность происходящего. Мне так и не удалось расслабиться, и оставалось только ждать, когда Констанция сама возобновит разговор.
Вечером она принесла небольшой сундучок. Мы уселись поудобнее, и она достала из него несколько старых конвертов.
— Эти письма, Алекс, Жюль хранил как самое дорогое, что у него осталось от детства. Вот те три, о которых мы с вами говорили.
Я бережно взял их в руки, поочерёдно доставая и разворачивая каждое. Я помнил, о чём в них говорилось. Вот первое письмо от Мари, в котором она сообщила, как попала в Мелекесс. А это второе письмо от Элен, написавшей о смерти сестры. И, наконец, третье, где Элен писала о том, что судьба забросила её во Владимир и свела с Василием Кулешовым. На конверте был указан короткий неразборчивый адрес.
Затем Констанция открыла потёртый семейный альбом, и я впервые увидел фотографии своих французских родственников.
— Узнаёте? — спросила она, показывая мне фото молодой девушки.
— Мари… — ответил я, сразу узнав свою прабабушку. Она стояла на фоне центральной лестницы дома, держась одной рукой за перила. Сходство с молодой прабабушкой на моей фотографии, действительно, было очевидным.
— Здесь ей семнадцать лет. Снимок сделан всего за два года до трагических событий. Не правда ли, что эта фотокарточка напоминает ту, что вы привезли с собой?
— Удивительно. Кажется, будто и платье одного покроя.
— А это родители вашей прабабушки — Антуан и Элизабет Мелье. Этот снимок тоже был сделан незадолго до отъезда в Россию.
Я пристально всмотрелся в лица сидящих Антуана и Элизабет — моих прапрадедушки и прапрабабушки. У мужчины на носу было пенсне, на жилете зафиксировался отблеск цепочки от часов. На женщине было платье, фасон которого носили в начале прошлого века.
— А это кто? — спросил я, глядя на овальную фотографию хрупкой молодой женщины в старомодной шляпке.
— Изабель — покойная супруга Жюля. К сожалению, супруги были бездетны… Взгляните сюда, — Констанция перевернула лист альбома.
На групповом снимке были изображены члены семьи Мелье.
— Это родители Антуана — Филипп и Жозефина. Рядом сёстры со своими родителями. Элен здесь, кажется, одиннадцать лет. Антуан держит на руках двухлетнего Жюля.
— Значит, это примерно 1911 год? — предположил я.
— Да, ведь Жюль родился в 1909-м. А на этом снимке ему уже десять лет. Прошло уже пять лет, как мальчику заменили родителей дед и бабка.
Просмотрев несколько страниц, я наткнулся на фотографию человека с мужественным волевым лицом, курившего трубку. Он был одет в кожаную куртку довоенного покроя и берет, считавшийся французским национальным убором. На заднем плане виднелась арка въезда в поместье.
— Неужели этот мужчина и есть Жюль Мелье? — спросил я.
— Накануне высадки союзников 6 июня 1944 года в Северной Нормандии Жюль ненадолго вернулся по делам в поместье из Канна. Он ещё не знал, что на следующее утро будет открыт второй фронт. Никто не предполагал, что десант ждёт двести пятьдесят метров открытой полосы французского песка Омаха-бич под немецкими пулями и гранатами.
— Да, я читал о том, что случилось на берегу. В тот день за восемнадцать часов при штурме утёсов погибло около пяти тысяч молодых американцев.
— Но всё равно эта была победа, Алекс. Видите, какой торжествующий взгляд у Жюля? Он даже надел берет, который немцы запрещали носить французам. Снимок был сделан сразу, как радиоприёмники разнесли долгожданную весть по всему миру. Она означала близкий конец оккупации. Французы тогда ликовали. А я услышала эту новость, будучи по другую сторону Ла-Манша… Намного позднее мне стало известно, что Жюль был одним из многих французов, принимавших участие в составлении детальных карт северного побережья, где должны были высадиться английские и американские войска.
— Карты союзников были точными и включали даже тропинки на берегу. Но историки полагают, что неоправданные потери были вызваны неудачной артподготовкой: она почти не затронула оборонительных позиций немцев.
Мы с Констанцией проговорили до позднего вечера. После её ухода я вспомнил, как меркли её глаза, когда она говорила о Жюле и том времени. Однако мне очень хотелось услышать подробный рассказ о жизни этого человека.
Посещение фамильного кладбища было намечено назавтра. В одиннадцать часов мы с Констанцией вышли из дома. В руках у неё был букет алых роз. По дороге я спросил её:
— Кем были родные Антуана и Элизабет?
— О, родственники их были добропорядочными буржуа. Они любили Францию, свой дом и своих предков. Мелье поколениями наживали состояние, веками производя и продавая своё вино. Конкурировать с винами юга невозможно. Кроме того, у Мелье остались небольшие предприятия и автомастерские в разных местах страны. Теперь ими через своих представителей руководит Мишу. Владельцами являются он и родственники по линии супруги Жюля — глава семьи Этьен, Амели и их дети. Но мне тоже кое-что принадлежит — Жюль об этом позаботился. А нынешний управляющий имением мой родственник, правда, дальний. Все мы давно живём как одна семья и отлично ладим. А вот у Жюля родных не осталось. Я имею в виду — со стороны отца. Он последний из рода Мелье, кто жил в доме, и умер бездетным вдовцом.
— А когда скончалась супруга Жюля?
— Ещё до войны, но он потом так и не женился. О родителях Изабель я знаю не много, они французы из пригорода Парижа. Их семья переехала в Шато-конти после войны, когда я вернулась из Британии. Видите ли, Жюль после смерти Изабель этого очень хотел, и именно к ним по его решению перешла часть замка и угодий.
— Значит, Жюль был единственным наследником?
— Сначала мальчика воспитывали родители Антуана — Филипп и Жозефина. После их смерти Жюль оказался на попечении старшего брата своего отца. У него была жена и двое сыновей. Их семья тоже жила здесь. Так что Жюль получил наследство не от отца, а от своего дяди.
— У него остались родственники?
— Нет. Брат Антуана и его жена умерли в начале тридцатых, а оба их сына погибли — один при обороне под Верденом летом 1916-го, второй спустя два месяца в боях с немцами на реке Сомме.
— Грустная история.
— Да, грустно. Перед Второй мировой войной поместье опустело. К тому времени в доме оставались несколько слуг и семья моего отца — управляющего.
Мы пришли на кладбище.
— Вот могила отца Жерара — Робера Мелье. Брата того самого Шарля, который ушёл воевать с Россией в армию Наполеона и не вернулся, — Констанция остановилась.
— Знаете, в последнее время у нас писали об обнаружении новых захоронений солдат Бонапарта. Возможно, кости Шарля лежат где-нибудь в земле у дорог под Бородино, Смоленском или Можайском. Стоит сесть на электричку у моего дома, и окажешься в тех местах. Насколько всё-таки люди разделены временем и географией от своего прошлого.
— Вы правы, Алекс. Поэтому мы и склоны забывать прошлое и совершать необдуманные поступки. Но кто теперь скажет, что в судьбе наших предков было главным? Историческая амнезия — самое печальное.
Констанция подвела меня к надгробьям, где были похоронены Жерар и Эльза. Глядя на белый мрамор, я испытал сильное смятение и долго стоял, не шелохнувшись. Неужели тут покоились останки той загадочной Эльзы, которая была упомянута в стихах своей правнучки Мари, обращённых ко мне? В моей памяти всплыли строки стихотворения Эдгара По «Духи мёртвых»:
В уединенье тёмных дум
Душа окажется… Угрюм
Здесь камень, мертвенна могила —
И празднословье отступило.
В молчанье здешней тишины
Нет одиночества… Ты знаешь:
Здесь мёртвые погребены,
Которых ты не забываешь.
Здесь души их, здесь духи их,
Здесь их завет: будь строг и тих.
Лишь тени их в ночном тумане,
Но сам туман напоминанье,
Что образ, символ и покров
Есть Тайна Тайн во тьме миров!
Констанция стояла сзади, но не торопила и не отвлекала меня. Я повернулся к ней и увидел её строгое задумчивое лицо.
Я бродил среди могил торжественный и печальный. Волна смешанных чувств овладела мной. Здесь под белыми каменными надгробиями в виде статуй, причудливых скульптур и тяжёлых крестов лежали мои предки. Тут были мои корни! Я смотрел на годы жизни и смерти, высеченные на каменных плитах, и мне невольно вспомнилась первая строчка предначертания моей прабабушки Мари о моём возвращении в обитель предков.
Robert Melier (1787—1856)
Domenique Melier (1810—1878)
Philippe Melier (1844—1918)
Josephine Melier (1849—1919)
Gerard Melier (1812—1884)
Else Melier (1822—1896)
Jules Melier (1909—1995)
Isabelle Melier (1911—1938)
Мы остановились у могилы Жюля и Изабеллы Мелье. Констанция опустила в вазу принесённые цветы.
— У супруги Жюля Изабель было очень слабое сердце, — тихо произнесла она.
Стоя у могилы Жюля, я задумался об этом человеке. Может быть, он вызывал мою симпатию, потому что Констанция Боден с большой теплотой говорила о нём. А может быть, я чувствовал близость к нему, потому что он, как и мои родственники, воевал с фашизмом и всегда был честен с окружающими и самим собой. Не знаю. И ещё мне показалось, что Жюль любил Констанцию, и любовь эта была взаимной. Я мысленно упрекнул себя в том, что даже придя на его могилу, не решился сказать Констанции о стихах Мари.
Покинув кладбище, мы свернули с дороги и медленно пошли лугом в сторону пруда.
— Вы говорили о довоенном времени, — напомнил я Констанции. — Что было потом?
— Летом 1940 года, 21 июня в Париж вошли немецкие войска и промаршировали под Триумфальной аркой. На следующий день Франция подписала капитуляцию. Три пятых северной части страны заняли немцы, а южную часть контролировало правительство Виши, служившее оккупантам. Хозяйство в поместье совсем захирело, наша семья по рассказам отца с трудом сводила концы с концами. Жюль не верил маршалу Петэну, презирал главу правительства Пьера Лаваля и пошёл в маки. Пока я была на британских островах, он со своими товарищами находился в подполье. Среди них были и русские. После моего возвращения из Англии он много рассказывал мне про те годы и своих товарищей, про взрыв в Авиньоне, который организовали его боевые друзья. Он любил русских, много знал о России и рассказывал мне о вашей стране.
— А что было после освобождения?
— После войны все узнали, что Жюль сражался в рядах французского Сопротивления. Он стал героем. А потом начались повсеместные поиски предателей Франции. Суды над лицами, служившими нацистам, продолжались до 1949 года. Активисты насильно стригли наголо женщин за «горизонтальный коллаборационизм», — подчас за чашку кофе, выпитую с немецким офицером, и позорили на всю округу. Нация стремилась очиститься, люди сами хватали тех, кто служил прежней администрации, и тащили их в суды. Жюль был против этого и разделял взгляды Де Голля о примирении нации, хотя ему пришлось выступать на процессах, где судили изменников. Уж кто-кто, а он знал подлинных врагов Франции в лицо.
— Мы тоже пережили это время. И мы слишком поздно поняли, что на временно оккупированных территориях находились обычные люди, которые тогда просто хотели жить. А это часто приравнивалось к предательству.
— И всё-таки, какое это было интересное время, Алекс. Многие возвращались в свои пустые дома из плена, концлагерей, из эмиграции. В поместье появился наш Мишу, затем поселились родственники Изабель. Постепенно всё вокруг стало налаживаться, и благодаря Жюлю на виноградниках вновь закипела работа. Он стал почётным гражданином Шато-конти и одно время был мэром города…
Мы продолжали идти, и Констанция вдруг тихо произнесла:
— Думаю, вам следует знать еще одно о том времени. Это относится к предсказанию о послевоенной Франции, сделанному в 1915 году, во время первой войны. Однако оно справедливо в отношении будущего этой страны и после сорок пятого.
— О чём вы?
— Ненависть — это разрушительная сила, Алекс. Те, кто проникся этим чувством, после войны сами себя уничтожают. А те, кто сохранил в себе любовь, станут после войны сильнее. Тогда, в 1915-м предвещалось, что особенно сильной станет Франция, потому что любви в ней неизмеримо больше, чем ненависти. В ней так много любви, что даже враги не могут её ненавидеть. Ведь вы знаете, что сделал Гитлер с другими странами. Жюль мог возлюбить своих врагов, потому что знал, что это самый верный способ победить их. Это я и хотела сказать вам.
— Я понимаю вас. Кто же предсказал будущее вашей страны?
— Одна писательница по фамилии Баркер, издавшая книгу «Письма живого усопшего». Эти письма диктовал её друг после смерти. По совпадению Баркер тоже носила имя Эльза.
— Значит, вы верите, что когда-нибудь наши души встретят друг друга?
— В это невозможно не варить, Алекс. И, конечно, в это всегда верил Жюль.
Наступил жаркий полдень. На другом конце луга росло одинокое густое дерево в три обхвата. Нависшая над землёй, словно облако, крона давала спасительную тень. Мы с Констанцией расположились на траве и она, задумавшись и как бы вспоминая что-то давнее, сказала:
— Я была подростком, но до сих пор помню, как возвращалась во Францию в сорок пятом. Мы с тёткой переплыли пролив на каком-то грузовом судне, в осенний шторм, потом долго с пересадками добирались сюда на поездах и никак не могли отправить с дороги телеграмму. А Жюль, не зная времени нашего приезда, каждый день ездил на станцию в Орзи нас встречать. Ему почему-то нравилось звать меня Аннабель ещё в детстве. А через много лет, когда мы с ним так же, как сегодня с вами, шли с кладбища, остановились под этим деревом. И в ответ, почему они с Изабель называли меня этим именем, он прочёл мне стихотворение Эдгара По «Аннабель-ли»…
— Я помню это стихотворение. Оно… про вас?
Она промолчала. У неё в глазах стояла такая невыразимая тоска, а на лице застыла такая горечь, что я пожалел, что признался, что знаю эти стихи. Вот идиот!
— Извините меня, Констанция.
— Ничего… Это был очень интересный человек, Алекс. И очень стойкий. А память возвращается к нам без приглашения. Будете постарше, — поймёте это. Завтра должен приехать Мишу. Пойдёмте к дому.
Я ничего не ответил и, дав ей руку, помог подняться.
* * *
Встреча с Мишу состоялась на другой день после обеда. Я увидел чёрную машину адвоката в окно и, не дожидаясь приглашения, оделся и вышел из комнаты, чтобы его встретить. Констанция и Мишу уже поднимались по главной лестнице на второй этаж, о чём-то разговаривая. Заметив меня, он почтительно кивнул и остановился у резных дверей напротив выхода с лестницы в коридор. В руках его была кожаная папка.
— Мне очень приятно с вами познакомиться, Алекс. Ведь вас можно называть по-русски, Сашей? — он подал руку.
Я кивнул, испытывая его сильное рукопожатие.
— Мне тоже очень приятно.
— Ну, тут дело ещё в том, что если мой отец часто пытался представить родственников своих сестёр, то я имею удовольствие сам лицезреть вас и искренне пожать руку. Чего, как вы знаете, он так и не дождался. Мы вам очень рады.
— Я тронут рассказами о вашем отце, месье.
— Да… Прошу сюда, — он толкнул резную дверь и пропустил меня вперёд.
Мы вошли в абсолютно круглое помещение, служившее библиотекой.
— Располагайтесь. Мы с Констанцией покинем вас на несколько минут, я должен поздороваться с родственниками. — Затем он что-то сказал ей по-французски и обернулся ко мне:
— Нам, мужчинам, надо чего-нибудь выпить, сегодня я за руль уже не сяду. Будем пить лучший в мире коньяк, и закусывать русской икрой. И обязательно лимон. Вы не против? — он подмигнул Констанции, и они вышли.
На вид Мишу было лет пятьдесят пять, но я знал, что он родился в конце сорок третьего — начале сорок четвёртого года, когда во Франции ещё хозяйничали немцы. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — было сказано именно о нём. Ниже среднего роста, плотный, энергичный в движениях, с русыми волосами, он был похож на русского. Мишу говорил с едва заметным акцентом, но правильно, хотя в его речи улавливались непривычные интонации. Мне думалось, что если бы он с родителями после войны оказался в России, попал бы в детдом для детей врагов народа и не обрёл своих непринуждённых изысканных манер. Верховный не любил, когда его солдаты попадали в плен и воевали на чужих оккупированных территориях.
Я остановился у двух глубоких кресел, обитых чёрной кожей, стоявших на круглом ковре в центре комнаты. Вид библиотеки поражал своим убранством: паркетный пол, стены и полки, отделанные таким же тёмным деревом, большая хрустальная люстра. Справа от входа был камин, а ещё дальше стояли большие напольные часы. Полки с книгами тянулись полукругом вдоль стен до самого потолка. В середине этого полукруга находилась дверь, за которой, скорее всего, был кабинет. По периметру библиотеки на полу и подставках стояли вазы и бюсты неизвестных мне деятелей, на стенах висели картины. С левой стороны у книжных полок примостились небольшой диванчик и стульчики времён Людовика XIV, обтянутые золотистой материей, а с правой — комод ручной работы и старинный, потемневший от времени, коричневый глобус на металлической подставке. Его высота была всего сантиметров на тридцать ниже моего роста. Я потрогал руками глобус и отошёл к началу книжного стеллажа. Дидро, Декарт… Как жаль, что все книги были на французском. Нет, жаль, что я не знал этого языка.
В библиотеку вошли Констанция и Мишу. Он открыл ключом дверь кабинета и пригласил сесть в кресла, а сам устроился за столом перед нами. За его спиной во всю стену располагалось старинное бюро с многочисленными дверцами и ящиками.
— Ну, что ж, начнём, — сказал он, посмотрев на меня. — Присутствие Констанции нам необходимо. Всё, что вы ей рассказали, я уже знаю. Весь вопрос в том, как вы отнесётесь к тому, что расскажу я.
— Я хотел бы услышать о Кулешове, и вы знаете, почему.
— Побеседуем и о нём, не это сейчас главное. Констанция говорила вам, что я поверенный в делах семьи?
— Да. Но самое важное для меня — это Кулешов. Я ждал нашего разговора несколько дней.
— Мы готовы рассказать о нём. Однако и мы давненько ждали вашего прибытия. Этак с несколько десятилетий.
Ответ изумил меня. И, наверно, не меньше, чем интерьер библиотеки. Я даже потерял дар речи и начал вспоминать, когда в мою жизнь вошла мистика.
— А главное — это то, что вы тот, за кого себя выдаёте, — продолжил он. — Естественно, мы навели о вас некоторые справки.
Мой собеседник говорил спокойным и доброжелательным тоном, но я ещё не понимал, что к чему и потому сделал непроницаемое лицо. Наконец, обретя способность что-то выразить, и, подавив в себе удивление, произнёс:
— Вот как! Что же вызвало подозрение в моих замыслах? По-моему, я добросовестно зарабатывал деньги на обратный билет и ни от кого ничего не требовал.
— Согласен. Однако вам было не обязательно играть в конспирацию, — вас никто не забрасывал под прикрытием в стан врага. Отнюдь, — вы изначально могли предполагать, что направляетесь к друзьям. В этом была цель вашей поездки, а своей «виноградной» легендой, мой друг, вы лишь зародили обоснованные сомнения. Но и подобное поведение было истолковано нами в вашу пользу.
Крыть было нечем. Пусть быстрее скажут, чего от меня хотят, а там будет видно, — решил я.
— И как представитель интересов семьи хочу сообщить вам, что вы являетесь наследником Жюля Мелье. Вот завещание, составленное задолго до 1995 года, — до его смерти, — Мишу достал из папки документ из нескольких страниц и показал его мне. — В нём последний коренной хозяин дома через нотариуса чётко излагает, что потомки Мари и Элен наследуют равные доли денежных сумм с его банковского счёта. Если вам интересно, здесь отмечено, что такие же суммы получают и другие родственники наследодателя. Зачитывать текст смысла нет, — он на французском языке. Завещание распространяется на указанных потомков Мелье бессрочно.
— Я могу узнать о происхождении денег?
— Доходы от бизнеса, ничего больше. Всё законно.
Констанция, молчавшая до сих пор, и Мишу смотрели на меня, терпеливо ожидая ответа. А я не находил слов. Мне почему-то сразу вспомнились мои родители, брат, тётя, двоюродная сестра, строчки стихов о найденном богатстве, и я задумался, в какой форме лучше дать отказ, который, вероятнее всего, был бы ими одобрен.
— Вам что-то не понятно? Согласно волеизъявлению наследодателя, сумму, завещанную потомкам Мари, получают ваша тётя и ваша покойная мать, в данном случае, вы с братом. На сегодняшний день она составляет в целом более пяти миллионов двухсот тысяч евро. Следовательно, с одной и с другой стороны выходит по два миллиона шестьсот тысяч, то есть всё делится поровну.
— Да, я слышал. Но…
— И, разумеется, для их получения необходимо время и оформление документов. Потребуются их подлинники.
И что же подумают обо мне, когда я сообщу о сундуках с золотом?
— Я отказываюсь, — ответил я твёрдо. — Отказ будет оформлен нотариально, и вы сможете распорядиться деньгами со спокойной совестью. Мой приезд во Францию вызван другими причинами.
— Знаете, ваши слова меня не удивили.
— Хорошо, значит, мы так и поступим. Я не стремился никого удивлять. Только добавлю, что Мари — мою прабабушку, уважали и любили поколения моих родственников. И я признателен всем вам за то, что узнал столько хорошего о её семье. Так что спасибо за гостеприимство.
— Вы не торопитесь, Саша. Поживите пока здесь. К сожалению, у меня неотложные дела в городе. Затем мне придётся ненадолго съездить в Авиньон. Вернусь, тогда и окончательно решим. Если у вас истекает срок визы, мы сможем это уладить. А пока я могу подготовить вам свой лёгкий самолёт в Нормандию к монастырю Мон-Сен-Мишель, известному у нас не менее, чем Эйфелева башня. Если захотите, слетаете дня на три в Париж, осмотрите Лувр, погуляете по Монмартру. К чему терять время, раз вы здесь? Вы и так неплохо потрудились на столярном поприще, — тут он негромко хохотнул, взглянув на Констанцию. — И подумайте вот над чем, — после этих слов Мишу посерьёзнел и с нажимом на первой фразе вдруг перешёл на английский язык. — Мы сделаем так, как решите вы, но в данном случае я с Констанцией выполняю последнюю волю Жюля Мелье. Не всё так просто. Мой покойный отец оставил такое завещание исключительно из любви к своим пропавшим сёстрам, которых искал до последнего вздоха. Но поверьте, он не сделал бы этого зря, без всякой причины. И никогда не стал бы распоряжаться частью наследства подобным образом, если бы сомневался, что поступает правильно. Помогите выполнить его волю, и мы будем благодарны и вам, и вашим близким. Надеюсь, что впоследствии вы познакомите нас с ними. Мы хотели бы знать и их мнение. Что ты думаешь, Констанция?
— Выбор за вами, Алекс. Нам будет очень горько и неприятно, если вы откажетесь. Жюль этого очень хотел, и мы знали о его намерении долгие годы. Он мечтал, что однажды в Шато-конти явится такой человек, как вы. И он верил в это даже последние часы своей жизни, — всё это она говорила медленно и тихо, будто раздумывая. И с неизбывной грустью прошлого.
Эх! Не раскиснуть бы самому.
— Но ведь эти деньги не будут лежать мёртвым грузом, это же не валютный запас России в иностранных банках, они и здесь пойдут всем на пользу. Вы сами найдёте им лучшее применение, или я чего-то не понимаю? — я посмотрел на Мишу.
— Вы всё правильно поняли. Но как ваш родственник, хочу сказать, что дело не только в деньгах умерших. Мы должны помнить их и уважать их желания, которые для нас становятся больше, чем законом. Вот это и имела в виду Констанция. А Жюль ваш предок, к которому вы прониклись заслуженным уважением, не так ли? Уверен, что вы столь же бескомпромиссно отнеслись к любому пожеланию и ваших ушедших близких.
Я молчал. Мне приводили веские аргументы, — Мишу был юристом и говорил убедительно. Решение было трудным. От своего намерения в душе я не отказался, собираясь настаивать на своём.
— Мы, исходя из сказанного, могли бы перевести всю сумму в любой банк мира на ваше имя, и деньгами бы никто кроме вас не смог пользоваться. Но нам важно, чтобы вы и ваши родственники согласились распоряжаться ими. Разве вам некому помочь или вы не знаете, что с ними делать? — спросил Мишу.
— Я об этом никогда не думал, да и сейчас не думаю. Всё равно вас не убедит скромность моих запросов и достаточность моей зарплаты.
— Конечно, не убедит, потому что не относится к делу. И вы не похожи на нескромного, безответственного человека или на того, кто слишком ленив и недостаточно мыслит.
Что тут ответить? Каждый иногда подумывает в сослагательном наклонении о таких деньгах, а когда они действительно свалятся, не знает, что с ними делать. Или начинает тратить их как придётся, считая, что заслуженно пользуется подарком злодейки-судьбы, внявшей его молитвам. Но нам лишь кажется, что мы будем счастливее с каждой покупкой или удовлетворённой прихотью, а на деле — никогда, потому что для счастья нужна куда меньшая сумма, за пределами которой мы получим лишь иллюзорную радость похотей и кучу мнимых забот. И пределов этих никто из счастливчиков не знает, — их, вообще, нет, и потому всегда хочется загрести себе как можно больше, уподобляясь «многодетному» олигарху. Мне об этом один спец по нумерологии поведал. Он был кандидатом физико-математических наук и считал себя последователем Пифагора, доказавшего основами нумерологии явление реинкарнации. И высчитал, сколько мне персонально нужно денег для «полного счастья». Оказалось, — не мало, но и не много. Зачем желать большего, если тебе его не потянуть? И если тебе всё было отмеряно для выполнения определённой созидательной миссии, зачем своевольничать и превращать жизнь в бесконечный «шопинг, как искусство»? Впрочем, истратить лишние деньги сейчас не проблема — купил несколько яхт и самолётов как один наш губернатор, — и все дела. А если деньги всё ещё жмут карман, можно скупать виллы в разных странах, картины, бриллианты, целые острова, футбольные клубы и десятками яйца Фаберже, а можно хранить деньги в сбербанке и каждый месяц скромно приобретать себе новые ботинки и ящик лакомства, — счастья ни от того, ни от другого не прибавится, и однажды ты вспомнишь какой-нибудь давно забытый день прежней жизни, когда зимой и летом носил одну пару стоптанной обуви, пил чай без сахара и был счастлив. Но к такому прежнему ощущению счастья вернуться невозможно, потому что, когда приходят лишние, тем более, дармовые деньги, твою душу покидает то, чего уже никогда у тебя не будет. Это как пить водку: думаешь, что с каждой рюмкой будет ещё лучше, а лучше не будет, и ты от пресыщения свалишься на землю, попадёшь в вытрезвитель или заработаешь алкоголизм, белую горячку, гастрит и язву. А та сумма, которую мне назвали, могла сделать любого человека не похожим на самого себя, осчастливить сразу многих и не дать счастья даже одному. Может быть, поэтому в наших фильмах цифры с нулями молча пишут на ресторанных салфетках и интимно протягивают будущему получателю вожделенной суммы. Как вы думаете, наши министры и депутаты, заказывающие бутылку элитной газировки, за три-пять тысяч евро в подмосковном куршевеле, находятся в ладах со своим «я»? Думаю, что не в ладах, и одной газировкой не ограничиваются, иначе бы они не забивались бы по щелям, предназначенным только для «ви ай пи». А чем они отличаются по источнику доходов и досугу от киллера, наркобарона или работорговца, получивших очередной заказ с нулями на салфетке, сидя с ними за одним столом в своих куршевелях? Такова диалектика интимной стороны большего, чем нужно, количества денежных знаков. И что мне потом делать с этой кругленькой суммой? Скупать столичную и колхозную недвижимость, постоянно оглядываясь, или без оглядки носиться по бутикам в поисках драной майки престижного качества? Или благотворительно латать социальные прорехи в лабазе саморазворованного с нищим населением государства, в котором миллиардеров набралось уже больше, чем во всей Америке? Восстановить храм? Но украсть деньги, выделенные даже государством на ремонт церкви или монастыря, стало нормой, и концов не найдёшь. Я не презирал деньги и не боялся перемен, но хотел, чтобы мою жизнь изменили не деньги, а я сам.
Мишу истолковал затянувшуюся паузу по-своему:
— Ну, вот и хорошо. Завтра я уеду, а когда вернусь, мы ещё поговорим, — он по-дружески улыбнулся и пожал мне руку, перейдя на английский:
— Констанция, предупреди Клотильду, что вечером мы ужинаем внизу.
— Она знает. Всё будет готово.
— Ну, и отлично. Кстати, — он посмотрел на меня, — чтобы встретиться с людьми, не обязательно устраиваться к ним на работу и проводить рекогносцировку с биноклем, пуская по округе солнечные зайчики. Бинокль-то, поди, ночной прихватили, когда экипировались, а? — он рассмеялся.
— Я его в свои экспедиции раньше брал.
— А вот мне отец оставил на память цейсовскую оптику, карту южной Франции и «Парабеллум». Они у меня были вроде игрушек… В доме хранился даже немецкий автомат «МП-40», так Констанция не успокоилась, пока её отец не заклинил мою игрушку, забивая восьмидюймовые гвозди. То-то крика и слёз было! А потом я долго искал «Шмайссер», который, по слухам, мой отец прятал где-то на чердаке, и мечтал найти немецкую гранату на длинной ручке. Все мальчишки таковы…
Вошла Клотильда с подносом. «Интересно, — подумал я, — как он угадал окончание „торжественной части“, если не нажимал никаких кнопок?»
Мишу достал из бюро бутылку «Наполеона» и наполнил рюмки. Констанция пить не стала. Мы опрокинули коньяк без всяких тостов и пожеланий. Мишу мне нравился. Он и Констанция при мне старались избегать французского языка, и это говорило о многом. Я понимал, что наша беседа далеко не закончена, и хотел услышать от собеседников всё, что меня волновало. Перед этими людьми надо быть откровенным, а я до сих пор умалчивал о месте клада, принадлежавшего им.
— Мне ничего не хочется обещать вам, — сказал я после второй рюмки.
— Ну-ну. Мы же договаривались не торопиться. Уговор у русских дороже денег. И чтобы вы знали, — у французов тоже. Кто может предугадать, как повернётся жизнь, — я имею в виду не деньги, а совсем иные обстоятельства. Но теперь вас, вероятно, интересует роль Валентина Кулешова в этой истории. Здесь нет тайны: он получил свою долю. Констанция, — обратился Мишу к ней, наливая третью рюмку, — расскажи-ка, как мы впервые увидели этого рыжего господина.
— Он заявился сюда в 2003 году и не один, а со своими помощниками. Но сначала пришло письмо от его адвоката, в котором нас уведомляли, что в Москве отыскался единственный отпрыск семьи Мелье, приходящийся внуком Элен. А через месяц приехал этот суперрусский, или новорусский месье Кулешов и потребовал денег, завещанных потомку Мелье из России. Он без труда смог доказать своё родство.
— Как он нашёл вас?
— Сказал, через Инюрколлегию, у него было много помощников. Только помощники приехавшего господина были похожи больше на уголовников. Уж я-то их знаю. А у его адвоката были такие лицо и повадки, что удивительно, как ему могли выдать лицензию.
— Наши уголовники на жаргоне зовут своих адвокатов «фуфлогонами», но те знают своё дело и умеют пользоваться не только ножом и вилкой, но и палочками. Кулешов привозил с собой переписку между Францией и Россией?
— Он предъявил много документов, видимо, хорошо готовился к визиту. Но на вопрос о переписке ответил, что все письма сгорели во время пожара, в котором погибли его родители. О Мари он ничего не знал.
— Мне он объяснил смерть родителей несчастным случаем. По данному факту дело было прекращено. А о брате сказал, что тот просто умер.
— Юридическая сторона дела была такова, — начал Мишу. — Официально родители Кулешова погибли во Владимире в результате самовозгорания дома без вмешательства посторонних. Его брат — Дмитрий Афанасьевич Кулешов, 1948 года рождения, который на пять лет старше Валентина, сначала был признан безвестно отсутствующим, а через пять лет — объявлен умершим. Так считается по вашим законам. А жена Дмитрия, — кажется, Юлия, — скончалась в 2000 году уже после исчезновения мужа. Детей в их семье не было. Всё это было подтверждено рядом документов. Дело о наследстве хранится в Шато-конти.
— А как же с другими родственниками Кулешова? Я знаю, что у него нет семьи, но ведь могли быть и другие претенденты, — предположил я.
— Теоретически Кулешов мог представить фиктивные свидетельства об отсутствии иных претендентов, получив нужные бумаги за взятки. Эта вероятность не исключается даже в международных сделках, где документы подвергаются дополнительной проверке. Но его бумагам не верить было нельзя. Теперь относительно его брата, который внезапно исчез. Доказательств причастности к этому Кулешова у нас нет. Вы уже говорили, что письмо, адресованное Элен, находилось у неизвестного мужчины. Сколько ему лет?
— Под шестьдесят. Он не помнит своего имени.
— По возрасту подходит. Кстати, Валентин рассказывал про своего брата Дмитрия, что он проживал в Суздале и был то ли художником-реставратором, то ли искусствоведом. Поводом для такого откровения послужила картина, которая вас так поразила, — сказал Мишу. — На неё обращают внимание многие гости.
Я повернулся к Констанции.
— А как вышло с той картиной? Кулешов захотел приобрести её у вас до того, как установил свою родословную?
— Вы имеете в виду, Алекс, знал ли он имя Эльзы Брутвельдт? Да, знал. Представьте себе, ему также были знакомы имена потомков Эльзы и Жерара. Он был в неведении лишь о тех, кто жил в Эльзебурге до переезда Эльзы во Францию. Но я и сама знаю об этом понаслышке и только от Жюля.
— Поэтому Кулешов так хотел увезти эту картину?
— Возможно. Он уверял нас, что это шедевр, набивая полотну цену. Деньги у него были, — для начала он предложил триста тысяч. Что удивительного, если бы он решил докопаться до своих немецких предков?
— А где он останавливался?
— На вилле «Лидия» в Сен-Тропе, которую недавно приобрёл. Мы с Мишу ездили к нему по делам, но лучше обходить этот дом стороной. Его люди жили с ним, и мы видели у них оружие. Они ни в чём не стеснялись.
— У меня большие сомнения в непричастности Кулешова к событиям с его родственниками. Все они были помехой на его пути. В нём сидит дьявол, вы же сами его видели.
— Ну, дьявол слишком хитёр, чтобы подпасть под уголовный закон. Даже французскому правосудию он не по зубам, не говоря о вашем, где дьяволизм и уголовная политика в интересах горстки олигархов суть одно и то же, — ответил Мишу. — Надо трезво смотреть на вещи. Презумпция невиновности — как раз та категория, которую легко интерпретировать с точностью до наоборот. Как говорят, в России она типа дышла, потому что законы отстают лет на двадцать, а в принятых вовремя оставляется лазейка. Но здесь не Россия и привыкли проявлять гуманизм только к законопослушным людям.
— Когда они были у нас, я слышала разговор Кулешова со своим помощником. Они говорили по-английски и не знали, что я всё понимаю, и, наверно, приняли меня за старую глухую леди. Они хотели завладеть домом. Кулешов сказал, что его адвокат займётся этим вопросом и что в традициях Франции, мол, передавать недвижимость в руки старшего сына. Но у Жюля в завещании было написано, что домом и всеми угодьями могут распоряжаться только граждане Франции, и всё недвижимое имущество должно остаться неразделимым.
— Я думаю, что этот человек смотрел и метил дальше, чем хотел нам показать. Но тогда, два года назад, все юридические формальности были соблюдены, и у меня нет оснований пересматривать его положение, как законного наследника. Вижу, таких оснований нет и у вас, Саша. Всякие сомнения пока не в счёт. Что касается отношения Кулешова к вам, одних его догадок о вас, как о потомке Мелье, явно недостаточно. Подозреваю, что вы серьёзно вмешались в чужие дела и сделали это тогда, когда вынудили его устранять свидетелей преступлений. Это очевидно. Вы слишком наследили и наверняка рисковали не один раз, даже не замечая этого. Вы и здесь продолжаете оставаться мишенью для Кулешова.
— Почему вы так думаете?
— Потому что за вами следили в России, но оставили в живых, когда опасность с вашей стороны миновала. А возобновили наблюдение в связи с вашим выездом в Шенгенскую зону. Ради чего эти люди последовали за вами — обыкновенной слежки в целях выявления намерений? Нет, они решили вас убрать, потому что вы стали представлять для них опасность за рубежом. Вы смогли избежать встречи на территории Германии и поэтому остались живы. Вывод: они решили не дожидаться вашего возвращения в Москву, так как ваша поездка чем-то им угрожает. И ваше исчезновение в другой стране им на руку больше, чем в России.
Мишу знал только то, что ему пересказала Констанция, но сумел привести в систему все факты. Я же терялся в собственных догадках и чувствовал лишь общую угрозу, исходившую от Кулешова.
— Но как я должен был поступать? — вырвалось у меня.
— Не знаю. В таких случаях идут осторожно, подбираются издалека с разных сторон и исходят из худшего. Нужно иметь несколько версий развития событий и план действий на каждую. Одиночка тут не воин. И не корите себя, — действуя иначе, вы не смогли бы достичь результата. Обстановку продиктовала судьба, и от вас ничего не зависело. Но пока вы здесь, вам ничто не угрожает.
— Я это уже где-то слышал. Мне что же, придётся просить политического убежища от своего уголовника?
— Ну, до этого не дойдёт. Я постараюсь, чтобы у Кулешова отпали мотивы досаждать вам. Подождём.
— А куда мне деваться?
— Остановимся на этом. Будем считать Кулешова нашей общей проблемой.
— У вас есть уверенность, что всё получится?
— Есть. Гарантии — в вашей осторожности и в том, что я предприму. У меня есть некоторые козыри, но я не могу вам пока сказать большего и многого не знаю сам.
— Ладно. Я уже привык, что меня окружают загадки.
— Тогда будьте готовы к новым. Не волнуйтесь, Саша, ситуация разрешится. Мелье своих не бросают. Только не рискуйте больше, особенно теперь, когда ваша история близится к концу…
Рисковать чем-либо, находясь в поместье, было бы мудрено, и я обещал, что не буду этого делать.
Ужин проходил непринуждённо. Никто из членов семьи не тяготился ни присутствием гостя, ни тем, что гость не знал французского языка. Благодаря Мишу и Констанции, с удовольствием поочерёдно бравшими на себя роль переводчика, за столом завязалась общая беседа. Сын Этьена и Амели — двадцатичетырёхлетний Люсьен оказался славным парнем, а его младшая сестра Даниель была просто душкой. Этьен вежливо спросил меня, удалось ли мне уже побывать в Сен-Тропе, и все поддержали разговор о достопримечательностях этого местечка. Амели, глядя на меня и прекрасно понимая разницу между мной и нашими олигархами, скупившими на окрестном побережье вилл больше, чем все французы, американцы и арабские шейхи, заметила, что новых русских не останавливают ни цены, ни высокие налоги на собственность. Она недоумевала, почему они, приехав на неделю, готовы платить огромные деньги за аренду вилл в течении всего сезона, когда за гораздо меньшую сумму можно снять приличную гостиницу или подыскать вариант сравнительно недорогого жилья у моря. Даже служащие контор по продаже и обмену приморской недвижимости удивлялись щедрости и размаху русских. А чему удивляться, если в Лондоне мои «щедрые» соотечественники вовсю скупают особняки чуть ли не целыми кварталами, и скоро доберутся до Биг-Бена, Тауэра и моста Ватерлоо, не пропустив и парочки захудалых футбольных клубов с хулиганистыми болельщиками. Я воспользовался темой, и когда Люсьен сказал, что в Сен-Тропе круглый год отдыхает молодёжь из столицы России и обливается шампанским больше, чем пьёт, а Мишу увлёкся диалогом с его сестрой, тут же спросил у Констанции, где расположена вилла «Лидия», — дескать, надо же знать, где, чтобы обходить её стороной. Под стук ножей и вилок она объяснила мне, что к вилле Кулешова ведёт первый поворот к морю влево после указателя въезда в город по основной дороге. Затем надо доехать до конца в сторону берега и свернуть вправо. Ну, а там, метров через триста или пятьсот и прячется в зелени шикарная «Лидия». Потом я уточнил у присутствующих, где находится пляж нудистов, которых гонял по кустам Луи де Фюнес в фильме про жандарма, и как туда доехать. Мне удалось очаровать компанию своими знаниями высоты Эйфелевой башни, роста Жанны-Девы, и длинного списка французских комиков, шансонье, королей и революционеров. «Старые русские больше читают, потому что пока мало ездят, а новые — много ездят, но ещё не научились читать», — скромно признался я, чем рассмешил всех.
После вечерней прогулки я заглянул к Мишу. Из библиотеки через открытую дверь кабинета было видно, как он смотрит на разложенные документы и задумчиво что-то чертит при свете лампы.
Я остановился на пороге, но он сразу пригласил сесть.
— Понимаете, у меня не выходит из головы, что моя поездка может представлять для Кулешова некую угрозу. Если это так, он боится того, что мы обменяемся важными для него сведениями. Но нам нечего сообщить друг другу, а это тупик. В таком случае, моё пребывание у вас бессмысленно. От Кулешова можно ожидать одного из двух: упустив меня в Дортмунде, он или пошлёт своих людей сюда, или дождётся моего возвращения домой. Третьего не дано.
— Браво! Безупречная логика. Извините, я считал это очевидным, — ответил Мишу. — И что же из этого вытекает?
— Из этого вытекает, что находясь в пассивной оборонительной позиции, бесполезно ожидать, что у противника отпадут мотивы нанести удар первым. И вряд ли Кулешову расхочется продолжать свои козни после того, как я покину ваш дом. Необходимо найти их причину. А время до его приезда или до моего отъезда может слишком затянуться.
— Вы правы.
— Так вы хотя бы догадываетесь, о чём идёт речь?
— Предполагаю. Видите ли, как я понял, ему ничего не стоит физически устранить любого встречного. Он так привык обращаться с людьми и делает только то, что ему выгодно, — интересов, помимо денег — своих или чужих, — у него быть не может. Здесь, в Европе он уже заключил ряд незаконных сделок, и это его слабое место. Чувство неуязвимости — очень плохое качество. Но когда я вернусь, возможно, изменится всё, о чём я пока догадываюсь. И тогда, если будет нужно, мы сами найдём Кулешова.
— А успеем?
— Успеем. Как говорится, ещё не вечер.
Мы попрощались, так как Мишу уезжал в Шато-конти ранним утром.
Уж чего я не ожидал, — размышлял я, идя по коридору, — что ситуация начнёт топтаться на месте, да ещё помешает внести ясность и ускорить события. Обстоятельства заставляли меня выжидать и подчиняться, тогда как я хотел принимать решения и действовать.
В комнате я открыл окно и закурил. Естественно, что мне ничего не сказали про богатство Эльзы. Об этом не могло зайти речи уже потому, что было тайной для хозяев поместья, а если не было, клад принадлежал им и только им. Но я чувствовал, что в моих рассуждениях не хватало главного, и всё в этой семейной истории намного сложнее. Вспомнить хотя бы слова Тамары о том, что тайну потомков нельзя открыть, пока не найдёшь сокровища и не узнаешь причину утаивать их. А как до них добраться, — ночью, когда все лягут спать? Данные о ситуации были неполными, какими-то противоречивыми и путали меня деталями, которые никуда не вписывались. Зачем олигарх сжёг родителей и покушался на жизнь брата? Чтобы не делиться деньгами Мелье и расплатиться за купленную виллу? Ерунда какая-то, в голове не укладывается. О том, что Кулешов сам охотится за приданым Эльзы, никаких сведений нет. Известные факты не подтверждают ни одного следствия из предположения, что Кулешов знает о кладе. Но тогда почему Мишу считает, что моя поездка за границу затрагивает интересы Кулешова? Если Мишу намерен принять определённые меры, значит, он не договаривает, а зачем ему скрывать от меня что-то? За пределами моего воображения плелась какая-то интрига, но если дело было не в сокровищах Эльзы, тогда в чём? Надо как можно скорее передать Мишу конверт с местом тайника и сматываться отсюда. Он и без меня сможет разобраться с фамильным золотом. Наступает конец августа, а я успел лишь подтвердить факты, в которых можно было не сомневаться с самого начала, и узнал только то, что меня облагодетельствовали предки. Разве я не догадывался, что Эльза Брутвельдт-Мелье попала во Францию из Эльзебурга? Но где теперь искать разгадку тайны — здесь или там?
Мысли прервал сотовый телефон, оставленный на прикроватной тумбочке. Братец обеспокоился, кто ж ещё? Сейчас навру этому трудоголику, как приятно засыпать в палатке под шёпот морского прибоя. Пусть впадёт в зависть и вспомнит, что дождался, когда у Ленки закончатся каникулы.
Звонил Паликовский. Марк начал с того, что я пропустил праздник воздушных шаров и возможность полетать над городом. Потом он огорошил меня тем, что нашёл место, где находится Эльзебург, который являлся одним из самых посещаемых замков страны. Я схватил блокнот и записал продиктованный адрес. Поблагодарив приятеля, я пообещал ему скорую встречу в Германии и отключился. У меня учащённо забилось сердце.
Замок располагался в нескольких километрах от городка Мюнстермайфельд, в лесу, и стоял на скале в узкой долине речушки Эльзенбах, огибающей его с трёх сторон, и впадающей в Мозель. Он был основан в XI веке как имперский замок для охраны дороги вдоль реки. Если выехать из Дортмунда, сначала надо добираться до Кобленца, ехать от него по дороге 49 и затем перейти на шоссе 416 в сторону населённого пункта Мозелькерн. Я развернул карту и отыскал условное обозначение замка. Это место находилось в области германского перешейка, вдававшегося в территорию Франции. Мне было трудно поверить, что всё оказалось так просто. Но я не забывал о возможности столкновения с людьми Кулешова в тех местах, которые известны нам обоим. А знает ли он, где находится бург Эльзе? Вряд ли. Да и что там ему делать?
Мишу сказал, что вся эта история близится к концу. Наверное, он, действительно, думал так. Однако большая часть моей истории была ещё впереди. Меня ждали новые тайны, события, города, встречи, приключения, от которых захватит дух, а всё, что произойдёт дальше, не может присниться и в самом ужасном сне. Но об этом не знали ни Мишу, ни Констанция, ни я…
* * *
НЕДОСТУПНОЕ ПРОШЛОЕ. Франция, 1995 год
Жюль Мелье умирал, и перед его мысленным взором ясно проходили все годы трудной, но счастливой жизни. Сделал ли он всё, что от него зависело, чтобы найти своих сестёр? Конечно, в письме Элен сообщалось, что Мари умерла, но он не хотел верить в это и никогда не терял надежды разыскать обеих. Он чувствовал, что они смогли выжить, затерявшись в суровой и бескрайней России. Во время последней войны бывало всякое, но близкие люди отыскивали друг друга во всех странах земного шара и до сих пор. Ему было хорошо известно, что за полученное или отправленное из совдепии через кордон письмо, могли посадить в камеру, лишив переписки на десять лет. За этой формулировкой обычно стояли расстрел или медленная смерть в лагерях, мало чем отличающихся от нацистских. Каждая анкета сталинской России задавала вопрос о родственниках за границей и национальности. А откуда у сестёр Борисовых могли быть французские родственники, да ещё буржуа, если всё население огромного государства поголовно смогли заставить с восторгом мечтать о мировой революции на горе всем буржуям? Оттуда не вырвешься. Он побывал в Союзе, когда у власти уже находился Леонид Брежнев, и это оставило у него неприятные впечатления. Ветераны войны, с которыми он отмечал майские дни Победы в ресторане «Огни Москвы», сначала пели песни Любови Орловой и Нины Руслановой, потом разоткровенничались и через юную переводчицу в строгом чёрном костюме шепнули ему, что у них за пять долларов в кармане могут посадить в тюрьму на восемь лет, а за жевательную резинку, джинсы и длинные волосы — отчислить из университета. Девушка наотрез отказалась переводить, но товарищи уговорили её сделать это. А зря: КГБ работал не хуже гестапо и профилактических прогулок-бесед с потрёпанными в окопах предынфарктниками в своих внутренних озеленённых двориках не чурался. Жюль тогда испытал некоторую неловкость, имея в бумажнике доллары. Он вынул из него новые франки и хотел спросить, разрешено ли здесь хранить французские деньги. Та переводчица сумела обратить всё в шутку и добавила от себя, что Русланову, якобы, посадили в лагерь за песню о старых не подшитых валенках и тут же показала на свои изящные туфли на шпильках, которые можно было достать разве что за те же доллары. Смешно, но остались сомнения и горький осадок.
На Жюля нахлынули воспоминания о предвоенных годах его жизни. Как и многие из его поколения, он делил её на две части — до и после войны. Когда он вырос, начал собирать сведения о России и Советском Союзе, десятилетиями анализировал любые газеты и журналы об этой стране. Через несколько лет он знал больше любого соотечественника и понял, что там уничтожается свой же народ. По закону истории геноцид никогда не прекращается сразу, — он лишь принимает со временем более завуалированные, менее заметные формы. Обмануть его ничто не могло: ни энтузиазм весёлых лиц строителей социализма, ни заявления политических деятелей. Накануне войны многим было ясно, что лишь СССР, вступив в войну, остановит и разгромит немецкий фашизм. И только во время войны он по-настоящему осознал, что русские для России значат не то, что она значит для самих русских. Они имели великую Родину и жили в мерзком, отвратительном государстве. Только однажды, когда отец Мишу уходил на задание, с которого не вернулся, Жюль решился спросить русского друга: «Отчего ваша Родина так относится к своему народу?» Его боевой товарищ тогда промолчал и ушёл в ночь. Он так и не узнал, что у него родится сын, которого будет воспитывать он, Жюль. Это было его долгом. А потом погибла связная — жена того русского. Жюль воевал с ними плечо к плечу, проводил диверсии, стрелял в гитлеровских солдат и офицеров, освобождал пленных и видел, как русские сражаются и умирают. После войны открылось многое. Пленных русских, бежавших из нацистских лагерей и воевавших в маки рука об руку с французами, по возвращении на родину ставили к стенке или отправляли в лагеря как изменников этой родины. Бойцов Красной Армии расстреливали «за постановку контрреволюционных вопросов под предлогом их непонимания» как за антисоветчину, если во время политинформации кто-то осмеливался спросить политрука о простых вещах. Теперь и представить невозможно, сколь невинным мог быть вопрос, за который у человека отбирали жизнь. Может быть, поэтому в крови русских до сих пор сидит рабская боязнь задавать неудобные вопросы своим начальникам, привыкшим одёргивать подчинённых, избегая ответов. Русские! Это слово, в отличие от существительных «француз» или «американец», — прилагательное, обозначающее национальность. Даже русский солдат, освободив Европу от коричневой чумы и увидев, как за железным занавесом живут другие народы, мало что добавил в самосознание этой нации, рыдающей на похоронах своего тирана. Последующий расстрел Берии, готовящего захват власти, приход и уход Хрущёва лишь подтвердили, что советская верхушка представляла собой пауков в банке. Ни один из её лидеров не решил ни одной насущной проблемы.
Но та война послала Жюлю сына. Мишу вырос и стал надёжным помощником. Он получил хорошее образование и в память о своих героических родителях выучил русский язык. Женившись и перебравшись из поместья в Шато-конти, Мишу часто приезжал и проводил в нём много времени со своей семьёй, даже теперь, когда у него появились внуки. А Жюль продолжал искать своих пропавших близких всю жизнь. Он наводил справки о родителях и сёстрах через адвокатов, Инюрколлегию, МИД, Красный Крест, друзей из контрразведки, проверял даже списки интернированных, перемещённых лиц и жертв нацистских концлагерей. Ещё до войны он нашёл родственников друга отца — коммерсанта Жиля, находившегося в России в том же году, когда исчезли его родители, но всё оказалось безрезультатно: в 1914 году семья Мелье гостила у него в Москве, затем собиралась ехать в Крым, и более он её не видел. После войны Жюль посетил Россию, где встречался в Москве со своими бывшими товарищами по оружию, побывал в городе Владимире, упоминавшемся в письме младшей сестры Элен, однако не нашёл никаких следов. Он даже обращался к медиуму, — некой мадам Дюваль, которая сказала ему лишь одно: его родители убиты, а обе сестры живы и находятся в России. Выяснить, что ещё не удалось, — по словам медиума, на все попытки установить подробности жизни без вести пропавших, словно налагался запрет. Но и этого было не мало, поскольку у сестёр могли родиться дети, а у него, Жюля — появиться наследники, которые рано или поздно объявятся в Шато-конти.
Шли годы и десятилетия. Его отношения к русским и их стране не менялось. Он помнил, что происходило в СССР и России в 1917, 1937 годах, во время войны, в 1953-м, 1956-м, 1964-м, 1985-м, 1991-м, 1993-м, и, наконец, осознал, что для этой страны и её народа ничего и никогда не изменится, а если изменится, это произойдёт лишь вопреки обещаниям их руководителей. Русские сами должны заметить и почувствовать наступившие перемены, а не слушать о них по радио. Людям ежедневно сообщалось о перевыполнении планов на сотни и тысячи тонн, километров, центнеров и гектаров, но у них не хватало самого необходимого.
Однажды, в начале семидесятых Жюль рассказал Констанции, что недавно обедал в Париже с месье Абигайлем из МИДа, которого знал ещё с войны. Его старый друг только что вернулся из СССР и рассказал ему, что в России почти через десять лет после запуска человека в космос во второй раз отменили крепостное право, существовавшее там до 1861 года. Советским крестьянам вместо паспортов выдавали справку, чтобы они могли поселиться в Доме колхозника и торговать картошкой на рынке города. В обычный отель их не селили. Уезжать из деревни в город им запрещалось — по справке не прописывали и на работу не принимали, а на учёбу в институт мог направить только колхоз. Кроме того, для селян были отменены обязательные бесплатные трудодни, и впервые начали выплачивать за труд небольшие деньги. Когда Абигайль поделился своими впечатлениями от поездки, его жена и дети, сидевшие за столом, даже не поняли, как одно и то же можно отменять дважды.
Через несколько лет Жюль прочёл, что в России в октябре 1977 года принята Конституция, действующая с 1936 года, то есть с разгара массовых репрессий, причём текст последней был оставлен почти без изменений. Брежнев, пришедший к власти и сменивший Хрущёва, решил прекратить критику культа личности Сталина и не будоражить общественное мнение в стране. Жюль, однако, не понимал, почему арестованные ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ советские, партийные деятели и простые граждане публично сознавались и искренно раскаивались в преступлениях, которых не совершали, и только спустя десятилетия были реабилитированы, а вторично принятая Конституция должна была оградить людей от нарушения государством их прав и свобод. Ещё менее было понятно, на каком основании родственников осуждённых «врагов народа» отправляли умирать в лагеря, в качестве «родственников врагов народа». Что святого было в этом государстве, где сотни тысяч павших на фронтах солдат до сих пор не захоронены, а те, что прошли войну, влачат нищету и вспоминаются лишь в день Победы — единственный праздник, который чтят все русские? Почему народ-победитель жил хуже своих союзников и самих побеждённых? Тем не менее, тюрьмы и лагеря Гулага диссидентам и инакомыслящим заменили брежневские психушки, запреты на выезд за границу и на работу по специальности, ссылки, высылки и постоянную травлю. Так было с академиком Сахаровым, именем которого недавно назвали проспект в Москве. Так было с Солженицыным, которому недавно разрешили вернуться на Родину. А что изменилось там после того, как Сахарова и Солженицына объявили совестью нации, — у лидеров нации прибавилось совести? Да Солженицын из рук даже самого главного чиновника награду не примет!
Жюль считал, что Хрущёв не извинился до конца за культ Сталина и геноцид народа. Со стороны его нелепый на фоне собственных преступлений и неоткровенный доклад на XX Съезде партии являлся насмешкой и должен был помочь ему усидеть в кресле генсека, несмотря на то, что у самого руки были в крови по локоть как и у окружавших его палачей. Во время своего правления, названного «оттепелью», он, словно издеваясь, воздвиг памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади, вызывающий у всего населения страны ужас. Но то же самое сделал и Горбачёв, затеявший свою неполноценную, ублюдочную перестройку. Он сумел убедить своих соратников, не вылезавших из кремлёвских похоронных комиссий и процессий, что если они не хотят быстро отвыкнуть от того, к чему долго привыкали, надо начать хоть что-нибудь делать для народа. И наделал. Лицемерная перестройка, в ходе которой на всякий случай упомянули про общечеловеческие ценности, человеческий фактор и «некоторые» перегибы сталинизма, провалилась. Наверху было слишком много людей, считавших, что их народ будет терпеть всё и дальше. От относительной стабильности лауреат нобелевской премии, которому аплодировал весь Запад, привёл страну к полному развалу и хаосу. Но и в этот раз окончательного разоблачения большевизма, признания в геноциде, глумлении над страной и покаяния не произошло. И лауреат это понял, уступив место преемнику, довершившему начатое. Затем уйдёт и этот, сегодняшний преемник, осознав, что натворил, и освободив кресло для нового, — более сильного, ушлого и осторожного. И, разумеется, такого, которому все обязательно должны поверить и согласиться подождать ещё лет двадцать. Ему положено стать всенародным любимцем, наследником разрухи и провозгласить новые проекты во имя народа, который опять не получит ничего, кроме безудержной инфляции и пустых заявлений о росте благосостояния. Этот тоже воздержится от провозглашения национальной идеи, поскольку в противном случае необходимо честно рассказать народу о реальном положении дел, а это всё равно, что передать власть в руки оппозиции.
Однако теперь предлагать народу было нечего. Тогда ему бросили спасительную кость — лишение партии единовластного руководства страной, огульную свободу и ваучер, выкрикнув в неразберихе такой же мутный и опасный клич: «Обогащайся!» Одни получили по дешёвке многомиллиардные богатства страны и лебедей в пруд загородного дома, а других стало мутить от голода и похмельного вида рулилы, избранного на почве конфликта с лауреатом и страха вернуться в красное прошлое. И снова в этой стране проиграл народ. Мародёрство состоялось, чиновники, министры и бандиты победили. Политическая и деловая элита ловила рыбу в мутной воде и нагло растаскивала национальное достояние, доказав явное безразличие к исчезновению России с карты мира и к судьбе своих граждан. Впрочем, он заметил, что в этой стране кроме новой элиты появилось много элитного: дома, автомашины, продукты, а другим популярным определением стало «шоу», обозначающее теперь всё — от выступления политиков и выборов до розово-голубого и жёлтого телебесстыдства. Будут ли граждане в такой стране через несколько лет отмечать день Конституции, как свой национальный праздник? Жадное правительство, опиравшееся на алчных олигархов и беспринципный бизнес, по его мнению, было готово пойти на всё, что угодно, лишь бы под предлогом сдерживания инфляции не улучшать жизнь населения за счёт нефтедолларов, льющихся рекой. Так было проще контролировать и забирать прибыль в стране, уже не способной прокормить даже себя.
В других странах народ называют слугой, а власть — хозяином, который обеспечивает жизнь своего слуги. В России наоборот, — власти зовут себя слугами, а народ хозяином всего, что есть в стране. В Аравии и Эмиратах, где почти нет преступности, население живёт на свою нефть как при коммунизме. Там религиозные нормы смогли приблизить к государственным законам, а не стреляли священников, как в Советской России. Эмиры всё делают для народа, живущего богаче русских, а правительство России складывает доходы от нефти в бездонный американский чулок, опасаясь инфляций, девальваций и деноминаций, однако регулярно устраивает населению финансовые погромы и катаклизмы. В Кувейте, Омане, Венесуэле нефть стоила гроши, а в России на доходы от её продажи хорошо жила лишь элита. Тем более было загадкой, почему подорожание мировых цен на нефть приводило к росту всех цен на внутрироссийском рынке и обнищанию людей. Какое отношение к экономическим кризисам на западе имело, например, повышение цен на хлеб и подсолнечное масло, которого в России, как и бензина, хоть залейся? Царей сменили на генсеков, генсеков на президентов, дважды изменился на противоположный общественный строй, а положение «хозяина» осталось прежним: он ничего не имел и ничего не получил. Он даже не спросил, где коммунизм, обещанный Хрущёвым к 1980 году. А с кого спросишь, если в этой стране очередной правитель не отвечал за предыдущего и, не отвечая ни за что, мог обещать, что хотел, лишь бы править?
Французское общество и при старом порядке подчинялось государству не безоговорочно — никто бы не мог назвать его слугой, смотрящим в рот своему хозяину. Оно и до сих пор не так уж раболепно. Но если бы в его стране было столько же нефти, газа, леса, металла, золота и алмазов, от правительственной резиденции в Париже скоро осталось бы то же самое, что от Бастилии, а от неё не осталось и камня.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
