
Бесплатный фрагмент - Дорога поэта
Книга о жизни и творчестве
Посвящение в слово
Вместо предисловия
Говорят, что книги сами выбирают себе читателей. В этом парадоксальном утверждении много правды. Но что же тогда есть книга? Почему она обладает силой притяжения и волей выбора? И что в книге — главное? Умные мысли? Иллюзия реальности, создаваемая яркими образами? Погружение в иной, непохожий на обыденность, мир? Личность автора, близость его твоей душе? («Он передал то, что я чувствую…»)
Главное, конечно, слово. Человеку дан бесценный дар, и он столь велик, что обыденному сознанию его даже трудно принять во всей полноте. Подумаешь, слово!.. Оно — как воздух, вода, земля — кажется, что было всегда и будет до скончания века. Но точно так, как ныне отравлены реки и прорежены леса, истощена почва и омертвлено море, так и слово, бездумно растрачиваемое, теряет свою силу. И тогда его начинают «накачивать» мощью электронных медиа: телекартинкой, пиаром, интернет-сетями, мгновенной доставкой во все стороны света. Снаряженное, как доспехами, техническими новшествами, слово посылают в мир. Покорять избирателей и покупателей, убеждать народ, разить противников, искушать дремлющие души. Слово — оружие, над его действующей силой трудятся лучшие умы современности: лингвисты, программисты, психологи. Слово, эту волшебную Жар-птицу, господа жизни земной пытаются усадить в клетку рекламы и целесообразности, и, плененное, выпускать лишь по желанию хозяев-управителей.
Но… ничего не выйдет! Потому что есть книга — настоящий храм слова. Мы входим в него с душевным трепетом и почти суеверным восхищением: какая работа! Мы прикасаемся к «словам-кирпичикам», из которых сложен удивительный, непохожий на наш, мир заоблачных чертогов. Неужели всё это рождено человеком, таким же смертным, как мы сами?! Или… Или Пушкин прав: «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире Мой прах переживёт и тленья убежит»?! Пока звучит в душе русского народа гармоническая лира Пушкина, Жар-птица в небе! И она даже роняет избранным золотые перья…
***
Чтобы написать эти слова, чтобы быть совершенно убеждённой в их истинности (а значит, и действенности), я должна была встретить книгу, которая не просто поразила бы моё воображение и ум, но изменила бы русло моего бытия так, как меняют его ключевые, судьбоносные события жизни.
Мне было 16 лет, и я очень любила читать. В раннем детстве, слушая отрывки из «Поднятой целины» Шолохова, глядя в книгу, которую держал отец, я невольно заучивала не буквы, а целые слова, фразы, отрывки. Точно так же вошли в мой ум стихи Некрасова и насмешливость Гоголя. В отрочестве я запоем читала тяжелые тома собраний сочинений Бальзака и Диккенса, а учебник «Родное слово» одарил меня потрясающим открытием: «Это ты, моя Русь державная, Моя родина Православная!» В стихах Ивана Никитина было столько правды, что никакая пропаганда не могла их перешибить…
Но в 16 лет сердце искало любви, или – в отсутствии избранника — хотя бы достойного выражения этого чувства. Самый высокий род слова — поэзия, и она же — кратчайший путь к сердцу читателя. В книжном магазине провинциального городка я раскрыла томик стихов «Посвящение». Первые же прочитанные строки легли на сердце: «Полюби меня крепко, Чтоб единой судьбой, Словно дерево с веткой, Был я связан с тобой».
Я училась в Воронеже, уехала работать в Москву, и везде возила с собой два мешка книг — личную библиотеку, составленную преимущественно из классики. В ней почти не было современных писателей. Из поэзии «отобрался» сборник «Посвящение». Имя автора — Валентин Сорокин — ничего не говорило моему уму: поэта не показывали по телевизору, не читали по радио. Но мне были близки стихи из цикла «Разговор с любимой» — живые, искренние и… будто хранящие смутную, глубокую тайну. При всей простоте изложения в них чувствовалось что-то необъяснимое. И это «цепляло», не отпускало, вело.
Прошло 13 лет со времени встречи с «Посвящением». Книга не была в центре моего внимания, она просто ждала своего часа. Но слово уже так много значило в моей судьбе, что я решила поступать в Литературный институт. Помню: золотистый август, мы, абитуриенты, шумно обсуждаем предстоящее собеседование. Я невольно отвлеклась от разговора: по двору Литинститута шёл человек — какое благородное лицо! Какие глаза — сколько в них мягкой красоты и пронзительной силы! Седина — серебристый, сияющий нимб! Я совершенно точно поняла, угадала, почувствовала: человек этот — необычный, не такой как все. В ту же секунду я пообещала своему сердцу: если поступлю, буду учиться только у него! Волна радостного предчувствия захлестнула меня: какое счастье, что здесь, в храме слова, есть такие люди!
1-го сентября на традиционном студенческом митинге я узнала, что человек, так поразивший моё воображение, поэт Валентин Сорокин, автор «Посвящения»…
***
Если бы моя история на этом закончилась, то её было бы достаточно для доказательства судьбоносности книг, которые выбирают нас. Но состоялось и продолжение: пришло время, когда в магазине, где я купила когда-то «Посвящение», продавали сборник моих рассказов! Я не только училась у Валентина Сорокина литературному мастерству, но и написала повесть о нём — «Тайна поэта», в которой, как могла, выразила восхищение его талантом и творчеством. Наконец, я редактировала многие его книги: «Крест поэта», «За одну тебя», «Сувенир», «Где твой меч?», «Здравствуй, время!», «Русская отвага», «Твои ладони», «Купола Кремля»…
Исключителен ли мой путь? И да, и нет. Да, потому что я откликнулась на зов слова, нет — потому что званы были многие, тираж того же «Посвящения» — 60 тыс. экземпляров. Валентин Сорокин в детстве был очарован поэзией полузапрещенного Есенина и расстрелянного Павла Васильева. Впервые он услышал их стихи из уст заключенных, работавших в уральской тайге. И мы можем длить эту драгоценную (и драматичную) цепь русской поэтической традиции в классическую вечность, к первоистокам слова.
Сейчас много издаётся плохих книг, книг-подделок, книг-обманок, произведённых на свет «неестественным путём», недоношенных, пораженных болезнями своих безответственных родителей. Это вполне объяснимо: люди стали слишком неразборчивы к слову, многие утратили понимание его значимости. Но есть и русская классика, есть русская поэзия, она поднимает душу на высоту, недостижимую в обыденности: «Стою один среди равнины голой, А журавлей относит ветер в даль, Я полон дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль…»
Классическая русская поэзия — богатство, делающее человека счастливым. Когда мне трудно, я с благодарностью вспоминаю слова Валентина Сорокина: «Поэзия — божье дело, звездное состояние души. Со стихами ты никогда не будешь бедной или униженной». И жизнь автора «Посвящения» убеждает, что это — действительно так.
август 2015
Часть первая. Наши путешествия
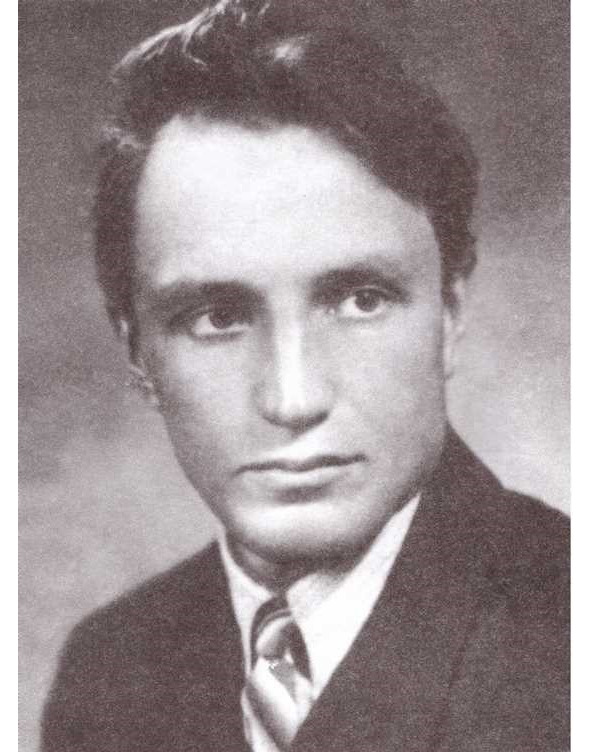
Мчатся поезда, дышат реки, рвутся в просторе ветры; далеко, далеко ворочают барханами Каракумы; блестит золотыми спицами солнце; холм, играючи, развевает облака; бегут, обнимая путника, березы; голубеет полдень; багряная от молний, трепещет даль; свивается в огненные кольца у Южного креста драконий хвост; вспыхивают ресницы любимой женщины; волнуясь, вскипает закатный вихрь; дрожко встают крупные звезды и катится во двор золотая луна…
Поэзия Валентина Сорокина — поэзия вечного движения, мощного освоения пространств, звездной высоты и подземных вод, поэзия неистовых ритмов, стихии и поднебесья. Всюду крылья — у ветра, у человека, у Руси, и даже кресты летят в небо с земных погостов. Душа и движение. Поэзия — одухотворенное движение, мириады созвездий, открытие далей, просторов, богатств. Окрашенные в золотистые, серебристые, багряные, лазоревые цвета циклы стихов, горы стихов, реки стихов; падают, кувыркаясь, с гор камни; бьются неисчерпаемые водопады — вечный рев; прорываются сквозь гибельные льды ледоколы; космонавты назло вселенскому холоду возвращаются к теплой земле! Да можно ли было усидеть на месте после таких стихов?! На край света, в огонь и в воду, в горе и в радость, через любую тьму — к свету! И вдруг — спокойное, зимнее, упреждающее; тихие, снеговые шаги:
Мы привыкли счастье тихо кутать
В белые сугробы: след и след
Тот найдет, кому их не распутать
И себя не уберечь от бед.
Но время заговорило. Словно в долго молчавших часах тронули маятник, и они пошли мерно, ровно, безостановочно. Приходит миг, когда понимаешь, что нужно ехать, идти, мчаться вперед, вперед; подниматься на вершины и лететь через пропасти, чтобы понять самое главное, важное в жизни и в себе.
Книга стихов, которую я взяла с собой в дорогу, властно изменила и мои пути, и мои раздумья, и мою жизнь.
***
Над Петрозаводском кружат не банальные голуби — чайки. Город-корабль любовно собран в плавание по Онеге. Синее озеро летом вздыхает, искрится на солнце. Кажется, что вот-вот город поднимет якоря, блеснет палубами площадей, и — в путь. Но зимние льды и стынь останавливают поход. Малое творение Петра терпеливо ждет, а чайки все кружат над городом, метят розовую гранитную набережную, кричат. Ждут, глупые. Жду и я неизвестно чего. Хожу, твержу:
Ой ты, море,
Гребни и откосы,
Буйство,
В берег бьющееся лбом.
Я ушел бы
Рядовым матросом
На твоем
Суденышке любом!
Но никуда мне не уйти, никуда не деться, и жить здесь!.. А ночи белые, улицы чистые, люди другие. Какие-то очень ясные, отмытые. Тут воды много, камня. Даже бомжи здесь особенные. Я видела: по вокзальной площади устремленно шагала старушка, высохшая, тонкая, с руками-былками, с коричневым, отполированным ветрами, лицом. На ногах у нее ботинки мужские «прощай, молодость», на плечах шинель голубая, тонкого сукна. Без погон. Дорогое было обмундирование, офицерское. Одежда мятая, замучена скамеечными снами, но от устремленности и чистого воздуха складки опадают. На голове у старушки кубло, до глаз не досмотреться — морщины. А все же из кармана шинели кокетливо торчат розовые полевые цветки. Я долго смотрела ей вслед.
Хочешь узнать город — посети его базар, говорят на Востоке. Петрозаводский рынок встретил до боли знакомыми лицами. «Дэвушк, — скучали продавцы, — падхады, будем арбуз рэзат. А как завут дэвушк? Мандарын сладкый грызть хочешь? Эх, дэвушк…»
За воротами теснились аборигены с жалкими пучками зелени, чесноком, низкорослыми гладиолусами, лесной ягодой. Больше из сочувствия, чем из нужды, я купила чернику у старика с орденскими планками на затертом, побелевшем от времени, пиджачке.
— Послушайте, — наивно спросила я у него, — а почему у вас такой южный уклон в торговле?
— А потому, дочка, — старик наклонился к моему уху и, оглядываясь, шепотом выдал страшную тайну, — у нас денег нету. А у них — есть…
А мне-то хотелось уехать от раздумий, от несправедливости, от несчастий! Нести ношу лишь свою, посильную, от которой только здоровая усталость и никакой сутулости.
Дом ты мой за скорым перевалом,
Щедрый стол, раздольная кровать, —
Неужели этого мне мало,
Чтобы никогда не горевать?
Но видится, как назло, совсем другое. Залегает в памяти, точит бессонницей по ночам. Пустяки, ерунда всякая. Бомжиха с цветочками, например. Или рыжий, побитый конопушками, безработный из Мурманска. В поезде вместе ехали. Он бормотал беззлобно, удивленно даже:
— Говорят по телевизору: в следующем году жизнь будет лучше. У них, — он показывал медными ресницами на потолок, — конечно. А у нас? Уже и упоминать не стали. Забыли.
Ах ты, господи! Хорош город-корабль, но на нем от себя не уйдешь, на приколе стоит. А мне большая вода нужна. Чтобы все плохое утопить. И выбрала я Конч-озеро. Что и говорить, подходящее название.
А все здесь и началось. Вышла на берег и ахнула: такую ли воду слезами мутить?! Всю жизнь, оказывается, я в кривые зеркала смотрелась!.. От доверчивости. Или от глупости. У кривых зеркал — витиеватые рамки подражания. А в Конч-озере утренняя гладь слилась с небом. И отразились — донные звезды в глубинах, радужные рыбицы в высях. И я вспомнила: если в детстве ребенок не замер перед цветущим черемуховым кустом, дымчатым весенним холмом, голубым озером, то навсегда в нем что-то красивое и ясное потеряно. И ничем потом не спастись — ни книгами, ни эрмитажами.
Я могу стоять на берегу
Озера
и слышать тихо-тихо,
Как стряхнула росы лебедиха
С теплых крыльев на моем лугу…
Вот оно, озеро! Могу выпить его, могу утонуть, могу каплей его стать, могу в голубые воды, как в сари, завернуться. Пой, небо; удивляйся, невозмутимый, точеный, остроконечный лес! Здешние березы не кудрявятся как наши подмосковные, а тянутся к солнцу, прямые и строгие. Монашки карельские. Камень их хлеб. Воздух — молитва. Не потому ли птицы на рассвете молчат?!
Дни расправили плечи. Солнце щедро разбежалось по воде, и казалось, никогда не собрать ему свое золото. Однажды из-за глыбистой, богатырской скалы на простор вышла старинная, осанистая русская ладья. Побережье ахнуло, прогулочные лодки у причала вытянулись как на параде. Ладья медленно, величаво-победительно шла по озеру, расправив грубый серый парус, должно быть, очень прочный. И я вдруг с радостью поняла, что всё в прошлом: корветы с алыми парусами, погибельные «Титаники», наркотические наутилусы. Мне нужен только такой корабль, и нет ничего красивее и проще повседневного грубого паруса.
Когда ладья причалила, я присмотрелась к названию. Молоденькие матросы ловко сновали по мачтам, тянули канаты. На спасательных кругах, крепком, просмоленном боку судна тускло блестело одно-единственное слово. Я недоверчиво покачала головой: ладья называлась «Любовь».
***
В Москве, в бестелевизионные вечера, я часто вспоминала Карелию. Телевизор меня окончательно разочаровал после того, как в одной из передач под фотографией Виктора Черномырдина появилась подпись: «Анатолий Чубайс». Казалось бы, какая разница?! Но я почему-то расстроилась…
Мне хотелось дойти до главного — естественных основ жизни. Москва — берег. Место чтения книг. Я перелистывала томики, тосковала, искала. Я сравнивала. Мне было тяжело, потому что я привыкла верить «общественному мнению» и сомневаться в себе. А оказывается, «свет» беспокоится лишь о себе и о славе самоутверждения. «О, как мне хочется смутить веселость их…»
Но больше я думала о том, что в Орске, на родине Черномырдина, любой слесарь его речистей, выпивастей, мордастей и мастеровей. Что Чубайсу никогда не придет в голову спуститься с олимпов в метро и всмотреться в лица людей. Всмотреться и вспомнить, применительно к себе — «Бог шельму метит». Я думала о том, что не в них, опереточных, игрушечных властителях дело, а в чем-то другом, большом, подспудном, непостижимом для меня. Я — всего лишь женщина с берега Конч-озера. Люди жили, бились, страдали и умирали до меня, а я пришла в растерянное время, когда выронены все главные слова — от мамы до родины — и потому кажется глухо и одиноко; и четвертушки поэзии, расклеенные по вагонам метро, не объединяют, а ввергают в еще большую бездну. Есть или нет родина? Есть или нет народ? Нет народа — есть выродки. Есть народ, и тогда я его частица, его травина, его ветвь, его росина, и слаще этой могучей покорности нет ничего! Вот песня! Но почему, почему так долго она мне не слышалась, не напевалась, не звала?!
То не снег беловейною грустью
Все березы осыпал подряд.
Это души лебяжьи над Русью
С тихим стоном летят и летят.
Я закрываю книгу со смешанным чувством. Может и правильно, что такие стихи не услышишь по телевизору? Есть два мира, и они не должны пересекаться. Но редкие встречи, как случайный взгляд в зеркало, бывают полезны. У памятника Пушкину меня окликнула знакомая журналистка из съемочной группы ОРТ. Я указала ей на прохожего:
— Смотри: это великий русский поэт!
— Как русский? — не поняла она. — Ты хочешь сказать — «российский»?
Теперь уже я удивилась:
— Разве Пушкин российский, а не русский?
«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык…» Язык — русский. Характер — русский. Боль — русская. Ширь — русская. А поэт — российский. Как такое может быть? И финн, и когда-то дикий тунгус, и друг степей калмык сегодня в одном ряду с гордым внуком славян. Отлично понимая, впрочем, на интуитивно-природном уровне разницу. И славно! Страшно представить землю сплошной пустыней. Или нагромождением эскимосских ледников. Или только непроходимой тайгой. Лжемичуринцев разоблачали — рябине не стать дубом. А с человеком, значит, можно делать всё, что угодно?
Мой язык. Моя родина. Моя любовь. До Пушкина — золотая цепь из вечности. После него — богатырская застава, защита — Лермонтов, Некрасов, Блок, Есенин, Павел Васильев. Задумаемся: легко ли им?
Разве я не пил страданий чашу,
Завтра снова ей не пустовать, —
Кто-то должен за Россию нашу
Под прицелом недруга вставать…
***
Но что есть Россия? Что есть родина? И снова я еду — небо высокое-высокое, поля — широкие, леса, лесочки и перелески, деревеньки и кладбищенские оградки. Всё здесь, в приближении к родительскому дому, понятно мне и знакомо, всё по-хорошему волнующе; всё — моё.
И всё-то я знаю наперед: как приеду и накачаю себе во дворе воды в зеленую эмалированную кружку, какие будут разговоры и радости моим гостинцам, и что за новости можно прочесть в местной газетке «За изобилие». Но почему же мне так хочется возвращаться сюда, к привычному, исхоженному, увиденному и перевиденному, к жизни, чей уклад груб и прост; где скука метет по зимним улицам и где нет никакой замысловатости? Почему я так спешу, почти лечу вровень с ветром, и так мне свободно, как бывает иногда в детстве — ни о чем не надо заботиться! — путь твой предопределен, а душа почти спасена… Здесь, напитанная горьким запахом придорожной полыни и лебеды, душа расправляется во весь видимый простор, становится добрее и чернее нашего чернозема.
Мне легко — я еду домой. Мне грустно — я думаю о доме, о России и о будущем.
Мне, теперь уже много объехавшей и повидавшей, кажется, что счастье невозможно без чувства любви и чувства родины.
Не смогу разлюбить, хоть убей —
Потому что родился не черствым —
Эту синюю сонность степей,
Эти звезды, березы и версты!
Да-да, о ком бы не писал литератор писал — о тете Даше или о Чубайсе, и о чем бы он не писал — о планете Марс или о покосившихся избах в Костромской губернии, везде он пишет прежде всего о себе, открывает свой мир для себя и других. Но что, какой мир, может открыть в себе поэт, если в сердце его нет родины, нашей огромной и горькой родины?!. Родины со всеми, кто здесь живет и жил, с её крестами, курганами и погостами?
И вот я снова еду — мимо печальных безлюдных полустанков, столбов электропередач, лесов и лесочков, унылых придорожных построек, бетонных бесконечных заборов с корявыми политическими и «металлическими» надписями; мимо бабушки и ее внучки с двумя косичками, мимо спокойствия и стылости… Там, где я скоро буду, даже валенки теплее греют, даже лет мне меньше. Там, на родине, в густоте вечера смутно белеет цветущий картофель, и крадется по небу туча-пират с осколком месяца в руках, и чуть встряхивает листами серебристый тополь. Он чует ветер — пока еще такой же молодой, как я, ветер юный, синекрылый, и от ветра серебрится тополь у моего двора. И мне грустно — не оттого, что никогда мне этот ветер не догнать, а оттого, что я вдруг не сумею, или не успею, или струшу о нем рассказать…
***
А поэт Валентин Сорокин родился в сказочном краю — на Южном Урале, седом, таинственном и бесстрашном. А разве не в сказочной Москве родился Пушкин Александр Сергеевич? А разве не на былинной Рязанщине родился Есенин Сергей Александрович? Везде, везде, в любом уголке России, не оставленном Богом и любовью, памятью и красотой, может родится поэт. История русской литературы тому подтвержденье… Но как только наступает пора разора и разорения, пора разрушения сказки и осквернения былины, пора забвения старины и нарушения равновесия природы, русскому поэту очень трудно родиться и расправить плечи. История литературы, увы, тому подтверждение…
Но край Валентина Сорокина всё ж оставался сказочным и в ту, далекую теперь уже пору 30-х годов ХХ века, когда в лубянских подвалах пытали русских поэтов. Много было недосказанного и недопетого. Павел Васильев напишет в 1936-м, почти в то же самое время, когда родится будущий его продолжатель, читатель и почитатель, поэт Валентин Сорокин:
Посулила жизнь дороги мне ледяные —
С юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца.
Есть такое хорошее слово — родныя,
От него и горюется, и плачется, и поется.
А дороги Павла Васильева ждали не ледяные, а кроваво-изуверские, нечеловечески мучительные!
Но если бы не было в России Урала и Сибири, Севера и Колымы, то где бы валили лес и добывали золото мученики, недобитые в подвалах НКВД? Россия — сказка. Мама поэта, Анна Ефимовна, крестьянка. Жалостливая, красивая, золотокосая. Жалела она сына, Вальку, единственного уцелевшего из четырех братьев, гладила по голове, вздыхая: «Какой ты добрый растешь, сынок!.. Какая у тебя жизнь будет тяжелая!..» Так и вышло. А еще Анна Ефимовна жалела каторжников, работавших на лесоповале. То картошки им принесет, то молока — от своей многодетной, немалой семьи отрывая. В тайге, у костра, в минуты короткого отдыха, вдали от лагерных глаз, образованные каторжники читали стихи — о любви и воле. Так запрещенный Сергей Есенин пробирался, минуя «официальные каналы», на сказочный Урал. Так Борис Корнилов и Павел Васильев, казненные и оболганные, находили в глухой тайге мальчишку, внимательного слушателя, который, спустя годы и годы, напишет книгу о русских поэтах, украденных у русского народа. Но книге будет предшествовать собственный путь, которому не позавидуешь и который не повторишь…
А все же Урал — сказка. Пусть голодное военное детство, пусть отец, Василий Александрович, вернулся домой с войны израненным инвалидом, но зато:
Вырос я на Урале,
Где огнистые дали.
Огнистые дали — это не просмогованные облака Москвы, не асфальт пай-мальчиков, «золотой молодежи» партбоссов. Отец — лесник, лесной человек, не ошибался, когда слышал голос птицы и видел след зверя. И сына, продолжателя рода этому сказочному искусству обучил. Но и отец Василия Александровича, Александр Александрович, лесник. Лесники и пчеловоды Сорокины на Урале. А прадед поэта, Александр Осипыч Сорокин похоронен вместе с прабабушкой на хуторе Ивашла. А главный сорокинский монолит — Осип Павлович Сорокин — был, по семейным преданиям, богат, храбр, красив и знаменит. Избирался он головою завода. Убит на берегу Урала в окрестностях аула Уртазым. Полукочевники убили, киргизы, гуляющие вольными степями. Похоронен прапрадед в Кананикольском, древнейшем русском селе на Урале.
Да, знаменит Сорокинский род на Урале, род ратный, богатырский, но дерзкий и мятежный, что не раз его подрывало… Круто этот русский род уместился между двумя заводами — Преображенским и Кананикольским, ныне сёлами: Зилаиром и Кананикольском. «Уезд наш, Преображенский, числился в составе Оренбургской губернии, когда меня еще на свете не значилось. А позже, при очередном разделе России, район, переименованный в Зилаирский, пхнули в Башкирию», — это из рассказа «Дедушка мой».
Рассказ — сказочный по сюжету, но, говорят, в жизни и не такое бывает. Дедушка, Александр Александрович, лесник и пчеловод, добывал мед дикий из колоды, да так увлекся, что свалился с лиственницы — с дымарем, в сетке, прямо на голову зазевавшемуся медведю. Бедняга, перепуганный от упавшей с неба беды, да еще и оглушенный пару раз дымарем — геройский дед от нежданной встречи не дрогнул — драпанул, но силы оставили потрясенного зверя — умер от разрыва сердца. А дедушка — спасся.
К Александру Александровичу пришла заслуженная слава в окрестных селах и хуторах, а домашний авторитет у него и до этого случая был неколебим. Только бабушка Евдокия, иногда в конфликтах корила мужа: «Ты медведя насмерть испугал, а я те чё, изведешь и похоронишь!..»
Детство — с зелеными иволгами, с бурыми медведями, с дремучими лесами и семейными преданиями — ушло. И взрослый, много повидавший, умудренный жизнью поэт напишет:
Зеленый лес, могучий лес, он главный
Среди лесов, к нему прильнувших звучно,
Березовых, осиновых, ольховых,
Черемуховых, ивовых лесов.
Но лес — в стихотворении «Мой лес» — не только воспоминание о золотоствольной тайге, вытянутой в струну к небу, — «сосна к сосне — не отличить, как свечи» — не просто лес, населенный медведями и муравьями, благородными лосями, упрямыми тетеревами, рябчиками юркими и звонкими соловьями, он, лес, зеленый и высокодумный, в дождь напоминавший океан, а теперь сильно поределый, со множеством больных деревьев — как он похож на русский народ, сильно изведенный в ХХ веке войнами и революциями! На Южном Урале Сорокинский род вставал рядом с башкирами и мордвой, татарами и чувашами. А сам Валентин Сорокин рос среди крестов войны — из некоторых горных хуторов из дворов уходили на Великую Отечественную по пять-шесть человек, а многие ли возвращались?! Израненные, инвалиды, они умирали быстро, и дичали, сиротели когда-то обжитые русским человеком места… Мальчишки горного хутора Ивашла помогали бабам толкать гробы на гору — там было кладбище. В краю железа и дерева — маленькие березовые кресты. Валентин, из рода Сорокиных, спешил расти: ему казалось, что нужно рассказать об этом неизбывном горе — войне, стариках и старухах, у которых погибли внуки. Надо было торопиться, расти — не по дням, а по часам, и прожить жизнь — богатырски-сказочную, чтобы рассказать о России, той, почти навсегда утраченной и потерянной русскими…
Из поэмы Валентина Сорокина «Бессмертный маршал», 1977.
Мой дальний хутор на Урале грозном,
А где же ты и что с тобой? — скажи.
Кресты, кресты,
По луговинам росным
Порхают одичалые стрижи.
Кресты, кресты,
Куда ни повернусь я —
Кресты, кресты
И — муторно окрест.
Но не поставил ворог крест над Русью,
А Русь над ним переломила крест.
К нам замышляли недруги не тропы,
А трассы проутюживать в поля.
Не взять России — и не взять Европы,
И мир не взять,
О русская земля!
И — проклят тот,
Кто жуткий день вчерашний
Упрячет в омузеенный гранит,
Кто русский дух
И русское бесстрашье
Не приумножит и не сохранит!..
***
В Волгоград я приехала днем. День, правда, уже клонился к закату, и подъезды к городу, широкие проспекты, здания с колоннами — все было озарено золотым зрелым светом, солнечные лучи — длинные, мягкие, согревали город последним летним теплом: август стоял на исходе.
В городе у меня были служебные дела — но это завтра. Сегодня — свободное время. Подошел троллейбус, на боку, на табличке-указателе, я прочитала один из пунктов назначения: «Мамаев курган».
…И вот уже я поднимаюсь по бетонным ступеням в гору. Я пока еще не вижу монумента, лишь темно-зеленые, грубые флаги пирамидальных тополей реют по сторонам, да грозное небо над головой. Оно, это небо, наливается свинцом и гневной синью с каждым моим шагом. Ветер становится жестче. Пахнет свежестью, простором, чувствуется присутствие вблизи большой воды. В горле сохнет. И внезапно, в одну секунду, мне открывается монумент — гигантская, страшная в своей силе, женщина с тяжелым мечом на фоне окровавленного закатом, уходящего солнца. Еще нужно преодолеть много ступеней, миновать ряд огромных, но кажущихся небольшими, по сравнению с главной, скульптур; пройти мимо стены-скалы, испещренной Сталинградскими надписями… Долго, очень долго, я поднимаюсь на вершину кургана. Мне жутко от силы, которая сюда вложена, и страшно оттого, что я даже не могу ее осознать. Нигде, никогда больше я не встречала ничего подобно. Языческая, дикая мощь и храмовая, недосягаемая святость. Небо на острие меча клубится высоким, адовым свинцом, реют бетонные одежды на женщине-богине, обнажая её крупные, напитанные силой стати, Волга внизу кажется только что вспаханным полем. Воды почти недвижимы, они красно-коричневые, словно всё еще несут человеческую кровь. Я содрогнулась. «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева, и они победили смерть!», — черной краской, от руки, было выведено на плитах дебаркадера.
Потрясенная, погруженная в свои раздумья, механически спускаюсь я в огромный круглый зал у подножья монумента. Сумрачно, словно в царстве Аида. Пылает вечным огнем факел, который держит огромная, поднимающаяся из недр кургана человеческая рука. Отсветы пламени скользят по залу. На стенах, словно распятые знамена, каменеют выложенные красной мозаикой скрижали. Мелкими золотыми буквами, в несколько тесных рядов, грудятся фамилии погибших. Их очень много, этих красных плит. Их очень много, этих золотых фамилий… Но как же я могла забыть, запамятовать: здесь, на Мамаевом кургане погиб мой родной дядя! Родившись много позже, я и войну, и погибшего дядю, от которого в нашей семье не осталось никаких материальных свидетельств, кроме фотографии, со временем стала воспринимать как миф. Ушел воевать и погиб молодым. Вот и всё.
Но теперь то, что для меня было мифом, благоговейным воспоминанием, вдруг обрело почти живую силу. Как странно, страшно, стоять на кургане, политом родной кровью, стоять на самой этой крови! Быстро, нервно я взглянула вокруг. Здесь, на мозаичных скрижалях, в бесконечном золотом списке где-то есть и его фамилия. Почему-то для меня стало очень важным найти её. Зачем? Я не знала. Отблески огня слабо озаряли огромный зал. Близилась ночь, и на улице стремительно темнело. Стараясь быть внимательной, я стала просматривать списки. Я спешила. Но каждая плита, из-за обилия фамилий, требовала времени. Я напрягала зрение. Глухо грохотал гром, свет быстрых молний змеился рядом — собиралась гроза. С каждой минутой в зале темнело, и казалось, что круглая крыша опускается ниже, просветы между ней и стенами почернели. Загуляли сквозняки, пламя стало рваным, неровным. Фамилиям не было конца: «Баранов Т. А., Лыков И. М., Агибалов С., Мухамедшин Р. Т.», — алфавитный принцип не соблюдался, что ещё более затрудняло мою работу. Увы, недосмотрев пять или шесть плит, я вынуждена была оставить своё занятие — стало совсем темно и я не могла разобрать букв.
Выбравшись на поверхность, где было светлее, чем в зале, я обнаружила что да, вот-вот грянет ливень. Еще страшнее и беспощадней вырисовывалась в небе фигура монумента, что-то мстительное и всепонимающее чудилось мне в облике этой языческой женщины. Она казалась больше и сильнее неба; неба, в рваных дождевых тучах, низкого, набрякшего, сине-черного, полуночного. Оттого, что на душе было смутно, я шла медленно, не спеша, хотя первые крупные капли дождя уже звучно упали на бетон. Навстречу мне поднимались две парочки — подростки с пивом, с подружками. Тонконогие, тонкорукие, в брючках, с одинаково высвеченными челочками, редкими волосенками, они смеялись истерическим, нетелесным смехом, таким, будто он шел извне.
Все во мне передернулось. Что-то мешало мне принять живое, видимое, может быть даже и страдающее по своим бестолковым поводам; оно, это живое, воплощенное в подгулявших подростках, было ненавистно. Я удивилась себе: вот, оказывается, как я могу ненавидеть! Я ненавидела их так, будто они меня лишили любви, или осквернили мой дом, или надругались над моими близкими. Сердце моё забилось мучительно, редко, громко. Уже они поднялись высоко и не слышно было смеха, лишь контуры их карликовых, согбенных фигурок вырисовывались вдали, а боль все еще не отпускала меня — я ненавидела их больше, чем своих личных врагов.
И тут дождь пошел по-настоящему. Мне стало грустно, так грустно и страшно, будто я посетила египетские пирамиды. Все пройдет: одна жизнь, один народ, один вечер, одна ночь… Тогда зачем жить, опираясь на правила, долг, мораль, если все пройдет — и жизнь героя, и жизнь насекомого? Насекомому даже легче — никто не оскорбит его прах, никто не будет смеяться на его могиле. И не все ли равно, кто победил в той войне? Ну, допустим, победил бы Гитлер, и сейчас на Мамаевом кургане стоял бы другой монумент, и возможно, не менее величественный, и какая-нибудь фрау искала среди фамилий погибших своего дядю. Да и в самом деле, разве Гитлер не победил? Явлением этих подростков. Только воинствующий, неуспокоенный враг может хохотать на кладбище! Или — победило время? Не Гитлер, а время. Но неужели время — больше жизни? Неужели живая, мучительная кровь, будоражащая моё тело, ничто по сравнению с бесстрастными и вечными минутами? Тогда зачем всё, зачем эти жестокие, смертельные эксперименты, которые с нами проделывают? Я не хотела такой жизни!
И мне стало жаль себя, и всех людей — хороших и плохих, которые меня окружали, и которые тоже были в вечном земном скитании, и жаль времени, которое мы проживали в суете и слепоте. Но больше всего я вдруг пожалела дядю. И образ его, до этого плоско-фотографический, абстрактный, мёртвый, вдруг обрёл плоть и кровь, и я увидела его живым. Лишь на секунду. Я увидела его глаза, серые, усталые; плотно сжатые губы, молодой, незавершенный еще овал лица. И жальче всего была эта незавершенность, говорящая о том, что он так и не узнал ни женской нежности. И мне казалось, что это очень обидно — умереть без любви…
***
О, русская земля… Как часто мучительны и безотрадны путешествия по русской земле — но другой земли, земли чужой, немой, не говорящей, нам не надо.
Все одолеешь, море и пустыню,
Леса возьмешь и горы на пути,
Но если вдруг душа твоя остынет, —
Её снегов уже не перейти.
Говорят, что писатель отражает время. Это так, и не так. Писатель, по-моему, должен искать истину в любом времени и говорить о ней… Атеист и верующий, подлец и праведник, Маркс и Достоевский, все мы совершенно по-разному трактуем мир, поступки, течение жизни. И в атеистическую схему современный мир укладывается гораздо охотней, чем в религиозную. Атеизм и материализм объясняют всё, кроме одного — чуда. Чуда любви. Причем не какой-то абстрактной, «к человечеству», а к конкретному человеку, в котором сосредоточен весь мир. Каждый, к кому приходила любовь, скажет, что это чудо, причем совершенно нежданное и незаслуженное, счастье сверхмерное, райское. Как? За что? Нет объяснения. Любовь — чудо. И только осознание этого чуда в религиозном смысле позволяет продлить блаженство. Какая тревога у Есенина, какой крик, какая тоска по любви, по откровению!
Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,
Протяжен и глух.
Кто же сердце порадует?
Кто его успокоит, мой друг?
Но и художественная проза (что уж говорить про поэзию!) — это чудо, природу которого разгадать невозможно! Вот ты сидишь за письменным столом, и — ничего, в душе тишина. Но стоит тебе выйти из дому, сделать шаг, вдохнуть свежего воздуха, посмотреть на родное небо — без всякой «творческой» мысли — и что-то соединяется в тебе, начинает работать, образ мгновенно делается живым. И каждое движение, взгляд, поворот головы — все это добавляет жизни образу.
Откроем Сергея Есенина, любое стихотворение, наугад:
И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли, —
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!
Какая воля, какая уверенность в слове, какая пророческая правда! И разве сегодня Америка — не отколотая половина земли?
А Борис Корнилов, волжанин:
Эти вовсе без края просторы,
где горит палисадник любой,
Нижний Новгород,
Дятловы горы,
ночью сумрак чуть-чуть голубой.
Влажным ветром пахнуло немного,
легким дымом,
травою сырой,
снова Волга идет, как дорога,
вся покачиваясь под горой.
В каждой строке — предчувствие любви, сильной, чистой, юношеской. И как залог силы, победительности — Волга-дорога, просторы без края, сумрак, ветер…
А вот и Дмитрий Кедрин:
Серы, прохладны и немы
Воды глубокой реки.
Тихо колышутся шлемы,
Смутно мерцают штыки.
Смерть, ход, «шаг» истории, река Лета и будничный пейзаж — умрут многие. А всего — четыре строки!
И попробуем «вплести» в этот поэтический венок стихи Андрея Вознесенского:
И никогда б в мою жизнь не вошла
Ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волшба!
«Волшба» волшбою, а чуда нет! Но как вся эта мертвая «волшба» сглаживает, ворует, топит впечатление от стихов Есенина, Корнилова, Кедрина! И как же, после таких сравнений, мы можем стать «демократами» и «плюралистами» в литературе?! Нет, мы можем быть только несоединимыми, несопоставимыми, несмешиваемыми мирами, по-разному понимающими и литературу, и жизнь, и талант, и призвание. И никакого «консенсуса» у нас никогда не будет. У нас разные дороги: одни все время в гору с грузом беды и счастья, другие — с горы, набив карманы пастернаковскими, букеровскими, триумфскими и прочими ворованными премиями-долларами. Помочь друг другу мы, увы, ничем не можем…
Все попытки литературоведов, структуралистов, лингвистов, философов «разобрать» образ, символ, разъять его, развинтить — совершенно безнадежны. Это не значит, что эти попытки не нужны — исследуют же физики атомное ядро, расщепляют его и проч. Но от собственных исследований они же потом и ужасаются — от беспощадной атомной бомбы, например.
«Разъятие» образа порождает информационные, словесные «бомбы» — рекламу, политагитки, лжелитературу, состряпанную по рецептам-шаблонам. Все это — другой мир. Мир мертвечины, мусора, пустой жизни. Я люблю — это значит: я ничего не знаю (при всем моем старании, ежедневном, кропотливом — познать мир, природу образа, стиха, прозы). Я люблю — это значит: я чувствую. Безрелигиозность есть бесчувственность; ведь образ создается только при участии чувства; нет чувства, и образ не будет жить, даже если в него вложишь всю свою эрудицию, фантазию и старание. Бог — чувство — помогают творить, всякое творчество и есть продолжение дела Божьего на земле. Человека (а не биомассу, не электорат, не зомби) волнует то, в чем вложено сильное чувство.
Литература не менее точна и беспощадна в своем оружии, чем физика, но есть «завесы», маскирующие её «убойную силу», и есть отсроченность результата. Но сколько бы физики не истязали атом, а биологи не плодили клонированных двойников, сколько бы лингвисты не пытались «развинтить» образ, ничего не выйдет. Почему и работы настоящих писателей (поэтов) по этому поводу намного умнее всех ученых — взять хотя бы Есенина («Ключи Марии») и сравнить его с изысканиями Алексея Лосева.
Почему же образ не может быть до конца разъят и понят? Образ — это чудо, образ — это Бог. Мы говорим: «Образ Его». Творчество, и жизнь вообще, есть различение добра и зла в самых мельчайших проявлениях. Так и появляется «рисунок жизни», да и произведения тоже. Главное, быть честным — и тогда перед писателем будет ежедневный, очень тяжелый труд по различению добра и зла.
Всякие мысли — даже самые смелые, умные, всякие наблюдения — даже самые свежие, точные, всякие догадки — это такая третьесортность по сравнению с образом! Образ — чудесное слияние чувства, мысли, движения, истории, тоски — он всегда объемный, движущийся, живой. Нет, никакой науке за ним не угнаться!
Итак, образ — это чудо. Образ — это Бог. Образ — это любовь. Образ — это природа. И, наконец, образ — это родина. Без глубинного чувства родины нет образа! Нет любви, нет чуда и даже — нет Бога. Любовь к родине — преодоление эгоизма, преодоление страха смерти. Только родина делает поэта поэтом. Без родины — нет поэта!..
Александр Пушкин:
И долго буду тем любезен я народу…
Михаил Лермонтов:
Люблю Отчизну я, но странною любовью…
Николай Некрасов:
Родная земля!.. Назови мне такую обитель…
Александр Блок:
О, Русь моя! Жена моя!
Сергей Есенин:
Звени, звени, златая Русь!
Владимир Луговской:
Ах, Россия, Россия, зачем ты мне снишься?
Николай Рубцов:
Тихая моя Родина!
Александр Прокофьев:
Соловьиное горло — Россия…
Валентин Сорокин:
Мне Россия сердце подарила…
Так о чем мы толкуем? Кому и что доказываем? Кому какие памятники ставим?! Кому поклоняемся? Для чего живем?! В чем ищем счастье? Если есть в жизни смысл, счастье к тебе придет. Но только смысл этот должен быть очень высокий, по возможности вровень с теми вершинами, которые уже были до тебя. И неужели всем нашим критикам-литературоведам-аналитикам не понятно, что помимо всего прочего, образ — это человек? Если не будет в писателе красоты, богатства души, щедрости, чувственности, многоцветия мира, трагизма, тоски, многодумности, честности, праведности, отчаянности, мученичества, любви, силы, добра — не будут его стихи и проза живыми! Образ — это человек. Образ — это народ. Образ — это жизнь. И единственная наша жизнь, такая хрупкая и бесценная, должна быть красивой и сильной. Неужели это непонятно?!
***
И я поехала на Урал. На родину поэта Валентина Сорокина. Где-то в старых, слоистых раздумчивых скалах бродила ускользающая от меня истина, показывалась краешком и пропадала, звала, обещала и обманывала. Что-то важное я должна была понять в стихах, во времени и в себе. То, для чего мало одних книг, даже если книг много. Ура Уралу! Я ехала в Зилаирский район Башкирии. «О, — напутствовали меня в Уфе, — счастливая! Ты увидишь русскую Швейцарию».
Горы, горы, голубые горы Зилаира! Вечная синяя дымка над вами, в солнце и в хмарь, в радость и в горе. Не от их ли суровой задумчивости не могу я сдержать беспричинных слез?! Разве можно пережить самые старые горы на планете? Разве можно забыть их косматые, поросшие лесом, пологие спины? Бегут, теряются в камнях, прозрачные реки с мягкой, спасительной водой. Одна из них — Чувашленок. А по склонам гор стонут искореженные, избитые зимними буранами березы, тянут страшные руки к небу. Вот что жизнь делает с деревом…
Сколько я видела женщин по русским деревням, избитых до срока непосильным трудом, горем, безрадостностью. Только бы помнить эти березы!
Урал — мужской характер. Вечная дымка над сопками, вечное прощение и нежность. Урал — ответственность. Урал — бескрайность. Тает в сини первая гряда, а за ней — вторая, а дальше уже и не разобрать, что пропадает в сини — облака или горы. Торжество, возвышенность, тайна — все здесь и все есть. Все — в поэте. В стихах Блока — строгость петербургских колонн, тревожное небо Европы. Пахучие, сенокосные строки Есенина; «с иными именами встает иная степь» — у поэта, родившегося на Урале, мнимая доступность самых старых и самых золотых гор. Ура Уралу!
А, впрочем, чему же я радуюсь? До хутора Ивашлы — сорокинского родового гнезда мне вовек не дойти: сгинул он, растворился в советском времени.
Там, где рыси и орлиный клекот,
Где медведь малину ест с утра,
Затерялись в мареве далеком
И в горах пропали хутора.
Отцвели гармошки на коленках.
Ленты отшумели у невест.
Ивашла,
Успенка
и Павленка, —
На холме обуглившийся крест.
Словно дед сутулый ищет внука
Или бабка с посохом бредет.
«Мир усопшим!» — вот и вся наука,
Жаль ее не знал я наперед.
Я не знал, что вечен запах ила,
Что скала, как мать моя, грустит.
Я не знал, что ни одна могила
Сорок лет разлуки не простит.
Я не знал, что не сулил успеха
Мне, мальчишке, звездный сеновал:
Жизнь проехал, шар земной объехал,
Ну, а этот крест не миновал.
В Индии другие реют птицы,
В Риме — серебрятся родники,
А у ваших речек, зилаирцы,
Завздыхали те же тальники…
И не зря с любого перевала
Вновь я слышу: в дорогом краю
Седина гранитного Урала
Овевает голову мою!
Мне говорили: великое предчувствие народа рождает великого поэта. Это ли не трагедия — поколения шли на восток и север, строили дома и города, били зверя, пахали землю, утверждали веру, рожали детей; превозмогая лишения, поднимали головы к звездам и — сходили в небытие еще при жизни своих певцов. У птицы есть гнездо… В степи же несчетно было тюльпанов, в горах — каменьев, в роду — умельцев.
В Зилаир меня вез шофер Гена, мосаль. Дорога от Уфы долгая, шесть часов при умелом вождении, так что переговорено было много. Мосали — удивительное, почти сказочное племя, «русские высшей пробы». Я слушала, разинув рот. Они и умельцы, и гармонисты, и танцоры первые. И дома у них самые высокие, чистые. И дети не чванистые. И чулки с вышивкой, и рубашки свежайшие. И если скажут — отрубят. Вот так-то. А уж чтоб мосаль семью порушил — не было такого. Терпеливые. Непьющие. Верные. Но очень воинственные, буйные, за то и были переселены царем из Мосальского княжества на Урал — границы держать. «Сорокин? Да-да, мосаль номер один. Тут родни их много. Я и племянника, Сашку, знаю, у него вся выходка дядина…»
Заповедный остров русской жизни. Скалы. Ладно пристроившиеся дома, березовые поленницы. Синяя гладь зилаирского пруда. Грустные сосны, точно отраженные в воде. Дымчатое небо, воздух ключевой. Представлялось много раз, а все же оказалось совсем другим, ни на что не похожим. «Было бы время, — говорит Гена, — можно проехать туда, где Ивашла была. Недалеко. Но не на такой машине, конечно…» Где-то я рядом, совсем рядом…
***
Так что же есть поэт? Как, в каких пределах он рождается, расправляет плечи и становится свободней ветра, сильней уральского бурана? Что позволило ивашлинскому мальчишке — «ивашленку» — вырасти под стать героям своих поэм — князю из «Дмитрия Донского», полководцу из «Бессмертного маршала», ученому из «Прощания»? Где истоки вселенской, непостижимой нежности поэм «Золотая», «Две совы»? Откуда взялась в нашем гнутом времени эта испепеляющая сила честности, перед которой меркнут все ухищрения искусственности?
Я честен, как якорь, как смертная клятва матроса.
Судьба моя, жизнь моя — ветры, шторма и торосы…
Что значит: быть честным в слове? Быть очень образованным, собранным, знающим; служить красоте, родине, народу. Быть беспощадным к себе, постоянно прощая и мучаясь чужим бессилием и ложью. Поэзия — смертельная опасность. Один твой нечестный, малодушный шаг «в сторону» — и ты погиб, слово твое мертво. И тогда миллионные тиражи, популярность, благосклонность критики лишь средства мумификации, сохранения тела. Грех разминуться с призванием, но непростительный грех, встретясь, предать и продать его — ложью, хитростью, малодушием. «Думаю, я был хороший моряк», — повторил вслед за Бернаром Мопассана Бунин. «Чистоту на яхте он соблюдал до того, то не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части…»
А я в мосальском доме гостюю, у сестры поэта Марии Васильевны, Маруси. И на этой ладье такой уют и ухоженность, такая вечно новая, неустающая чистота, будто жизни конца не будет, и вся она — праздник. А тете Марусе — далеко за шестьдесят. А в доме, кроме нее, только два мужика: сын Саша, у которого «вся выходка дядина» и внучок Вася, румяный школьник. А жизнь — у кого она легкая?
— Я в 4-м классе училась, в школе. Сумочка у меня, из фанерки сбитая. Подхожу к дому — мама плачет — папу на фронт забирают. Папа — кормилец… И я пошла на ферму — двадцатидневных телят от доярок принимать. Всех сберегла, выкормила. Мне премию за это — на выбор домой можно любого телка забрать. Потом, зимой, назначили лес рубить Кананикольский. Три месяца рубили с девчатами. Дали за труды материалу на платье. Шли с подругой и всю дорогу на него глядели — неужели правда домой несем?! А с леса поехали на сплав. Снег идет, лед плывет, а мы по шею в воде бревна пихаем…
Ребят на фронт провожали, женихи у нас уже были. Они оттуда пришлют треугольники, а у нас соображения нету как ответить, сказать посложнее. Валентин тогда еще в школе не учился. Мы ему: Валь, ты диктуй как складнее, а мы с черновика спишем. Он нам тут же выдавал.
— А вы дождались своего жениха?
— Не, убили. Потом те, каких не убили, пишут нам. Вроде как «заочники». Валентин опять им сочиняет. А они: только б остаться в живых, фронт кончается, мы придем, вас позабираем. И никакой не пришел…
…Не ходи, моя милая,
Крутым бережком одна.
Ведь ты смеряешь, милая,
Сине морюшко до дна.
— Это папина частушка, он гармонист был, сам их сочинял. А дом у нас в Ивашле лиственный, высокий, его потом в Оренбург купили. Все свадьбы проходили в нашем дому — люди просились. Папа пойдет, бывало, на конный двор, а там жеребец здоровый, Серый, папа верхи на него и в дом на свадьбу заезжает.
Родители наши очень друг дружку любили. С гулянки идут, мама поет, папа играет. А семья у нас большая — десять душ. Мама наша шестерых детей вырастила, всю жизнь со свекром и свекровкой прожила и тридцать лет колхозного стажу заработала. Утром коров доит, а хлеб у нее уже в печи сидит. Папа один класс кончил, лесником работал, а все ревизии по грамотным люди ему доверяли делать. Его очень уважали. Соседи к нему, помню, подходили, удивлялись: «Василий Александрович, ну как ты своих детей воспитываешь, ни шуму, ни ругачки, а они у тебя послушные!» И вот сколько мы не работали, нигде люди не скажут, что мы плохие…
— А игрушки у вас были в детстве какие-нибудь?
— Лапти плели, вот и все игрушки, — смеется Маруся. — А летом — цветки, — Маруся говорит по-моссальски, мягко — «цвятки».
Мы сидим за столом, и на клеенчатой скатерке — полевые цветки, а на них чашки глубокие, деревенские, с капустой квашеной, с тугими солеными помидорами, с картошкой уральской особого, сытного вкуса, с розовым — посередине пласта — салом, с белотелыми, вальяжными грибами. Почему, откуда такое простодушие, нежность, доброта, искренняя радость незнакомому, ни разу не виданному ими человеку? Неужели одной распахнутости сердца довольно? Урал, Урал, затерянный мир!
— А Валентин тоже на гармошке здорово играл, сначала на двухрядке, а потом ему хромку купили. А девчата за ним бегали… Он сразу какой-то был… Ну, не умею объяснить!
— Красивый, что ли? — прихожу я на выручку.
— Че хороший, то хороший, — охотно соглашается Маруся.
С веранды несут «альбом» — заведенные в рамку под стекло фотокарточки. «Смотри!» — гордится братом Маруся. Я ахаю — Ромео! Юношеская, возвышенная, совершенная чистота линий, неотразимая, роковая красота! Молодой бог любви.
— Сюда гляди, — призывает меня Маруся, — тыча пальцем в желтую, расплывшуюся во времени фотографию, на которой застыли разноростые мальчишки, одетые по-зимнему. — Вот из всех только два в люди вышли, остальные пропали. Наш Валентин, да Колька, по-уличному «Шакал». Прокурором в Оренбурге работает.
— А вашего брата как на улице звали?
— У нас в деревне кто жил, все хотели дождаться, посмотреть, кем он станет. Дедушка так и говорил папе: «Береги его, это великий человек будет!» Валентин сразу, с детства, от всех отличался. А на улице его звали — «Вышибала»; думали: вот выбьется, так выбьется… А ещё — «Валет», бык Валет у нас был, мощный. На велосипеде, на лыжах и на коне Валентин всегда был первым — никто не мог его догнать. А ещё он лучше всех играл на гармошке… И сейчас, если Валентин в Зилаир приезжает, и старый и малый бегут его смотреть. Нашу семью все в деревне уважали. А его-то тем более… А вот скажи, — обращается ко мне Маруся, — как в Москве к нему относются? Ты не видала, не знаешь?
На мгновение я теряюсь. Как объяснить лучше? Стихами?
Все мы ослепли душою
И когда нежданно попадется
нам в пути
Очень светлое, большое, —
Мы, как встречное солнце,
стараемся его обойти.
Или, может, рассказать про случай, приключившийся со мной в московском автобусе? На одной из остановок в просторный салон вошла огромная, лохматая собака, ростом с хорошего теленка; вошла без хозяина, ошейника и намордника. И хотя собака была явно благородных кровей и приличного воспитания, хотя в глазах ее не горели никакие звериные намерения, хотя вся она, казалось, была погружена в глубокую, известную только ей, природную думу, — салон замер. И каждое подрагивание сильного, упружистого хвоста, чутких, первобытного слуха ушей, и даже сладкий, зевающий, вовсе не кровожадный оскал домашнего зверя воспринимался одними пассажирами с тихой паникой, другими с тщательно скрываемой равнодушием тревогой. И когда собака воспитанно покинула транспорт на следующей остановке, мягко прыгнув на одинокий тротуар, автобус испустил общий, объединительный вздох облегчения…
— Поэт всегда отличается от всех, — сказала я вслух, и видя в глазах длящееся ожидание, легко добавила, — ваш брат — прекрасный поэт. И относятся к нему по заслугам.
А себя я мысленно пытала: неужели поэты никогда не ошибаются в своих пророчествах? Неужели никогда?
Кого о счастье ни спроси я,
Судьбой заласканного нет,
Зачем мне кажется, Россия,
Что я последний твой поэт?..
***
В один день он стал взрослым, в один день. Этот сентябрьский день 1945-го четко разделил жизнь на до и после. До — счастливое детство, пусть военное, голодное; после — горькая юность, беда, тяжелая ноша.
«Был у меня брат — старший. Волосы золотистые. Глаза голубые. Статью — прямой. Походкой — ровный. Вырос он, как все деревенские ребята, быстро. Да и война помогла: мужики на фронте, а ему уж пятнадцать лет. Хозяин».
А звали брата — Анатолий. Мастеровой парень — как и все мосали. И — поэтичный: стихи сочинял. На липовой дощечке, фуганком продернутой, напишет невесте, Малаше, четыре строки:
Бедна деревня наша,
Налоги вновь и вновь,
Не плачь, моя Малаша,
Судьбе не прекословь.
Наивные стихи, зато гармонист Анатолий — хоть куда! И парень хоть куда — золотокудрый. И брату, Вальке, опора и отрада: «Глубокой ночью в мою макушку нежно дышал брат. Я спал и никого и ничего не боялся. Анатолий, умный и грамотный, рядом. Жених. И невеста у него красивая».
Погиб он в карьере, откуда ивашлинцы добывали глину для хозяйственных нужд. Погиб на глазах у младшего брата, заваленный глыбистой глиной.
Кто не терял единственного брата, старшего, тот горе это трудно поймет. Я — теряла… Эта боль, которую даже спустя годы трудно ворошить, даже спустя годы трудно о ней говорить.
Помню, как получив роковую телеграмму, мы с родителями, не веря, но уже обреченно одетые в траурное, шли от автомобильной трассы к дому брата. Был август, вечерело, и нужно было пересечь огромный зеленый луг. И я, помимо своей воли, вдруг отметила отстраненную от нашего горя, никак не связанную с ним, красоту этого луга-чаши; уже легла роса, и он был серебристый, торжественный… И в эту секунду мне кинжально-больно вдруг открылся весь ужас случившегося, все будущие мои мытарства, всё горе… И какими лишними были мы, крошечные траурные фигурки на этом огромном и бесстрастном лугу!..
А девятилетний Валентин, на лошади, через ночную тайгу гнал к доктору, гнал, презрев страх к лесу, к дикому зверю, к опасной дороге, гнал, крича и плача о брате. Поздно — не помог доктор Шокуров. И не мог помочь.
«Брат мой на скамейке лежит. Высокий. В синем костюмчике. Если бы встал сейчас — очень высокий… Руки в кистях перетянуты шнурочком. Зачесан. Золотоволосый, нежный, спокойный, очень красивый и бледный. А на висках — раны. Глыбы его стиснули там, под землею, стиснули и виски ему сдавили».
А мой брат был — агроном. Землю любил. А еще — книги. Сколько помню его, в свободную минуту он всегда с книгой. И с котом на животе — тот, довольный, мурлычет… Сестры звали брата «Кошачьим богом». А ребята в сельхозтехникуме — «Профессором». А я с ним никогда по душам не поговорила. Сначала — маленькая. Потом — стеснялась. Потом — некогда. Не успела…
А Валентина ивашлинцы теперь величали бобылем — один рос, один мужал. Отцу особо не пожалуешься: инвалидом с войны пришел. «Кто не терял брата — не знает брата. Брат — ежеминутная опора для младшего. А у меня — четыре сестры и — ни одного брата».
Мой брат покинул нашу семью в тяжелое время. Это было время, когда Ельцин начал падать с моста, когда зашаталась твердь СССР, когда Божье землетрясение отвалило от основы куски Казахстана, Украины, Прибалтики, Средней Азии; когда в ходу были талоны, очереди, безденежье, общее народное страдание. Это было время чернушной сыворотки, которая лилась с экранов и страниц газет, время, когда сбилось с привычного хода мироздание, когда зима перестала быть зимой, а осень приходила всегда, когда хотела…
Это было время тяжелых испытаний для всех русских людей. Россию убивали, а убивая, грабили, а грабя, оскорбляли, так что немногие, немногие из русских поэтов пережили это время…
На радио «Культура» о писательнице Тэффи: «Революцию октября 1917 года не приняла, эмигрировала в Париж».
О миллионах моих современников можно было бы сказать так: «Революцию 1991—1993 гг. не приняли. Эмигрировали на тот свет».
Из дневниковых записей Валентина Сорокина, январь 1991-го
Подумать и то страшно: в такой большой и разнородной стране отдать радио, экран, прессу в сионистские руки!.. Когда московские проститутки и гомики творят «чудеса» на сцене, в нациях, не потерявших уважение к нравственности, происходят взрывы гнева. Распад СССР неминуем.
*
Телевидение, его комментаторы и весь израильский клан овладели ситуацией в стране полностью. Законы — ничто. Указы — ничто. Рабочий класс — ничто. Армия — ничто. Мыши почти свалили славного слона в канаву.
Серым грызунам помогает Горбачёв — своей продажностью, а Лукьянов — своей тупой хитростью. И оба они смертельно боятся Буша, как строгого кота боятся мерзкие юркие существа, шмыгающие за щелями.
*
Б. Н. Ельцин не занят русскими беженцами, не занят Россией. Как и Горбачев, он занят собственным убогим величием и планетой, минуя наши поля, наши дома, наши осиротелые кладбища.
Это — негодяи! Тип этих людей — тип революционных бухариных: я — мир, я — эпоха, я — мессия!.. Ублюдки марксизма.
***
Много я прочитала книг и много я передумала о своей жизни, и о жизни тех, кого знаю. А поняла мало. Простой вопрос: зачем живет человек, но заслонить его не могут ни мировые катастрофы, ни ежедневная суета выживания, ни беда, ни счастье.
Всегда, с детства, уживаются во мне два мира — один явный, видимый, обыденный, другой — тайный, волшебный, сокрытый. И я думаю, что людям, в большинстве своем, не нужна правда первого мира — она им и так известна. Но вот передать красоту второго — задача почти непосильная. Иногда мне кажется: я умру — скоро или не скоро — тело мое растворится в земле, и могильный крест поглотит вечность, и совсем, совсем ничего от меня не останется, и внешняя жизнь изменится в соответствии с предсказаниями фантастов, а серебряный ветер все будет лететь в бескрайнем небе, и другая, еще не рождённая девочка, навсегда очаруется невысокими зелеными холмами и шатровым, купольным небом, по которому плывут бесконечные облака… Странное чувство — грустной свободы — испытываю я сейчас. Я знаю, что я пришла в мир восхищаться и любить. Да, любить и восхищаться. И говорить об этом много не надо. Но человек — река. Течет ли он, закованный в бетонную трубу, под землей, или мчится ледяным горным потоком, или струится деревенским ручьем у последней избы, везде у него свой пейзаж, свои окрестности. Природа молчалива. На родине моей плохо растут леса: сосны, насаженные человеком, вытягивают кривенькие, несильные стволы. Кто возьмется воспевать некрасивые деревья?! А ведь они ни в чем не виноваты… И люди тоже во многом не виноваты. Я росла, взрослела, ошибалась и меня всегда мучила немота — не моя даже, а тех, кто страдал и умирал рядом. Две даты — и прочерк на могильном камне. И всё! Серебристый ветер разбрасывает серебристые листья по округе. От серебристого тополя, что у моего дома растет. И куда бы я не поехала — дальний, близкий мне путь — нет-нет, да и увижу или подниму серебряный лист.
Но сейчас я дома, и сердцу моему легко, печально. Родители постарели, но держатся. Газета «За изобилие» придет завтра, а предыдущий номер, увы, ушел на неотложные нужды… В ажурной тени старой яблони сидим, отдыхаючи, трое — мама, папа и я. Новости, местные, перебрали. Переходим к темам политическим.
— Что ж, — спрашивает папа, — астрологи в Москве предсказывают: будет реформа денег или нет?
Я честно пожимаю плечами: не знаю.
— А София Ротару, она вроде слепая?
— С чего бы? — изумляюсь я.
— Передавали по телевизору, что она в канаву упала…
— Ельцин тоже с моста падал, — трезво замечает мама, — не слепой же…
Родители идут в дом. Я мешкаю: мне хочется несколько минут побыть одной. Я вернулась в простую, объяснимую жизнь, в ней нет никакой многомыслицы, но сколько значения! Это ведь родная мне жизнь, почему же невозможно в ней раствориться?! Тополь качает серебряной головой; легкий ветер перебирает седые листья. Я люблю мир, но в эти минуты мир со всей его необъятной красотой кажется мне намного хуже моего чувства. Мир подчиняется мне: знаю, настанет ночь, и я буду командовать звездами без всякой гордыни. Мне и сейчас, взрослой уже, снятся полетные сны. Душе трудно расти — много было потерь и ошибок. Но как вечная Жар-птица, она всё рвется в небо, заманивает в чужие, тридевятые земли, нехоженые и опасные. Что будет? Судьбы не угадать.
И вот я уже иду по Москве, нынешней, знаменитой, чопорной, и она, банковская, чужая, бизнесовая Москва-столица, кажется мне по колено. Я иду по Гоголевскому бульвару. Иду, твержу. Иду, пою. Иду, зову:
Просиял закат небесным пылом,
Ночь темна, а впереди светло.
Я свободен от всего, что было:
Удивляло, мучило, вело.
Где-то ветром новый флаг полощет,
Предвещая бурю кораблю…
Ну а я люблю, как в белой роще
Белую снежину я ловлю.
Медленно скользит она и вьется
И, не замечая никого,
Жжением томительным коснется
Вздрогнувшего сердца моего.
Белая снежина, я ль не с нею
Прохожу по вихрям стрежневым, —
Только эта капля не тускнеет,
Посланная зорями живым.
Не огни мелькают — годы, годы,
Если за туманами весны
Кроме снов мучительных природы
Есть еще божественные сны…
***
Но как красивы стихи Валентина Сорокина! Поэтический мир его населен журавлями, орлами, оленями, медведями; буйные реки, балуясь, сбегают с каменистых гор; белая снежина медленно скользит и вьется у самого сердца; прячутся в молодой зелени молодые соловьи, притаились в лесу иволги и кукушки, засмотрелись лебеди в зеркальную гладь озера — какой красивый и какой освоенный мир! Мир природы. Лесники и пчеловоды Сорокины на Урале. И поэт Сорокин — лесник: каждый зверь в его лесу ухожен, обласкан; каждое дерево заботливо обережено, каждая птица внимательно выслушана — даже самая бестолковая… Нет без природы поэзии. А мы живем в окружении бетонных коробок на сером асфальте, ложимся спать под вой самолетов, просыпаемся в ночи от унылых звуков автосигнализации… Мы еще затоскуем по лесной многозначной тишине; мы еще заскучаем по елкам и березам; по чистому воздуху, ключевой воде… В рассказе «Дедушка мой» поэт напишет: «А часто мы слышим иволгу? Помню, дедушка говорил мне: „У, серых-то птиц не сосчитать!.. А иволга — зеленая. Вот как её природа любит!..“ А медведь в зоопарке, как мы в городе, скучный. Одиноко ему. Да, в Москве не только зелёную, и серую-то иволгу не увидишь».
Да, мы еще затоскуем по иволгам, может, не очень-то и понимая истока своей тоски… Если, конечно, останутся люди, способные на какие-то другие чувства, кроме телерекламных улыбок, ужимок и вскриков. Говорят, что демократы и олигархи, вроде Чубайса, Немцова, Новодворской, Гайдара, Хакамады, Явлинского, Борового, когда собираются вместе, поют песни Булата Окуджавы, и в частности: «Возьмемся за руки друзья, Чтоб не пропасть поодиночке…»
Какой тонкий, изощренный поэтический вкус! Как точно он соответствует вороватым глазкам Чубайса, маслянисто-нахальному личику Немцова и пластмассовой грации Хакамады! В самом деле, было бы странно, если бы передовой отряд реформаторов затянул «Среди долины ровныя…» (из Алексея Мерзлякова) или «Нелюдимо наше море…» (из Николая Языкова). А Явлинский, без обычного своего кислого прищура вдруг прочел, например, из Луговского:
Звезда, звезда, холодная звезда,
К сосновым иглам ты все ниже никнешь.
Ты на заре исчезнешь без следа
И на заре из пустоты возникнешь…
Странная получается картина: Андрей Вознесенский со своею «волшбой» совершенно вываливается из ряда Сергей Есенин — Борис Корнилов — Дмитрий Кедрин; а Владимир Луговской, ныне полузабытый поэт, не обладающий ни властью энергочубайства, ни телепронырливостью Немцова, никак не разрешает прикоснуться к своим стихам духовным инвалидам из стана олигархии и спекулятивной демократии.
А что есть духовное убожество? На государственном уровне мы видим сегодня демонстрацию «низменно-материального» во всех вариациях. И главный показатель сего — отсутствие смысла существования Российской Федерации. Этот смысл не ощущаем ни в обществе, ни в народе. Помнится, Борис Николаич дал «творческой интеллигенции» задание найти «смысл» — национальную идею. (В интеллигенцию вошли Кобзон и Хазанов.) Задание, конечно, ханжеское. Таким же ханжеством была «мировая революция», «партия — ум, честь и совесть» и т. п. Но сама тоска по идее у Николаича — показательна. Ведь смысла в существовании РФ, ни при Николаиче, ни ныне, при Владимирыче, как не было, так и нет. Набить карманы деньгами — не смысл. Борьба за медиа империи — не смысл. Угождение Западу — «друг Билл», «друг Буш», «друг Шрёдер» — не смысл. Диктовка МВФ — не смысл. Вхождение в «западную цивилизацию» — не смысл…
Пришли, пришли в Россию править люди, которые, к годам своим немалым — «управленческим» — не нажили главного: понимания того, что есть вера, любовь, свобода, совесть, семья, родина, народ, правосознание, государство и даже — частная собственность. Им, как говорится, не дано. У них нет образования — образ мира не складывается в их сознании. И иные, более мелкие образы, тоже. Эрудиция есть — «западный опыт», а чувственного осмысления глобальных понятий — нет.
Образ — это чувство. Существует, как известно, умственная отсталость. Большая беда для человека, для его родственников такой диагноз. Но как быть с эмоционально-чувственной отсталостью? Для общества, государства, для всей земной цивилизации, эти «нормальные» люди — глубочайшее несчастье. Им неподъемно прошлое, его образ. Они не исходят из его потребностей. Всё святое для них имеет продажную цену. Имена — Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Георгий Жуков — ничего не говорят их сердцу. Да и если ли сердце у людей бессовестных и бессердечных? Все их решения — результат интеллектуальных заимствований, или внешнего влияния, или собственное «техническое творчество». Так живому дереву обрубают ветки и привязывают к стволу искусственные, муляжные плоды — красиво же! Но муляжи, хоть и радуют глаз «садовника», не съедобны, не дадут семени. Воистину, что посеешь, то и пожнешь…
Люди без образования, без образа прошлого, не обладающие воображением, чувством времени, прогноза, не могут создать и жизнеспособный образ будущего. Они пятятся задом к пропасти, пытаясь заставить и всех нас думать «этим местом». Могут ли они, допустим, воспринять такие строки:
Мы забываем, восходя на кручи,
Вбегая в корабли и в поезда,
Зовет нас то,
что человека мучит, —
Свет памяти и совести звезда.
Они горят в сознанье обоюдно,
Под каждой доброй крышею в чести.
Зовет нас то,
что потерять нетрудно,
Но невозможно снова обрести!
Лесники и пчеловоды Сорокины на Урале. Мосали. Чистюли. Совестливые и правдивые, нежные и честные. Да и они ли одни? А род Самохиных? А Назаровы? А мои истоки — род отцовский и род материнский? А тысячи и тысячи — те, что полегли под Сталинградом и на Огненной дуге, те, что до сих пор не похоронены в смоленских лесах и под Волховом — и такому народу убогих правителей в руководство?! Что же нам остается? Слово — воздух. Но и оно отнято. И снова, в который уж раз «совесть нации», Окуджава, гнусавит по радио:
Возьмемся за руки друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке…
Они-то не пропадут. Прав был, прав, тот безработный из Мурманска с которым мы вместе ехали в поезде. Жалею — слушала я его тогда невнимательно…
***
«Известия», 5 октября 1993 года.
ПИСАТЕЛИ ТРЕБУЮТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
«Известия» получили текст обращения к согражданам большой группы известных литераторов.
Нет ни желания, ни необходимости подробно комментировать то, что случилось в Москве 3 октября. Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечности и глупости, — фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава Богу, армия и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну, ну а если бы вдруг?.. Нам некого было бы винить, кроме самих себя. Мы «жалостливо» умоляли после августовского путча не «мстить», не «наказывать», не «запрещать», не «закрывать», не «заниматься поисками ведьм». Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми. Добрыми… К кому? К убийцам? Терпимыми… К кому? К фашизму?
И «ведьмы», а вернее — красно-коричневые оборотни, наглея от безнаказанности, оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками, грязно оскорбляя народ, государство, его законных руководителей, сладострастно объясняя, как именно они будут всех нас вешать… Что тут говорить?.. Хватит говорить… Пора научиться действовать… Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?
Мы не призываем ни к мести, ни к жестокости, хотя скорбь о новых невинных жертвах и гнев к хладнокровным их палачам переполняют наши (как, наверно, и ваши) сердца. Но… хватит! Мы не можем позволить, чтобы судьба народа, судьба демократии и дальше зависела от воли и кучки идеологических пройдох и политических авантюристов.
Мы должны на этот раз жестоко потребовать от правительства и президента то, что они должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали:
1. Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены указом президента.
2. Все незаконные, а тем более вооруженные объединения и группы должны быть выявлены и разогнаны (с привлечением к уголовной ответственности, когда к этому обязывает закон).
3. Законодательство, предусматривающее жестокие санкции за пропаганду фашизма, шовинизма, расовой ненависти, за призывы к насилию и жестокости, должно наконец заработать. Прокуроры, следователи и судьи, покровительствующие такого рода общественно опасным преступлениям, должны незамедлительно отстраняться от работы.
4. Органы печати, изо дня в день возбуждающие ненависть, призывающие к насилию и являющиеся, на наш взгляд, одним из главных организаторов и виновников прошедшей трагедии (и потенциальными виновниками множества будущих), такие, как «День», «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия» (а также телепрограмма «600 секунд»), и ряд других должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты.
5. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти России, должна быть приостановлена.
6. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют «судом над ГКЧП».
7. Признать нелегитимным не только съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все образованные ими органы (в том числе и Конституционный Суд).
История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, как это было уже не однажды!
Алесь Адамович, Анатолий Ананьев, Артем Афиногенов, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий Балаян, Татьяна Бек, Александр Борщаговский, Василь Быков, Борис Васильев, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Давыдов, Даниил Данин, Андрей Дементьев, Михаил Дудин, Александр Иванов, Эдмунд Иодковский, Римма Казакова, Сергей Каледин, Юрий Карякин, Яков Костюковский, Татьяна Кузовлева, Александр Кушнер, Юрий Левитанский, академик Д. С. Лихачев, Юрий Нагибин, Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, Валентин Оскоцкий, Григорий Поженян, Анатолий Приставкин, Лев Разгон, Александр Рекемчук, Роберт Рождественский, Владимир Савельев, Василий Селюнин, Юрий Черниченко, Андрей Чернов, Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки, Виктор Астафьев.
…В этом чудовищном документе — «красно-коричневые оборотни», «тупые негодяи», «наша юная, но достаточно окрепшая демократия» — больше всего поражают все-таки подписи. Особенно — женские имена: жеманная Ахмадулина, дисциплинированная Римма Казакова, Татьяна Бек, якобы поэтесса, еще одна Татьяна — бедный Пушкин! — Кузовлева, Мариэтта Чудакова — чудаковатая, везде ей чудились погромы… Из мужчин: Анатолий Приставкин ныне председатель Комиссии по помилованию при президенте РФ. Милует чикатил, жалеет, лет слёзы, тут же пишет книги — ужасная страна Россия, в ней столько убийц! Александр Рекемчук учит студентов Литинститута мастерству. Судя по его ученикам, в содеянном не раскаивается. И Окуджава… Лирик же. Глядя на список подписантов, невольно вспоминаются слова из окуджавской песни, так любимой демэлитой. И смысл её видится намного яснее и четче. К сожалению.
Поднявший меч на наш союз
Достоин будет лучшей кары.
И я за жизнь его тогда
Не дам и ломаной гитары…
***
Из дневниковых записей Валентина Сорокина, ноябрь 1993-го.
Несколько недель я не мог взяться за свой дневник — душа изнывала от боли: я ведь трижды приходил 4го октября на пл. Восстания, откуда видно, как расстреливали из орудий окруженный Дом Советов…
Мы с Вл. Фомичевым дважды, в 11 часов и в 14 часов из Литературного института добирались через ул. Качалова туда.
Свистели над нами пули. Но я не военный человек — не понял: то ли бьют с крыши радиостанции, то ли бьют по радиостанции снайперы.
Когда мы двигались второй раз, впереди нас поднялся крик, начали падать на тротуаре люди. Мы повернули с Качалова на ЦДЛ, дворами, и опять: на пл. Восстания кипит народ. Кто — молится, кто — плачет, кто — проклинает подлецов, пославших части нескольких дивизий штурмовать беззащитных.
Минуты, считанные минуты я терпел эти пули, эти бабаханья, эти тупые стальные удары армии по мраморному безвинному Дому.
В окна Дома Советов пучками, пучками, снопиками, снопиками, струями огненными влетала смерть, грозно сверкнув у самого стекла.
Расстрел живых, миллионам знакомых людей, совершался ясным осенним днем, весь день, весь день, с утра и до вечера. Моё состояние было ужасное: словно я каждый выстрел принимал в сердце. Стыд. Горечь. Беда. Трагедия. Катастрофа. Расстреливали Россию, Родину русскую!.. (…)
В 6 часов третьего октября я быстро позавтракал и уехал в Константиново на есенинский праздник. До второго октября я категорически отказывался ехать, но второго вечером Прокушев уговорил меня поехать.
Прокушев, Можаев, Кочетков, Парпара, Осипов Вален., Паркаев, брат Хазбулатова Амлихан и еще поэт из Молдавии — тронулись на Рязань в 7 часов.
Мне в Константиново говорить было нелегко. Душила боль. День золотился и сиял. А я чувствовал беду, русскую и огромную, о чем и говорил со сцены, разочаровывая местное демократическое руководство. Ельцинисты обиделись — не простились со мной, не подали руки. (…)
Пятого, во вторник, я с Эдуардом Хлысталовым, куда нас допустили, обошел разрушенный Дом Советов. Дом Советов еще дымился. Верхние этажи, шесть этажей, попыхивали черными клубами. Вокруг — рвы, плиты, лужи крови. Со стороны главного подъезда, спустившись по ступеням к Москве-реке, мы увидели три трупа. Молодые мужчины. (…)
На экране телевизора постоянно мелькают вслед за физиономией Ельцина предательские лица Грачёва и Ерина. Тройка — преступники устрашают народ, Россию устрашают, и пойдут, готовы теперь в любой день, снова развернуть бэтээры у любого дома на Руси. Тройке любая кровь теперь — не помеха… (…) Мне кажется, мы потеряли Россию…
***
Какого поэта Бог послал русским! Какого красивого, страдающего человека! Если бы Валентин Сорокин был космическим пришельцем, непобедимым и неуязвимым в земных сражениях, то сила его поступка и слова все равно бы вызывала восхищение и уважение. Но ведь Сорокин — наш, земной, живой, русский, страдающий, чувствующий всё гораздо острее и больнее, чем человек обычный.
Быть поэтом — это значит тоже,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.
Но каким «националистом» был Есенин! А Пушкин — «иной истории не желаю»?! А Лермонтов: «Москва, Москва, люблю тебя как сын…»? А Блок с его хрестоматийной «Россией»? А громадина Маяковский?! А Павел Васильев — Лермонтов ХХ века — уж он не только «националист», но и «антисемит»! Но быть ныне русским и не быть «антисемитом» — возможно ли это? А всё же родина — дороже ярлыков, которые клеит «толерантная общественность».
Самые непознаваемые понятия — самые простые. Мать, отец, семья, родина, звезды, природа. Их простота и непознаваемость требуют от нас постоянного к ним возвращения, упрочения. Вероятно, мир стоит на очень простых основах, и поколения, которые жили сто, тысячу, две тысячи лет назад, были, конечно, намного ближе к истине, чем мы. Истина рождается вместе с человеком. Суть любой жизни — не потерять эту истину, удержать её. Но обретение истины взрослым, зрелым человеком происходит уже на ином, рассудочно-интуитивном уровне, в отличие от первоначального — чувственно-любящего, принимающего мир, действительность. Познание — один из ярчайших видов счастья.
Никто не знает, почему родина дает безотчетное ощущение силы. Эта сила есть и в Валентине Сорокине. В основе творчества любого писателя не только знание материала, темы, но и — состояние. И главное — состояние удивление перед миром, постоянное ежедневное разгадывание тайны; и это состояние «накрывает» мир; вещи, предметы, живет во всем, и потому описываемое — живое. Это состояние неведомым образом связано с родиной. Родина — родит всё.
В поздний час я молчалив и светел,
Звездных дум никто не запретит.
По равнине белой белый ветер,
Белый ветер стонет и летит.
В поздний час мне пришли на ум эти строки, и я даже вздрогнула. Вот именно, одинок, «молчалив и светел»! И никто, ни один человек не отвлечет, не запретит «звездных дум». И главное — ветер, белый, белый, по белой равнине — балуясь написано, а в каком состоянии! Но почему же стонет этот ветер? И так ли уж счастлив человек в светлый час звездных дум?! Какая трагичная жизнь — жизнь без беды, жизнь даже в покое! А ветер у дома шумит. От него серебрится тополь у моего двора. Это моя родина — я у себя дома. А по равнине — ветер. Ветер — летит и стонет, стонет и летит… Серебряный, седой, искрящийся ветер…
***
С тринадцати лет, еще в школе-семилетке, он начал печататься в районной газете. А первая серьезная публикация была не в стихотворном, в прозаическом жанре — рассказ «Поэт»…
Дома жилось тяжело — голодно и бедно. Большая семья, больной отец, старшие сестры — на выданье, старики — бабушка и дедушка… Мама — он её очень любил, жалел — выбивалась из сил. «В пределах отчих я окончил 7 классов. Мать моя — Анна Ефимовна Сорокина и отец мой — Василий Александрович Сорокин — проводили меня за речку. Мать поплакала и перекрестила в путь. А отец отвернулся. Воин».
В четырнадцать лет он ушел из дома. Гонял сплав. В ледяной воде, с багром — мозоли не сходили с рук. Чуть подошли года — пошел в «ремесло», в челябинское фабрично-заводское училище №5 (теперь 32-е ГПТУ). Учился на оператора электрокрана. В этом же ФЗО получал профессию и тамбовский мальчишка Славка Богданов, попавший на Урал по вербовке. Дружили. Позже вместе работали — Сорокин в 1-м мартене Челябинского металлургического завода, Богданов — в коксохиме ЧМЗ…
Он вовсю печатался в челябинских газетах. Пополнял образование в вечерней школе и Горно-металлургическом техникуме. Общался со студентами пединститута, много читал (позже, когда он будет работать в мартене, у него, единственного из рабочих, будет два шкафчика — один для одежды, другой — для книг. Эту «черную» — от мартеновской гари и копоти — библиотеку Сорокин, уезжая в Москву на Высшие Литературные курсы, подарит товарищу). В 1953-м году, в Челябинске, он впервые увидит книжку Есенина. «Я знал его по некоторым стихам, по рассказам, и вдруг увидел его на обложке книги и… разлюбил». Есенин оказался франтом — белое кашне, шляпа, галстук… Но потрясение от внешности пройдет быстро, зато потрясение от стихов будет таким сильным, что он решит: больше писать не буду… Зачем, раз такой поэт уже есть?.. Молодой поэт, конечно, «переболеет» Есениным, но благодарность рязанскому гению в его сердце останется навсегда. «По его стихам я учился отношению к прошлому, к своей истории. Так появились у меня поэмы о Евпатии Коловрате, о Дмитрии Донском».
Любовь его к Есенину в то время будет столь сильной, что Сорокин, увидев тоненький сборничек есенинских стихов в читальном зале, откажется вернуть книгу библиотекарю. Разгорелся скандал. Замаячило исключение из комсомола… После обстоятельного разговора в обкоме ВЛКСМ дело замяли… Вообще же, будущего Лауреата Государственной премии имени Ленинского комсомола собирались исключать из этой орденоносной организации шесть или семь раз — «функционером», «паинькой» он не был никогда.
В 1954 году, в красном уголке большого прокатного цеха ЧМЗ, Валентин Сорокин впервые увидит поэтессу Людмилу Константиновну Татьяничеву. Она рассказывала собравшимся о книжных новинках тех лет, о поэзии. После читала свои стихи. Молодому рабочему очень хотелось подойти к Татьяничевой, признаться, что он тоже очень любит стихи, пытается писать сам, но что-то удержало его от этого шага.
Уже брезжили «оттепельные годы», и бурные волны литературного моря заволновались, загуляли от берега до берега, из Москвы долетали строфы «трибунов», в чем-то неестественные, часто помпезные, и почти всегда с какой-то особенной нервозностью, такой, что будоражила молодое воображение, но и не разрешала полностью принять и слово, и чувство, высказанное в стихотворении.
Границы мне мешают…
Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса,
Нью-Йорка,
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
со всеми говорить —
пускай на ломаном.
Это — 1955 год, стихи Евгения Евтушенко. А каким был в то время Валентин Сорокин? Писатель Николай Воронов, уралец, вспоминает:
— Я жил в Магнитогорске, а Валентин Сорокин в Челябинске. Меня назначили редактором альманаха «Южный Урал», который никто не читал и не покупал. Я принял альманах, изменил название — альманах стал именоваться «Уральской новью» и приехал в Челябинск, чтобы найти авторов. Мне дали папку с рукописями, я читаю стихи и вдруг вижу: большой талант! Редкий талант. Спрашиваю у руководителя писательской организации: что это за парень, Валентин Сорокин? А это, говорит, человек, который работает на мартене. Сегодня как раз у него ночная смена, он носит сталь, чугун в огненных ковшах на своем кране. А работа эта страшная была, страшная… Я говорю: можно ли его повидать? Руководитель писательской организации звонит начальнику цеха и говорит: пусть Валентин Сорокин придет после работы.
И вот входит молодой человек. Лицо у него, как у всех металлургов, людей, имеющих дело с огнем, цвета перекаленной меди — с нездоровой краснотой. Ведь помимо того, что эта была опасная работа — он в любой момент мог погибнуть, в любой момент, эта работа еще и очень вредная для здоровья. И я вижу, как у него в бровях блестят порошинки графита…
Опасная работа на вредном производстве для человека с обостренным чувственным восприятием мира должна была либо сломать его, либо закалить, выковав в нём бесстрашие героя.
…Примерно в это же время в руки Валентина Сорокина попала небольшая книжечка стихов Василия Фёдорова. Первое чувство: удивление: новое, незнакомое имя, а сколько родного, близкого и дорогого в стихах!
Скрипят натруженные снасти,
В корму волна сердито бьет…
Купец Никитин Афанасий
Из дальней Индии плывет.
Плывет Афанасий Никитин домой, возвращается. И молодой поэт, Валентин Сорокин, сквозь лязг могучих кранов, гул раскаленных печей мартена возвращается к себе. Хорошо, что есть Есенин — там, вдали. (В 1961-м году, в стихотворении «До́ма», поэт признается: «Опять в квартире тихой, До третьих петухов Склоняюсь я над книгой Есенинских стихов». ) Но еще лучше, когда в современнике, ныне живущим, ты почувствуешь то, чем и сам маешься, что долго не решаешься высказать, а высказывая, почти плачешь… Это — материнский язык наш. А еще — чувство. Которому и название трудно подобрать: что-то святое, доброе, сильное, неодолимое!..
Книги Василия Федорова в конце 50-х — начале 60-х выходили редко и маленькими тиражами. Сорокин выменивал их у тех, кто копил на полках популярные сборники «оттепельных» поэтов. Он удивлялся: почему Василия Федорова нет на радио и телевидении, почему о поэте молчит литературная критика, почему его поэмы не печатают тиражные газеты… Много позже, в книге «Благодарение» Валентин Васильевич напишет: «Немного у каждого из нас, пишущих, есть любимых учителей, кто когда-то подал нам руку. У меня таким учителем был Василий Федоров. Я с благодарной радостью говорю об этом. Ведь уважать идущего впереди — ясная и благодарная радость!»
Десять лет Валентин Сорокин — с 1953 по 1963 год — проработает в 1-м мартене. Десять очень тяжелых, опасных, мучительных, счастливых — есть молодость и много сил! — лет. В 1954-м, тоскуя, напишет:
Деревенский, вдумчивый и скромный,
Я в душе нетронутой принес
Площадям и улицам гудронным
Запахи малины и берез.
В резвую гармонику влюбленный,
Я не раз украдкой тосковал
Во дворцах, где люстры и колонны,
Где звенел оркестром карнавал.
И ничьей рукой не избалован,
Видел я за сталью и огнем —
Мой подсолнух
золотоголовый
Наклонился дома над плетнем…
Ему было 18 лет. С тех пор прошла целая эпоха! Но стихи всё так же удивляют «прочностью» слова, красотой выражения и чувства.
Городское благополучие с дворцами, люстрами и колоннами, заработанное тяжким трудом («ничьей рукой не избалован»), не заслонило первые впечатления детства — запахи малины и берез. Потому резвая гармоника милей оркестра на шумном карнавале. А образ родины не есть ли образ самого поэта?! «Мой подсолнух золотоголовый Наклонился дома над плетнем…».
Деревенский юноша владеет сокровищем, которое с лихвой перекрывает все богатства городского общежития с люстрами и дворцами. Душа человеческая («Я в душе нетронутой принес») — главная драгоценность мира. Город встретил поэта «сталью и огнём», а ведь он принёс сюда самое дорогое, что у него было — образ родины, связанный, сплетённый («над плетнём») с образом матери («запахи малины» — сада и огорода), и отца («резвая гармоника»)!.. Молодой поэт уже знает о себе, что его творчество всегда будет питаться соками родной земли, знает, что дар его — «мой подсолнух золотоголовый» — чудесный, бесценный, с иконным нимбом, расцветёт ярко и зримо, и что его «земной поклон» всегда будет в сторону дома, родины.
Стихотворение — как выдох, оно написано без какого-либо видимого усилия. Но в нём нет элегического начала, лишь горькое удивление юноши — оказывается, вся жизнь — тяжкое испытание, но как трудно принять крестное страдание нетронутой душе!
Гармоничному деревенскому миру противостоит город с колоннами и площадями (вечным Римом и библейским Вавилоном веет от этих слов). Гудронные улицы — примета советской тяжелой индустрии, построенной за счет крестьянского «ресурса». И в этот жесткий асфальтовый мир входит молодой поэт. Входит, грустя: уцелеть ему здесь будет непросто.
Но стихи — не о столкновении деревни и города. Поэты-ровесники скажут об этом позже. Анатолий Передреев, «Околица», 1964:
Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.
Николай Рубцов, «Грани», 1966:
Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдет на слом!
Меня все терзают грани
Меж городом и селом…
Валентин Сорокин пишет о другом. О человеке, в ком, перефразируя Передреева, и город получился, и село не утрачено. Мотив душевной неустроенности, неприкаянности («Но хочется как-то сразу Жить в городе и в селе», — Н. Рубцов; «Зачем ты понастроила жилища, Которые ни избы, ни дома?!» — А. Передреев) здесь выражен не в бытовом, а в эстетическом чувстве («Я не раз украдкой тосковал Во дворцах, где люстры и колонны…»). Поэт тоскует о нарушенной гармонии божьего мироустройства: городской человек с его «карнавалами» ввязался в глобальную «перестройку» с непредсказуемым результатом…
«Деревенского и скромного» судьба наградила бесценным даром, «вдумчивый», он сумел осознать талант — певца высшей красоты. Город обещает призрачные блага цивилизации («дворцы»), он же несёт и главную опасность — в шуме и суете карнавала легко потерять себя, своё лицо.
«Я последний поэт деревни», — говорил Сергей Есенин. Поэтом «раскулаченной деревни» стал Твардовский, поэтом деревни сожженной — Исаковский («Враги сожгли родную хату…»), и вот уже сельские переселенцы застряли на «окраинах» (А. Передреев). Железная рука прогресса вела людей в другую, чуждую им среду. Очень немногие могли осмыслить, объять её законы.
В стихотворном решении темы вынужденного вхождения в город, выживания в нём и сохранения себя, мы видим черты библейского мировоззрения, присущие Валентину Сорокину органически и укорененные самим укладом крестьянской жизни. (Мать поэта была верующей.) Тема ностальгии не доминирует в стихах; у лирического героя есть готовность если не завоевать, то «возглавить» город, увенчать его собою. Деревня — Мать-родина, но есть ещё и Отец, повелитель жизни гармонии. В этих координатах родства большинство почвеннических поэтов послевоенного поколения — сироты. У них есть Мать, но нет Отца; для многих поэтов традиция была прервана не только в духовном смысле (воспитание в государственном советском безбожии), но и в физическом (отцы погибли на фронте, ушли из семей). Что же оставалось сиротской душе?! Тихая лирика, музыка русской скорби. Убивая эпическое начало в творчестве, духовная безотцовщина взамен рождает фантомы вроде «Я пил из черепа отца…». (Название известного и весьма невнятного произведения Юрия Кузнецова.)
В стихотворении «Деревенский, вдумчивый и скромный…» начинающий поэт обещает вырасти в поэта большого. Его даровитость — очевидна, но многие ли таланты раскрываются в полную силу?! Нужно не только отдать своё сердце поэзии, но и обладать вдумчивостью (мудростью сберечь себя) и «почвой» — «плетнем», на который можно опереться в трудную минуту. Родина — волевое начало в становлении поэта. Безродинные стихотворцы — всегда релятивисты, сухие шары «перекати-поля», жертвы литературных мод и конъюнктур.
Очень простое, короткое (три строфы), стихотворение заключило в себе картину мира русского человека в середине ХХ века — с его бытом и переживаниями, материальными достижениями и настоящими ценностями, с тоской по совершенству и текущими обязанностями — семейными и государственными («сталь и огонь»).
В стихах есть внешняя предметность и конкретность (что вообще свойственно русской поэзии). Здесь всё ясно, нет никакого затемнения смыслов. Но в стихотворении есть тайна — тайна настоящей поэзии, не поддающаяся, честно говоря, никакому анализу. Её можно ощутить только любящим сердцем…
***
Но где же ты, родина, где? Как до тебя дойти-доехать, как не растратить тебя в сердце своем, тебя, такую большую, единственную и родную?!
Кто не был на Урале — не знает России… Не знает, что Россия подпоясана каменным поясом-оберегом; прочно он держит Европу и Азию, две наши таинственные, непознаваемые сущности. Уральские города — Златоуст, Касли, Миасс, Чебаркуль, Магнитогорск — даже имена их вызывают уважение. И — Челябинск. Город-завод. Куда ни пойди, ни поедь — везде завод. Металлургический район, Тракторозаводской, Курчатовский. Улицы: Горняков, Силикатная, Энергетиков, Трубников, Сталеваров, Машиностроителей, Стахановцев… Разве можно любить этот прокопченный рабочий город, в котором кое-где лежит черный снег и свисают с крыш зеленые сосульки?! Урал невозможно не любить. Урал любишь, как мужика-кормильца, честного труженика, не чурающегося тяжелой работы. И человека здесь ценят за дела. Есть дело — хорошо, нет — с тобой и разговаривать никто не станет. О чем говорить-то с пустым человеком?! А что значит: человек дельный? Это значит, по-уральски, человек со стрежнем внутри. А стержень, я думаю, такой: в мужчине — мужское, а в женщине — женское. Ну, какой мужчина не засмотрится на женское лицо, о котором так замечательно сказала уральская поэтесса Людмила Татьяничева (есть, есть в Челябинске среди рабочих улиц и улица ее имени):
У русских женщин есть такие лица:
К ним надо приглядеться не спеша,
Чтоб в их чертах могла тебе открыться
Красивая и гордая душа.
Такая в них естественность, свобода,
Так строг и ясен росчерк их бровей…
Они, как наша русская природа, —
Чем дольше смотришь, тем еще милей.
Засмотрится и вспомнит — сестру, любимую женщину, маму… Велика, все ещё велика наша грустная Россия. Но нет Ивашлы на Южном Урале, нет Успенки и Павленки, и многих, многих русских деревень, в какую строну от Москвы не двинешься. Погост и пустые дома. Кладбище и кресты потемнелые. Могилы. Вымерло всё. Зато дороги — замечательные. И по тем дорогам везут всё, что можно еще вывезти от нас. А что ввезут? Ядерные отходы, клетчатые сумки с китайским ширпотребом, потом самих китайцев — да им что, их и везти не надо: только ослабни, сами поползут, побегут, поедут; сметая на своем пути кузнечиков и стрекоз — четкие, устремленные, деловитые…
Значит, вот как получается: для созидательной власти нужно право, а для разорительной? Неужто лишь отверженность — от земли родной, от человеческой сущности, от природных основ?!
…Тот не знает России, кто не видел ее погибающих деревень, ее остывающих заводов, её мальчишек, воюющих в Чечне. Еду в поезде из Москвы в Челябинск. В купе — молоденький военный. Звание не по возрасту — майор. «С войны звездочка?» «Да. С первой чеченской». Военный прокурор, он вместе с медэкспертом устанавливал «личности погибших». Пятьсот человек. Потому у молоденького майора старческая тоска в глазах: «Я такое видел…» И он машет рукой, отворачивается.
А другая моя попутчица, немолодая уже, рассказывала: «Муж у меня завод любил — больше семьи. Четыре ордена у него за ударный труд, за изобретения. И когда пошла вся эта катавасия, когда завод стал, а потом за гроши был продан иностранцам, он не перенес этого. Умер. Десятилетия завод строился, на нашей крови поднимался, и все отняли. Чубайс от нас не вылезал, когда шла приватизация. Его у нас все, весь город ненавидит. Встреться он мне, я бы его задушила собственными руками. Понимаете?»
И вот меня понесло на завод. Нет, не на тот, где работал муж моей попутчицы. Их много, таких заводов. Я приехала на металлургический комбинат. Тот самый, вокруг которого вырос целый городской район. Гигантское предприятие — тридцать две тысячи человек работало на нем до перестройки. Это завод, где молоденький поэт Валентин Сорокин работал в мартене:
…Я прошел через его науки,
Молодость доверивши ему,
И мои отмашистые руки
Не уступят в силе никому!
Беседа моя с председателем совета директоров Владимиром Прокудиным длилась трудными вопросами:
— Сильно упало производство?
— Наша основная продукция — прокат. Объем произведенного в прошлом году к максимально достигнутому на комбинате составляет 40%.
— И что дальше?
— Это вопрос философский. Потребление металлопроката с пиковых времен (1989—1990 гг.) снизилось в России больше, чем в четыре раза. Наш комбинат — флагман по производству высококачественных легированных сталей. Примерно 12 предприятий в России производят такую сталь. Половина из общего объема приходится на ЧМК… В прошлом году мы наконец-то сработали не в убыток. Деньги появились. На празднования, посвященные 55-летию Победы выделили 7 миллионов 200 тысяч рублей. У нас ведь среди бывших работников комбината 6200 ветеранов труда и участников войны. Каждому — материальная помощь, подарок…
— А комбинат ушел…
— Да, на свободном рынке иностранцы купили акции. У них контрольный пакет. Я думаю, что они довольны…
Пауза.
— Но как же так?
— Многое зависит от того, как настроено население. Когда в 1991 году начали всё ломать, я был тогда заместителем генерального директора по производству. На площади собрался митинг, и толпа кричала: долой всё, даешь свободу, долой социализм, будем жить как буржуи. Я попытался влезть на этот «броневичок» и сказать: ребята, так не бывает! Но меня за штаны оттуда стащили! Эйфория! Свобода.
Дальше. Мы акционировалось, и государство нам оставило 56% акций. Капиталисты купили контрольный пакет. А мы ведь просили через СМИ: ребята, ну не отдавайте иностранцам, отдайте нашим, в доверительное управление, тем, которых вы знаете, которые здесь выросли. И пусть они от вашего имени порулят заводом. Нет, ничего не вышло. Так теперь мы же и виноваты — плохо просили.
— У меня к вам просьба — я хочу побывать в первом мартене, где работал крановщиком поэт Валентин Сорокин.
— Ничем не могу вам помочь — мартен стоит. Еще с перестройки…
…Я уходила с комбината подавленной. Ивашлы нет — кресты. Да и в Башкирии, в Зилаире, «истаяла русская речь». Комбината — нет. То есть он есть, но он — не наш. Канадский, кажется. А что у нас есть? «Цинковое» кладбище, густо усеянное крестами тех, кто поднимал здешние предприятия, трудился на вредных производствах. Мы должны, наконец, понять: почему рухнула Российская империя в 1917-м, почему так легко развалился СССР? Это самые главные вопросы сегодня. Без ответов на них ни у русского народа, ни у русской литературы нет будущего.
Из дневниковых записей Валентина Сорокина, 1983—1986 гг.
Нельзя, невозможно не любить Россию, ну, скажите, как её не беречь, как её не славить — мать нашу, мудрость нашу, совесть нашу?
*
Смерть Василия Дмитриевича Федорова обострила меня. Я стал печальнее и беспощадней.
После Василия Дмитриевича мне преклоненно уважать некого.
*
Был на Урале. В Елеке видел храм М. И. Казакова. В храме лежали овцы и свиньи.
*
Азиатские наши торгаши забили гостиницы и ларьки на Урале.
*
Нас, В. Цыбина, С. Куняева, В. Сидорова, В. Машковцева, Г. Серебрякова и других, что-то понимающих в русской катастрофе, не пустят к славе и влиянию.
*
Будет мой народ — я пригожусь. Не будет — о чем жалеть мне? Чего хотеть?
*
Пока мы не восстановим русскую изначальную истину слова, мы ничего не сделаем великого.
*
Мы кричим о сбережении каждого вида растения и животного, а сами делаем единого нового человека. Кто же мы?
*
Я все время возвращаюсь к 16—17–18 годам своим. Был я тогда очень совестлив.
*
Так хочется правды слова! Лишь она — энергия народа и государства, всё другое — виды электричества, формы состояния атомов, частиц и т.д., механика…
***
«Я последний поэт деревни», — горько признавался в 1921-м Есенин. Поэты, выходцы из деревни — конечно, потом были. Не стало деревни. Хотя Есенин не мог еще знать конкретных форм разрушения — коллективизации, «кукурузы», «перестройки». Но не это значит, что Есенин не понимал и не чувствовал глубинного тока национальной жизни, ее течения. И дело вовсе не в том, что поезд обогнал жеребенка. Русь таяла. С тех пор поезда где-то стали еще быстрее, еще мощнее. А из дома пишут (октябрь 1997-го): «По району в некоторых селах еще и не начинали убирать бурак. Вон где гибель! Дожди зашли, холода, грязь. Бог уродил, а убирать некому и нечем — все растянули. В колхозе пять лет не платят зарплату. Ну как быть?!»
Куда б меня судьба
Ни уносила,
Я ни вблизи не понял,
Ни вдали,
Какая воля
И какая сила
Нас убирает
Медленно с земли.
И век мой болен,
И народ мой болен
И сам я болен —
Ноша тяжела.
Как будто дума
Древних колоколен
Мне острым светом
Сердце обожгла.
О чем же должен говорить поэт? О чем соловей поет? О чем журавли жалеют? Любовь и родина. Родина и любовь. А все остальное тонет в коротеньком отрезке между рождением и смертью. Тонет, как дождь в океане, как песок в пустыне, как звезда в ясную ночь. Говорят, что не в этом дело. Что таланту все дозволено в искусстве: блуд и эгоизм. Эгоизм и блуд. Но талантом Бога не обманешь…
Мы, русские, спеленуты пустыней,
Нас всех зовет забвения огонь.
И только иней, сизый, сизый иней,
Тебе легко осыплется в ладонь…
Оглянемся на ХХ век — ужаснемся. Сколько смертей, потерь, несправедливости! Какое жуткое обмеление, убывание народного моря! Как растеряна былая мощь, сила, слава русских, как вяло, по капле, сочится родное слово! Какое страшное разъединение равнодушия развело нас. Забвения огонь — летаргически-смертельный сон, оцепенение. Как страшно: средства связи развиваются, а связи между людьми рвутся! Москвич убаюкан телевизором, рекламой, сытными, неведомо откуда взявшимися подачками. Хлеба и зрелищ! Деревенские замордованы нуждой, выживанием. Но есть ли в этой жуткой разобщенности предмет для поэзии?
Рим пал под ударами варваров. А в поэзии последних веков явно чувствовалось александрийское влияние. Сначала проигрывают поэты. Потом — полководцы. Полководцу для битвы нужен простор, ландшафт, поле. Поэту — проходимость, слышимость слова, простор.
Валентин Сорокин — поэт классической мощи, поэт времени силы русского народа. Поэт-полководец, поэт-государственник, поэт-победитель. Поэт вершин — Блока, Есенина, Маяковского, Павла Васильева. Он несет в себе последнюю, излетную силу нации. Он родился в 36-м, в год, когда Павел Васильев уже прощался с друзьями — «собирать тяжелые слезы страны». Собирать досталось другому — в 37-м Васильева расстреляли. И его преемник — Валентин Васильевич — мог выжить, а мог погибнуть — на сплаве, в мартене, в тисках КГБ, в житейской трясине.
Он пришел… Он пришел, чтобы сказать об ушедших, чтобы страдать об уходящих. Ему, к сожалению, единственному поэту из своего поколения (да и последующих) оказалось по плечу правда о русском убывании и разорении. О нашем общем тихом исходе. И говорит он об этом с еще классической, всеобъятной мощью, со страшной матросской честностью, с непобедимым художественным торжеством. Но по силам ли народу прокормить богатыря? По силам ли будет родить нового?
На закате солнце огромное, багровое, красное. Поэт спешит спасти всю Россию. Наивно? Уже не раздумчиво-горькое некрасовское «Кому на Руси жить хорошо», а стремительный поиск национальных опор: поэмы «Евпатий Коловрат», «Красный волгарь», «Дмитрий Донской», «Бессмертный маршал». И жажда охватить современную жизнь всю, всю, без остатка: от поэмы «Пролетарий» до «Огня», от «Оранжевого журавленка» до «Орбиты», от «Плывущего Марса» до «Обелисков». Рабочий, ученый, космонавт, атаман, государственный деятель, поэт; все стороны света, Москва и Урал, Волга и Колыма; прошлое и будущее, прозрения и предвидения; буйная, «непричесанная» соцреализмом лирика; беспощадная, непобедимая публицистичность; изумительное, фантастическое воображение; ирония и непокорность; и не заискивающие, а торжественно-возвышенные христианские мотивы. Откуда такой размах, сила? От уральских разломов, суровой, буранной жизни. Там, близ Зилаира, все еще есть дубравы. Могучие деревья иссечены морщинами. Прочные, неистребимые корни. Крона — на полмира. Это не комнатные растения — стихи вообще, которые можно в глиняном горшочке поставить на любой подоконник.
Россия — полмира. Во всяком случае, она такою была.
О земля, земля моя,
Цезарь и Аттила
Не заполнили края —
Духу не хватило!..
Плачу, голову клоня,
Счастья ль, Бога ль милость;
Ты под сердцем у меня
Нежно уместилась.
Сравним — у Евтушенко: «Большая ты, Россия, и в ширь, и в глубину. Как руки не раскину, тебя не обниму».
Так, может быть, в этом все дело? Большое сердце. Большое страдание. Большой талант. Большой, очень большой поэт!
***
Путь жизни его — явной, закрепленной в фактах биографии, словно не главное в нём. Валентин Сорокин классически прошел через испытания трех стихий — огонь, воду и медные трубы, и нигде не растерял себя. По рождению — деревенский. Тихим лириком не стал — не тот характер. Да ещё и задирался:
Не миром заняты,
А мириком,
Задёрнув шторками окно.
И ваша комнатная
Лирика
Осторчертела нам давно.
По закалке мартеновской — рабочий. Критик Александр Макаров писал о первой книге его стихов: «Книга эта — поэтический дневник человека периода строительства коммунизма, ворвавшегося в жизнь по-юношески резво, одаривая ее радостью своей души…» Но и продолжателем «рабочей темы» Сорокин не стал, хотя и написал, уже в зрелые свои годы, поэму с «говорящим» названием: «Пролетарий»… Не стал Валентин Сорокин и литературным генералом, хотя все условия у него для этого были: в тридцать с небольшим лет он становится главным редактором крупнейшего в стране литературного издательства — «Современник». Все эти испытания — то ледяной водой стремительных уральских рек, то смертельно-опасным огнем мартена, то медными трубами номенклатуры — только закалили его, сделали точнее, четче и беспощадней. Для чего? Для каких боев?
Из юношеских стихов:
Усталым воротясь домой с работы,
Омыв лицо над тазиком в углу,
Снимаю куртку, пахнущую потом,
Присаживаюсь медленно к столу.
Старушка-мать застиранный передник
Привязывает белою тесьмой:
«Ну что с тобою,
али, как намедни,
Ну так и есть — проклятое письмо!..
Мы раньше так же мучились грехами,
Бывало пасху с масленицы ждешь.
Ты и меня-то вымотал стихами
И сам на человека не похож.
Не спишь ночами, куришь, куришь, куришь,
А я украдкой плачу до зари,
В журнал пошлешь — показывают кукиш,
И что за люди, черт их подери!..»
В Челябинске он жил в барачной комнатке, доставшейся молодым сталеварам и крановщикам после амнистии заключенных. В комнатке стоял не вытравливаемый ничем — ни одеколоном, ни мылом — жуткий запах тюрьмы, страха, беды. Какое уж тут «резвое строительство коммунизма…» Разве, если только все это забыть, не замечать, не видеть?
И снова строки:
А дальше мать рассказывала с чувством,
Как на экране, бравы и лихи,
Читали представители искусства
О райской жизни райские стихи:
Что мы равны, что мы шагаем гордо,
Что мы несем в сердцах бессмертный жар,
И каждая упитанная морда
Поблескивала, словно самовар.
Боже мой, да не о нашем ли времени все это написано?! «Представители искусства» (см. список выше, из известинского расстрельного воззвания), славят с телеэкранов райскую жизнь, наступившую для них при «демократии»; а уж то, что мы «равны» при «вхождении в цивилизованное сообщество», уж это-то и сомнению подвергать не приходится!
Стемнело, сосен острые верхушки
Луну, как руки, взяли за бока.
Я обнимаю бережно старушку,
Я говорю ей ласково:
«Пока!»
И город вновь меня встречает звоном,
Шуршаньем шин, росою на траве…
Я думаю о жизни, о законах,
О закаленной трудовой братве.
И вырастают за спиною крылья.
Я вижу, как земля пошла в круги,
Суровою распластываясь былью,
И, кажется, кричит она:
«Не лги!»
Красота, честность, национальная полезность — три вершины в русской поэзии. Валентин Сорокин — честный поэт. Личная честность, честность в стихах — горький путь. Но зато какой красивый!..
***
Литературным объединением ЧМЗ руководил в конце 50-х Дмитрий Захаров. Именно от него начинающие поэты и прозаики услышали такие имена, как Павел Васильев, Борис Корнилов, Борис Ручьев… А вскоре и сам бывший колымчанин, воспевший — не Колыму, Магнитку — появился в Челябинске. Валентин Сорокин познакомится с Борисом Ручьевым на совещании молодых уральских литераторов.
Но это всё позже, позже… А пока Самуил Гершуни, размахивая руками, учит начинающих поэтов: «Лепи образ! Лепи!» Шумный Александр Гольдберг (позже — руководитель литобъединения «Металлург») советует: «Держись, брат, за завод!» А Яков Терентьевич Вохменцев угрюмо вычеркивает строчку за строчкой: «Учиться надо! Учиться…» Он учился. А еще его ждала адова работа в смену («я был в аду и вышиб дверь»), стихи, семья, снова стихи…
Друг юности, литератор Олег Вилинский вспоминает:
— Славу Богданова Валентин любил по-мужски искренне и скупо. Они вместе пришли в литературу, вместе работали на ЧМЗ. Как-то Валентин привел меня в свой первый мартеновский цех, где он «вкалывал» крановщиком. Тогда я впервые познал жар мартеновской плавки! И я был поражен тем, что у Валентина хватало сил на ночные бдения над листом бумаги, учебу в школе рабочей молодежи, металлургическом техникуме…
Когда-то Валентин Сорокин постеснялся подойти к Людмиле Константиновне Татьяничевой и признаться в том, что любит стихи. Пройдет совсем немного времени, и Татьяничева, в то время секретарь Союза писателей Челябинска, в мартеновский цех придет сама. Специально, чтобы посмотреть на труд металлургов, на работу молодого поэта. Об этом событии Вячеслав Богданов написал так: «Шло обычное воскресное занятие литературного объединения металлургического завода. И вдруг к нам нежданно пришли поэтесса Людмила Татьяничева и драматург Николай Смелянский. Мы засуетились, прервали очередное обсуждение, а Людмила Константиновна посоветовала продолжить и сказала, что они зашли просто послушать нас. (…) Она с тактичностью гостя сделала свои замечания по прочитанному, по-матерински напутствовала нас:
— Мы только что были в мартеновском цехе вашего завода. Удивительные люди работают там. Меня радует накал стихов Валентина Сорокина, он умеет горячо, напористо, пусть порой сбивчиво, но знаючи рассказать о своих товарищах по заводу».
Именно Татьяничева редактировала первую книжку Валентина Сорокина. «Мечта». Семнадцать стихотворений. Но все они — как живые птицы. И в названиях стихов этой первой книжечки уже определятся темы, которые будут сопровождать поэта на протяжении всей его жизни. «Мы». «Любимой». «Ветер». «Крылья». «Призвание». Уже умудренный жизнью, седой, битый литературными и житейскими бурями поэт напишет: «Мне кажется, душа человека все время совершает круги, как вещая и тревожная птица, то расширяя пространство, то преодолевая новую над ним высоту. Но суть одна, задача одна — еще и еще раз вглядеться в жизнь, вглядеться в мир, огромный и вечный». Книга «Мечта» и стала этим первым, во многом еще наивным кругом.
Я иду,
Молодой и горячий.
Белый шарф
За плечами развит.
Не страшны
Мне теперь неудачи
И гнетущая тяжесть
Обид.
Людмила Татьяничева, редактируя рукопись «Мечты», деликатно — карандашом — написала на полях замечания. Молодой поэт, долго и мучительно размышляя над ними, в конце концов так же деликатно стер карандашные пометки. Мудрая Татьяничева «не заметила» дерзости автора и книга вышла так, как он хотел.
Нахальство? Нет, совестливость — перед старшими по призванию и перед самим призванием. А еще — голос правды, который, наверное, и является одним из самых главных «моторов» творчества.
***
Издать поэтическую книгу в те времена в СССР было чрезвычайно трудно — жёсткий отбор, высокие требования, множество «фильтров», согласований. И вот — «Мечта»! Казалось бы, пиши дальше на тему, заявленную в одном из громких стихотворений — «мы, простые парни, работяги, дышим вечным пламенем отваги…», твори в духе времени!..
1960-й год. На Урале и в Челябинске Валентин Сорокин уже в те времена — известный автор. На него возлагают надежды: литература — дело государственное, а значит, неусыпно контролируемое.
И вдруг… В 1960-м году в газете «Челябинский рабочий» выходит стихотворение Валентина Сорокина «Я русский».
Я русский
Терпеливый человек,
Легендами
И сказками повитый…
Из века в век меня,
Из века в век,
Одолевают беды и обиды.
Хрущёвская «оттепель» не смягчила климата в русском вопросе. Напротив, власть с новыми силами взялась за старое. Россию ждал очередной приступ денационализации: передача Крыма Украине, закрытие храмов, борьба с крестьянскими огородами. О русском народе следовало забыть, поскольку обществоведы, льстя гению Никиты Сергеевича Хрущёва, обещали, что скоро «…все население Советского Союза будет представлять единую коммунистическую нацию».
Стихи Валентина Сорокина сразу же вызвали пристальное внимание КГБ, поскольку с точки зрения госбезобасности являлись демонстративным инакомыслием. (Между тем, поэт просто писал то, что чувствовал, без всякого расчёта.) К главному редактору «Челябинского рабочего» Вячеславу Ивановичу Дробышевскому пришли люди из КГБ. «Как можно говорить о русском человеке, когда цель партии — создать новую историческую общность, советский народ?!»
Дробышевский — жертва революционных потрясений, вырос в детдоме. Строил Магнитку, писал стихи, входил в литобъединение «Буксир» вместе с Борисом Ручьёвым, Людмилой Татьничевой, Михаилом Люгариным. Фронтовик. Визит кадров из всесильной организации его не напугал. «Молодец! — сказал он поэту. — Неси ещё стихи, пока я главный редактор, буду тебя печатать, и пошли они вон!»
Желание отстоять мир идеальный — основа героического пафоса. Был ли «золотоголовый подсолнух» – стремление к гармонии — истоком этого героического пафоса?
В стихотворении «Я русский» молодой автор, оглядываясь на пройденный исторический путь, говорит голосом всего народа:
Меня палили бешеным огнем,
Меня душили
Жилистым арканом.
Меня кололи
Пикой и копьём
Разгневанные орды
Чингис-хана.
Герой обладает почти сказочным свойством — сражаться с врагом любым оружием:
Голодный, непричесанный, босой,
Лицом закаменев
Над Русью жалкой,
Я их сшибал оглоблей,
Стриг косой,
Я их лупил
Простой дубовой палкой.
А вот строфы о современности, о ХХ веке:
Я шел на шахты
И на рудники.
Я шел по льдам,
По зарослям таёжным.
А за спиной хихикали враги:
— Иван, куда ты
С грамотой лаптёжной?
И зверя разъярённого
Лютей,
Завербовав предателей
На помощь,
Они моих
Наставников, вождей,
Из пистолета
Убивали в полночь…
С точки зрения тогдашней идеологии, это самое опасное место в стихотворении. Поэт пишет о времени репрессий, обвиняя врагов в русофобии. (Народ с развитой мифологией — «легендами и сказками повитый» — не может быть малограмотным!) Автор прямо заявляет о том, что вчерашние «враги» — репрессированные поэты, его наставники.
Да-да, не партийцы, не советское начальство, а расстрелянные поэты! Валентин Сорокин не пользуется эвфемизмами, не прикрывается «историческими ролями», он говорит «голосом столетий» и от имени всего народа. Вот так да! «Поэтическое душевное движение» выражено в стихах с удивительным для советских времен бесстрашием и с огромным личным чувством.
Такую свободу самосознания могли себе позволить немногие. Ну, например, Маргарита Алигер была известна стихами «Мы евреи» (глава из поэмы «Твоя победа»), появившимися в печати еще до компании борьбы с космополитизмом. Ключевая строфа:
…Разжигая печь и руки грея,
наскоро устраиваясь жить,
мать моя сказала: «Мы евреи.
Как ты смела это позабыть?
«Мы — евреи», а тут «Я — русский»!.. Наглость какая, если вдуматься. Говорил же Ленин, что подлинный интернационалист обязан считать националистическими мещанами всех, кто защищает лозунг национальной культуры: «Не „национальная культура“ написано на нашем знамени, а интернациональная (международная), сливающая все нации в высшем социалистическом единстве». А вот и пророчество Никиты Хрущева: «Мы идем к ликвидации национальностей. В Союзе [CCCР] в перспективе будет единый язык, границы между республиками скоро исчезнут».
Реакция на творчество молодого поэта последовала не только от КГБ.
Поэт Марк Гроссман доверительно поговорил с Сорокиным.
— Валя, зачем ты воюешь с евреями? Запомни: ты нас никогда не победишь.
— Посмотрим.
Через некоторое время Гроссман зашел с другой стороны:
— Валя, ты такой парень симпатичный, поэт талантливый, давай породнимся? У меня дочь красавица, сейчас десятый класс заканчивает, я вас познакомлю…
— Марк Соломонович, я женат.
— И что?!
— Нет, спасибо, не надо.
Марк Гроссман напишет предисловие ко второй книге Валентина Сорокина «Я не знаю покоя» и даст ему рекомендацию для вступления в Союз писателей. Нормальные евреи, я верю, нормально относятся к нормальным русским. А предатели и шабес-гои ничего, кроме презрения, не вызывают.
***
«Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, является чувство пути», — говорил Александр Блок. Стихотворению «Я русский» предшествовало «Слово к России», с поистине эпическим размахом пути:
Я твой сын, молодой, быстроокий,
У планеты большой на виду,
По горам,
по равнинам широким,
Жать, и сеять, и строить иду!
И нигде мне с тобою не тяжко,
Я с тобой, как Добрыня, силён,
Я иду — нараспашку рубашка,
Романтичен, горяч и влюблён.
Сколько свежести, солнечной сини,
Сколько счастья за каждым огнём!
Я иду и пою о России,
О крылатом призваньи своём!
Добрыня Никитич — второй по популярности после Ильи Муромца богатырь русского народного эпоса, которого иногда величают князем. Летописи рассказывают: он умён, образован, со многими дарованиями — отлично стреляет, плавает, поёт, играет на гуслях… Валентин Сорокин сразу заявил о себе, как о поэте-наследнике исторической Руси.
А голос времени — совсем другой! Вот стихи Владимира Харитонова, ставшие в 70-х популярной песней:
Заботится сердце,
Сердце волнуется,
Почтовый пакуется груз.
Мой адрес —
Не дом и не улица,
Мой адрес —
Советский Союз.
А вот любимец интернационалистов Роберт Рождественский:
Ты — Советская страна,
Мой простор, моя весна.
Жизнь моя — моя Отчизна,
Ты свободна и сильна.
Это даже не рифмованная проза, а рифмованная пропаганда, рожденная последним усилием устремлённой к гонорару воли…
«Поэт — сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых, — привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в третьих — внести эту гармонию во внешний мир», — писал Александр Блок. «Пою о России» — готовность внести гармонию во внешний мир. Нежность матери-крестьянки и суровость отца-воина соединились в поэте и дали его дарованию два крыла — героическое и лирическое.
В сущности, «Мне Россия сердце подарила, я его России отдаю» в миг произнесения в устах молодого поэта — декларация, почти публицистика. И художественную, и историческую ценность это обещание получает при своём выполнении. Кроме декларации, от поэта ждут художественных подтверждений, мастерства. И они — появились. От национального импульса — вглубь к традиции, к пониманию задач, и к осознанию своего эпического предназначения.
***
В 1962 году молодой поэт отправит письмо Василию Федорову. В нём — новые стихи и просьба: «…Если я графоман — не отвечайте. Но если я талантливый поэт и Вы мне не ответите, я на Вам этого никогда не прощу!»
Потянулись мучительные дни ожидания. Прошел месяц. Ждать, в общем, было уже нечего… И вдруг 7 ноября — не письмо — телеграмма: «Дорогой Валентин, поздравляю Вас с великим праздником, прекрасной книгой стихов, которая в ближайшее время выйдет в издательстве „Советский писатель“. Вы такой поэт, что ничто Вас не перешибет. Я жду Вас в Москве».
Это был один из счастливейших мигов в его жизни — получить слова признания от поэта, которого он уважал безмерно. Уважение не пошатнулось и потом, в пору их близкого и долгого знакомства.
Ну а пока взволнованный поэт с телеграммой в кармане бежит на завод. На работе он поделился с товарищами радостью. Растроганный начальник цеха сразу же дал ему отпуск — на три дня!
Летом Сорокин отправится с женой в Москву, чтобы встретиться с Василием Федоровым.
Василий Фёдоров (стихотворение написано в конце 50-х):
Поет петух золотоперый,
И раз поет, и два, и три…
Мне у костра любви и веры
Еще дежурить до зари.
Его огонь высок и вечен,
Он искрой выпал из кресал;
С тех пор как зверь очеловечен,
Он никогда не погасал.
Я от него гоню измену
И ворошу в нем угольки…
Уже идущего на смену
Я слышу дальние шаги.
***
В Москве Сорокин остановился в люксовом номере гостиницы «Украина» — пусть работа в мартене была рядом со смертью, зато платили там хорошо — с нынешними грошами на вредных производствах не сравнишь. И вот волнительный момент: набирается номер, гудки… «Федоров у телефона». Известный, прославленный поэт приглашает к себе в гости поэта молодого.
Валентин Сорокин никогда не был нахалом, и уж, тем более, не был рохлей или размазней — мартеновец! А всё же волнение, связанное с этим визитом, было у него столь велико, что он долго не решался нажать кнопку звонка 342-й квартиры. «Разница в возрасте, разница сделанного — поле, через которое уважающий себя и свое призвание молодой поэт не пробежит опрометчиво, не полезет по-свойски обниматься, не дерзнет хмельно похлопать по плечу седого, знаменитого честным талантом старшего брата. Не дерзнет!.. Чувство, с которым я ходил вокруг дома, где жил Федоров, до сих пор волнительное чувство. Я берегу его и благодарю судьбу, что оно во мне еще есть…»
И вот они встретились. Сильным и красивым был тогда Федоров. Седой человек в серебристом костюме. Посмотрел на своего младшего собрата — ахнул, понял его волнительное состояние. Позвал жену: «Лара, посмотри, на нем же лица нет! Дай ему водки…»
Много было переговорено, понято, открыто в ту чудесную поездку. Стихи читали почти до утра. На следующей день сели на такси — и к Есенину. Федоров всё наблюдал за Сорокиным, смеялся: «Экий купец приехал!»
Нет, он не был ни купцом, ни ухарем. А дерзость в нем — на посторонний взгляд — всегда была. Но эта была не дерзость, а приобщенность к правде. «Был я резок, только не фальшив…» В ту же свою поездку «отличился» в Центральном Доме Литераторов — повздорил с Михаилом Светловым. Совклассик поинтересовался у свежего человека с Урала, по слухам, перспективного поэта: чьи стихи ему нравятся? Список был обширный, но Светлов в него не попал.
Автор «Гренады» обиделся:
— А я, по-вашему, какой поэт?
— Вы? Вот такусенький, — и Сорокин сузил до предела расстояние между большим и указательным пальцем.
Светлов остолбенел:
— Пока я жив, Союза писателей тебе не видать!
Московские знакомые были в ужасе: «Извинись! Ты не знаешь, с кем связался». — «Но он, правда, плохой поэт! Ни за что!» — «Ты с ума сошел!»
Про случай в ЦДЛ Валентин Сорокин рассказал Василию Дмитриевичу.
Федоров вздохнул:
— Говорит, пока я жив, ни-ни? Ну что ж, перешагнем!
В тот же год по рекомендациям Леонида Соболева, который был председателем Союза писателей, Бориса Ручьева, Василия Федорова молодой поэт стал членом Союза писателей СССР. Приняли по верстке книжки, которая называлась «Я не знаю покоя». Назвал — напророчил… Знаменательное это событие произошло в день в его рождения — 25 июля. Валентину Сорокину исполнилось 26 лет.
Было ясно, что в жизни надо что-то менять. Но мог ли тогда предполагать счастливый обладатель новенького билета СП СССР, что жизнь настоящего литератора — это все тот же испепеляющий огонь, и неизвестно, какой огонь опасней — раскаленная металлическая лава или огонь слова, огонь, который не одного русского поэта преждевременно свел в могилу.
***
Когда кремлёвцы, номенклатурщики и коллеги «железного Феликса» (Дзержинского) предали народ и начали разрывать Советский Союз на куски собственности, слово русского писателя значило много. Валентин Сорокин вспоминает: «Чувствуя приближение смерти, писатель Иван Акулов упрекал меня в трусости, требуя беспощаднейшего текста телеграммы к архитектору перестройки».
Текст отшлифовался к полудню 18 декабря 1988 года:
Москва, Кремль, Верховный Совет СССР
До каких пор вы намерены терпеть у руля государства и партии Горбачева, болтливого человека или предателя, подчиненного полностью разрушительной идее ненавистника русского народа Яковлева, энергичного и агрессивного агента ЦРУ?
Гнездо сионизма не в Тель-Авиве, а в Москве, под главным куполом Кремля. Мы, русские писатели, требуем суда над изменниками Родины!
Иван Акулов
Валентин Сорокин
Поэт вспоминает: «Письма и телеграммы отправили мы всем, всем, даже Бирюковой и Лукьянову…»
Такая открытая гражданская позиция у одних вызывала восхищение, у других — ненависть. Валентин Сорокин получал анонимки с угрозами. И настал день, когда чёрная ненависть перелилась в пули.
19 апреля 1992 года на Ярославском шоссе он летел на своей «Ниве» и вдруг — треск и звон — переднее стекло автомобиля изрешетилось, напротив руля… Но Бог берёг поэта — ни одна из трёх пуль его даже не царапнула.
Случай этот не поразил общественность — в те разбойные годы убийства, грабежи, покушения стали обыденностью. Но сохранилось письмо Юрия Прокушева к поэту. Прочитаем его вместе:
Дорогой Валентин!
День добрый! Звонил тебе днём. Ты — на даче! Это — хорошо. Значит, оклемался. Переволновался за тебя, как — за Вовку! Что это — случайность, или, «или»… Страшно подумать. Береги себя и будь во сто крат осторожней. Помни: ныне, ты самый честный, бесстрашный, светлый голос России, её исстрадавшаяся, кровоточащая душа, её надежда и вера.
Пока у России есть такие поэты, такие сыны, как ты — она выдюжит, она — бессмертна. Говорю, не ради красного словца, не ради пустой похвалы, а ради — сути. Ибо, лучше кого-либо, включая, может быть, и самого тебя, знаю, что ты сегодня значишь для России, для своего родного народа, когда слово правды, национального достоинства и доброты, дороже любого «злата и серебра».
Никого не обижая из хороших и честных русских поэтов, — нет ни у одного из них такой обжигающей душу боли, страдания за Россию. И не вчера и сегодня, а всегда, с первых твоих стихов и поэм. Чего стоит только один «Бессмертный маршал», а есть ещё «Донской», «Пушкин», «Коловрат»!..
Дорогой Валентин! Ныне ты не принадлежишь себе, а — России. На тебе величайшая ответственность, нелёгкий, но святой груз народной веры и надежды. Сегодня 19 апреля — восемь лет, как оборвалась жизнь нашего Василия Фёдорова, горько осознавать это. Одно согревает — есть ты, наша светлая дружба, наша судьба, наша верность памяти Василия Фёдорова, верность Сергею Есенину — России!
Пусть хранит тебя любовь Матери-Родины, пусть оградит тебя Россия от лютых врагов и напастей!
Обнимаю тебя отечески!
Береги, береги себя для Отечества, твоей чудесной семьи, и чуть-чуть, — для нас, грешных!
Будь!
19 апреля 1992 г.
***
Я не знаю людей красивее, чем поэты. Александр Пушкин — «блондинистый, почти белесый». Точный. Бесстрашный. Думающий. Михаил Лермонтов. Глаза — вишни. Очи Христа. Всегда страдающие. Александр Блок, Сергей Есенин, Владимир Маяковский — каждое трудящееся сословие России выдвигает своего певца. У каждого певца — внешность своего сословия. Поющая душа гранит, шлифует лицо, тело, доводит его до совершенной, неповторимой красоты. Совершенное творчество совершенных людей — вот что такое поэзия!
Впервые я увидела Валентина Сорокина в Литинститутском дворе. В августе 1995-го абитуриенты шумно обсуждали перспективы поступления — экзамены позади, осталось только собеседование. Я отвлеклась от разговора — мимо шёл человек — стремительная походка, тёмно-синий костюм, посеребрённые волосы, благородное лицо. Он мельком взглянул в нашу сторону, и меня поразили его глаза — в них было столько доброты, силы и страдания! Я совершенно точно поняла, угадала, почувствовала: это — необычный человек, доселе такие люди мне никогда не встречались! В его глазах было что-то отрешённое от сует повседневной жизни и в то же время невероятно, непостижимо красивое. В эти же секунды я твёрдо решила: я буду учиться только у этого преподавателя! Волна радостного предчувствия захлестнула меня: какое счастье, что здесь, в Литературном институте, есть такие люди!
Я вдруг поняла, что вижу поэта. Ни проректора, ни доцента, ни преподавателя, ни руководителя семинара, но — поэта, так он отличался от литинститутской «богемно-творческой» публики. Лицо у него было горьким. Страдающим — тяжелые складки легли у губ. Грозным. И все же, даже в этом горе, беде, лицо его было светлым. Красивым. Таким, что от него невозможно отвести глаз. Поэт узнаваем в любой толпе. Встреться нам сегодня в метро Павел Васильев — как не ахнуть, не задержаться на нем взглядом, и не восхититься — поэт!..
С ужасом думаю я теперь: что было бы со мной (и с десятками, сотнями молодых литераторов), если бы не было в нашей судьбе этого красивого и сильного русского поэта?! Валентин Сорокин — духовный человек, и он разительно отличается от большинства людей, в том числе и творческих. В его стихах нет ханжества, назидательности или мнимого смирения. Нет притворства и сконструированного модернизма. Он — настоящий:
Разве я в мартене, на Урале,
Мог подумать, укрощая сталь,
Что кремлёвцы острова продали,
Синеву славянскую и даль.
Будто бы в мистическом тумане
Вместо белокрылых лебедей
Обезьяны пляшут на экране,
И трясут хвостами средь людей.
***
Государство сильно́, пока люди в нем умеют красиво любить. Ну это же всем должно быть понятно! Когда люди умеют красиво выражать свои чувства в слове — государство непобедимо.
Это месяц в затоне лежит,
Нецелованный баловень лета,
Это — яблоня в пойме дрожит,
Вся охвачена счастьем расцвета.
Нет иного пути укрепления государства, кроме любви. К женщине. К матери. К сестре. Наша дорогая советская власть сделала все, чтобы уничтожить государство, потому что призывала любить К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, Политбюро, ЦК КПСС, политику партии, а потом уже все остальное. Наша нынешняя власть добьет государство, потому что призывает в первую очередь любить деньги, еду, евреев, геев, Америку и западную демократию.
Где ленинцы? Где правда революции?
Где Карло Маркс? Он разве был для смеха?
У наших лидеров теперь одни поллюции
От прошлого соития и комуспеха…
Шахтёр закабалён, крестьянин разорён,
СССР ворами упразднён:
Кругом — бомжи да пьянь, да погорельцы,
Чубайс по проводу ползёт, электровошь.
Итог:
Как хорошо, что есть товарищ Ельцин,
Вчерашний ленинец
и всем паханам вождь!..
И это — тоже Сорокин. Грубо? А почему поэт должен прощать тех, кто трусливо и подло предал родину ради собственного корыта?! Бог — есть! И кто умеет любить, имеет право презирать и ненавидеть. Все в том же Литинститутском дворе я благословила день и час, когда Бог дал мне счастье не утонуть в жиже «авторитетов» современной поэзии, всех этих евтушенок, окуджав, губерманов, вознесенских, дементьевых, всех, чьими книгами завалены сейчас демократические прилавки, всех, кому раздают «Триумфы» и госпремии, всех, кто купается в телеславе, перемежаясь рекламой женских прокладок и импортных подгузников. Я благодарю Бога за счастье видеть лицо поэта, поэта с волей императора, честностью труженика, отвагой воина! Поэта — смыкателя поколений. Жизнь — в продлении красоты. Из глубины веков — до будущих бездн. Обычный человек, простой, длит красоту своей семьи, рода. Поэт — длит красоту сословия и народа. Покуда есть народ, жив и поэт. Зачем немцам наш Пушкин? У них — Гете есть. Зачем нам — Бродский? У нас — Павел Васильев есть!
Сорокин — воюющий поэт. Его герои — Евпатий Коловрат, Дмитрий Донской, Степан Разин, Георгий Жуков, Игорь Курчатов. Его враги — чубайсы, горбачевы, яковлевы, гайдары, березовские, ельцины, блатари и воры, потому что настоящий поэт — всегда на стороне народа, униженных и оскорбленных, он сам оскорблен, когда поругана его родина!..
Мне твердят, твердят изо дня в день: Россия — продажная. Россия — страна воров и дураков, пьяниц и проституток, страна радиоактивных отходов, рэкетиров, мафии, страна тупых правителей и половых извращенцев. Но я-то знаю другую Россию! Теперь знаю. Неужели страна, в которой есть такой поэт, пропащая? Неужели страна, где есть, все еще есть такая красота слова, ни на что не годна? Ведь люди наши, несмотря ни на что, к хорошему тянутся!
…Вот прижмёмся мы — телу послышится
звёздное тело,
Мы, две тёплых кровинки родного с тобою народа,
Скособочилось время, в сраженьях страна опустела
И, предчувствуя гибель, безумствует пьяно природа…
Не надо говорить: поэзия — вещь элитарная и нынче она должна быть для избранных, и потому следует писать задом наперед, наискось и поперек. Но разве поэзия — элитарнее звездного неба? Зеленого луга? Голубых туманных перевалов?! Да, всегда на свете была и есть несправедливость, бедные и богатые. Но не надо людей высшего и, может быть, единственного счастья лишать — красоты. Не надо шутов венчать коронами поэтов, а из Новодворской делать Индиру Ганди. Нет в нашей жизни справедливости и, видимо, не будет никогда. Поэты — посланцы неба. Титаны и пророки, указывающие нам дорогу спасения и красоты. Страдания и муки их — земные. А пути — небесные.
Но будет миг высокий на рассвете,
Среди могил у прадедовых плит
За всё, за всё,
о чем расскажет ветер,
Моя земля меня благословит…
Часть вторая. Горькая правота
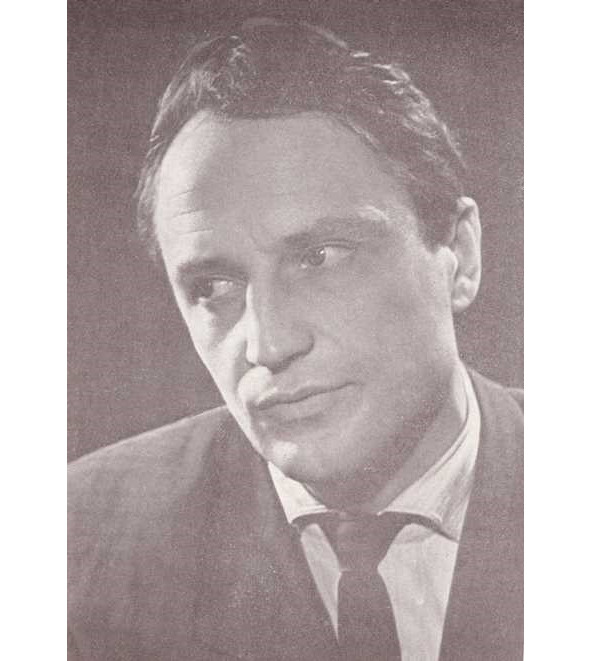
Мир так устроен, что слово тех, кто ушел от нас, его силу, нежность, красоту, пророческую мощь, мы не способны воспринимать «исторически». Либо Есенин, Пушкин, Блок, Павел Васильев, Твардовский, Некрасов — живые люди, либо это разъятые «литературные герои», что-то когда-то написавшие. Поэзия, как река, несущая свои воды из неразличимой дали: чтобы мощное течение её длилось, каждое поколение должно рождать родники, питающие чистоту и полноводность жизни. И только высота поведения, призвания, поступка современного тебе литератора «оживит» классические источники.
…Во дворе Литинститута выступали молодые поэты. Не просто так, а со смыслом — в рамках акции «Неформальная Москва». Молодые поэты выходили на импровизированную трибуну вальяжно, как слегка перекормленные свиньи, и казалось, что они вот-вот хрюкнут. Ожидания оправдываются: в микрофон несется поросячий визг, площадной мат и покорное подхрюкивание. Это — современная поэзия. Поросячий визг — «поиски себя», площадной мат — «обличение пошлости мироустройства», покорное подхрюкивание — «обновление традиций». Вот их темы: смакование — «дала — не дала»; страдание: «тяжко, тяжко гею жить», радость: «оттянуться в кайфе надо, пробудился — рядом баба…».
Но будь трижды благословен Литинститутский двор, потому что не одной «Неформальной Москвой» он жив. «Оббитой рябины последняя гроздь, последние звери — широкая кость…», — писал Борис Корнилов. Валентин Сорокин, из «последних зверей», слушал в Литинститутском дворе молодых поэтов. Молча. Страдающе. Без укоров.
Да, уважаемые формалы и неформалы, эпигоны и старательные ученики Бродского, Рейна, Кушнера, Вознесенского, Дементьева, и Бог весть ещё кого, ну, может, Семёна Липкина или Михаила Светлова! Есть совсем другой мир, другая орбита, другая жизнь, другой смысл, другая красота. И совершенно они недостижимы, непокупаемы. Их нельзя скопировать, имитировать, украсть, взять нахальством, эпатажем и даже бешенной энергией и трудолюбием. Есть такое чудо, и называется оно — поэзия.
Я по орбите прожитой вращаюсь,
Тоску обид напрасных затая.
Вот скоро я с тобою попрощаюсь,
Любовь моя, поэзия моя.
Звезда моя над перелеском дрёмным,
Мучение внезапное и страсть,
Ты в океане, грозном и огромном,
Вела меня и не дала пропасть.
Я нищим был, но богател тобою,
Бессильным был, но побеждал тобой,
Глухим, но слышал рокоты прибоя,
Слепым, но видел край свой голубой.
Жена моя и вечная невеста,
Мгновенное бессмертие моё,
И потому напротив солнца место
Не чьё-то, а действительно твоё.
Тропа до Богородицы торима
Тобой
и путь к распятию торим,
И не судьба моя неповторима,
А свет очей твоих неповторим.
Во времени, чужом и мракобесном,
Я ветер зла перечеркнул крестом,
Я осенен твоим крылом небесным,
Твоим спасен от гибели перстом!..
Два мира — добро и зло, свет и тьма, день и ночь, Бог и сатана, любовь и смерть; и мир, конечно, спасет красота. Красота — это добро, это честность, это подвиг, это вдохновение и озарение, это самопожертвование, это — любовь. Почему же люди с таким упоением бегут от красоты, почему пытаются заменить её механикой, алгоритмами, предвыборными технологиями, пустотой? Каждый из нас ежедневно делает выбор — «за» или «против» красоты.
В нашем современном общественном сознании у подавляющего большинства «властителей дум» критерии красоты нарушены, и тот камертон, по которому отличают красоту от безобразия — фальшивит. И бессмысленно в такой ситуации объединять лагеря «почвенников» и «демократов», спорить о реализме и постмодернизме. Эти споры и попытки объединения смешны. Не в реализме, и не в принадлежности к национально-политическим «лагерям» дело. Нужно быть шире направлений и не сковываться канонами, литература — не монастырь! Мы живем в миру, и у мира свои, жестокие, законы. Но есть красота. И не надо отступать от неё, предавать её, и тогда она подскажет, что и как написать и сказать. Надо быть честным. Надо думать о красоте, искать её. Ведь ничего общего у стихов Валентина Сорокина с «волшбой» Андрея Вознесенского нет:
Я пришел красоту воспевать,
Слушать звездные оклики света,
И легко мне тебя целовать
В теплых травах короткого лета.
Сколько бы мы не читали поэтов, сколько бы их не слушали, сколько бы не вглядывались в окружающую жизнь, у литератора только один выбор — один и на всю жизнь: красота или безобразие. Безобразие, значит без Образа. Значит, без Бога, (а Бог — это не декларация принадлежности к нему, и не упоминание его имени всуе); без заповедей, без самопожертвования, без духовной высоты, без вдохновения и озарения, без любви, то есть, в конечном счете, без красоты.
Но если красота — путь любви, путь самопожертвования, путь постоянной духовной высоты, путь отрицания греха, путь вдохновения, путь подвига, и даже — страшно вымолвить — путь Творца (отсюда — творчество); то как тяжело, почти непосильно идти этим путем! Образ, допустим, тот, что написал Андрей Рублев, — это пост и молитва, это проникновение вглубь себя и бытия, это вслушивание в народную жизнь. Это тяжелый путь. И что из того, что многие пытаются себе его облегчить, хитрят, создавая обобранные, упрощенные образы! Лже образы. Вроде бы не без образие, не пустота. Но лжеобразие — еще более мучительный, обманный мир, более ядовитый и приторный, чем честная бездарность. А великое безобразие Бродского — это концентрированное выражение глубинного, глубочайшего несчастья его народа, который везде будет чужим и гонимым. Но даже из сострадания и понимания мы не обязаны разделять его судьбу! И мы не обязаны из-за своей лопоухой всемирной отзывчивости терять родину нашего образа — Россию.
Бродский:
…Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст,
и слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
отрыгнуть; но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид.
«Падаль!» — выдохнет он, обхватив живот,
Но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что падаль — свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.
Да, апофеоз частиц, того самого «разъятого образа», пир чумных бактерий, праздник носителей СПИДа, и никакого страха — смерть мертвякам не страшна. Поэзия Бродского — это полное безобразие, безобразность. Падаль и апофеоз частиц, как источник жизненных сил.
Задумаемся: почему русские взяли такие большие, протяженные пространства (и в литературе, и в географии)? И вообще — что есть русский характер? Русский характер есть удивление перед жизнью, смущение перед тайной её. Русский так и умирает — в удивлении перед тайной. А всё что сделано в жизни — мимоходом. Помимо главного. Неразгаданное главное — смысл творчества. А Бродскому — всё ясно. Он даже не дает себе труда вносить в стихотворение «нерв» — нет, не чувства, но хотя бы мыслетворения. Письмо его естественно и объяснимо, как разложение трупа.
Каждый из нас — и литераторов, и философов, и людей совсем простых профессий — всматривается в мир, пытается разгадать тайны жизни, понять заповеди блаженства, не сбиться с пути, не заблудиться. Задумаемся: если бы люди шли не путем красоты, то есть путем честности, Бога, признания, родины, зова, подвига — человеческая история наша давно бы закончилась. Я думаю, что история каждой человеческой жизни тоже бессмысленна, когда человек живет безобразием, и глупо-мучительна, когда человек живет лжеобразием. Мы должны жить красотой, какие бы грядущие безобразия не сулила нам окружающая жизнь. Мы живем «в миру», и вольны от смирения перед ближними, и потому наша красота должна быть и побеждающей, и карающей, и сильной. У красоты — хрупкой красоты цветка, дерева, чистого неба, золотокупольного храма, человеческой жизни — на самом деле гораздо больше союзников, чем мы думаем.
Поэзия — это красота. Говорят, что писатель отражает в своем произведении время. Да, это так. Но главное, он отражает красоту своего времени. Среди безобразия, «сора», он находит красоту и плачет о ней. Поэзия — не всеобща, в том смысле, что она не может вобрать в себя весь мир — и безобразие его, и светлую сторону. Но в части красоты поэзии доступны божественные высоты, и не будем их отнимать у неё!
Но люблю тебя, родина светлая!
А за что — рассказать не могу!
Сколько бы не пытались разъять образ красоты, понять из чего и как «сделано» — это невозможно! Напротив, человеческая низость всегда находит объяснения, хоть и изумляет. У подлости есть «дно», а совершенству предела нет…
Приходит время, когда начинаешь понимать — нет ничего вечнее, и нет ничего мгновеннее, ранимее красоты. Деревья в инее, цветущий черемуховый куст, соловьиная песня, человеческая молодость — во всем этом — «мгновенное бессмертие», и не его ли мы ищем своим тоскующим чувством, не его ли мы разрушаем своей глупостью, неосторожностью, ленью души, бесчувственностью?! Красота — это Бог на земле, и служить красоте — самое мучительное и самое счастливое из откровений.
Я пишу эти строки, а за окном — снег, а за окном — метель, а за окном — щедрое сияние и сверкание снегов, высокие горы сугробов, и нет конца и края зиме, и нет конца и края тоске, светлому одиночеству, и любой след — самый глубокий, который торит человек через поле, через простор, сразу же затягивается, засыпается тысячами сверкучих снежин и снежинок. Вот так же и поэзия — её всегда много, и она красивее и живее всех наших представлений о ней…
***
Люблю Москву. Нет, совсем по-другому её люблю, чем, допустим, свой дом, свой двор или своих родителей. «Люблю священный блеск твоих седин, И этот Кремль зубчатый, безмятежный…» В сознательном, паспортном возрасте впервые я пришла на Красную площадь. Одна. Поднималась с Манежной вверх, к Историческому музею и вдруг, в один миг, всё открылось: синее, бурунное небо, отливающая сталью брусчатка, нарядный, как кулич, собор Василия Блаженного, Кремль… Глаза мои повлажнели. До сих пор помню это чувство — мгновенной и пронзительной сопричастности.
Москва, Москва… Ты стала моей не так уж и давно. Любимые бульвары, где я знаю каждое дерево. Станции метро, где меня знает каждая колонна, каждая лампа, подземно раскачивающаяся от дрожи поездов. Любимый парк. Любимое кафе. Любимые глаза… Но это уже другая, совсем другая история.
Поэт Валентин Сорокин приехал в столицу с вдумчивостью и скромностью — это от озерной уральской стороны. С жаром и дерзостью — сбросив прокаленную мартеновскую спецовку. С желанием — служить своему призванию, быть человеком долга и чести. И с восхищением — стихотворение «Здравствуй, Москва», написанное в 1963-м и сейчас не устарело. Напротив, оно поражает тем, что в «социалистические» годы, молодой парень, пролетарий, отутюженный мощнейшей пропагандисткой машиной, ощущал себя не частью новой исторической общности — «мы — советский народ» — но русским человеком:
Москва, соборов золотые главы,
Сиянье звёзд и уличный прибой.
Наследник русской доброты и славы,
Впервые я стою перед тобой.
Я слышу топот, бешенные гики.
Я вижу: дым клубится, как буран.
В каких холмах теперь ржавеют пики,
Еще, наверно, теплые от ран?
У стен твоих, по древнему закону,
Раздумчивую голову склоня,
Крестился полководец на икону
И трогал тонконого коня.
И шел народ в сермяге длиннополой,
Огнем сметая недруга дотла.
И от Кремля до мутного Тобола
Раскачивали стон колокола.
Здесь мой отец рабочим и солдатом
За славный цех, за молодость, за полк,
Прикрыв глаза, в обнимку с автоматом
В сугробе окровавленном умолк…
Ты в каждом доме отворяла двери,
Жила, как мать, в простой моей судьбе.
Кто говорит: — Москва слезам не верит? —
Нет, веришь ты, я знаю по себе.
Пусть в дележах корон, чинов, регалий
Взлетал кистень и посох у виска:
Кого-то возводили и свергали,
А ты на них глядела свысока.
Хоть всю страну сегодня опроси я,
Любой твой сын ответит не юля:
— Покуда ты стоишь — стоит Россия
И правильно вращается Земля!
Но молодая восторженность, с которой вчерашний мартеновец Валентин Сорокин прибыл в Москву, была омрачена и отравлена. Не только трудностями творческого роста и неустроенностью быта, но и другими обстоятельствами. О них рассказал сам поэт — уже седой, горький, много переживший…
«Шестидесятые, молодые годы. Родной Челябинск, мы с другом Славкой Богдановым слегка навеселе. Мне уезжать в Москву, на Высшие Литературные Курсы. И человек нам навстречу — напористый, точный, решительный:
— Валентин?
— Валентин.
— Сорокин?
— Сорокин.
Поговорили, походили, Славка ушел. Сели в кафе. Новый знакомый очень жесткий, сдержанный, я быстро это почувствовал. Показал мне удостоверение полковника госбезопасности. Стал выговаривать: что я выпиваю, что часто не то говорю, что нужно быть сдержанней… «Вы едете в Москву, там неспокойно, разные люди бывают — враги, предатели. Понимаете? Если что заметите, напишите мне письмо». Я говорю: «Хорошо». «Запишите адрес…» «Зачем же? У меня память хорошая».
Прошло полгода московской жизни. Вдруг звонок — некий Эдуард Михайлович: «Надо встретиться». «Пожалуйста, приезжайте». Обыкновенный звонок, но какая-то тревога в мою душу запала. Приезжает этот Эдуард Михайлович, мы начинаем разговаривать, и я вижу: то же самое! Наконец он доходит до вопроса: «Почему не пишите?»
— А что я должен писать?
— Вы помните, у вас был разговор в Челябинске…
— Ну и что, я ничего никому не обязан, — очень свободно говорю, беседуем.
— А на ВЛК что вам нравится?
— Как рассказывают о Горьком, Пушкине, Гоголе, Есенине…
— К Евтушенко как относитесь?
— Нормально отношусь, но поэт он для меня не любимый, я люблю Василия Дмитриевича Федорова, — говорю и чувствую, что он вводит меня в круг, вводит и вяжет.
— А вот как вам Солженицын?
— Скажу то, что нашему проректору Тельпугову говорил: Солженицына надо избрать депутатом, дать ему лауреатство, премию, всё стихнет и никуда он не уедет.
— Почему бы вам все это не написать?
— А почему бы вам не прийти к нам на партсобрание и все это не послушать? Я там больше скажу! Я никогда два лица иметь не буду. И писать ничего не буду. Ясно?
— Извините.
Но через несколько дней — опять звонок. И опять то же самое. Уходя, он мне говорит: никому ничего не рассказывайте, — вам оказали доверие!
А тут приближалось 70-летие Хрущева. Мы, вээлкашники, не скрою, любили выпить. У нас в общежитии была игра — за самую остроумную эпиграмму — бутылку водки ставили. После выпивали её все вместе. Я читаю:
Вам — семьдесят, но столько благородства,
И столько вам энергии дано,
Что вся страна под вашим руководством,
Пустив пузырь, нащупывает дно.
Наутро звонок — опять Эдуард Михайлович, начинает мне выкручивать руки, говорит, что всё знает о моих проделках. Кончается всё тем же: напишите! Он стал звонить очень часто и приставать. Это стало меня так дергать, что в конце концов я не выдержали рассказал обо всем Владилену Машковцеву — однокурснику и земляку. Он старше меня лет на семь. В моем возрасте это была большая разница. Володя говорит: никому больше не рассказывай! Тут ходит один капитан, он многих с ума свел. Легенды, что поэты гибнут от белой горячки — многие выбрасываются в окна от страха. Страх рождает подозрительность, неуверенность и часто предательство…
Сейчас все это в прошлом и кому-то мои переживания могут показаться смешными. Кому-то. Но не мне. Вот если бы — я тогда уже понимал — если бы я написал, допустим, даже на Евтушенко — я бы точно повесился! Как это — человек стоит передо мной — а я на него донёс! Я бы обязательно повесился. Я просто смерть свою увидел!»
Поэт всегда всё воспринимает острее. Иначе — он не поэт. «Кровью чувств ласкать чужие души…» Многие из «творческой интеллигенции» сотрудничали в советские годы со всесильной организацией с Лубянки. Писатели. Журналисты. Ученые. Священники! «Альянс», конечно, причинял некоторые неудобства, зато давал множество житейских преимуществ. Каких? Спросите, к примеру, у Жени Киселева, бывшего НТВэшника…
В 20-30-е гг. ХХ века в СССР русских национальных поэтов уничтожали физически — под предлогом борьбы с «врагами народа». Павел Васильев, Борис Корнилов, Петр Орешин, Алексей Ганин, Николай Гумилев, Сергей Клычков, Николай Клюев — целый куст первоклассных талантов был безжалостно погублен. Вопрос: во имя чего?! Кому они мешали?!..
Во времена хрущевской «оттепели» культурное управление осуществлялось с помощью других, «мягких» механизмов. Бывший генерал КГБ Олег Калугин заявлял: «Я утверждаю: 90 процентов советской интеллигенции работали на органы Госбезопасности». Генерал-лейтенант МВД СССР Павел Судоплатов в книге воспоминаний рассказывает, что поэт Евгений Евтушенко после поездки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Финляндию в сопровождении подполковника Рябова «стал активным сторонником „новых коммунистических идей“, которые проводил в жизнь Хрущев».
Такой контроль «поэтического чувства» отрицательно сказался не только на творчестве Евтушенко, но и на всем развитии русской литературы второй половины ХХ века. Высший род словесности — поэзия — дрейфовал сторону политически ангажированной публицистики, образы которой (например, поэмы о Ленине — «Казанский университет» Евгения Евтушенко, «Лонжюмо» Андрея Вознесенского, «Двести десять шагов» Роберта Рождественского и др.) вживлялись в общественное сознание с помощью массированной госпропаганды, учебных программ, высоких тиражей и т. п.
Валентин Сорокин прошел огонь мартена — подлец и трус просто не смог бы там работать. Теперь его нравственные качества должны были пройти через горнило новой, «московской» проверки. А прищучить, прижать его к стенке, по тогдашним понятиям, было за что. За русскую боль, за понимание русской беды и разора…
***
Москва. 1965 год. Общежитие Литинститута по улице Руставели, 911. Тесная комната, в ней Владилен Машковцев, Николай Рубцов, Анатолий Жигулин, Борис Примеров, Сергей Хохлов. Стихи друг другу читают, спорят. Читает и Валентин Сорокин. Стихотворение «Когда умирает песня», посвященное памяти Бориса Корнилова:
О, военные гимны, —
Злые вихри ночей!
Я погибну, погибну
От руки палачей…
Тех, что славой прогресса
Забивая нам рот,
Сапогом и железом
Окрестили народ.
Реставраторы тюрем,
Кузнецы кандалов.
Ну-ка, друг мой, закурим,
Сдвинем чарки без слов.
Не порвать нам рубаху
Бунтарям на бинты.
Люди глохнут от страха
И своей немоты.
Но костры баррикады
Нам с тобой не пройти,
Всё преграды, преграды
На кровавом пути.
Перепутаны цели.
Одиноко.
Темно.
Мы уже на прицеле
У Сиона давно.
Ко всему приготовясь,
Мы встречаем рассвет.
Ты — последняя совесть,
Я — последний поэт.
…Эдуард Михайлович наловчился вызывать Сорокина с занятий, подбирая моменты, когда тот был с похмелья. Будучи под таким всесильным колпаком — как не запить!
«И однажды у нас пошел такой разговор — я говорю: ну, вот Хрущев, предал ведь Россию! Отдал Украине Крым, разоружил армию, обидел Жукова, отнял пенсию у инвалидов. Продолжаю: это исторически. Эдуард Михайлович начинает уходить от такой беседы и видит, что я прав, и потом, я все-таки из рабочих, знаю рабочую жизнь. Более того, рабочая жизнь Челябинска она ведь не такая, как рабочая жизнь Москвы, она тяжелее в сто раз. Потом переходим от вопросов национальной боли к вопросам, так сказать, другой национальности. Я называю ему имена — кто владеет экраном, газетами, кто хозяин положения и почему русских так утопили в крови, бесправии и нищете. Он тогда теряется и я вижу, что начинаю им овладевать.
Говорю ему: вот вы рассуждаете о России и доказываете, что если бы я вам служил, я бы служил родине. Но если я вам так нравлюсь, то берите меня в школу разведчиков и отправляйте за границу. Или вам такие не нужны?»
Он был молодой, очень вспыльчивый, очень импульсивный, порывистый, очень стремящийся к чистоте — во всем — в одежде, в поведении, в отношении с женщинами, в дружбе, в творчестве… «Я весь измучился — мне казалось, что оттого, что со мной на эту тему — тему доносов — заговорили — я уже мерзавец! Приезжает мой друг Кирилл Шишов из Челябинска, отец у него из репрессированных. Кирилла, естественно, таскали по всем этим «организациям». Рассказываю ему про свои дела и задаю вопрос: тебя спрашивали обо мне в КГБ? Оказывается, да, еще до всех этих проклятых встреч. Из-за моих ходячих стихов как бы антисоветских. (Хотя они были не антисоветскими, они были красивыми русскими стихами.) «Кирилл, тебе предлагали на меня писать?» Ну, разумеется…
В глазах КГБ я, конечно, был антисоветчиком. Как раз вышел значок скромный, обыкновенный, с единственным словом на эмали — «Русь». Я закупил, наверное, целый тазик этих значков, и мы с друзьями дарили их поэтам, которые читали стихи о любви, о России, о матери, о природе, о невесте… Общество любителей слова «Русь» было устным — наивный-то я наивный, но не глупец же! Значки расходились. И вдруг приезжает Слава Богданов, весь серый. Выпили, он начинает рассказывать: «Валь, меня арестовали, водили на допрос. Спрашивали про тебя, про значки. Говорили, что ты собираешься сбежать в Бельгию, что ты чуть ли не шпион». Боже мой, в Челябинске, в моем родном городе, где я десять лет отработал в мартене! С одной стороны, это меня насмешило, с другой — вылетели мои книжки из плана в Москве и в Челябинске. На долгие годы — на тринадцать лет — я стал невыездным. Когда наши диссиденты, эти московские румяные мальчики, всхлипывали — «ах, меня не пустили!», я каждый год подавал заявление — что хочу поехать, то в Болгарию, то в Китай, то в США полететь, и регулярно получал отказ. Есть такой самый советский, почти секретарь ЦК ВЛКСМ, самый партийный среди нас поэт, Ленин сегодня, это Андрей Дементьев, вот он свидетель, как меня выдворили из аэропорта, высадили из самолета. Но ведь я никогда не стал бы диссидентом — я бы погиб, но не стал! И сейчас мне зачитай, что расстреляют через час, — спасайся, садись в самолет, — не поехал бы. Пусть меня расстреляют, но на родной земле…»
***
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
